Валерий Александрович Залотуха Свечка: Роман в четырех частях с приложениями и эпилогом. Том 1
«Был человек в земле Уц».
Книга Иова«Слаб и робок человек, слеп умом и всё тревожит».
А. С. Пушкинчасть первая Три дня и три ночи, или За други своя
Первый и первая
…нет, приятно, что и говорить, чертовски приятно, просто большое удовольствие получаешь, когда сидишь перед телевизором с банкой чая или с чашкой… ну да, с чашкой чая или с банкой пива, с длинненькой такой прохладной баночкой «Holsten» – вечерком в кресле, а ноги в тапочках на табурете пристроены, и ты уже не сидишь, а лежишь – съехал, так, что даже и не очень удобно, но ты не шевелишься, ты неколебим, – потому что тебе хорошо, потому что ты смотришь, как его берут. КАК ЕГО БЕРУТ! Омоновцы, крепкие такие парни в камуфляже, бронежилетах и черных масках с коротенькими такими автоматами… Вот «мерс» по улице мчится, кажется, никто не может его остановить, но вдруг «жигуль» из соседнего ряда подрезает и к обочине – стоп! А второй «жигуль» сзади блокирует и оттуда, как горох, как черти из бочки, омоновцы – шах! Автомат в окно, дверца нараспашку, за шкирку его из салона, «руки на капот!» – мат! Несколько секунд сюжет всего длится, а сколько удовольствия получаешь! Там уже другой сюжет, что-нибудь про культуру, про театр например, а мысль твоя – назад, вдогонку прежнему, мысль правильная, тягучая, приятная: еще одного взяли… сколько веревочке ни виться… так ему, голубчику, и надо… нет, все-таки милиция иногда мышей ловит… молодец Лужков – Москву отстроил, может, и порядок наведет… И хотя последняя, замыкающая, так сказать, часть этой во всех отношениях приятной мысли одна и та же, и она фактически отрицает самоё мысль, попросту ее зачеркивает: все равно отпустят, хоть он там и сто человек убил – отпустят, за деньги отпустят, за миллион, допустим, долларов отпустят, кто же устоит перед миллионом долларов, – ты отмухиваешься, то есть, ха-ха, отмахиваешься от подобного завершения мысли, как от мухи, от назойливой мухи… цеце, потому что удовольствие от того телесюжета получаешь несомненное, и удовольствие оказывается выше правды. Удовольствие выше правды – забавная постановка вопроса, не правда ли? И если бы не болело горло – фарингит, – всё бы ничего, бывают болезни и пострашней, но нередко дело заканчивается ангиной с температурой под сорок – фарингосепт! – так вот, если бы не болело горло, я бы с удовольствием поделился своим открытием со всеми вами, милостивые государи и милостивые государыни… Удовольствие выше правды, не правда ли? Да-да-да! УДОВОЛЬСТВИЕ ВЫШЕ ПРАВДЫ!
Я слышу свой голос, но не сразу понимаю, что он мой – высокий, жалкий. Жалкий, вот именно – жалкий… Я понимаю, что то был сон, бред, сонный бред, а теперь начинается явь…
И мне ее почему-то не хочется…
Глаза сами открываются, и я вижу сидящего рядом незнакомого парня. Он улыбается. Один глаз у него черный, заплывший, подбитый, зато другой – блестящий, живой, дружелюбный.
– Ну вы даете! Вы сейчас такое говорили, – сообщает парень.
Получается, что он подслушивал, и это меня раздражает:
– Какое? Что я говорил?
Парень чешет в затылке, смущенно пожимает плечами и уходит от ответа:
– Да так…
«Да так…»
Я молчу.
И он молчит, и я начинаю сознавать, что обидел его, не сильно, но обидел.
Парень смотрит на свои наручные часы и сообщает время.
– Четыре… – и снова улыбается.
А он и не обиделся нисколько…
Сколько-сколько? Четыре? Самое страшное, самое ненавистное мое время – четыре…
А где Гера? Где Женька, где Алиска? Где Даша?
Да, где моя Даша?
Я задаю себе эти вопросы, как будто не знаю, где все они.
Они – у себя дома, в своих кроватках.
(Впрочем, Гера, возможно, и в чужой.)
Спят.
А вот где ты, Золоторотов, где ты?
Где я?
Я лежу на голом деревянном полу в берете, куртке, ботинках, и у меня затекли ноги и болит спина…
И горло, главное горло…
Фарингосепт!
Я в КПЗ.
Чёрт! Чёрт побери, да ведь это меня вчера брали! Омоновцы в масках… Меня! На Ленинском, около железного истукана. Один «жигуль» подрезал и заставил остановиться, хорошо, что скорость была небольшая, а то я, водила аховый, точно в него бы въехал… А второй, красный, грязный весь, блокировал сзади. И – началось! Страха не было, нет, страха совсем не было. И первая мысль: «Гера!» Это они его берут! Машина его, документы его…
Чёрт…
Чёрт бы драл этого Геру с его бизнесом.
РУССКИЙ БИЗНЕС:
Я покупаю вагон сахара.
А я продаю.
И один бежит искать деньги, а другой бежит искать сахар. Русский бизнес – бессмысленный и беспощадный. Но я сразу решил молчать! Не колоться! Прикинуться валенком! Шлангом! А Гера не дурак, ох, Гера не дурак, он скоро почует неладное, вот именно – почует и рванет куда-нибудь подальше – в Харьков к тетушке или в Америку к дядюшке… То есть не к дядюшке, конечно, а к родственникам, в Америку, туда, где его никто уже не достанет. Отсидится там, пока здесь все утрясется, уконтрапупится… Не может же быть, чтобы у Геры было что-то серьезное, этого не может быть, потому что не может быть никогда, а раз так, то, значит, утрясется, у нас со временем все утрясается. А я пока буду молчать! И, может быть, даже поведу их по ложному следу, чтобы потянуть время, поелику это будет возможно – день, два, три… Как говорится, «за други своя». Откуда это? Не важно – откуда, важно – за кого! «Слово о полку Игореве»? Может, и оно. День, два, три… Да, поелику это будет возможно, а потом скажу:
– Извините, но вы ошиблись!
Или:
– К моему глубокому сожалению – вы ошиблись!
А еще лучше:
– Мне очень жаль, но вы ошиблись!
Представляю, как вытянутся их физиономии… «Руки на капот! Ноги шире!» (Неприятно, я вам доложу.)
А если бы там был Гера?
Он ведь без пистолета из дома не выходит.
Ты, Герка, всегда был везунчик.
И я, конечно, буду молчать, пока ты, скотина, не смоешься, как ты говоришь, «из Рашки»…
Буду молчать!
А они и правда шустрые ребята, эти омоновцы… Не такие, конечно, как в телерепортажах: когда меня брали, один другого нечаянно автоматом в бок ткнул, и тот ойкнул и ругнулся – смех… (Накладочка вышла.) Но все равно, шустрые они ребята, и брали меня лихо. Непонятно, правда, – брали, можно сказать в торжественной обстановке, а засунули в банальный милицейский «обезьянник». Нет, это хорошо, что простое отделение милиции, для Геры хорошо – значит, ничего серьезного. (Но будет, будет что тебе рассказать!)
Кроме меня и этого паренька, которому очень хочется со мной разговаривать, лежит посредине дурно пахнущий бомж.
Лежит и храпит!
А в дальнем темном углу сидят на корточках двое… Как грифы из американских мультиков. Уголовные рожи. Последний раз со мной случилось подобное двадцать лет назад… Когда меня посадят в КПЗ в третий раз, мне будет уже за шестьдесят, и я скажу: «А что? Жизнь прожита не зря». Иные за всю жизнь в КПЗ ни разу не побывали, не знают, небось, даже, как эта аббревиатура расшифровывается. КПЗ…[1] А ничего за эти двадцать лет не изменилось. Тот же «обезьянник», те же стальные прутья решетки. Вот только бомжей тогда, кажется, не было. Точно – не было! То есть они были, конечно, где-то были, но термина такого тогда не существовало: БОМЖ. «Когда мы были молодые»… В те достопамятные времена наше социалистическое общество дружно боролось с пьянством, а мы лежали на траве в скверике напротив китайского посольства и пили портвейн. Портвейн мы любили и называли его ласково: портвешок, портвуша. Нас было четверо: Гера, Федька Смертнев, Мустафа и я. Дружинники нас и накрыли! Между прочим – студенты МГУ, сволочи… Гера, кажется, учился уже в МГУ, на филфаке, кажется. (Да где он только не учился!) И еще был мент; дружинники и с ними – мент. Нет, ментов тогда тоже не было, то есть они так тогда не назывались. А как? Мильтоны? Легавые? Не помню…
Все убежали, а я остался – замешкался… Даже Мустафа убежал, хотя это ему ничем не грозило, его исключить не могли, он был иностранец, негр. Сенегалец. Матерый такой негритос, блестел, как хорошо начищенный хромовый сапог. «Взяли меня за белые руки», – рассказывал он о своем очередном приключении, и мы покатывались со смеху. А когда напивался – плакал и жаловался: «Ох, обрусел я, обрусел!» – умереть можно было. Несколько лет назад кто-то из наших сказал мне, что Мустафа умер в своем Сенегале то ли от тоски по России, то ли от цирроза печени… Мустафа милиции не боялся и убежал, а я боялся и остался. А за это выгоняли из академии автоматом. Автоматом в бок… Гера спас. Переспал с секретаршей декана, причем не просто переспал, а сначала разыграл любовь… Жанна Борисовна – как сейчас помню… Старая и страшная… Впрочем, не такая уж и старая, помоложе нас теперешних… Но тогда она казалась старой. (Да и не такая уж страшная! Она мне даже нравилась…) Жанна вытащила милицейскую «телегу» из почты декана и отдала Гере, и мы торжественно сожгли ее и пепел залили портвейном. Там такое было написано – меня бы точно отчислили. Ну что ж, старик, долг платежом красен? Теперь я буду тебя выручать. («Однажды двадцать лет спустя». Кино такое было. Плохое? Да, плохое.)
– Ну ты, морда, кончай храпеть! – Мент. Сонный и злой. – Ну ты, морда! – И стучит резиновой дубинкой по прутьям решетки. А это, оказывается, не прутья, а трубы – они гулко отзываются своей внутренней пустотой. А бомж как храпел, так и храпит. Мент смотрит на меня, потом переводит взгляд на сидящего рядом парня, и приказывает:
– Толкни его.
Парень медлит, смотрит на бомжа, на мента и вдруг говорит – напряженно и глухо, в общем-то не скрывая своей неприязни к этому представителю власти:
– За отдельную плату. – И отворачивается к стене, всем своим видом показывая, что разговор окончен.
Мент просыпается окончательно, буравит затылок парня маленькими злыми глазками и стучит по трубе громче: бух! бух! бух! а она отзывается гулко и протяжно: у-ух… у-ух… у-ух… Вот вам и «ноктюрн на флейте»… водопроводных труб… в исполнении злого сонного мента. (Когда-то я любил Маяковского. Интересно, люблю ли я его сейчас? Надо бы перечитать.) А мент опять на меня смотрит… Но ничего не говорит. Нет, я, конечно, могу разбудить этого несчастного вонючего бомжа, но… Не будет ли это своего рода штрейкбрехерством? Ситуация разрешается неожиданно быстро, так быстро, что я не успеваю сразу все понять и оценить: один из «грифов» вдруг вскакивает, пружинисто, по-спортивному (он, кстати, в спортивном костюме), и коротко и очень сильно бьет бомжа ногой в бок. У того что-то екает внутри, я отчетливо это слышу. Селезенка? Бомж вскрикивает, садится, трет грязной ладонью бок и обводит всех полным боли и страдания взглядом. А глаза у него маленькие, красные.
– Кончай храпеть, морда! – Это опять мент. У них, наверно, любимое слово – морда. Меня ведь тоже вчера назвали мордой… Когда усадили в красные «Жигули» – сзади, а по бокам сели двое с автоматами. Первый шок (а это был именно шок), – первый шок прошел, и я уже отчетливо понимал, что они меня с Герой спутали, и здесь у меня вырвалось, клянусь, это не было трусостью или приступом малодушия, да я и не собирался говорить, что я – ты, я просто высказал вслух предположение, просто так высказал:
– Может, вы меня с кем-то спутали?
Мы ехали мимо «Баррикадной» (машину покачивало на брусчатке, я это отчетливо помню), и вдруг тот, кто сидел впереди рядом с водителем, заорал:
– Молчать, морда!
Вообще, все они были чем-то раздражены. Складывалось впечатление, что я (то есть ты) им, в общем, не так уж и нужен… И даже совсем не нужен.
НАС НЕ ПРИНИМАЛИ!
Это, знаешь, как бывает: заберет «скорая» больного и начинает его возить из больницы в больницу, а там или мест нет, или карантин, или просто принимать не хотят. Мы останавливались у двух или трех отделений милиции, и тот, кто меня мордой назвал, – уходил раздраженный и еще более раздраженный возвращался. Не принимали. Смешно и грустно, грустно и смешно…
Но…
Часы.
Мои часы!
Они у этого противного мента на руке, я их вижу!
Я цапаю себя за запястье – пусто, – мои, точно мои! Но как, как они к нему попали? Ах ну да, я же забыл, совсем забыл, их сняли, когда обыскивали, когда все забрали – документы Герины и деньги, мои… Впрочем, какие там деньги, а вот ножичек, любимый швейцарский «Victorinox», который мне Даша подарила, где он? Был и нету, пропал, исчез, мистика какая-то, с ним всегда какая-то мистика происходит, с моим ножичком, сколько раз я его терял, столько же находил.
А мент уходит… Уходит, уходит, уходит. «Врешь – не уйдешь!» – кажется, так Чапаев кричал? И я кричу ему вслед – насмешливо и дерзко:
– Скажите, пожалуйста, который сейчас час?
Он останавливается, оборачивается и смотрит… Как бы недоумевая… Пухлый, лупоглазый, губки бантиком. На него без улыбки смотреть невозможно, и я с трудом сдерживаюсь. А он выдерживает многозначительную паузу, смотрит на МОИ часы и твердым голосом сообщает время:
– Четыре. Ровно.
Четыре! Опять четыре!
– Есть еще вопросы? – спрашивает он, чтобы оставить за собой последнее слово. Я только пожимаю плечами – его ответ мгновенно выбивает меня из колеи. Мент усмехается, поворачивается и уходит. И тут меня осеняет, и я кричу ему вслед:
– Отличные у вас часы!
И он – смущается на ходу, явно смущается, и я провожаю его взглядом… А это хорошо, если человек еще не разучился смущаться. (Тем более, если этот человек – мент.) И он, конечно, прекрасно понял, что я не позволю ему прикарманить мои часики! Беспардонная все-таки наглость…
Паренек с подбитым глазом трогает меня за локоть и говорит громким шепотом:
– Вы с ними поосторожней.
Я не понимаю – в каком смысле?
– В каком смысле?
– Они вежливость любят. – Паренек говорит это так серьезно, что я невольно улыбаюсь.
Мало ли что они любят.
«В самом деле, мало ли что они любят!» – думаю я и повторяю:
– Мало ли что они любят.
Паренек молчит.
Славный… Как он здесь оказался? Подрался с кем-нибудь? Честь защищал? Ну это вряд ли… Честь в наше время не в чести, извиняюсь за каламбурчик, как Гера говорит.
– А вас за что посадили? – спрашивает он, и я смотрю на него, улыбаясь, не зная, что ответить. Как там у Анатолия Жигулина? «Ни за что!» Хотя вряд ли он знаетАнатолия Жигулина. И откуда он взял, что меня посадили?
– Откуда вы взяли, что меня посадили?
Паренек пожимает плечами и растерянно улыбается.
– Вы же сидите…
– Ну во-первых, я не сижу, а практически лежу, полулежу, как Стенька Разин на челне, а во-вторых, меня не посадили, а взяли, всего-навсего взяли, да и не меня, кстати, а…
– А я милиционера избил, – сообщает вдруг паренек. Он делает это, как пионер на торжественной линейке: выпрямляется, расправляет плечи, и глаза при этом радостно светятся.
До меня не сразу доходит смысл услышанного.
– Что?!
– Милиционера избил, – повторяет паренек и улыбается.
Я молчу, потому что не знаю, что сказать, а он расценивает мое молчание то ли как поощрение его безрассудного поступка, то ли как желание знать подробности. Он чешет свой вихрастый затылок и, смущенно улыбаясь, начинает их выдавать:
– Да все из-за Настьки… Это сестренка моя младшая. У нас еще старшая есть – Галька, а Настька – младшая, ей семнадцать четырнадцатого мая исполнилось. Мы вчера на концерт с ней пошли, на Анастасию, я Анастасию уважаю – душевно поет, и без фонограммы. А там давка была, народа полно, сзади давят… И нас с Настюхой – прямо на сержанта этого… Ну мы же не виноваты, правильно? А он на Настюшку: «Куда прешь, дура!» А она, между прочим, в школе отличница была. Заплакала… Я ему: «Извинись!», а он: «Ща-ас. Много вас таких». Ну, я ка-ак дал ему! Вырубил сразу… Нос сломал… Я ему нос сломал. – Паренек замолкает наконец и смотрит на меня, ждет, что я ему скажу. А что я могу ему сказать? Юридически я совершенно безграмотен, но откуда-то знаю, что за драку с милиционером срок дают автоматом, и срок немаленький. Что я могу ему сказать?
– Пятак мне светит, – сообщает он убежденно и спокойно.
– Что?
– Пять лет мне дадут.
– Пять?!
– Ага, пять. Они мне сразу сказали: «Пять лет тебе гарантированы».
– Как тебя зовут?
– Толик.
Толик… Улыбается. Совсем еще ребенок. А впереди – пять лет тюрьмы. За что? Я спрашиваю – за что?! Только за то, что вступился за честь своей сестры? А ты говоришь – честь нынче не в чести. В чести! Только не у всех и уж, во всяком случае, не у государства этого! Все эти Мавроди, «Хопры», все эти жулики, награбившие у простых людей миллиарды, гуляют на свободе (и как гуляют!), а за ними, через прессу и телевидение вся страна наблюдает! Как в щелочку… Зырит, как Гера говорит… Пуская слюни, замирая от восторга и зависти! А этот мальчик… Убийцы, киллеры, бандиты разъезжают на джипах! Киллеры – главные герои литературы и кино, их все любят, ими все восхищаются, а этот паренек, в сущности ребенок, глупый, как все дети, глупый и искренний… Честь своей сестры защищал…
– Может, еще обойдется, – бормочу я, не глядя ему в глаза.
А он улыбается, бравирует – мальчишка.
– Я тюрьмы не боюсь, только родителей жалко.
– Еще бы ты ее боялся, что ты знаешь о тюрьме?
– Мне сейчас двадцать один! – говорит он с азартом.
Я так примерно и думал.
– Двадцать один, так?
Я киваю.
– Через пять лет мне будет двадцать шесть, так?
Я снова киваю.
– Не старик ведь еще, правильно?
Я улыбаюсь. Да уж, действительно, не старик.
– У меня друг был, четыре года отсидел… Так он на зоне техникум закончил, представляете?
– Представляю.
– А я за пять лет институт там закончу!
Дурачок ты…
– Какой институт? – спрашиваю я как можно более серьезно.
– Я еще не придумал, – тут он немного смущается.
Не придумал – придумаешь… Я хлопаю его по плечу и говорю:
– Ничего, может, еще обойдется, – хотя, глядя на него, понимаю, что не обойдется, у таких, как он, не обходится. – Знаешь что, – говорю я, – ты лучше побольше читай книжек. Прочитать книжку – это поступок, а прочитать хорошую книгу – хороший поступок. А каждый хороший поступок делает мир лучше. Немного, но лучше…
– Вы это во сне говорили, – смущенно улыбаясь, сообщает паренек.
– Повторяюсь, значит… – Я еще больше смутился.
– Да меня сеструха старшая, Галька, замучила в детстве этими книжками: «Читай, читай!» Училкой в школе работает. Ну, я назло не читал, самостоятельность свою отстаивал. А потом некогда было… Посадят – буду читать…
– Ну да, там времени много…
– Родителей жалко, а так я тюрьмы не боюсь, – в который раз повторяет он, – я другого боюсь. Они меня вчера бить не стали, не захотели себе праздник портить.
– Праздник? Какой праздник?
– День милиции! Вчера же день милиции был, десятое ноября…
В самом деле, есть такой праздник. Десятое ноября… 1997 года… День, когда меня взяли… Надо будет запомнить. Я задумываюсь о чем-то своем, и до меня не сразу доходит смысл услышанного.
– «Мы тебе яйца отобьем!»
Я не понимаю.
– Кому?
– Мне, кому же еще, – втолковывает паренек, но я все равно не понимаю.
– Зачем?
– «Чтоб не женился никогда!» И смеются… А я знаю, как это делается, в Чечне видел. Пристегнут руки в наручниках повыше, чтоб согнуться не мог, и бьют там – ногами…
В Чечне? Врет или не врет? После Афгана, помнится, все в афганцы записались.
– А я жениться хочу. На хорошей девушке. И чтобы трое детишек было, не меньше… У чеченцев детей много…
– Вы действительно были в Чечне?
– Ага. Я сразу туда просился, но меня не брали, у меня родители инвалиды по зрению. И брат Васька в Афгане погиб… Вроде как нельзя, но я все равно… Добровольцем… Да там уже не смотрели: родители не родители, брат не брат… Прямо из учебки в Чечню кинули… А там же день за два шел. Приказ министра обороны – и по домам…
– Ты где работаешь?
– На АЗЛК.
– Где-где?
– Завод Ленинского Комсомола, не знаете разве? «Москвичи» выпускает.
Удивляется.
– Да нет, знаю, конечно, просто я был уверен, что он совсем уже заглох.
– Не, не заглох. Работает. Правда, три дня в неделю только. И денег не платят. Мне все говорят: «Уходи», а я: «Нет, я на нем до армии работал». Мне охранником сколько раз предлагали, и бандиты подкатывались. Они нас, кто с «чехами» воевал, уважают: «Иди к нам: бабки, телки, все будет» Не-е… Я все равно верю…
– Чехи? При чем тут чехи?[2]
Он неожиданно замолкает и опускает глаза.
Брат в Афгане погиб, а ты в Чечню добровольцем пошел, родителей инвалидов не пожалел… Но во что же ты, интересно, веришь?
– Во что ты веришь?
– Ну как… – Паренек вскидывается и говорит убежденно: – Что Россия с колен поднимется.
Да-а… Да, старик! Услышать такое, в таком месте, от такого вот паренька – это, я скажу, дорогого стоит! Ради этого можно провести в КПЗ бессонную ночь. Он смотрит на меня в ожидании поддержки. «Россия с колен»… А может быть, он – сокол Жириновского или какой-нибудь баркашовец? Ждет… Я поднимаюсь и разминаю затекшие ноги.
– А вы верите?
Вот пристал… Не люблю я, не люблю подобный пафос: Россия, колени и прочее.
– Она на это просто обречена. – Где-то я слышал эти полные самодовольства слова и повторил их, чтобы не развивать скользкую тему.
– Ну вот. – Он удовлетворенно кивает, не замечая в моем голосе иронии.
Но что же это такое? Нет, я спрашиваю: что это такое?! Что же это за страна такая? И что за народ? (А парень этот, вне всякого сомнения, тот самый народ и есть!) Нет, если с приятелями за бутылочкой в теплой компании – на это все мы горазды – поговорить, подискутировать: поднимется Россия с коленей (или все-таки с колен) или нет, но здесь, в КПЗ, с подбитым глазом, когда «пятак светит»… Нет, надо ему помочь… Надо будет обязательно ему помочь! Он не должен садиться в тюрьму, и я просто обязан ему помочь.
– Как тебя зовут, я забыл, извини. Ничего, что я на ты?
– Ничего, конечно, я же моложе… Толик меня зовут.
Толик, да, Толик.
– А фамилия?
– Куставинов, а что?
Куставинов, Куставинов, Куставинов… Трудная для запоминания фамилия. Куст и вино… Нет, скорее – вина.
– Послушай, Анатолий… Завтра, то есть уже сегодня утром меня выпустят, потому что попал я сюда по ошибке, и я постараюсь тебе помочь. Ты только не отчаивайся и не теряй присутствия духа. И не дерзи им лишний раз. Я ничего не обещаю, но обязательно постараюсь тебе помочь!
Он смотрит на меня удивленно.
– А вы кто?
– Какая разница, кто я…
– А то я смотрю и не пойму…
– Что не поймешь?
– Вы какой-то не такой. Не такой, как все… И говорите так…
Мне становится смешно, и я улыбаюсь.
– Какой – не такой? – Может, он меня за какого-нибудь начальника принимает? – Я что, на начальника какого-нибудь похож?
– Нет, не похожи. Просто вы – другой… И вы такое во сне говорили…
Другой – не другой, говорил – не говорил: это все не важно, это совершенно не важно! А важно, что… Да что ж это за страна такая проклятущая! Вот он, этот мальчик, ее золотой фонд, ее будущее. А что, что она с ним делает?! Он безропотно отправился на несправедливую и бессмысленную войну – прикрывать своим мальчишеским телом разжиревших, вконец обнаглевших генералов. Повезло – не убили! «Повезло»… Да-а… Вернувшись с войны, идет работать на завод, – не в ларек, не в рэкетиры, куда все они сейчас идут, а на АЗЛК! За бесплатно, за так! Зарплату не платят, потому что начальство переводит рубли в доллары и прячет их за границей, а он – верит… Верит! Что… РОССИЯ С КОЛЕН ПОДНИМЕТСЯ! (Или с коленей?) А его за это – в тюрьму! И первым делом – отбить… Мы не рожаем, мы отбиваем. Отбить, все на свете отбить, а потом – в тюрьму! За то, что честь защищал! В тюрьму! А что такое наши тюрьмы, мы знаем! И про то, что в камере на десять человек сто сидит, и про то, что спят там в три смены, про то, что кормят, как скотину, про произвол администрации и беспредел уголовников – все это мы знаем! Ведь он погибнет там, этот искренний мальчик, погибнет…
– Мне вчера один мент сказал: «Дашь десять тысяч – отпустим», – сообщает он шепотом.
– Десять тысяч чего?
– Долларов. – Улыбается. – А я и сто в руках еще не держал.
Сволочи… Что же вы делаете, сволочи! Я попрошу у Геры, не попрошу – потребую! Для него десять тысяч – не деньги… А если даже и деньги? Здесь человек, живой молодой человек, полный сил, энергии, веры в будущее. Я скажу: «Гера, ты мне друг?» И он ответит: «Друг». Десять тысяч, сволочи! А он сидит, улыбается, думает… О чем, интересно? О чем, о чем – о России! Никак не меньше… А может, зря ты, парень, в нее веришь? Не потому, что она такая плохая, просто потому, что ее нет, давно уже нет. Потому что все происходящее вокруг – абсурд, и страна соответственно называется – Абсурдистан! А президентом ее должен быть… да тот же король абсурда Жириновский! Или любой из тех, кто лезет на трибуну Думы, чтобы покрасоваться перед телекамерами. Перед телекамерами… Так… Так! А ведь меня вчера снимали. МЕНЯ СНИМАЛИ! Так вот почему там было так светло! Я еще подумал, успел подумать: «Почему так светло?» Прямо напротив стоял микроавтобус, его боковая дверь была отодвинута, и оттуда, из широкого такого проема светила яркая белая лампа. Какой-то парень держал ее в руке. А другой держал на плече телекамеру. Телеоператор. Та-ак… Это уже интересно! Но как же я мог забыть? Неужели все-таки испугался? Но я бы помнил свой страх, страх – чувство запоминающееся, а я забыл… Но что же все это значит? Что же такое Герка сотворил, что его берут, как какого-нибудь Япончика? Гера, Гера… Правда, там, в Америке взяли именно Япончика, а здесь перепутали и взяли не тебя, а меня. Ну, что же ты хочешь – Абсурдистан! И вот, значит, почему мне приснился этот сон, точнее не сон – бред, сонный бред: как будто я сижу в кресле, ноги на табурете, и смотрю по телевизору, как его берут. А это не его, это меня берут! И это что же, меня теперь покажут по телевизору? Или уже показали? Любопытно – по какому каналу? «Московский»[3] наверное, у них много подобной чепухи проходит. Удивительно провинциальный канал. Москва, как к ней ни относись, это все-таки Москва. Десять миллионов человек – целая европейская страна. А то и две… А смотришь московское телевидение и думаешь – какой унылый городишко, Урюпинск какой-то… Нет, это надо умудриться! А вот «Свободный» – наоборот. Там самое маленькое событие в том же Урюпинске вырастает до масштаба почти международного. И вроде такие же люди, и техника такая же. Удивительно! На «Свободном» передача называется… «Криминал», да… А на «Московском»? Не помню как, впрочем, это не важно… А что, если вчера уже показали? Видели ли мои? Алиска только «Свободный» смотрит, мечтает быть телеведущей, ее вообще политика интересует, что редкость для девочки. Женька, конечно, висела на телефоне, она не любит новости и всегда в это время висит на телефоне. А Алиска смотрела… «Мама, иди скорей, нашего папу берут!» Бр-р-р… Важно еще, какой комментарий. Фамилии они обычно не называют. «В интересах следствия». А вот за что взяли – говорят. Так что же, Герка, ты натворил? Не убил, не изнасиловал, не расчленил, это понятно. Налоги? Это может быть. «Если бы я их платил, то ходил бы сейчас без штанов». «Этому государству – ни копейки!» – Герман Штильмарк. «Не было в этой стране порядка и никогда не будет» – это тоже ты. «Россия – проигранная война» – звучит красиво, но я не согласен… Значит, все-таки налоги… Да, сейчас кампания какая-то по сбору налогов идет, чуть ли не ФСБ подключилось, я где-то читал… А тогда, кстати, когда я в КПЗ первый раз попал, тоже была кампания – по борьбе с пьянством. Так и живем – от кампании до кампании! Абсурдистан… И тут ты, старик, прав: в России можно поменять общественную систему на сто восемьдесят градусов, но это ничего не изменит. Люди-то остаются те же, людей-то не поменяешь. Беги, Гера, беги! А кампания кончится – вернешься. Они у нас бурно начинаются, но быстро скисают. Строгость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения! Это точно. Интересно, кто первым это сказал? Кто-то сказал…
Второй
А случалось ли вам, милостивые государи и милостивые государыни, случалось ли вам кататься по осенней Москве одна тысяча девятьсот девяносто седьмого года на автомобиле марки «Hummer»? Нет? Мне вас искренне жаль. Эх, был бы я писателем, то взял бы его и описал! Однако не так, как это делают в наше время, – читаешь и не понимаешь, нравится писателю описываемый им предмет, или он его презирает, шутит или всерьез, возвышает или принижает, да всё с насмешкой, с подковыркой, – нет, не так, а как, к примеру, в девятнадцатом веке описывали: ясно, просто, открыто, с милыми сердцу подробностями и радостными восклицаниями. Знаю, знаю – чукча не писатель, чукча читатель, и все-таки:
Что за прелесть этот «Hummer»!
Внутри – как в кабине космического корабля, но не нашего кондового «Союза» или, как он там теперь называется, а их американского «Аполлона-Шаттла». Двигателя практически не слышно, а ведь это военная машина! Кожа, всюду белая мягчайшая кожа. А мой Хворостовский – как астронавт Армстронг. «Один маленький шаг человека – большой шаг человечества». Морда у Хворостовского, конечно, наша, а вот затылок… Ровный, прямой, аккуратный, словно только из парикмахерской – самый что ни на есть американский! Джи ай![4] И все время говорит с Землей. По мобильному. Правда, матерится при этом ужасно… Но ведь для них, американцев, мата, как известно, нет, они его, как известно, отменили! То, что раньше у них считалось матом и было запрещено, теперь разрешено и матом не считается. «Есть запрет – есть проблемы, нет запрета – нет проблем». Кто сказал? Какая разница – кто? Все сказали! Для них теперь публично выматериться, что для нас произнести: «С добрым утром!»
– С добрым утром, дорогие товарищи!
– С добрым …
Совершенно не помню, как я снова заснул, но зато хорошо помню, как проснулся. Быстро и легко! Голова была чистой и свежей, и я чувствовал себя на удивление отдохнувшим. Минуту или чуть больше я вспоминал сон, увиденный перед самым пробуждением, что-то очень яркое, радостное, весеннее: синее небо, зеленые деревья, ласковое солнце, кавалеристы на конях и длинные, развевающиеся на ветру узкие разноцветные флаги на высоких древках пик… Было реальное ощущение праздника, которое испытываешь только в детстве. Причем, неважно какой: Новый год, Первое мая, полет Юрия Гагарина или твой день рождения, все равно – ПРАЗДНИК! И так не хотелось, чтобы это ощущение уходило, что я прокрутил увиденный сон в памяти два или три раза, наблюдая с легкой грустью, как он тускнеет, гаснет, исчезает, и вдруг услышал шаги – уверенный стук крепких каблуков по гулким дощатым половицам, и голос – сильный, властный, громкий, я бы даже сказал, театрально громкий, забивающий и отрицающий чье-то унылое бубнение или бубнеж.
– Ты поговори мне еще, поговори!
И я сразу почему-то почувствовал, что это ко мне, а точнее – за мной, и успел подумать, что мой невольный обман раскрылся, и немного даже пожалел, что все так быстро кончилось. Поднимаясь, я заметил также, что того славного паренька в нашем «обезьяннике» уже нет, а бомж и два грифоподобных уголовника продолжают присутствовать. И тут он вошел! Нет, не вошел – ворвался, стремительно влетел, и длинные полы его белого, да-да, белого в эту грязюку плаща картинно развевались! И уже тогда мне показалось, что он похож на Дмитрия Хворостовского, на нашего знаменитого певца. Вообще-то, в жизни я Хворостовского не видел, только по телевизору, да и то мельком, раза два или три, кажется, да и не слышал толком, может, он вовсе и не похож, но мне так показалось… У этого моего Хворостовского был вид человека, которому всегда и во всем везет. Так ведь и тому, настоящему Хворостовскому, сказочно повезло – с голосом, внешностью и карьерой. Такая, наверное, получилась аналогия. Повезло… Везение вообще интересная штука, у Геры на этот счет целая теория. Везение, оно же пруха – своевольна и горда. Любит лесть. Но при этом мнительна и пуглива. Обидчива. Нельзя, например, говорить: «Мне не везет» – этим ты ее обидишь. Гера утверждает, что я не ищу везения. А я в самом деле его не ищу, оно мне попросту не нужно. Потому что у меня всё есть! И это не привычка довольствоваться малым. Не малым, старик, не малым, а достаточным! У меня есть жена, дочь, квартира, любимая работа по профессии. А теперь еще и Даша! Но я отвлекся, извини. Значит – моя встреча с Сокрушилиным (хотя я не знал еще тогда, что его фамилия Сокрушилин) была следующей: мент все продолжал бубнить (тот же самый, кстати, с моими часами) что-то вроде «не положено», «начальство придет, а я что скажу», «мне тоже неприятности не нужны», но Сокрушилин не слушал, а смотрел на меня с охотничьим азартом во взгляде, словно он пес, охотничий, англо-русская гончая какая-нибудь, а я – дичь, простой серенький зайчишка. Против азарта я, вообще-то, ничего не имею, я и сам человек азартный, только вот охоту – как род занятий не принимаю, и не просто не принимаю, а, будь моя воля, я бы ее запретил! Видимо, Сокрушилин почувствовал такое к себе отношение, белозубо, как в рекламе зубной пасты, улыбнулся и громко с иронией в голосе поприветствовал:
– Привет, Чикатило!
Верно, вид у меня был действительно жалкий… Но хотел бы я на вас посмотреть, как бы вы выглядели после ночи, проведенной в КПЗ в компании с бомжами и уголовниками? Однако растерянность моя была недолгой, можно сказать – мгновенной, и я задал вполне уместный вопрос: «А почему…» – точнее, начал его задавать, потому что этот тип в белом плаще после первого слова меня перебил, и наш скомканный диалог выглядел следующим образом:
Я: А почему…
Он: А потому!
Не просто перебил, а, я бы сказал, – передразнил, он смеялся, он явно надо мной смеялся. И тут у меня родилось сравнение… Точнее, даже не сравнение… Глядя на этого человека в белом плаще, я мгновенно подобрал ему его двойника – Хворостовского, и мне сразу стало легче с ним общаться. Есть одна (правда, ненаучная) теория, что у каждого живущего на нашей планете человека есть свой двойник. Он не просто похож на тебя, как две капли воды, он с тобой, что называется, одной группы крови, у вас одинаковый генетический код, словом – двойник. Правда, при этом он не знает русского языка, потому что живет в Австралии, где и родился, и у него не один ребенок, а пятеро, а жена – вообще папуаска…
Признавая ненаучно-теоретический характер данной теории, я не просто ей симпатизирую, я по этой теории уже многие годы живу! (Правда, об этом никто, кроме Алиски, не знает.) С подтверждением ее я сталкивался еще в детстве: идешь, бывало, летом по улице – жара, тоска, одиночество, а навстречу идет мальчишка, такой же, как ты, белобрысый, востроносый, такой же, как ты, худой, и смотрит на тебя, так же, как ты смотришь на него – удивленно и радостно, и вы вдруг понимаете, что вы страшно, просто страшно похожи, что вы – двойники… Подрастая, взрослея, постепенно превращаясь из мальчика в подростка, а из подростка в юношу, я практически забыл о тех своих ощущениях, но, прочитав однажды в журнале «Знание – сила» статью о теории двойников – вспомнил. И вот – мне уже за сорок, на макушке хотя и маленькая совсем, но лысина, а на руках почти взрослая дочь, но я по-прежнему в эту теорию верю, как верю в то, что он, мой двойник, существует, как и я существую, и думает обо мне, как и я о нем думаю. Увидимся ли мы когда-нибудь? Возможно, хотя вряд ли. Да и нужно ли? Эта красивая, я бы даже сказал – поэтическая теория («Я знаю – есть мальчишка где-то»[5] – это ведь тоже о двойнике!) имеет для меня и прикладной, так сказать, характер – помогает быстрее понять незнакомого человека, способствует общению с ним, вот и тогда, как только я его Хворостовским про себя назвал (раскусил?), он нахмурился, стукнул кулаком по трубе «обезьянника» и приказал:
– Выходи!
«Сколько тебе лет?» – подумал я и решил, что никак не больше тридцати. Мальчишка… Я хотел сразу предложить ему не тыкать, жестко и определенно предложить, но… Как говаривал президент Рейган, «есть дела поважнее мира», – за спиной Хворостовского переминался с ноги на ногу и недовольно кривил морду мой мент. Не знаю, не уверен, смог бы я подобным образом себя вести, если бы говорил, так сказать, от себя. Но я говорил от тебя. А ты у нас крутой! (Плебейское, кстати, понятие.) Вот я и решил вести себя круто! В конце концов, когда подобная возможность еще представится?
– Я выйду отсюда только после того, как он вернет мне мои часы, – проговорил я твердо и перевел взгляд на мента.
Обтрепанный рукав его дерматиновой куртки был опущен, я не видел в тот момент свои часы, но меня не оставляла уверенность в том, что они находятся на его запястьи. Физиономия у мента была такая, как будто его изводил приступ изжоги.
– Часы? – спросил Хворостовский, полуобернувшись и глядя искоса на мента. Того еще сильней перекосило.
– Да я побоялся в сейф положить, украсть могут… – мент бормотал еще что-то невразумительное, пока снимал со своей руки мои часы.
Я невольно усмехнулся: ну разумеется, в милиции и из сейфа могут украсть. И еще я подумал: «А хорошо быть Герой!» Мент протянул часы, но не мне, а Хворостовскому.
– О, «Rollex!» – удивился он. – Сколько стоят?
Я хотел ответить, что не знаю, что это подарок, подарок друга, а когда подарки получают, о стоимости не спрашивают, но я знал – шестьсот долларов, Гера сказал это по секрету Женьке, та – Алиске, а Алиска мне.
– Восемьсот, – сказал я и разозлился на себя за то, что сказал, да еще и приврал, от чего покраснел и еще больше на себя разозлился. (Хорошо, что в тот момент Хворостовский на меня не смотрел.)
– У-у-у, – кривясь, протянул он и, вскинув руку, показал свои часы. Это тоже был «Rollex». – А мои восемь тысяч!
Наверное, он думал, что, услышав такую цифру, я упаду в обморок. Разумеется, я не стал этого делать, а только лишь снисходительно улыбнулся, и тут же в моем мозгу родилась шутка, может, и не такая уж остроумная, но, во всяком случае, своевременная и уместная. Я спросил:
– Вы хотите сказать, что ваши часы идут в десять раз точней моих?
И тут он меня еще раз удивил: засмеялся так, что в первый момент я даже растерялся – прямо-таки залился смехом.
– А… ты… мне… нравишься… – продолжая смеяться, с трудом выговаривал он.
«А ты мне нет», – проговорил я про себя.
Первый раунд был, несомненно, за мной, не знаю, понял ли он это, но, надеюсь, почувствовал. Теперь он уже не смеялся, а, держа мои часы за ремешок, выжидающе с прищуром на меня смотрел. Странная картина получалась: сыр, то есть мои часы – снаружи, а я – внутри в мышеловке, то есть – в «обезьяннике».
– Выходи, – повторил он свое предложение.
И тут меня охватило раздражение, если не сказать больше. (Видимо, сказывался вчерашний шок.)
«Дверь закрыта, а он говорит: “Выходи”. Он что, издевается?» – так, примерно, я подумал и посмотрел на мента. Надо признать, в тот момент он не казался таким уж плохим. Ведь только он мог мне в тот момент помочь.
– Да открыто! – заорал мент. Он тоже психовал.
И тут я наконец понял свою оплошность! Я совсем несильно толкнул дверь, только до нее дотронулся, а она и отворилась. Наверное, мент открыл замок и не закрыл тогда, когда я спал. Спал и не слышал… Возможно, когда выводил того славного паренька.
Хворостовский хмыкнул. В том не было его заслуги, но второй раунд остался за ним. Однако третий! Мы прошли по длинному коридору: впереди Хворостовский, я – второй, последний – мент, до двери, на которой была прикреплена табличка, каких я сто лет не видел, их давно уже не производят: прямоугольник толстого стекла, черный фон и строгие блекло-золотые буквы: «Начальник отделения милиции тов. Захарик В. К.»:
– Открывай! – приказал Хворостовский, и мент неохотно стал вертеть в скважине большим скрежещущим ключом. Когда дверь наконец открылась и мы вошли в кабинет, я очень удивился, потому что никак не предполагал увидеть подобное. Я даже не представлял, что такое сегодня может быть! Там буквально застыло время. Достаточно сказать, что над начальническим креслом висел на стене большой написанный маслом портрет… Дзержинского… И все остальное: мебель с инвентарными номерками на видных местах, телефонный аппарат (это был не телефон, а именно – телефонный аппарат, в него не говорят «алло!», а докладывают: «У аппарата»), пыльные шторы на окнах и блеклые обои на стенах – все здесь было унылое, казенное, советское! На столе стоял граненый графин сталинских небось времен, на полке – книги и брошюры издательства «Юридическая литература», а крайняя называлась «Ленин и закон». «Ну, – подумал я весело, – приплыли!» Среди всего этого Хворостовский выглядел белой вороной, однако и здесь он ощущал себя хозяином. (По-моему, он везде ощущает себя хозяином – правила нарушает, а гаишники ему честь отдают.) Он бросил на спинку стула плащ, расстегнул пиджак (я заметил желтую кожу пистолетной кобуры под мышкой), положил на стол мобильный телефон, который до этого все время сжимал в ладони, поставил на ребро маленький диктофончик и, взглянув на меня, спросил:
– А ты чего не садишься?
И тут я подумал, что мне это, вообще-то, надоело. Я вспомнил, что я крутой, что я – Гера.
– Могу поинтересоваться, почему вы мне все время тыкаете? – спросил я. Гера, конечно, сформулировал бы жестче, но и этого оказалось достаточно, – Хворостовский смотрел на меня с пытливым, я бы сказал, интересом.
– Вот так, да? – спросил он.
– Да, вот так, – сходу ответил я.
Так среагировать мне неожиданно помог один из бесчисленных Гериных анекдотов, которые я обычно сразу забываю, но иногда в самые неожиданные моменты они вдруг всплывают в памяти. Так и получилось… Это – филологический анекдот… У Геры они все по разделам: филологические, гинекологические, еврейские (последние я принципиально не запоминаю) и т. д. «Муж и жена проводили кучу гостей, время за полночь, в раковине гора грязной посуды; жена подходит к мужу, кладет ему на плечи руки и, глядя прямо в глаза, шепчет: “Ты мой”. В ответ муж отрицательно мотает головой и говорит: “Мой ты”».
– Ты мой.
– Мой ты.
Интересно, что когда я рассказал этот анекдот Женьке, она только пожала плечами – не поняла, и потом я сообразил почему: после гостей посуду мою обычно я, Женьке это чаще всего не удается. Дело в том, что за столом она нередко перебирает, и я довожу ее до кровати. Наверное, это может показаться странным, но я люблю перебравшую Женьку: она бывает тогда такой славной, такой беззащитной и спит, как ребенок, с улыбкой на устах… А я иду мыть посуду. Не могу сказать, что занятие это мне так уж нравится, но, во-первых, если в раковине возвышается гора грязных тарелок, я все равно не засну, а во-вторых, как всякое дело, оно трезвит и упорядочивает мысли, приведенные застольем в больший или меньший беспорядок. А Женька спит с детской улыбкой на устах, даже специально хожу на нее смотреть. Еще что мне в Женьке не просто нравится, а, я бы сказал, восхищает, – это то, как мужественно она переносит утром похмелье: выпив в постели чашку кофе, она разгадывает от начала до конца кроссворд, после чего принимается пылесосить квартиру – но тут уже к ней лучше не подходить. Так что понятно, почему Женька этот анекдот не поняла. (А когда я Даше рассказал, она смеялась… «Ты – мой». «Мой – ты».)
– Вот так, да?
– Да, вот так.
И – он сломался! Помолчав (видимо, в борьбе с собой), он неохотно выдавил:
– Я могу и выкать.
– Сделайте милость, – с улыбкой подбодрил я его и отметил про себя это забавное слово – выкать.
– Как ВЫ себя чувствуете? – спросил он, делая ударение на «вы».
– Отлично, – ответил я, сел и закинул ногу на ногу, всем своим видом демонстрируя, что чувствую себя отлично.
– ВАМ мои ребята бока вчера не намяли? – поинтересовался он.
Я пожал плечами.
– Да нет, вполне вежливо себя вели.
В самом деле, не стал бы я жаловаться на то, что один из них назвал меня мордой.
– Эх, знал бы ты, что это за ребята, в каких местах они побывали, – доверительно поделился он.
И тут я все понял! Что это не я, то есть не ты их, собственно, интересовал, а эти самые ребята, какой-нибудь ОМОН или СОБР, спецназовцы, прошедшие Афган, Чечню и другие «горячие точки»! Ради них все это и было затеяно! Видимо, снимался про них фильм, а я, то есть ты, конечно, мы – были всего лишь поводом, своего рода статистами.
– Разрешите представиться? – спросил Хворостовский, явно ерничая, но тут я не смог оценить юмор, потому что подумал, что, если он назовет сейчас себя, я не смогу назвать тебя. То есть я готов выдавать себя за тебя сколь угодно долго, но – ровно до того момента, когда ко мне обратятся с прямым вопросом: «Как вас зовут?» Я не смогу ответить, ни за что не смогу сказать: «Герман Штильмарк», у меня просто язык не повернется. («Кому нужна твоя правда?» – говорит мне время от времени Женька, и я совершенно с ней согласен. Никому. Потому что от нее всем плохо. Даже не знаю, откуда это у меня? Мама?
Ложь унижает человека, – сказала она мне, когда я был еще ребенком и безуспешно пытался выдать за правду какое-то свое детское вранье.
– А правда? – спросил я.
– Правда делает человека сильнее.
Я рос хилым и слабым и, видимо, понял маму буквально. А в результате – патология! Если бы Женька спросила: «У тебя есть кто-нибудь?» – я бы, несомненно, рассказал ей про Дашу. Хорошо, что не спрашивает.)
– Сокрушилин, слышал? – спросил он и расправил плечи. Похоже, он очень гордится своей фамилией, а точнее – собой, носящим такую выразительную фамилию. Тоже мне – Сокрушилин. Нет, не слышал! Хворостовский – слышал, Сокрушилин – нет. Я уже собирался его разочаровать, как вдруг – вспомнил! Не слышал – читал. Совсем недавно, в «Столичном молодежнике»[6], огромную, чуть не на целую страницу, статью о провинциальном следователе (а он, конечно, из провинции, произношение у него явно не московское), из Сибири, кажется, из Сибири, да, о том, как он распутывает там самые запутанные дела, бесстрашно внедряется в преступные группировки, устраивает засады и погони, стреляет без единого промаха – этакий сибирский Робин Гуд. И еще там была фотография – он в одной белой сорочке (без пиджака и галстука), а под мышкой пистолет в светлой кобуре, благодаря которой я и вспомнил… Он, именно он! Статья называлась как-то очень броско, хлестко, но как – сейчас уже вряд ли вспомню.
И я уже хотел сказать, что не слышал, но читал, однако Сокрушилин моего ответа не дождался, он, похоже, совершенно не умеет ждать.
– Не слышал, так услышишь! – выкрикнул он и неожиданно громко и довольно неприятно засмеялся.
Нет, это даже хорошо, что я не сказал, не надо поощрять в человеке его бахвальство. Сокрушилин оборвал смех так же неожиданно, как и начал смеяться, посмотрел на меня удивленно и решительно и решительным же жестом нажал на кнопку диктофона. Мгновенно в его правом углу загорелся маленький красный квадратик. Я смотрел на него и не находил в себе сил отвести взгляд. Этот КРАСНЫЙ КВАДРАТ действовал на меня совершенно странным образом: он подавлял меня, обезволивал, гипнотизировал. Я ощущал себя кроликом, заглянувшим в глаза удаву, я был готов ответить положительно на любой, даже самый нелепый вопрос:
– Вы Марк Аврелий?
– Я.
– Вы убили старуху процентщицу?
– Убил.
Хотя дело не в гипнозе, конечно, никто меня не гипнотизировал, думаю, это происходило оттого, что я страшно не люблю, просто терпеть не могу, ненавижу – фотографироваться, а тем более записываться на всякие так называемые аудио– и видеоносители. На позапрошлый, кажется, Новый год, когда я не захотел вместе со всеми фотографироваться, Женька прямо меня спросила: «Боишься оставить след в истории?» – «При чем здесь история?», – хотел возразить я, но неожиданно признался: «Боюсь». Да, боюсь! Боюсь, потому что… стыдно…
Сокрушилин не спросил про убитую старуху-процентщицу. Его вопрос прозвучал для меня, как гром среди ясного неба.
– Фамилия. Имя. Отчество, – произнес он громко и раздельно.
Нет, я не проигрывал третий раунд, я его уже проиграл, а значит, и весь поединок в целом. Это был не проигрыш, это была КАТАСТРОФА.
Уставившись в этот красный квадрат, как идиот, я уже разинул рот, чтобы выложить все как есть. Как вдруг… (Как Алиска говорит, принося из школы приличную отметку, «его величество случай».) Сначала в коридоре загрохотали шаги, а потом открылась дверь. Да нет, не открылась – распахнулась, чуть с петель не слетела, и, если бы это произошло, нас с несчастным Сокрушилиным на том же самом месте просто сокрушило бы! (В этот самый момент я взглянул на Сокрушилина. Он сильно побледнел. Где-то я читал, что в минуту страшной опасности все люди либо бледнеют, либо краснеют. Бледнеющие – по сути своей бойцы, и именно таких, говорят, отбирал в свое войско Александр Македонский. Я – краснею. Он бы меня не взял. Но не обо мне сейчас речь!) На пороге стоял Захарик. Вне всякого сомнения – Захарик. Захарик, но какой! Захар! Захарище! Здоровый, как медведь, дядька, с густой сивой шевелюрой. На нем была расстегнутая шинель с полковничьими погонами, а из-за его спины выглядывали испуганные физиономии двух ментов: один – знакомый, мой, другой – чужой, незнакомый.
– Ты! – заревел медведь Захарик, громко топоча и наступая. – Ты… что… тут это, а?!
– Я веду допрос, – с достоинством ответил Сокрушилин. (Он, видимо, все еще рассчитывал разойтись миром. Для меня же это было неочевидно с самого начала.)
– А ну вон из моего кабинета!!! – еще громче заревел Захарик.
Тут и Сокрушилин, кажется, понял, что мир с этим человеком невозможен.
– Что-о-о?! – протяжно завопил он, приподнимаясь из-за стола и как бы увеличиваясь в размерах. Хотя Захарику он проигрывал: и голосом, и статью. Если тот – медведь, то этот… даже не знаю кто: олень какой-нибудь, марал?
– Па-шёл вон, сопляк! – заорал Захарик, «включая громкость» на полную катушку.
– Ты! – закричал в ответ Сокрушилин, тоже прибавив звук. – Коммунист! Железного Феликса за спиной держишь?! А на другой стороне кто нарисован?! Ленин?!
– Сталин!! – хрипло проорал в ответ Захарик.
Ну а дальше совсем паноптикум начался! Пинг-понг, в котором вместо шарика летало чугунное раскаленное ядро: туда-сюда, туда-сюда… А я вместо сетки. То есть мне совершенно не было страшно, наоборот, мне было весело, жутко весело! Дальше в ход у них пошли фамилии. Фамилий было много, и я ни одной не запомнил.
Один кричит:
– А ты Иванова знаешь?
(Это как пример.)
Другой в ответ:
– А ты Петрова знаешь?
(Это тоже как пример.)
– А мой Сидоров твоего Петрова!
– Да с твоим Сидоровым мой…
А одна фамилия – то ли Копенкина, то ли Опенкина – полковника неожиданно развеселила, и он стал хрипло, одышливо смеяться, приседая и хлопая себя ладонями по ляжкам, повторяя ее на разные насмешливые лады.
Сокрушилина такая реакция обидела.
– А хочешь, я ему сейчас позвоню, и через пять минут ты не будешь здесь работать? – с таким вопросом обратился он к Захарику и снял с телефонного аппарата трубку.
Полковник подпрыгнул на месте, от чего в кабинете все вздрогнуло, и закричал:
– Положь!
В первый момент я подумал, что он испугался этого самого то ли Копенкина, то ли Опенкина, но тут же понял, что Захарик не был против, чтобы Сокрушилин звонил, он был против, чтобы тот пользовался его телефонным аппаратом.
– Положь, я сказал! Бери свою погремушку и звони! Хоть черту лысому звони! – Захарик имел в виду сокрушилинский мобильный, и я успел подумать: какая все-таки образная у него речь – владельцы мобильных телефонов носятся с ними, как грудные дети с погремушками, никогда не выпуская их из рук[7]. Сокрушилин дважды встряхнул свой мобильник, но звонить почему-то не стал, а спрятал в карман пиджака. Видимо, Захарик расценил данное действие как выброшенный белый флаг и стал обличать – негодующе и громогласно:
– Ворье! Разворовали страну! Набили карманы! Дерьмократы!
– Вы имеете в виду кого-то конкретного? – поинтересовался Сокрушилин, натягивая плащ.
– Да тебя первого!
– А еще кого?
– Кого? Да всех вас, таких, как ты!
– А конкретно? – Сокрушилин сделался вдруг сухим и деловитым.
– Конкретно? Да хотя бы твоего Иванова!
Сокрушилин удовлетворенно и деловито кивнул.
– Вы говорите, говорите, а то пленка кончается, – и он показал пальцем на работающий диктофон, про который я совершенно забыл. Захарик посмотрел на него, развел руками и засмеялся. Смеялся он неумело, но искренне и хорошо – глядя на него смеющегося, сам не знаю почему, я испытывал радость.
– Хах! Испугал! Хах-хах! Испугал ежа, хах, голой ж…й!
Я, конечно, извиняюсь, но тут, как говорится, из песни слова не выкинешь. Разве что несколько букв.
Однако этого довода товарищу Захарику показалось мало и он прибавил:
– На…ть, – я опять очень извиняюсь, но именно так он и сказал, – мне на твоего Иванова!
Но и этого мало! Полковник наклонился к диктофону и проговорил отчетливо и громко:
– На…ть!
(Повторяю – это голая цитата.)
– А на Петрова?
Ответ был аналогичный. Они прошлись еще раз по тем же самым фамилиям, но уже в новом, так сказать, их состоянии… Потом возникла короткая пауза, потому что фамилии, как мне показалось, кончились, но на самом деле оставалось еще одна, главная, Сокрушилин готовился произнести ее вслух, и именно поэтому возникла пауза.
– А на Копенкина-Опенкина? – холодно и жестко потребовал ответа Сокрушилин, и до меня стало доходить, что этот человек совсем не так прост.
Это был удар… Захарик замялся, закряхтел, все больше и больше краснея, стрельнул затравленным взглядом на дверь, где торчали уже не две, а четыре ментовские физиономии, и задушенно и обреченно просипел:
– Тоже на…ть…
Да, Александр Македонский был прав: на моих глазах бледнеющий марал победил краснеющего медведя. Сокрушилин артистично подхватил со стола диктофон, поднес ко рту и озабоченно и деловито проговорил:
– Записано верно, одиннадцатое ноября 1997 года, – и, взглянув на свои восьмитысячедолларовые часы, назвал время: – Девять часов пятнадцать минут утра, кабинет полковника Захарика, в присутствии свидетелей.
Вот, брат, как рождается компромат! Можно сказать – играючи. Сокрушилин щелкнул кнопкой – красный квадратик наконец погас, – опустил диктофон в карман плаща и широко, я бы даже сказал, победно шагая, направился к двери. Менты, которые все время там торчали, куда-то испарились. На пороге Сокрушилин остановился. Я, признаться, подумал, что он вспомнил обо мне, но не тут-то было! Знаешь, что он Захарику на прощание сказал?
– Мы к вам еще с шаболовскими завалимся. Мы вам тут кровавую баню устроим.
Ты понял? Нет, ты понял?! Раньше бы я подумал, что речь идет о бандитах, солнцевских там всяких и прочих, но шаболовские – это ведь РУБОП! Есть даже поговорка: «Круче солнцевских только шаболовские». Где-то я ее слышал, кто-то мне ее говорил. Кто? Да ты же мне ее и говорил, от тебя же я ее и слышал! Ну, значит, ты сам все сразу понял. «Мы к вам с шаболовскими завалимся, мы вам кровавую баню устроим». Каково?
Но эту угрозу Захарик воспринял неожиданно индифферентно. Он вяло махнул рукой в спину уходящему Сокрушилину и проговорил тихо, на сиплом выдохе:
– Валяйте. У нас на всех патронов хватит.
Такое вот, Гера, было цирковое представление… Но как тебе нравятся взаимоотношения наших правоохранительных органов? Это же просто беспредел, настоящие криминальные разборки! Абсурдистан! Абсурдистан…
А между тем я продолжал сидеть там же, где и сидел, испытывая странное чувство. Я как бы был, и меня как бы не было… Для Сокрушилина я, похоже, кончился, а для Захарика не начинался. Причем он меня не игнорировал, нет, он действительно меня не замечал! Этот настоящий полковник тяжело подошел к столу, неловко, боком пристроился на стул и, наклонившись и тупо глядя перед собой, стал шарить в столе рукой. Была в Захарике при этом такая сосредоточенность, что я с веселым ужасом подумал вдруг: «Вот вытащит сейчас оттуда гранату, выдернет чеку и швырнет в коридор, вслед Сокрушилину». Но он вытащил оттуда лишь початую бутылку боржома. Выпив залпом два неполных стакана, полковник вытер ладонью рот, гулко и протяжно рыгнул и, наконец, заметил меня. Я улыбнулся. С моей стороны это было бестактным и даже жестоким, но я ничего не мог с собой поделать – смотрел на него и улыбался, но в той моей улыбке не было ни капли насмешки, даже иронии не было – этот человек, полковник Захарик, несмотря на его несомненные прокоммунистические убеждения, вызывал у меня симпатию.
– А ты чего тут делаешь? – устало спросил он.
На данный вопрос ответить мне было нечего, поэтому я только пожал плечами.
– Кто такой? – кривясь и потирая под ложечкой ладонью, задал Захарик второй вопрос, на который я также затруднился ответить.
На помощь неожиданно пришел тот самый мой мент.
– Это задержанный, Виктор Кузьмич. Сокрушилинский…
– За что задержан? – равнодушно спросил меня Захарик.
А этот ответ дался мне легко и просто:
– Ни за что.
Полковник громко вздохнул, задумался о чем-то совершенно ко мне не относящемся и сказал совсем негромко, но я услышал:
– А тогда чего здесь сидишь?
Я поднялся и вдруг увидел оставленные Сокрушилиным мои часы на столе.
– Мои, – объяснил я Захарику.
– Забирай, если твои, – равнодушно проговорил он.
Я взял часы, подошел к двери, и сказал:
– До свидания.
Захарик не ответил. Я вышел.
«Ну вот и всё, – подумал я. – Очень неожиданно началось и еще более неожиданно кончилось». Миновав длинный коридор и открыв тяжелую железную дверь, я вышел на высокое кирпичное крыльцо. Странно, вчера мне казалось, что нахожусь я где-то в центре, в районе ГУМа, но ГУМом здесь и не пахло. Предстояло выяснить, где расположена ближайшая станция метро, но это было пустяком в сравнении со всем произошедшим. (Я даже не подумал, на что я куплю жетон, у меня совершенно не было денег.)
Я улыбнулся, вздохнул полной грудью и подумал: «Свобода!» и даже, кажется, произнес это слово, впрочем, без пафоса, и очень хорошо, что без пафоса, потому что в тот самый момент увидел стоящего внизу Сокрушилина. Вид у него был задорный и деловитый. Он призывно махнул рукой и крикнул:
– Ну что стоишь? Поехали!
За его спиной возвышались темно-зеленые квадраты металла и стекла. Это был «Hummer»! Ты знаешь, что к технике я отношусь с безразличием, для меня проблема – отличить «девятку» от «шестерки», все эти железяки меня ни капельки не волнуют, но «Hummer», Гера, «Hummer»… Когда этой весной я увидел его стоящим на тротуаре рядом с магазином «Triniti Motors», что на улице Горького (то есть теперь уже на Тверской), то встал как истукан и стал смотреть на эту, в общем-то, конечно, железяку, как… на чудо природы, как на Гранд Каньон, на тиранозавра какого-нибудь… Я стоял, обалдевший, и рядом стояли несколько таких же обалдевших, как я. Мы даже мнениями не обменивались – молчали. Один только высказался:
– Они на таких Саддама сделали.
И все сразу поняли, что имеется в виду операция «Буря в пустыне», и продолжали молча глазеть. На дверце «Hummer’а» скотчем была приклеена бумажка с выходными, так сказать, данными: скорость, количество лошадей и прочее, а внизу цена – 113 000 USD. И хотя в тот момент в моем кармане лежал один жетон на метро, я был согласен с этой ценой. ТАКОЕ и должно СТОЛЬКО стоить. И, сознаюсь, я представил себя за рулем «Hummer’а». Да, помечтал… Но совсем немного, можно сказать, чуть-чуть. Вероятно, это не такое уж стыдное занятие – мечтать, но я почему-то стыжусь. Мечтаю и стыжусь, стыжусь и снова мечтаю. Да и в самом деле, когда тебе перевалило за сорок и ты начинаешь стремительно катиться к полтиннику, мечтать поздно, а я все мечтаю… Ну да, а ты, конечно, нет? Врешь! Помнишь, как я предлагал тебе встретиться – пивка попить, а ты: «Не могу, старик, извини, идут живые деньги». «Идут живые деньги». Они идут, а ты уже мечтаешь, как будешь их тратить. Разве это не мечта? Мечта! (Никогда не смогу понять, как деньги могут быть живыми? Книги, я понимаю, – живые, а эти жалкие замусоленные бумажки с цифрами? Нет, никогда не смогу я этого понять!) А помнишь, как ты мне проиграл бутылку французского коньяка? Ты утверждал, что у Пушкина: «Мечты, мечты, в чем ваша сладость?» А я – что «где». «Мечты, мечты, ГДЕ ваша сладость?» Разумеется, я оказался прав. Но вот какая мысль родилась сейчас: если следовать Пушкину, получается что наши мечты существуют отдельно от удовольствия, ими доставляемого? И довольно далеко! «Где»? И где, кстати, проспоренный коньяк? Нет, старик, мечта мечте рознь. Я ведь не мечтаю о благосклонности Клаудии Шиффер. (Тем более что она совершенно не в моем вкусе, и если уж говорить о топ-моделях, то Линда Евангелиста, по-моему, вне конкуренции. А если уж совсем серьезно, то, когда в моей жизни появилась Даша, про Линду я и думать забыл.) Так что, если я и мечтал посидеть за рулем «Hummer’а», то совсем-совсем недолго, и тут же, с юмором – подумал, что я не только за руль «Hummer’а» никогда не сяду, меня и в салон его никто никогда не пустит. Никто и никогда, да. Ну и что?! Как Жванецкий говорил в одном своем блестящем монологе: «Никогда не буду узбеком». Да, не буду, и что? Но в самом деле – кто? где? когда? Кто, где и когда стал бы катать меня на «Hummer’е»?
Так неожиданно сбылась моя мечта…
А маршрут-то у нас крутой! Три раза по Садовому кольцу, как вам это нравится? Сокрушилин ведет себя так, как будто там, в ментовке, ничего не случилось. Я бы на его месте полведра валокордина выпил, а с него – как с гуся вода! Музычку включил, по телефону болтает… Музычка, между прочим, зубодробительная, бьет изо всех углов, не прислониться. Остановившись на Краснопресненской напротив «Макдоналдса», Сокрушилин сделал мальчишкам знак рукой, и они мгновенно приволокли два бумажных пакета, набитых американской едой. Один пакет Сокрушилин оставил себе, а второй бросил мне на заднее сиденье. (Впрочем, сделал он это для меня не обидно, а опять же по-американски, если судить по американскому кино, у них все так делают: один неожиданно бросает, а другой ловко ловит. Я тоже поймал, правда, совсем не по-американски, неловко, наверное, со стороны это выглядело даже смешно.) «Ешь», – приказал Сокрушилин. В пакете лежали два больших бигмака и два обжигающе-горячих пирожка с повидлом, сделанным невесть из чего. Терпеть не могу эту американскую еду (Женька тоже, а Алиска обожает), но съел всё, даже пирожки с этим ужасным повидлом, потому что, как выяснилось во время еды, здорово проголодался. Сокрушилин тоже ел с аппетитом и при этом беспрерывно болтал по мобильному. Запили клубничным коктейлем, который тоже принесли мальчишки. Это единственное, что мне в «Макдоналдсе» нравится, и я бы выпил его с удовольствием, если бы не горло, пил и думал: «Напрасно я это делаю». Поев и выбросив пустой пакет в окно(!), Сокрушилин рванул на Котельническую мимо высотки и, выехав на пустынную набережную Яузы, так стал гонять! В какой-то момент я даже испугался, решив, что никакой он не следователь, а самый настоящий бандит, но тут же вспомнил КПЗ, мента, Захарика и успокоился, а увидев отдающего честь гаишника, успокоился окончательно: гаишники бандитам честь пока еще не отдают. И вот что я понял:
а) он катается, он просто катается! (Наверное, недавно купил этот «Hummer» и теперь наслаждается ездой.)
И б) (это главное) он чего-то ждет. Чего-то очень важного, от чего зависит вся его будущая карьера и, может быть, жизнь. Он ждет звонка. Звонок ценою в жизнь, как тебе?
И вот почему я это понял… Все свои телефонные разговоры, дурацкие, бессмысленные, то и дело перемежающиеся матерными словечками и дурацким бессмысленным хохотом, он заканчивает одной и той же фразой, вдруг становясь в этот момент предельно серьезным и собранным:
– Жду. Молчит.
Или так:
– Жду! Молчит.
Или еще так:
– Жду – молчит…
Теперь, с позволения сказать, о персоналиях, то есть о тех, с кем он разговаривал. Собственно, имен собственных, как таковых, не было, одни прозвища, клички. (Вот почему я еще подумал, что он бандит.) Разумеется, ни одной кликухи я не запомнил, но две в памяти почему-то задержались: Дед (он же Дедушка) и еще Наум. Не могу сказать, что эти, с позволения сказать, имена упоминались чаще других, скорей реже, просто интонация, с какой они произносились, несомненно, выделяла их из общего ряда. Это была интонация не уважения даже, а, я бы так сказал, – подчинения; на иерархической лестнице, на которой все они пребывают (и наш Сокрушилин в том числе), Дед и Наум находятся на самой верхней ступеньке. Причем главный – Дед, он – бугор, пахан, начальник, Наум же стоит ниже. Но вот что интересно: говоря о Деде, Сокрушилин позволяет себе интонацию насмешливую, о Науме же говорит с несомненной любовью, причем не скрывая ее, а всякий раз интонационно ее подчеркивая. (А что, если Наум – она, женщина, которую любит Сокрушилин? Тогда Дед – это ее отец, и от него зависит, будут они вместе или нет? По-моему, эта версия имеет тоже право на существование.)
Так вот, продолжаю свое донесение: будущее Сокрушилина зависит от того, видел Дед или не видел: если видел – хорошо, не видел – плохо. Очень плохо! Что видел? Не знаю. И этого пока никто не знает. А узнать это может только Наум: видел Дед или нет. А Наум молчит. «Жду. Молчит… Жду, молчит». Я, конечно, испытываю неловкость от того, что, получается, подслушиваю чужие телефонные разговоры, но, во-первых, делаю я это в буквальном смысле слова – невольно, а во-вторых, не ради себя, а ради тебя, быть может, эта информация тебе еще пригодится… Да, а последний свой разговор Сокрушилин закончил со столь многозначительной интонацией, что я с трудом удержался, чтобы не рассмеяться. Он сказал: «Ждать и догонять хуже нет». Это, кажется, из фильма «Ошибка резидента»? Как фамилия того актера, уютная такая… Ручкин? Нет, Ножкин! А сентенция, по-моему, выеденного яйца не стоит. Я, правда, в жизни никого не догонял и ни от кого не убегал, но, думаю, убегать даже хуже, чем догонять. Догонял и не догнал, ну и что? А вот убегал и поймали – это уже… (Беги, Гера, беги!) Да и ждать тоже… Особенно – стоя…
Больше всего на свете не люблю стоять. Просто – стоять: на ногах, на ножках, на своих двоих… Мне просто плохо становится от любого вынужденного стояния. Возможно, это происходит оттого, что в детстве иногда мама ставила меня за шкафом в угол. Это было страшное наказание, означавшее, что я очень сильно ее огорчил, и, видимо, осознание данного факта, а не само как таковое стояние приводило меня в ужас, заставляло страдать и раскаиваться. Прошли годы, и сегодня никто, даже мама, не может меня таким образом наказать, но с тех самых пор я стараюсь не стоять! Нигде и ни при каких обстоятельствах. Сидеть, лежать, идти, бежать (рифма!) – это пожалуйста, но – не стоять. И не то чтобы я устаю, я вообще-то выносливый, просто сначала возникает какой-то внутренний дискомфорт, а потом начинает расти непонятная внутренняя тревога… Я неоднократно анализировал этот процесс и сделал вывод, что в такой момент во мне включается психологическая цепь, сохранившаяся еще с детства, но со временем ее конечные звенья как бы поменялись местами – если в детстве она выглядела, как голова – ноги, то теперь ноги – голова. А вот сидеть люблю! А еще больше – ходить. Просто ходить. Ходить и думать… Думать – что это вы, Герман Генрихович, там натворили? И кстати, что это Сокрушилин, как только меня увидел (я еще в «обезьяннике» торчал), назвал меня Чикатилой? Или, ха-ха, Чикатилом? («Фамилии с окончанием на – о – не склоняются». Я помню, мама, это я просто пошутил!) Я его – Хворостовским, а он меня, значит, Чикатило? Похож? Странная штука: когда я впервые увидел в газете портрет этого, с позволения сказать, человека, мне тоже показалось, что я на него похож, и, надо признать, неприятно стало от одной этой мысли. Я Женьке даже тогда ту фотографию показал и спросил: «Похож?» «Ничего общего», – ответила Женька и поинтересовалась: – «А кто это?» «Композитор Гуно», – сказал я почему-то, сам даже не знаю почему, возможно, слышал перед тем по «Эху Москвы» передачу Артема Варгафтика, я всегда его слушаю, он очень интересно про композиторов рассказывает. «Гуна нам только не хватает», – сказала Женька, она тоже любит пошутить с фамилиями, которые на – о оканчиваются. Никто и никогда не говорил мне об этом моем мнимом сходстве, и я напрочь о нем забыл, но Сокрушилин заставил вспомнить. Или?.. Что – или? Или – никакого сходства нет, а есть происшествие на сексуальном фронте? Но этого не может быть, потому что не может быть никогда! По логике вещей, если бы тебя заподозрили в чем-либо подобном, меня бы не посадили в банальный милицейский «обезьянник», с такими обращаются куда как более серьезно. Это – во-первых. А во-вторых, таких не катают на «Hummer’е» и не кормят гамбургерами… (Нет, гамбургеры лучше не вспоминать, а то меня что-то подташнивает, хотя, скорее, это не гамбургеры, а повидло в пирожках – стопроцентно химический продукт.) Да… Да, и в-третьих, и это главное, это, можно даже сказать, во-первых: Гера и сексуальное преступление – вещи несовместные! «Нет такой вершины, которую не могли бы покорить большевики, нет такой женщины, которую не мог бы покорить Герман Штильмарк». Это не я сказал, а ты, без ложной скромности. (Хотя я-то так не считаю!) Но один случай мне запомнился, я тогда на какое-то время поверил, что действительно нет такой женщины… Дело было в приснопамятные застойные годы, Гера заработал какие-то деньги (он приторговывал тогда пластинками), и мы пошли в ресторан. Ни много ни мало, это был «Националь»! А мы были студенты. Неплохо, да? А в углу сидела за чашечкой кофе женщина, в которую я сразу же влюбился. Влюблялся я тогда часто, чуть ли не каждый день, но тот случай был особенный. То была женщина моей мечты! Похожая на молодую Татьяну Доронину, в которую, кстати, я тоже был влюблен, заочно разумеется, – по фильмам, спектаклям и фотографиям. Гера насмешливо называл таких женщин продавщицами. Куда, кстати, они делись, те невысокие, крутобедрые, пышнотелые блондинки с мягким грудным голосом и влекущим воркующим смехом? Продавщица… А у самого глаза загорелись! В ней была тайна… И я сказал:
– Старик, выключи дальний свет.
– Ты уверен? – спросил Гера.
– Уверен.
– Точно?
– Точно.
Тогда он взял салфетку, что-то на ней написал и попросил официанта ей передать. Да-а… В общем, Гера ушел с той женщиной и вернулся утром. Утомленный и как бы разочарованный, каким он всегда выглядел в подобных ситуациях. Я понимал, что не имею права на него обижаться, что я сам виноват – сам первый начал, фактически спровоцировав ситуацию, но все равно – в тот день с Герой я не разговаривал. Однако так хотелось знать, какие он там слова написал, я просто не мог их себе представить! Анна Петровна Керн, как известно, не устояла, когда прочла: «Я помню чудное мгновенье…»[8]. Неужели в самом деле – стихи? Но Гера не только не писал стихов, он, по-моему, их никогда не читал. Я терялся в догадках, но держался. Вечером Гера сам спросил:
– Хочешь знать, что я ей написал?
У меня не хватило сил сказать «нет», я просто промолчал.
– «Сколько?» – сказал Гера.
– «СКОЛЬКО?»
Гера убежден, что можно купить любую женщину. «Все дело в сумме, старик, одна удовлетворяется сотней баксов, другая тысячей, а на третью нужно потратить десять штук». Любую? Нет, старик, не любую, лично я знаю по крайней мере двух. (А сколько тех, кого я не знаю?) Да, по крайней мере двух! Ну хорошо, Женька – моя жена, ее мы трогать не будем, хотя я убежден, на все сто процентов уверен, что с ней этот номер не пройдет. А знаешь, почему я так говорю? Я ее спросил однажды, когда Алиски дома не было: «Что ты сделаешь, если к тебе на улице подойдет мужчина и предложит деньги?» (Почему-то вспомнились эти твои слова, и я решил спросить.) Так, знаешь, что моя Женька ответила? «Дам в морду». Мрачно так: «Дам в морду». И даст, обязательно даст, я мою Женьку знаю. Хорошо, Женька – моя жена, а Даша (с которой я тебя пока не познакомил, и, иногда мне кажется, никогда не познакомлю, ну тебя к черту!), так вот – Даша… Сначала я просто предлагал ей деньги, потом оставлял, как бы забывая, но всякий раз Даша была непреклонна и неизменно их мне возвращала. Разумеется, я давал ей деньги не с той целью, с какой ты это делаешь, я просто пытался ей как-то хоть немного помочь, потому что живет она с Тотошкой одна, и живет трудно, но, согласись, в подобной ситуации их даже легче принять. «Нет». Всякий раз я слышал в ответ ее решительное и твердое «нет». Нет, старик, хоть ты мне и друг, сволочь ты порядочная! Я ведь давно тебя раскусил, понял, почему получаешь ответ только положительный. Потому что ты никогда не обращаешься к тем женщинам, которые могут сказать «нет», а только к тем, от которых, ты уверен, услышишь в ответ «да». Ну что, раскусил я тебя? Раскусил, раскусил!
Ой, что-то меня действительно подташнивает… Нет, эта Америка не для наших желудков, к этому надо с младых ногтей привыкать. Как мой Сокрушилин-Хворостовский… Чем-то он мне все-таки симпатичен! На светофоре у магазина «Армения» (я даже не заметил, как мы вновь оказались в центре) мы покупаем (мы покупаем – это неплохо) – Сокрушилин покупает у мальчишек свежий номер «Столичного молодежника» и запечатанный в целлофан «Playboy». У мальчишек, да… (Хорошо помню, с какой надеждой и нетерпением я ждал обещанный Гайдаром рынок, но теперь, в такие вот моменты, когда вижу торгующих детей или копающихся в мусорных баках старушек, я его, этот рынок, просто ненавижу!) Кстати, впервые на моих глазах человек покупает «Playboy». Сам я никогда не смог бы это сделать. Надеюсь, во мне говорит не ханжество, я умею восхищаться красотой женского тела и никогда не забуду обнаженную Жанну Болотову в фильме «Подранки», но, во-первых, пятьдесят тысяч рублей за журнал – сумма несоразмерная, я бы даже сказал – неприличная, – когда для многих, для тех же мальчишек и старушек, и тысяча – огромные деньги, а во-вторых, я просто не представляю, как в том же самом киоске «Союзпечати», в котором ты когда-то покупал сначала «Пионер», потом «Технику – молодежи», потом «Юность», наклонившись к этому маленькому уютному окошечку, сказать: «Дайте, пожалуйста, “Playboy”». Не представляю, просто не представляю! (Это все равно что прийти в свою родную аптеку и попросить не фарингосепт, а… Я, кстати, так и не смог, и в конце концов эту нелегкую миссию благородно и мужественно взяла на себя Женька…)
Сокрушилин бросает «Playboy» на заднее сиденье рядом со мной, а сам углубляется в чтение «Столичного молодежника». Да, симпатичная, я бы даже сказал – красивая… Но и вульгарная, конечно. К тому же худые брюнетки всегда оставляли меня равнодушным. «Ни дня без оргазма». (Просто помешались все на этом оргазме!) Я, кстати, как-то спросил Геру (просто хотел проверить свои наблюдения и рассуждения), покупал ли он когда-нибудь «Playboy». «Я давно вырос из этого возраста», – насмешливо ответил мой друг. А вот мой Сокрушилин, еще, значит, не вырос. Испытывает бурный период полового созревания. Что ж, он и у меня был бурным! Однажды (в конце восьмого класса) я притащил домой польский журнал «Экран» – на ужасной бумаге с ужасного качества фотографиями, но там действительно были какие-то полураздетые красотки. Вообще-то (как мне казалось), я принес его не для того, чтобы на них глазеть, а для того, чтобы начать изучение польского языка, о чем с гордостью и сообщил маме, но она поняла это по-своему, то есть – правильно поняла, и на следующий день я с удивлением обнаружил лежащую на моем письменном столе тоненькую брошюрку синего больничного цвета. У нее было два автора: И. И. Райхельштокк и Т. В. Нефедкина. Издательство медицинской литературы, 1971 год. Называлась она коротко и страшно: «О вреде онанизма». Я испытал сильнейшее потрясение! Потрясло даже не то, что мама может это про меня знать, а то, что она может это про меня предположить! Я прочитал брошюру три раза подряд, а потом, взяв из кухни довольно-таки острый топорик для разделки мяса, которым на моей памяти мы никогда не пользовались, положил его в своей комнате на видное место, предполагая отрубить себе руку, если вдруг… Интересно, что мама так и не спросила, почему в моей комнате кухонный топорик? Но он действительно мне помог. (Ну и Колька Золотоносов помог, конечно, тоже: это пагубное занятие привело его к нервному и физическому истощению, о чем предупреждали крупные в этой области специалисты Райхельштокк и Нефедкина.) А Сокрушилин меж тем читает газету, водя по строчкам указательным пальцем. Читает по слогам? Я не удивлюсь… Но неудобно перед людьми: на светофоре давно зеленый, а сзади машины стоят, ждут, сигналят… Нет, он что-то ищет там, выискивает какую-то чрезвычайно интересующую его информацию…
– Есть! – восклицает он, и я надеюсь, что мы наконец тронемся, в самом деле – неудобно перед людьми, но не тут-то было…
– Есть… – повторяет Сокрушилин удовлетворенно и откидывается на спинку сиденья. А сзади уже не сигналят, а просто начинают нас объезжать. Причем – никакого крика, ругательств, никто не крутит у виска пальцем, лишь поглядывают недовольно. Вот что такое «Hummer»! (Попробовал бы я устроить подобное на твоем «эсэре»…) А Сокрушилин меж тем все смотрит в газету. Это первая страница, где внизу печатаются коротенькие заметки о разного рода имевших место в Москве происшествиях, чаще всего – кошмарных, но иногда забавных и познавательных, я их тоже всегда прочитываю, если уж попадает в руки «Столичный молодежник». (Не люблю данный печатный орган за его развязный и агрессивный тон.) Нет, он действительно читает по слогам? Уже снова красный загорается, и за нами выстраивается новый хвост. Ну, кажется, наконец прочитал… Поворачивается ко мне, заговорщицки подмигивает и, улыбаясь, спрашивает:
– Хочешь про себя прочитать?
Вопрос, конечно, интересный, если не сказать – дурацкий; не знаю, как бы я ответил, если бы там действительно было написано про меня: «хочу» – глупо, «не хочу» – еще глупее, но про тебя, старик, я должен знать, чтобы наконец сориентироваться, как в данной ситуации себя вести…
– Вот здесь, – не дожидаясь моего согласия или отказа, Сокрушилин тыкает в газетный лист пальцем и одновременно срывает «Hummer» с места. Меня откидывает назад, но я успеваю прочитать заголовок: «От 5 до 10». Ого, это уже серьезно! Видимо, чтобы я не ошибся, Сокрушилин даже проткнул заметку пальцем. Усаживаюсь поудобнее, разглаживаю бумагу на колене и внимательнейшим образом прочитываю. Раз… Два… Три… И ничего не понимаю, решительно не понимаю. Я выучиваю текст наизусть, но все равно ни фига не понимаю!
От 5 до 10
С будущего года департамент народного образования Москвы вводит в школах города следующее нововведение. На выпускных экзаменах преподаватель сможет теперь поинтересоваться у школьника его знанием библейских заповедей, коих, как известно, имеется числом десять. Но знать первые четыре почему-то совершенно необязательно и только за незнание заповедей от № 5 до № 10 включительно можно схлопотать двойку. При сегодняшней моде на православие подобное рвение наробраза неудивительно, но имеет ли он право требовать знания Библии от мусульманина, иудея или кришнаита? А если школьник – атеист?
– Ну – как?! – Сокрушилин ведет машину, но не смотрит на дорогу, а смотрит на меня, открыв рот, и ждет ответа.
Я смотрю на него внимательно, очень внимательно – может, он сумасшедший? Но и я, конечно, в идиотском положении…
– Нормально, – говорю я сдержанно, и сдерживаю себя, чтобы не сказать больше. Почему-то мой ответ его страшно радует и веселит.
– Нормально, Григорий! Отлично, Константин! – кричит он и хохочет тем своим дурацким и довольно неприятным хохотом. «Смех без причины – признак дурачины». Ты, Алиска, как всегда, права, но мне от этого не легче. Настроение портится окончательно. Нет, я не ищу во всем логику. Я никогда не пытался знать все и все понимать, но хотя бы что-то знать, хоть немного понимать в этой, мягко сказать, необычной ситуации я имею право? Да, я не знаю, что натворил Гера. Я не знаю, почему Сокрушилин колесит по Москве. Я не знаю, чего ждет Сокрушилин, и не знаю, кто молчит… Но могу я знать, что означает сия дурацкая заметка?! Постой, а что если это намек? Ведь он не так прост, этот Сокрушилин. Ты видел, как он оставил в дураках беднягу Захарика? На что-то он намекает… Где ключ, где зацепка, где собака зарыта? Ой, а эту улицу я знаю! Помню… Тут раньше была маленькая комиссионка, в которой я однажды купил Женьке французские духи. Они назывались «Diorissimo» и стоили восемьдесят рублей – тогда это были большие деньги.
– Кому же такая роскошь? – спросила продавщица и прибавила, как бы извиняясь: – Если не секрет…
– Не секрет, – сказал я и ответил: – Жене.
– Любите же вы свою жену, – сказала продавщица.
Даже жалко ее стало – так она это сказала… И если были бы еще деньги, я бы наверняка купил еще один флакон и подарил бы его той милой женщине. Но денег больше не было, да и духов таких тоже, это же была комиссионка – кто-то привез из-за границы и сдал. А деньги одолжил мне Гера. Он жил тогда в Доме аспиранта, сокращенно – ДАС, но в тот день я придумал этой аббревиатуре другую расшифровку: ДАС – День Абсолютного Счастья. И это действительно был день абсолютного счастья! Не помню ни число, ни месяц, ни год, но помню тот день в мельчайших подробностях. Я тогда очень любил Женьку! А Алиски не было еще даже в проекте… То есть была, еще как была, – именно в проекте, но почему-то никак не хотела получаться… А та моя комиссионка теперь, оказывается, называется «Siemens – Bosh». Ну что ж, Siemens так Siemens, Bosh так Bosh… В тот день Женька сказала слова, сделавшие меня абсолютно счастливым: «Кажется, я наконец залетела». ДАС – День Абсолютного Счастья.
А мой Хворостовский между тем припарковался, напрочь перегородив тротуар, из-за чего бедным пешеходам придется обходить «Hummer» по грязной и небезопасной проезжей части. Разумеется, это его нисколько не волнует, он птица высокого полета, что значат для него какие-то жалкие пешеходы? (А кого-то он мне еще напоминает, не только Хворостовского…) Он распахивает передо мной дверь и, шутовски улыбаясь, предупреждает вдруг:
– Шаг влево, шаг вправо – стреляю без предупреждения.
Шутит или смеется? То есть, ха-ха, шутит или всерьез? Горло болит… «Фарингосепт».
На вывеске рядом с небольшой дверью среди десятка казенных незапоминающихся слов я успеваю прочесть главное: «Прокуратура».
Прокуратура и прокуратор (Иудеи) – слова, несомненно, одного корня, но почему-то эта мысль не приходила раньше в голову. Может, чтобы это понять, надо туда попасть? Однако сделать это не так просто… Нас не пускают. (Снова не пускают!) Точнее – пускают, но не дают ключ от кабинета Писигина. Сначала все происходящее меня веселит, а потом начинает злить. (Кстати, а почему это у моего Сокрушилина нет своего кабинета? «Hummer» есть, мобильник есть, пистолет под мышкой есть, а кабинета нет?) Ладно, потом узнаю, а сейчас: пустите меня в кабинет Писигина! Мент мнется, кривится, мямлит что-то невразумительное, и я начинаю его ненавидеть. (Наверное, это уже синдром заложника.) Сокрушилин разговаривает по мобильному и одновременно протягивает за ключом руку.
– Ну что вы на меня наезжаете? – жалобно тянет мент.
«Наезжаете»… Уголовная лексика стала лексикой правоохранительных органов. Абсурдистан. Как, кстати, зовут того славного паренька, с которым познакомился в обезьяннике КПЗ? Кущеватов? Сущеватов? Нет, нет… Я не успеваю вспомнить, потому что вновь слышу ту фразу.
– Жду. Молчит, – говорит Сокрушилин в трубку и с какой-то загадочной укоризной смотрит на меня.
А ты знаешь, он вновь побеждает: мент все-таки выдает ключ, и вот мы премся пешком на четвертый этаж. Сокрушилин ломит, как буденновский конь, я едва за ним поспеваю. Фу-у… Кабинет Писигина – это вам не кабинет Захарика: здесь прошел евроремонт. (Ненавижу, кстати, это слово: какое-то оно корявое… Корявое и унизительное! А в результате та же безликость и казенщина, царящая во всех наших официальных кабинетах.)
– Садись, – предлагает Сокрушилин, вновь забыв о своем обещании «выкать», но мне не хочется больше об этом напоминать, надоело. Что ж, будем на ты! На экране компьютера застыла картинка из «покера». Ну разумеется, чем здесь, в прокуратуре, еще заниматься, когда на улицах гремят выстрелы и взрывы… Я пытаюсь устроиться поудобнее в неудобном кресле и никак не могу это сделать. А мой Сокрушилин между тем активно что-то ищет: распахивает дверцы шкафов, ворошит лежащие на столах бумаги… Кого же он мне еще напоминает? Шуру Балаганова? Тот так же искал деньги в квартире Корейко. Смотрит на старый советский сейф и чешет в задумчивости затылок. (Ты бы сказал – репу). Как там у классиков? «На широком невспаханном лбу Шуры прорезалась первая борозда»? Пожалуй, я прав – Шура Балаганов. А еще мне нравится у Ильфа с Петровым, кажется, это уже в «Золотом теленке», там ко всяким дурацким объявлениям добавлялись еще более дурацкие приложения. А в одном последнем: «Приложения: без приложений». «Приложения: без приложений» – Гера любит часто так свои послания заканчивать… Сокрушилин меж тем вытаскивает из кармана связку ключей и выбирает подходящий. Первый не подходит, второй… Мы берем кассу! Но денег там, кажется, нет, а есть толстая папка. «Дело»? Ну конечно, что же еще, это ведь прокуратура, а не консерватория. Листает, читает, снова листает… Ищет какую-то информацию? Меня нет, меня для него сейчас нет. Нашел? Да, кажется, нашел… Но что он делает, что он делает, товарищи? Он выдирает из «Дела» несколько листов, после чего достает из кармана золотую (!) зажигалку, щелкает и, держа в руке горящую исписанную бумагу, смотрит на огонь – сосредоточенно и печально. Когда пламя касается его пальцев, Сокрушилин испуганно вздрагивает, болезненно морщится и выбрасывает горящий клочок бумаги в форточку. Нет, это уже не Шура, это уже сам Остап Бендер. Остап-бей Сулейман Мария или как его там? «Приложение: без приложений». Я смотрю на этого человека и думаю о том, что долго, ох как долго придется еще ждать, пока Россия станет нормальной цивилизованной страной. Вот оно – наше сегодняшнее реальное правосудие! А ночь сегодня у тебя была бессонная, вон какие круги под глазами. А на воротничке сорочки – след от губной помады. Ну да, вы же вчера День милиции отмечали. Где-нибудь в «Метрополе», в Боярском зале, Гера рассказывал, какая там роскошь. А рядом была длинноволосая девица с ногами, растущими из шеи, и с маленькой куриной головкой. (И с соответствующим количеством мозгов!) Откуда только они взялись: безмозглые, бессловесные, бездушные? Где молодые Татьяны Доронины? Нет, сейчас не Тани, сейчас – Иры… Это в том же «Молодежнике» в рубрике «Досуг» я прочитал как-то объявление следующего содержания: «Иры». И всё! «Иры»! И номер телефона. Ее тоже звали Ира? А потом был роскошный номер в «Метрополе» за казенный, разумеется, счет… А утром: «Наша служба и опасна и трудна»! А ведь я понял наконец, на кого он похож в действительности, да и не просто похож, а является таковым по самой своей сути… Хлестаков! Вечный российский тип. Хлестаков ты мой, Хлестаков… Наконец-то я все понял! Абсолютно все! ВЗЯТКА! (А в том, что он взяточник, нет никакого сомнения. Откуда у простого советского следователя «Hummer»? И часы за восемь тысяч долларов? Может, как Чубайс, лекции читал – неведомо где, неизвестно кому?) Поэтому и брали меня – как чеченского террориста, чтобы шокировать, оглушить, подавить. А телевидение для того, чтобы показать свою безграничную власть, мол, мы везде, мы все можем и если что – вымажем дегтем, ославим на весь белый свет. Но так как «Дела» как такового нет, меня кинули в банальный милицейский «обезьянник», а не поместили в тюрьму, потому что тюрьма – это уже серьезно, там своя канцелярия, свои законы. И допрашивать меня в своем кабинете он не может, потому что боится засветиться. «Жду, молчит, жду, молчит…» Так это же я, я молчу! (Вот почему он так выразительно на меня посмотрел, когда произносил последний раз эту фразу.) А он ждет, когда я сам взятку ему предложу, и это принципиально важно, я где-то читал, принципиально важно, потому что тогда он будет чист перед законом. А по городу колесил, потому что проверял – нет ли хвоста, боялся слежки, у них там тоже один другого подсиживает, да есть к тому же служба собственной безопасности – специально для этой цели. Нет, ты понял? А «От 5 до 10» – это уже совсем просто! Просто, как всё гениальное! Это сумма, сумма взятки. Не больше десяти. Но и не меньше пяти. Тысяч. Долларов, разумеется. Как говорится – торг уместен. Мол, заплатишь, и мы твое «Дело» уничтожим, вырвем нужные листочки… И сожжем! Так ты понял? Понял, с кем мы имеем дело? Хлестаков ты мой, Хлестаков!
– Почему вы все время улыбаетесь?
В его голосе слышится уязвленное самолюбие. А ведь я в самую точку попал! Типично хлестаковская черта – страх выглядеть смешным. И сразу, заметь, перешел на «вы»!
– А почему бы мне не улыбаться?
В самом деле – почему бы мне не улыбаться, когда я, наконец, все понял! Когда вижу тебя, голубчика, насквозь! Усмехается… Ну, усмехайся, усмехайся. Прячет глаза… Не спрячешь! Бросает «Дело» на подоконник. (Точно таким же движением он бросил «Playboy» на заднее сиденье «Hammer'а». Тебе, конечно, все равно, что судьба человека, что «Ни дня без оргазма».)
– А ведь ты попал… Ты даже не представляешь, как ты попал!
Ой-ой-ой! Меня пугают, а мне не страшно. (Тебя пугают, а ты, старик, об этом даже не догадываешься!) Что, Хлестаков, занервничал? Ждешь, когда я сам? Когда сам взятку тебе предложу? Не дождешься! Каким угрожающим шагом, какой свинцовой поступью он направляется ко мне… Шаги командора! Садится за стол напротив, буравит взглядом. Ну, говори же! Говори – сколько: пять, шесть, восемь? Или все десять? По максимуму? Говори! («Говори!» – пьеса была такая, перестроечная, наивная, если из сегодняшнего дня смотреть, но все равно свою положительную роль она сыграла.)
– Где вы были и что делали пятого апреля сего года?
Неожиданный вопрос. И странный… Очень странный.
– Что?.. Где я был когда? Что делал когда?
– Пятого апреля сего года.
«Сего года»… Нет, мне нравится: СЕГО года… Не имею ни малейшего понятия, где я был пятого апреля сего года! У меня память так устроена. Я бы не назвал свою память на даты плохой, она не плохая, ее просто нет! (Причем не было никогда.) Мозги, видно, у меня такие, и ничего с этим не поделаешь: помню – что, но не помню – когда. Вот, например, я прекрасно помню, что было вчера – меня брали, но совершенно не помню, какое вчера было число… Впрочем, в данном случае я как раз помню, вчера был День милиции, десятое ноября, но это исключение из правила, редкое, можно сказать – редчайшее исключение.
– Я не помню…
(…и не вспомню никогда!)
– Вспомнишь!
Улыбается, а глаза недобрые. Да не боюсь я тебя, Сокрушилин, не боюсь! Лично мне тут бояться нечего, а Геру вообще не так просто испугать. Что он делал пятого апреля сего года? Откуда же я знаю, что он делал пятого апреля сего года?
– А если не вспомню?
– Обязательно вспомнишь. Это я тебе обещаю.
Нет, это даже смешно!
– Ну хорошо… Если вы называете конкретную дату, значит, в этот день что-то случилось? Что-то такое случилось? Что?
Он смотрит на меня насмешливым взглядом, решая: говорить или не говорить?
– А ты не знаешь?
– Не знаю.
– Узнаешь, не торопись… Много будешь знать… – говорит он, усмехаясь и отворачиваясь.
Скоро состарюсь? А старости-то я и подавно не боюсь! Мне нравится в стариках их спокойствие, отсутствие бессмысленных страстей и, как это ни покажется странным, уверенность в завтрашнем дне. Могу сказать больше – иногда я завидую старикам! Только и слышу – на улице, в метро, в магазине: «Молодой человек!» Или того хуже: «Паренек!» И уже совсем ни в какие ворота не лезет: «Мальчик!» Ну какой я, на фиг, мальчик, если на меня уже полтинник накатывает! Нет, я не заставляю себя уважать, уважать меня как раз не за что, но это несправедливо, в конце концов, по отношению к моим близким: когда иду с Женькой – думают, что я ее сын, когда с мамой – внук, а когда с Алиской – вообще чёрт знает что думают! Алиска, кстати, недавно говорит: «Я тебя со спины с Аркашкой Астраханцевым спутала». Каково мне это слышать, если этот Астраханцев – ее одноклассник и последняя любовь? Женька иногда надо мной подтрунивает: «Папа у нас моложавый», но я же вижу, что ей обидно, она – женщина и должна выглядеть моложе своего мужа. И вот – все вокруг худеют, а я толстею… То есть все вокруг пытаются худеть, а я – толстеть, чтобы выглядеть старше. Бесполезно! С трудом, преодолевая отвращение, я ежедневно выпивал перед сном сырое яйцо, разболтанное в стакане теплого пива с ложкой сахара и двумя ложками сметаны, – рецепт дала Мира, авангард прогресса в нашей семье, Женькина подруга, работающая кем-то в Доме кино. Спустя пару-тройку месяцев я действительно начал поправляться, но не так, как хотелось: у меня стал расти похожий на куриное яичко животик, прохожие поглядывали удивленно, видно в этом было что-то противоестественное. И когда Женька в сердцах обозвала меня беременным мальчиком, я с радостью прекратил употребление тошнотворного пойла и, что интересно, вернулся в свое обычное состояние чуть ли не на следующий день. Не сумев изменить свой вес, я решил изменить имидж – прибегнуть к помощи очков, хотя со стороны зрения никаких показаний к ним не было. Купив в метро недорогие без диоптрий очки, я принес их домой, надел, посмотрел в зеркало – крокодил. Хотя, когда примерял в метро, мне так не казалось, да и продавщица одобрила. Потом в комнату вошла Женька и усилила сравнение: «Вылитый крокодил!» Видимо, услышав, из своей комнаты прибежала Алиска и, коротко взглянув на меня, добавила: «Гена» – пожалела. Да это не беда, что крокодил, беда состояла в том, что крокодил оставался молодым, юным, это был зеленый крокодил! Мною предпринималась также попытка отращивания и ношения бороды, и тоже безуспешная: Хо Ши Мин, вылитый Хо Ши Мин. Да и с ростом проблемы… То есть, с одной стороны, никаких проблем: сто семьдесят – вполне средний рост, а когда кто-то смотрит на меня совсем уж свысока, я вспоминаю Пушкина и становится легче – его сто шестьдесят пять успокаивают меня и возвышают, однако Женькины метр восемьдесят четыре значительно усложняют ситуацию, и тут я просто не могу не чувствовать своей вины. Да это бы ладно – внешность, фиг с ней, с внешностью, внутренность остается та же – инфантильная, детская, глупая, и не надо меня убеждать в обратном, я-то знаю, что это так! Взять хотя бы мою многолетнюю мечту о ножичке… А ножичек?
– А НОЖИЧЕК? – В самом деле, как я мог о нем забыть?
– Какой ножичек? – удивленно спрашивает Сокрушилин.
– У меня вчера отобрали ножичек. Где он?
– Какой ножичек?
– «Victorinox», швейцарский!
Сокрушилин смотрит на меня удивленно и озадаченно, опускает руку в карман пиджака и вытаскивает оттуда… «Victorinox»! Но не мой, конечно, мой раза в два тоньше: в моем только два лезвия, шильце и отвертка, а в этом чего только нет, лупа даже… Я видел такие, они дорогие страшно.
– Такой? – спрашивает Сокрушилин.
– Почти, – отвечаю я гордо и независимо.
– Где покупал?
– В ГУМе, – отвечаю я по-прежнему гордо, хотя и начинаю злиться – не могу же, в самом деле, сказать, что нигде я его не покупал, что подарила мне его Даша!
Сокрушилин усмехается.
– В этой стране нет настоящих швейцарских ножей. Настоящие швейцарские ножи есть только в Швейцарии. Я купил его в Женеве. Нравится?
Нравится, конечно. Только мой все равно лучше.
– А хочешь, я его тебе подарю? – неожиданно спрашивает он и протягивает нож мне. А сам заглядывает в глаза, чуть ли не в душу пытается заглянуть.
Нет, брат, туда я тебя не пущу! А если и пущу, что ты там поймешь, американец?! Разве ты, уверенный в том, что можно купить всё и вся, знаешь, что такое мечта? Как я мечтал – как он будет лежать у меня в кармане, тяжеленький такой, гладенький, пристегнутый к поясу специальной цепочкой? Как в каждом свежем номере «Огонька» я первым делом прочитывал очень оригинальную рекламу ножей «Victorinox»: небольшие и очень интересные истории о том, как эти ножи в самый нужный момент оказывались вдруг под рукой и спасали людей – на пожаре, в остановившемся лифте, при землетрясении? Конечно, вряд ли я купил бы его сам, потому что дороговато, да и Женька бы не поняла, сказала бы: «Совсем впал в детство», но я – мечтал, и этого мне было достаточно. И вдруг однажды, прихожу к Даше, а она просто так, безо всякого повода – протягивает его мне. А ведь я ничего ей о своей мечте не говорил и даже не намекал! Мистика! Да уберите вы ваш нож, господин Сокрушилин, не нужен мне ваш нож! Но без своего я отсюда не уйду… А он смотрит на меня, улыбается и, подцепив ногтем, вынимает большое лезвие, блестящее и острое. Острое, очень острое, я уже несколько раз порезался – зазеваешься, отвлечешься, и вот – кровь, причем еще до боли, ты еще боли не почувствовал, а уже кровь, откуда она, недоумеваешь – как бритва, острый.
– Острый, – говорит Сокрушилин. (Эта его улыбка начинает меня раздражать.)
– Я знаю…
– Острый, – повторяет свою мысль Сокрушилин и вдруг хватает меня за ладонь и, с силой придавив ее к столу, приставляет холодное лезвие к моему обнаженному запястью. Я не понимаю! Ах вот оно что! Я внимательно смотрю на Сокрушилина: передо мной аффектированная личность, типичная аффектированная личность. (Я хоть и ветеринарный, но все-таки врач и кое-что в психологии понимаю, книгу «Психология личности» два раза прочитал.) Да тут и не нужна никакая психология, тут любой дурак поймет, что личность аффектированная… Значит, так, не надо напрягаться, не надо тянуть руку к себе, не надо бояться. А я боюсь? Да ничего он мне не сделает! А если и сделает – кровь здесь венозная, это не так опасно. Вид крови мгновенно приведет его в чувство, и он сам кинется меня перевязывать. Но надо улыбнуться, надо обязательно улыбнуться! УЛЫБАЮСЬ…
А Сокрушилин неожиданно отпускает мою руку и приставляет лезвие ножа к своему собственному запястью.
– А может, так? Так лучше?
Аффектированная личность, отягощенная суицидальным синдромом? Вон у него там шрамы… Резал уже не раз?
А он вновь хватает меня за руку, которую я так непредусмотрительно оставил лежать на столе и вновь приставляет к ней лезвие, уже не такое холодное – согрелось.
– Выбирай: тебя или меня?
А об этом в «Психологии личности» не было написано… Психологический тест такой? Или следственный прием? Ничего себе прием! Приемчик…
Выбирай!
Хорошо. Тогда меня. Лучше меня, потому что я быстро себя перевяжу, а спросят – кто, скажу – сам, потому что все равно не поверят, если скажу – он, так что, конечно, лучше меня.
– Меня!
Только не сильно… Не очень, то есть, глубоко. Не до кости. Там важные сухожилия, их сшивать придется… Я зажмуриваю глаза, верней они сами зажмуриваются. А он отпускает вдруг мою руку, резко поднимается, подходит к окну и смотрит вниз.
А в коридоре за дверью – шаги… Громкие… Как будто кто стучит по полу большой деревянной колотушкой: ТУК! ТУК! ТУК! Дверь приоткрывается, и, до половины туловища, в кабинет всовывается человек. Лицо знакомое. Где-то я его видел… Курьер? Точно – курьер. Помнишь, фильм «Курьер», там один московский школьник главную роль исполнял, он потом еще в Израиль эмигрировал: мы как-то ехали с тобой в машине и слышали с ним интервью по «Эху Москвы», он тогда как раз из Израиля приехал, и ты пошутил: «Думали – курьер, а оказалось – еврей», ты вообще часто на эту тему шутишь, я бы даже сказал – слишком часто, так вот, этот молодой человек, пришедший сюда с таким необъяснимым грохотом, всунулся в наш кабинет, то есть не в наш, конечно, а в кабинет Писигина до половины туловища, и громко и отчетливо объявил:
– Ад!
Услышав это слово, Сокрушилин вскочил вдруг на ноги, прямо-таки подпрыгнул, а тот опять:
– Ад!
И, словно по мановению волшебной палочки, Сокрушилин оказался у двери кабинета.
А курьер в третий раз:
– Ад!
И исчез. И Сокрушилин исчез. Курьер исчез. Оба исчезли. Ты можешь мне не верить, но именно так оно все и было, я готов поклясться на «Войне и мире»! Исчез. Но ты что-нибудь понял? Я – нет. Что, собственно, имелось в виду? Какой такой «ад»? Тот самый? Тогда, выходит, мы – в раю? Прокуратура – рай? Скорее – чистилище. – Точно! А курьер с колотушкой, ха-ха, Харон? «К Харонам! Вход всем посторонним»[9]. (Сегодня принято не любить Вознесенского, но я по-прежнему его люблю.) Но ничего не понимаю!
ЕСЛИ ЖИЗНЬ ТВОЯ В ЛОМ, ПОЧИТАЙ ЛУЧШЕ СТОМ!
Вот именно – «в лом», моя – в лом…
АЛЛА РОДИЛА ОТ ФИЛИППА
ПЯТЕРЫХ
Что-что? Не понял, когда ж это они… А-а, понял – собачек так зовут. Алла и Филипп – собачки, болонки… Шутники в этом «Молодежнике» работают.
У ЖЕНЩИНЫ В УХЕ ЖИЛ
ТРЕХМЕТРОВЫЙ ЧЕРВЯК
Из Таиланда привезла… Понятно.
Со мной такое бывает, редко, но бывает – когда вдруг наступает предел психологической усталости, и я перестаю понимать происходящее вокруг. Даже «Война и мир» не помогает, то есть нет, помогает, конечно, «Война и мир» всегда помогает, просто в такие минуты не хватает сил удержать том Толстого в руках. И тогда я беру первую попавшуюся газету и читаю все подряд… «Столичный молодежник» подходит для этой цели идеально, спасибо Сокрушилину. Читаешь, читаешь так, и постепенно голова проясняется, и начинаешь понимать: главное – ничего не понимать. И тогда твой внутренний хаос уравновешивается хаосом внешним, хаосом московским, хаосом российским, хаосом мировым. И, удивительное дело, становится легче!
РУБЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ ОПУСКАТЬСЯ
Правительство намерено сдвинуть курс доллара с нынешних 5 898 рублей до 7 150 к концу года.
Что ж, поживем – увидим.
МОСКВИЧИ ПЕРЕХОДЯТ С МЯСА НА КАРТОШКУ
Заменить в своем рационе мясо на картошку вынуждена средняя московская семья. За последний год потребление говядины и телятины сократилось на 15 процентов, животного масла столичные жители стали позволять себе меньше на 12 процентов, яиц в рационе стало меньше на 10 процентов. Потребление хлебопродуктов сократилось на 7 процентов, молока…
Трудно, да. По себе знаю, что трудно жить. Но можно. Главное – знать, ради чего живешь… Я знаю… А вот интересно, ради чего живет Сокрушилин? И до сих пор не могу понять: испугался я или нет, когда он с ножичком? Определенно – не испугался, хотя и испугался, конечно. Хотя после Ахтубы меня трудно чем-либо испугать… Как там в песне поется: «Мы смерти смотрели в лицо». Или – «в глаза»? Нет, все-таки «в лицо», потому что: «вперед продвигались отряды спартаковцев смелых бойцов». – Это фанаты что ли спартаковские? – Ну да, смелые же… отвязанные… отмороженные… Никогда не понимал смысла футбольного «боления»! Прав был Аркадий Райкин: «двадцать два бугая»… Нет, в (на) Ахтубе я не испугался, а вот когда первый раз чуть не отправился в «ад» – это когда в детстве мне вырезали в больнице гланды, и у меня ночью открылось горловое кровотечение, тогда действительно испугался… А ведь интересно, между первой ночью – больница, и второй – Ахтуба довольно много общего. Во-первых, и там и там я был одинок. И в (на) Ахтубе, и в детстве. В детстве даже больше. Кажется, во всей моей взрослой жизни я не испытывал одиночества большего, чем то, которое испытывал в детстве, во всем моем бесконечно долгом детстве. И самое страшное одиночество испытал, когда медсестра Рая привела меня в больничную палату, показала на «мою» кровать и оставила одного. Я помню медсестру Раю – она была большая, полная, с пышными рыжими волосами, которые плохо укладывались в пышную прическу, выбиваясь из нее. Медсестра Рая была в ореоле, нимбе или венце своих золотых волос. Мне не хотелось от нее отлипать (от страха и одиночества я буквально к ней прилип), но медсестра Рая отлепила меня от себя, толкнула легонько и сказала – мягким медовым голосом: «Вон твоя кровать. Иди и ложись». Палата была огромная, с высоченным потолком. Там стояло кроватей двадцать, и многие их них были заняты. Почему-то никто не обратил на меня внимания… Ну да, палата была взрослая, а разве есть взрослым дело до какого-то сопливого мальчишки? Вот если бы палата была детская, то дети не лежали бы так безразлично, а сбежались бы знакомиться, хвастаться игрушками, делиться сладостями… Здесь же на меня никто не смотрел. Я подошел к «своей» кровати и лег. Сетка громко скрипнула, но спящий на соседней кровати дяденька (Николай Иванович, бывший фронтовик) не проснулся. Я лежал на спине и смотрел в высокий белый потолок, на котором не было ни одной трещинки, наверное, провели ремонт, не евро, конечно (и слова такого тогда не было), но трещины на потолке отсутствовали, видимо, недавно ремонт провели… А я любил (да и сейчас люблю) трещины на потолке, потому что, если долго на них смотреть, они превращаются в разные фигурки, становятся рыцарем, собакой, деревом, и тогда уже не так одиноко, но трещин там (как и здесь) совершенно не было, и мое одиночество продолжилось. В груди сжималось что-то, давило, хотелось плакать, но к тому моменту я уже не плакал. И вдруг, откуда-то издалека, сверху, потрескивая и шурша, ко мне стал пробиваться далекий-предалекий звук… Я поднял глаза: в самом изголовье на блестящей кроватной трубе висели наушники, маленькие, черные, со стальной проволочной дужкой, такие теперь не только не купишь, но и не увидишь нигде. Я взял их, повертел в руках и осторожно надел на голову. И услышал голос, мужской:
Вода, вода, кругом вода, Вода, вода, везде вода…Я слышал эту песню впервые в жизни и запомнил ее с тех пор на всю жизнь.
Вода, вода, кругом вода, Вода, вода, везде вода.ИЗНАСИЛОВАВ В ЛИФТЕ ДВЕНАДЦАТИЛЕТНЮЮ ДЕВОЧКУ, МАНЬЯК УКАТИЛ НА ШЕСТИСОТОМ МЕРСЕДЕСЕ
А такое я читать не буду! Такое я никогда не читаю!
Гера всегда зовет меня с собой, когда едет, как он говорит, оттянуться за бугор, вернее, раньше звал, сейчас уже не зовет, потому что знает, что это бесполезно, все равно я никуда не поеду. Это – во-первых, а во-вторых, он теперь ездит за бугор со своей молодой женой. А я отказываюсь не только потому, что заграница меня не очень, в общем-то, интересует, но и из-за денег, конечно, тоже. Ведь если я куда-нибудь поеду с Герой, тогда никуда не смогут поехать Женька с Алиской, так? Но им-то это гораздо нужней, чем мне, двух мнений тут быть не может: Женька – женщина, Алиска – ребенок, а я все-таки мужчина. А главное – я убежден: один день, проведенный в подмосковном осеннем лесу, равноценен недельному отдыху в Анталии. (А если еще удастся найти парочку белых!)
Но весной прошлого года Гера меня все-таки вытащил. В (на) Ахтубу. Я согласился. Во-первых, потому, что Ахтуба – не заграница, а во-вторых, Гера обманул меня, сказав, что там растут во множестве какие-то особенные «майские» грибы, а я, дурак, поверил. Уже на второй день нашего путешествия я проклинал себя, Геру и всю эту пропахшую рыбой Ахтубу! Хорошо, что ехали мы туда всего на три дня, да плюс два дня дорога – на Герином «Ягуаре» на бешеной скорости. Кстати, только там, в дороге, я узнал, что Ахтуба – это не город, а река в Астраханской области. С географией в школе у меня отношения не складывались, да и во взрослом возрасте географических знаний в моем интеллектуальном багаже прибавилось немного: еще садясь в машину, я был уверен, что Ахтуба – это провинциальный городок, находящийся там же, где и Елабуга, в которой закончила свой жизненный путь великая Марина Цветаева, а оказалась – река, так что ехал я в, а приехал – на, и с тех пор эти два предлога в сочетании с названием Ахтуба существуют в моем сознании одновременно.
На протяжении всех трех дней Гера не спал ни минуты: днем он ловил в каких-то промышленных количествах рыбу, а по ночам пил пугающими дозами водку и рассказывал анекдоты про новых русских, из которых я не запомнил ни одного. Все это мероприятие именовалось мальчишником, потому что вскоре должна была состояться Герина свадьба. (Очередная.) В Москве его дожидалась невеста – Катя, милейшее создание, непорочное дитя, не ведавшее, по-моему, ни сколько Гере лет, ни – какая по счету она у него жена. (Если не ошибаюсь – четвертая или пятая?) Мальчишник для Геры – это святое, и сценарий у всех примерно одинаковый: на третий день, а вернее на третью ночь «в расположение нашей части проник условный противник». Как Гера выразился – «из пены морской» (а по мне так из речной тины) появились две развязные особы, имена которых я забыл сразу, как только услышал. Гера сходу назвал их Блэк энд Вайт, действительно, одна была блондинка, другая брюнетка. Рыбалку я не люблю, наверное, потому, что не люблю есть рыбу, исповедуя ту простую истину, что лучшая рыба это колбаса, к тому же очень боюсь подавиться костью, наверно, это у меня от мамы, кажется, это единственное, чего она в жизни боится, никакие грибы в камышах, разумеется, не росли, так что на том мальчишнике я тихо зверел, а когда появились Блэк энд Вайт, озверел окончательно. Даже хотел уехать поездом или улететь самолетом, но Гера давил на жалость, повторяя то и дело о своем прощании со свободой, и я остался. (Меня всегда поражало и продолжает поражать Герино умение убеждать – в том даже, во что он сам не верит. Тебе, старик, не бизнесом заниматься, а политикой. Баллотируйся в Думу!) Но в одном убедить он меня не сумел, и я верю – никогда не сумеет. У моего друга какая-то непонятная страсть или мания, или… не знаю даже, как это назвать, но целенаправленно и изощренно он добивается того, чтобы я изменил Женьке. Многократно, в красках он описывал мне сладость супружеской измены, это продолжалось и в (на) Ахтубе, до тех пор пока я прямо не спросил: «Так ты женишься для того, чтобы вновь испытать эту сладость?» Гера расхохотался и послал меня к чёрту, назвав вдобавок лишенцем, он любит это словечко из лексикона Остапа Бендера. Да, это случилось на третий день, или, точнее, на третью ночь, но спросите, какое было число, какого месяца – убейте меня – не вспомню, разве только год, прошлый, тысяча девятьсот девяносто шестой, хотя, впрочем, была весна, май (грибы-то «майские»!), а вот год, возможно, и не прошлый, а как раз позапрошлый, хотя год можно и уточнить, но только не число, оно безвозвратно утеряно для истории, хотя, казалось бы, я должен, обязан помнить то число, потому что оно едва не стало датой… Датой моей смерти. (Это к вопросу о том, где я был и что делал пятого апреля сего года. Нашли, у кого спрашивать. Вот если бы Геру спросить, когда я чуть не утонул, то он назвал бы не только число, но и день недели. Память на даты у моего друга просто феноменальная.)
Итак, Гера сварил уху, целое ведро – по какому-то особому «монастырскому» рецепту, когда рыбу кладут в бульон от сваренного петуха (именно петуха, а не курицы), а перед тем как снять уху с огня, в нее вливается стакан мадеры – получилось действительно вкусно, мы хлебали ее, сидя на прогретой за день земле на берегу одного из бесчисленных речных протоков, среди шуршащего от теплого ветра камыша, под ночным небом, которое назвать ночным можно с большой натяжкой, потому что ночного, черного там практически не оставалось: звезды набились почти впритык, никогда в жизни я не видел такого звездного неба, это было какое-то звездное безумие, нельзя было различить ни одного знакомого созвездия, ни о какой Большой Медведице не могло идти и речи, нет – никогда в жизни я не видел такого звездного неба! И все бы хорошо, если бы не одна маленькая деталь, точнее, не одна, а две: Блэк энд Вайт… (И не такие, кстати, маленькие, особенно «моя» Вайт, она была даже больше моей Женьки.) Положение усугублялось еще и тем, что Вайт мне, вообще-то, нравилась. Гере хорошо известны мои, так сказать, типологические пристрастия – она отдаленно напоминала молодую Татьяну Доронину. Девушка старалась вовсю: бросала томные взгляды, то и дело дотрагивалась до моей руки и без конца подливала в мой стакан вино, считая, видимо, что пьяный я буду сговорчивей. Тут Гера допустил оплошность, забыв рассказать ей об одном моем странном, на первый взгляд, качестве – чем больше я пью, тем больше укрепляюсь в своем первоначально принятом решении. Я напивался и мрачно просчитывал пути отхода, предполагая уйти незаметно, по-английски, не прощаясь, но, когда девушки решили устроить «знаменитый астраханский стриптиз», я решительно поднялся и, сказав, что хочу искупаться ОДИН, направился к воде. Зная мой характер, Гера даже не попытался меня остановить, бросив насмешливо, но довольно зло: «Станешь тонуть – не зови». «И не подумаю», – буркнул я (а ведь звал потом, звал!) «Утонешь – не жалуйся!» – прокричала Вайт и засмеялась, а следом и Блэк, и Гера тоже засмеялся, и под их общий смех я вошел в воду. Наша турбаза (турбаза как турбаза, а по ценам – пятизвездочный отель, любят у нас три шкуры драть, не имея на то никаких оснований, как Гера говорит: «В этой стране все хотят хорошо жить, ни черта для этого не делая»), так вот, наша турбаза располагалась ниже по течению, и я решил добраться до нее по воде – сплавиться. Я лег на спину, течение медленно повлекло меня, и, не прилагая ни малейших усилий, я стал перемещаться из пункта Б в пункт А. В воде я чувствую себя, как рыба, мама научила меня плавать еще в дошкольном возрасте классическим приемом – жарким летним днем в Серебряном Бору бросила с лодки в воду, и, немного побарахтавшись, я поплыл. Если бы она тогда этого не сделала, я и сейчас, наверное, не умел бы плавать. Вода была теплая, она расслабляла и усыпляла. Я лежал на спине, полузакрыв глаза, и вспоминал вслух любимые строчки:
Я ждал тебя в Серебряном Бору, Полумальчишка и полумужчина…[10]По правде сказать, никогда и никого я там не ждал, но после того, как впервые прочел то замечательное стихотворение, всегда этого хотелось… Наверное, я все-таки заснул, хотя до сих пор не представляю, как это возможно – заснуть в воде? Но, значит, все-таки заснул… А потом проснулся… Перевернулся на живот, посмотрел по сторонам, прислушался… Нигде не было ни огонька… Тишина стояла абсолютная… – Мертвая. – Что? – Мертвая тишина. – Да-да, мертвая, вот именно, мертвая, только время от времени с разных сторон доносились неприятные чмокающие звуки. Когда я впервые их услышал, они мне очень не понравились, и я спросил у Геры: «Гера, что это?» – а он ответил, спокойно и невозмутимо, как он это умеет: «Сомы утопленников объедают». И я поверил! Сколько раз попадался на эту его интонацию и снова… «Здесь часто тонут?» – спросил я, видимо, дрогнувшим голосом, хотя раньше никогда не боялся утонуть. (Теперь боюсь.) Гера засмеялся и дал правильное объяснение: «Сазаны камыш сосут». «Сазаны камыш сосут», – подумал я, вслушиваясь, но и про сомов тоже вспомнил. И понял – заблудился, я заблудился, меня куда-то занесло… Кругом была вода, вода… Хотя не испугался! Не испугался, потому что прекрасно понимал: Ахтуба – не мировой океан, и, если плыть строго в одну сторону, обязательно и непременно достигнешь берега. Оставалось выбрать направление движения, но это оказалось непросто, так как по сторонам не обнаруживались никакие видимые ориентиры, а ориентироваться по звездам не было возможности, по тем, повторяю, звездам… Я все же попытался отыскать вверху какое-нибудь созвездие и вдруг наткнулся взглядом на ползущий спутник, один вид которого прибавил оптимизма – цивилизация! – и он же подсказал мне направление движения. Где-то я читал, что все без исключения спутники, в целях экономии топлива, движутся вокруг Земли по ходу ее вращения[11]. И я пошел за ним. Это была первая моя ошибка. Всего я совершил три ошибки, именно три, я неоднократно потом ту ситуацию анализировал, и именно с первой ошибки все началось. Мой путеводный спутник скоро исчез, растворившись в мириаде звезд, и я продолжил движение один, стараясь не сбиться с курса. И, разумеется, сбился! Я был уверен, что плыву прямо, но на самом деле заворачивал на круг – срабатывал так называемый эффект правой руки, которая, как известно, сильнее – пловец всегда уходит вправо, я же уходил влево, потому что у меня сильнее левая рука, я – левша (как ни старалась мама, ей так и не удалось сделать из меня «правильного человека», это, пожалуй, ее единственная неудача в моем воспитании, да и то – неудача относительная: когда я дома, то есть когда прихожу к маме в гости, я держу ложку в правой руке, причем это само собой получается, во всех других местах я, правда, ем левой), но тогда я об этом не думал и все больше и больше удалялся влево. Я плыл долго и упорно, пока силы меня практически не оставили, и, когда они меня практически оставили, я совершил вторую ошибку, которую по статистике совершают восемьдесят пять процентов утопленников, то есть, ха-ха, не утопленников, конечно, а утопающих – я запаниковал. Запаниковал и закричал. Нет, кричал я правильно, надо было кричать, но не паникуя, а я запаниковал, и все это – крики вкупе с паникой отняли у меня последние силы. И, наконец, третья ошибка, последняя и главная, которая чуть не стала роковой: Я ПОСМОТРЕЛ НА ЧАСЫ. Не в том смысле посмотрел – сколько тут у нас натикало? – а в том, что наткнулся взглядом на светящийся циферблат своего водонепроницаемого «Rollex’а» и увидел – четыре, и понял, – всё… Нет, я знаю, что это бзик, фобия, хронофобия, но не боязнь времени вообще, а боязнь одного конкретного часа – именно четырех часов утра, я понимал это раньше, понимаю и теперь, но в тот момент я, конечно, ничего уже не понимал: видел на часах – ЧЕТЫРЕ, и – ужас! (Здесь просто необходимо отступление, хотя далеко не лирическое. Дело в том, что, когда в детстве я лежал в больнице по поводу операции по удалению гланд, однажды ночью у меня открылось горловое кровотечение, и, боясь потревожить спящих, стесняясь, я лежал неподвижно и глотал собственную кровь, пока меня не стошнило кровью же, и я уже не мог больше ее глотать, а она все шла и шла, выползая изо рта на подбородок и грудь, напитывая подушку и простыню, а я все лежал, стесняясь и понимая, что умираю, а на соседней койке храпел Николай Иванович, бывший фронтовик, не старый еще, как все бывшие фронтовики тогда, а на его руке тикали часы, которые он снял с убитого им немецкого унтер-офицера, я посмотрел – на них было ровно четыре (с того самого момента моя хронофобия и началась.) Нет, когда все нормально, в порядке, я ничего не замечаю, но если вдруг наступает предел психологической усталости, эти четыре часа утра начинают меня преследовать. Просыпаешься среди ночи от боли в сердце или от какого-нибудь кошмара, бросаешь ошалелый взгляд на часы, а там – четыре! (А однажды мама, когда я уже был взрослым, сообщила, что родила меня ровно в четыре утра, и ее сообщение как бы подтвердило мои самые худшие опасения…) Вот и тогда в (на) Ахтубе, я посмотрел на часы – четыре, и понял, все сразу понял… И, как говорится, пошел ко дну, хотя, как я теперь знаю, неправильно говорится, туда не идешь, а опускаешься, довольно медленно и довольно плавно, глотая по пути воду, как в детстве кровь. Неожиданно это движение вниз замедлилось, остановилось, и, не достигнув дна, я начал вдруг подниматься, видимо, масса воды еще влияла на массу моего тела, на мгновение я оказался наверху, но, не успев глотнуть воздуха, снова стал опускаться… А страха не было, нет, страха совершенно не было, как, впрочем, не было и никакого света в конце тоннеля, никакой «жизни после смерти», никаких светящихся человечков, только темнота и тишина – МЕРТВАЯ… Но это было уже потом, в конце, в самом конце, а до того случилось нечто совершенно неожиданное, что спустя какое-то время я назвал коротким и легкомысленным словом кино… И вот – я опускался ко дну и поднимался наверх, как пустая бутылка, или, нет, не пустая – полная – наполовину, на две трети, на три четверти, когда еще немного, еще чуть-чуть и окончательно и бесповоротно она пойдет ко дну – поднимался и опускался, поднимался и опускался, поднимался и опускался: и ра-аз, и два-а, и три-и-и, и четы-ыре… Именно тогда мне его и показали – кино. Мое кино. Хотя сначала я ничего не увидел, увидел же только в конце, когда опускался в последний и окончательный третий раз, во второй услышал, а в третий почувствовал – то, что случилось однажды именно в кино, на детском киносеансе с Алиской (видимо, поэтому я и назвал все произошедшее со мной этим коротким и легкомысленным словом), – почувствовал на своей щеке стыдную и жгучую боль, которую, думал, совершенно забыл, а оказалось, помнил, и еще как помнил, это и было – раз; а два – я услышал… услышал те самые слова, которые однажды ночью во сне произнесла Женька, причем так услышал, как будто Женька в тот момент находилась рядом и повторила мне их в самое ухо; а в третий раз я увидел бегущую в сторону открытой книги СЭВа[12] маму… Как в кино, да… Но я и сейчас думаю, и тогда понимал – это жестоко и несправедливо, это чистой воды произвол – в такой ответственный момент жизни, когда надо вспоминать все прекрасное и светлое, заставлять человека смотреть, хуже того – пересматривать самое из его жизни больное, горькое, стыдное, – понимал, но не возмутился, хотя, если подумать, на кого возмущаться, кто режиссер этого фильма и кто киномеханик, который его крутит в самый неподходящий момент? Если можно так выразиться, я просто махнул рукой: если так, подумал я, если это именно так, то тогда все равно…
Когда мы возвращались на следующий день в Москву, где-то уже к концу пути, я рассказал все Гере – просто не мог это в себе удержать. Точнее, не все, про кино я не стал рассказывать, а только то, что чуть не утонул. Признаться, я думал, что, услышав это, Гера остановит машину, обхватит руками голову и будет сидеть так – друг чуть не утонул, но он рассмеялся и прибавил скорость, словом – поднял меня на смех, сказав, что в тех местах утонуть невозможно, потому что там на одном квадратном метре сидят по три рыбака, и, в общем-то, Гера был недалек от истины – рыбаки меня и спасли, вытащили, откачали и даже отвезли на турбазу, так что когда утром Гера вернулся в номер – злой и деловитый, каким он всегда после интимного общения с женщиной бывает, я лежал в своей кроватке и спал, а, по правде, делал вид, что спал. Но я даже рад, что Гера поднял меня на смех, подверг иронии мою драму на рыбалке, благодаря ему я сам стал смотреть на происшествие с иронией и сейчас вспоминаю об этом с улыбкой. Вот только четыре часа иногда всплывают. Сколько, кстати, у нас натикало? А впрочем, какая разница… Гад отправился в ад и возвращаться не торопится… Несомненно, Сокрушилин – гад, ну а ты, Золоторотов, кто ты? Как говорит Алиска, на себя посмотри! Посмотрел и что увидел? Гад! Гад и сволочь! (И еще скотина и свинья впридачу!) Трагическим воспоминаниям предался, разнюнился… Твой друг по лезвию ножа где-то ходит, домашние с ног сбились, голову потеряли, не знают уже, что и думать, а ты? Вот же стоят два телефона, целых два – бери трубку, набирай номер и… Ну, один аппарат, допустим, для внутренней связи, номер на нем написан коротенький, всего из трех цифр: 3-68, а на другом-то номер городской! 200-…-… Подними трубку – и! И я поднимаю трубку и замираю, вновь почувствовав на себе знакомый гипнотический взгляд… КРАСНЫЙ КВАДРАТ! Ай да Сокрушилин, ай да сукин сын! Полковника Захарика, как мальчишку, на этот простой приемчик поймал, а теперь, значит, решил меня? Врешь, не возьмешь! Ты, Сокрушилин, конечно, не прост, но и мы тоже не лыком шиты! Что ж, звонить не будем, а, пока есть время, все обдумаем, взвесим и проанализируем – что нам делать… – И кто виноват! – Не ерничай! Конечно, если бы я знал, где был Гера пятого апреля – где был и что делал – мне было бы легче выстраивать тактику и стратегию своего поведения… Гера, Гера, сказать по правде, мне давно не нравится, как ты живешь. Окружил себя ореолом таинственности. Тоже мне граф Монте-Кристо… «Пригони “эсэра” на Гагаринскую площадь, припаркуй около железного истукана и уходи». (Да, насчет “эсэра” не волнуйся, он стоит около отделения милиции, где я провел эту ночь, надо будет только узнать, что это за отделение милиции.) «Пригони “эсэра” на Гагаринскую площадь, припаркуй около железного истукана и уходи. Мне это очень нужно». А мне? Ты спросил, нужно ли это мне? Женька так прямо и говорит: «Зачем тебе это нужно?» – «Затем, что Гера – мой друг». Да там и парковки-то нет – возле железного истукана! Подарил машину, называется… Женька так прямо и говорит: «Он не тебе, он себе ее подарил. Вместе с бесплатным шофером». Женька, конечно, неправа, но правда, Гер, надоело… А вчера? Мне совершенно никуда не хотелось ехать! Как говорится, в такую погоду собаку на улицу не выпускают. Собаку нельзя, а друга можно? – «Очень нужно, старик. Речь идет об очень важных для меня вещах, о которых я не могу говорить по телефону». – Не можешь? Ну вот и я не могу! А когда вернется Сокрушилин, возьму и все ему расскажу! Все как есть! (Я, конечно, пошутил, ты понимаешь.)
Второй (продолжение)
…И вот, как только я это подумал – когда Сокрушилин вернется, он взял и вернулся, – предчувствия меня никогда не обманывают. Я взглянул на него и тут же все забыл: всю эту нервотрепку и все свои обиды. Дело в том, что это был уже не тот Сокрушилин, которого я знал, а другой, новый, обновленный, вот именно – обновленный! Хотя внешне он ничуть не изменился. Если не считать гитары в руках. Это была обычная старенькая гитара с наклейками, которые мы в детстве называли переводилками. Переводилки привозили из ГДР служившие там наши солдаты. Я смотрел на Сокрушилина с изумлением. Как я мог назвать его американцем? Никакой он не американец, а наш, простой русский парень, а то, что раньше я про него говорил – «джи ай», «кожаный затылок», – это все, конечно, чепуха, это все наносное, форма, не имеющая ни малейшего отношения к содержанию. Плечи его были опущены, прядь волос упала на лоб, глаза немного печальны, или нет, не печальны, скорее грустны и рассеянны. Как будто он с кем-то прощался… С кем-то или с чем-то… Он поднял на меня глаза и в первое мгновение как будто удивился, не ожидая меня увидеть, забыл, а теперь вспомнил.
– Ты… – проговорил он тихо.
Я немного смутился и молча пожал плечами. (Не мог я, в самом деле, сказать: «Я».)
– А ведь я с тобой попал, – сообщил он громко, возвращая себе прежние интонации, и, усмехнувшись, прибавил: – Ну и ты тоже… Сам с собой…
Я не понимал смысла сказанного, это имело смысл и значение для него одного. Он ткнул в мою сторону пальцем и проговорил убежденно, в чем, кажется, уговаривал себя недавно у окна:
– Ты! Это ты, ты, ты!
Я еще раз пожал плечами и, чтобы его не разочаровывать, сказал на всякий случай:
– Я…
– А хочешь, я тебе сейчас спою! – совершенно неожиданно, искренне и как-то даже радостно предложил Сокрушилин.
От смущения я не смог даже пожать плечами. Никто и никогда мне так не пел. Никто и никогда. А он взял и запел… Подстроил дребезжащую гитару и запел… Старик, что тебе сказать! Давно я не слышал такого пения, а может статься, никогда не слышал. Как бы точнее его передать… Голос у него горький… И одновременно сладкий! Это что-то среднее между Александром Розенбаумом и Карелом Готтом. Ты знаешь: я люблю хорошее пение: не концертно-попсовое, оно просто вызывает у меня идиосинкразию, все эти Маши, Кати и Влады, а такое – душевное, когда человек не для кого-то и не для чего-то поет, не ради славы и денег, а просто потому, что не может не петь. Он пел, поверь мне, замечательно, но главное даже не то, КАК, а то, ЧТО он пел… Думаешь, что-нибудь из Окуджавы или Юлия Кима? Из Визбора или Клячкина? Нет! Это был романс! Я не знаток и не любитель этого, как мама говорит, упадочного искусства, тут я не во всем с ней согласен, но, как и она, романсы не люблю, разве только «Гори, гори, моя звезда» да «В лунном сиянии» – певица поет волшебным таким голоском, большая рыжая красавица, забыл фамилию, не могу вспомнить, все в ней красивое, в той певице: и голос, и внешность, и все! Но и романс необыкновенный, слова… Это Лермонтов, я сразу вспомнил то стихотворение, хотя наизусть его не знаю и не знал никогда, там первые строки: «Когда волнуется желтеющая нива…». Жаль, что не могу его сейчас тебе прочитать, но, когда приду домой, первым делом сниму с полки томик Лермонтова и прочту – вслух – и Алиске, и Женьке, и тебе. И Даше. (Но последние слова я запомнил и вряд ли забуду: И В НЕБЕСАХ Я ВИЖУ БОГА.) Но как же ту певицу звали, зовут… Конечно, Сокрушилин не так хорошо, как она, пел, но по-своему тоже очень хорошо, но самое замечательное было не это, а то, как, произнося эти слова, он смотрел вверх, «в небеса» – так, что казалось – видит, и не просто казалось, а складывалось полное впечатление – видит! Это было настолько очевидно, что я не удержался и посмотрел туда же и, разумеется, ничего, кроме белого европотолка, не увидел, но это я, а он – видел, видел! А потом наступила тишина, которая случается иногда на концертах, на замечательных концертах, когда музыканты уже закончили свое выступление, а восторженные слушатели на какое-то время буквально онемели и окаменели и не могут ни аплодировать, ни кричать «браво», вот и я тоже буквально онемел и окаменел (я даже боялся на него смотреть!), и это состояние длилось довольно долго и начало даже затягиваться – он сидел совершенно неподвижно, возможно, дожидаясь моих аплодисментов и криков «браво», но теперь я не мог на них решиться, вспомнив, что нахожусь не в концертном зале, а в прокуратуре. Сокрушилин посмотрел на меня долгим доброжелательным взглядом и, смущенно улыбнувшись, сообщил:
– Я недавно в самолете книжонку одну полистал. Там следователь подследственному говорит напоследок: «Добрых мыслей, благих начинаний»! Хорошо, правда?
– Хорошо, – соглашаюсь я, пытаясь вспомнить, кто мог это сказать и где[13].
Поднимаясь, он ободряюще хлопает меня по плечу, подхватывает звякнувшую гитару и уходит…
Второй (продолжение-2)
Я не подумал даже, что Сокрушилин больше сюда не придет. Плащ и диктофон он, правда, забрал, а «Дело»-то оставил – оно продолжало лежать на подоконнике… Нет, я был уверен, что Сокрушилин вернется, и эта мысль меня успокаивала и убаюкивала… Потом как-то незаметно и неслышно в кабинет вошел человек, я бы даже сказал – человечек, маленький, серый, невзрачный, типичный советский делопроизводитель, не хватало лишь синих нарукавников на рукавах серого пиджака. То ли не замечая, то ли не обращая на меня внимания, он подошел к окну, взял в руки «Дело» и с видимым интересом стал его перелистывать. Я затаенно за ним наблюдал. Прическа у него была, как у нашего декана. Это, знаете, когда некоторые мужчины, чтобы прикрыть свою лысину, отращивают сбоку волосы подлинней и укладывают их от уха до уха продолговатой нашлепкой. Однажды декан делал доклад, посвященный Дню советской конституции (кто не пришел, того лишили стипендии), и, говоря о преимуществе социалистической демократии, так увлекся, что не сразу заметил, как эта штука свалилась ему на плечо! Этаким волосяным эполетом. Некоторое время он еще говорил… Я декана не любил, и это мягко сказано, но в тот момент мне стало нехорошо. Поняв наконец, что произошло, он смертельно побледнел. (Вот именно – смертельно.) Тишина стояла гробовая. (Вот именно – гробовая.) Бедняга вскоре умер. Не от того случая, конечно – от рака. Хотя некоторые потом утверждали, что рак развился именно от того случая, и это, на мой взгляд, так могло и быть – человек пережил тяжелейший стресс. Но я одного не понимаю, как можно стесняться своей лысины? Как можно от этого комплексовать? Вот я, например, ни капельки не комплексую! Сие ведь не от нас зависит. Я, например, совершенно не обижаюсь, когда Алиска подкрадывается сзади неслышно (на самом деле я, конечно, слышу) и звонко шлепает меня сверху ладошкой, – нисколько не обижаюсь.
Привет, доктор Плейшнер!
Это когда у Алиски плохое настроение – с подружкой, например, поссорилась. Зато, когда хорошее – с мальчиком познакомилась, – она говорит: «Здравствуй, доктор Айболит!» Правда, при этом тоже шлепает. Ну и что? Женька выражается, на первый взгляд, жестко: «Ненавижу плешивых мужиков». Но при этом она тут же делает поправку: «Кроме тебя, Желторотов». Когда у Женьки хорошее настроение, она так меня называет: Желторотов или просто Желт. Мне это не очень нравится, но если это нравится моей жене? Супружеская жизнь – цепь компромиссов, не так ли? Когда я поделился этой глубоко прочувствованной мыслью с Герой, он мрачно спросил: «Твоих?» Но какая разница – чьих, если есть семья и ребенок? Разве я не прав? А с Дашей вообще интересно получилось! Я сидел на корточках перед Тотошкой, а она подошла сзади и вдруг удивленно воскликнула: «Ой, лысинка!» Несмотря на мой не очень высокий рост, ее не так просто увидеть, потому что она скрывается среди растущих вверх волос, они у меня мягкие, светлые, но растут почему-то вверх – как антенки, между ними-то она и скрывается, ее увидишь, если только сверху посмотришь, вот Даша сверху и посмотрела. В первый момент я даже подумал, что Даша, как и Алиска, шлепнет меня, сжался – условный рефлекс сработал, но случилось то, чего я никак не ожидал… Даша меня поцеловала! Туда, в то самое место… От неожиданности я резко выпрямился и ударил ее головой в подбородок – БУМ! И маленький серый человек себя по лбу – «Делом» – БУМ! А это не он, это я – БУМ! Вот смех, хорошо, что никто не видел… А человечек? А человечка никакого нет и не было, он тебе приснился! И во сне – головой об стол – БУМ! Шишка, наверно, вырастет. Гера спросит: «Откуда?», скажу: «Допрашивали…» Многозначительно так, ха-ха: «Допрашивали…» А у тебя, брат, просто железные нервы! И что с того, что омоновцы в масках, с автоматами брали тебя, что с того, что ты ночь в камере с уголовниками провел, что следователь собирался вены резать – с тебя все, как с гуся вода… Наполеон, кажется, вот так же выспался под Ватерлоо. (А я действительно прекрасно выспался, все-таки в КПЗ был не сон.) Но неужели этот маленький серый человечек с прической нашего покойного декана мне приснился? Ну конечно же приснился, вон и «Дело» лежит на подоконнике там, где Сокрушилин его оставил. «ДЕЛО»! Помнится, Гера утверждал, что на каждого из нас, на каждого советского человека (это когда еще все мы были советскими), на каждого из нас заведено «Дело». Я не соглашался, спорил, хотя чувство испытывал двойственное: с одной стороны, это меня тревожило и унижало, с другой – льстило и возвышало. В качестве последнего аргумента я вспомнил Герин же анекдот про Чапаева и Петьку, который пишет оперу, но не про всех, потому что про всех опер не прочитает. Геру это не смутило, и он проговорил убежденно и мрачно:
– Нет, значит, будет.
– А вот и не будет, – упирался я.
А ты тогда сказал:
– Когда-нибудь ты сам его увидишь.
Я разозлился и спросил:
– Что – увижу?
– Свое «Дело»! – крикнул Гера.
(Странно, что я так хорошо помню тот давний и довольно-таки бессмысленный спор, в деталях и подробностях помню.)
Услышав это, я еще больше разозлился и тоже проорал:
– А на тебя есть «Дело»?
Гера скривился и махнул рукой. Насчет себя он оказался прав: спустя пару месяцев его отчислили из института «за поведение, несовместимое со званием советского студента». Приказ об отчислении декан подписал перед самой своей смертью, кажется, это был его последний приказ. Гера потом удачно пошутил: «И в гроб сходя, благословил». А сильно мы тогда поспорили – чуть не поссорились – на ровном месте, из-за ничего.
– Ну, допустим, на меня есть «Дело», ну и где оно лежит? – выкрикнул я, теряя терпение. (Почему же мы так кричали?)
Гера усмехнулся и сделал загадочную физиономию:
– Где-нибудь лежит.
Что и говорить, Гера – мастер таинственных фраз. А я знаю, почему я этот разговор вспомнил – потому что вот оно, «Дело» – ЛЕЖИТ, и это, может быть, как раз мое «Дело», то есть не мое, конечно, а Герино. – Так чего проще? – Встань, подойди и посмотри… И кончится эта пытка неизвестностью! Можно даже не брать в руки, не листать, а просто глянуть… И если там написано: «Штильмарк Герман Генрихович», тогда… – И что тогда? – Тогда… – Ну и что, что тогда? Что, Гера уполномачивал? (Или уполномочивал, как правильно, мама?) Он что, просил тебя это делать?
– А вдруг от этого зависит его судьба?
Судьба… А если там написано то, чего ты не должен знать? Помнишь знаменитый, если так можно выразиться, тест Достоевского: «Представьте себе, что вы случайно подслушали разговор двух бомбистов, которые договариваются, в каком месте и в какое время они бросят свою бомбу в царя. Пойдете ли вы доносить на них в полицию?». Федор Михайлович задавал этот вопрос многим своим современникам, и все они, все, как один, с гордостью отвечали: «Нет!» (Вот что значит девятнадцатый век!) И Достоевский тоже сказал: «Вот и я не пошел бы!»[14] Кстати, о Достоевском, с которым забавная у меня история приключилась. Достоевского раньше я любил и уважал, а потом осталась только любовь – без уважения, но, видимо, эти два чувства сильно переплетены, и без уважения моя любовь не то чтобы совсем исчезла, но как-то умалилась, сравнялась с любовью к писателям, если так можно выразиться, рангом ниже, к Андрею Битову, например, которого я и люблю и уважаю, однако признаю, что он не Достоевский. А виной всему пресловутый «Дневник писателя», который я читал мучительно и долго. Читал и диву давался, просто глазам своим верить отказывался, думая все время: «И это тот же самый Достоевский, написавший “Бедных людей”– одно из самых любимых моих литературных произведений?». (А его «милостивый государь», ведь это там, в «Бедных людях» я впервые это обращение встретил!) А тут… Такой шовинизм, такой обскурантизм (надо будет найти в словаре точное значение этого слова)[15] и, самое главное, такой махровый антисемитизм! (До сих пор не верю и не понимаю, как в одном человеке могут сочетаться столь несочетаемые качества? С одной стороны – такая к людям любовь и снисходительность, а с другой – «полячишки», «жидки»…) И все же мое примирение с Федором Михайловичем состоялось! А помогли мне в этом, выражаясь языком героев Достоевского, падшие женщины, а если современным языком выражаться – путаны и «ночные бабочки», называя же вещи своими именами – проститутки. Раньше я их, опять же, любил, всех этих «соблазненных и покинутых» героинь Федора Михайловича, которые с «горсточкой крови» в груди, иконкой в руках и с желтым билетом в кармане идут на панель единственно для того, чтобы семью от нищеты спасти, больной матери на лекарства заработать. Да и независимо уже от Достоевского я был убежден в том, что женщины торгуют своим телом либо из возвышенных соображений (тоска по настоящей любви, обида, месть), либо от бытовой безысходности; но в любом случае в основе их падения лежит, конечно же, самопожертвование. Они, конечно, и тогда были, но я их не видел, ни разу не видел. И вот, наконец, они открыто появились на улицах Москвы, и с пристальным интересом я стал вглядываться в их лица, пытаясь найти в них черты Сонечки Мармеладовой. Искал – и не находил, решительно не находил! Девчонки, наши простые девчонки, вчерашние десятиклассницы, немного глупые, немного испорченные, немного жадные. Как-то мы с Герой застряли в пробке на Садовом, а там их, ночных этих бабочек, буквально целые тучи порхают. Улыбаются, смотрят призывно и многообещающе, распахивают свои пальтишки – всё на продажу, и я спросил тогда Геру, что он о них думает.
– Да ничего я о них не думаю, – пытался отмахнуться от меня мой друг.
– Ну все-таки! – настаивал я. – Ты можешь охарактеризовать их несколькими словами?
– Могу одним, – мрачно сказал Гера и произнес это слово – грубое, короткое, непечатное, возможно имеющее к этим девушкам отношение, но, пожалуй, только в последнюю очередь. На этом наш разговор закончился. Прошло немного времени, и неожиданно я увидел подтверждение своей правоты, как ни странно – по телевизору. А дело было так. Однажды мы сидели всем нашим благородным семейством перед телеэкраном, как говорится, коротали вечерок. Время было не позднее, где-то часов восемь, но в присутствии Алиски и в это детское время я смотрю телевизор с напряжением и опаской, потому что в любой момент такое могут показать, что со стыда сгоришь. Так оно поначалу и случалось, а потом я приспособился: если вижу, что к этому все идет, смотрю на часы и с озабоченным видом ухожу в кухню, как будто по каким-то там своим делам, Женька с Алиской провожают меня насмешливыми взглядами, но я делаю вид, что не замечаю. Раньше в подобных ситуациях уходила Алиска, причем сама, никто ее этому не учил, всегда, правда, демонстративно, иногда даже громко хлопая дверью, но однажды не ушла, осталась сидеть, продолжая с интересом смотреть в экран… Я покосился на Женьку, но она отмахнулась: «Успокойся, она уже все знает». И тут же Алиска подключилась: «Папа, успокойся, я уже все знаю!» Растерянность моя длилась на удивление недолго: находчиво глянув на часы и придав лицу предельно озабоченный вид, я заторопился в кухню. Да нет, я прекрасно понимаю, что Алиска все знает, и ничего против знания не имею, знание всегда позитив, знание – сила, но я сейчас совершенно о другом – о том, что нельзя, просто невозможно смотреть некоторые фильмы и передачи вместе с детьми! И это не ханжество, никакое не ханжество, а элементарный здравый смысл, забота о подрастающем поколении. Так вот, показывали милицейскую облаву на этих самых ночных бабочек. – Их тоже брали? – Да, ха-ха, их тоже брали… Причем всех сразу. – И тоже снимали, между прочим. А потом, уже поодиночке, интервьюировали. Понимая, что девушки начнут сейчас, как Гера говорит, выдавать и заворачивать, я сделал озабоченное лицо и хотел уже подняться и уйти, как вдруг зазвонил телефон, и Алиска со всех ног рванула в кухню – она ждала какого-то «важного» звонка. И, таким образом, я остался, и очень рад, что остался. Женька смотрела в экран с плохо скрываемым презрением и, бросив в адрес несчастных путан одно непечатное слово (Женька вообще за словом в карман не лезет, но, что интересно, это было то же самое слово, которое сказал Гера), поднялась и направилась к Алиске, – с некоторых пор все «важные» звонки представляют для дочери и матери обоюдный интерес, что опять же понятно и объяснимо. А я, таким образом, остался, и очень рад, что остался… Так вот… «Ради чего вы этим занимаетесь?» – спрашивает корреспондент одну из «героинь» репортажа, и та с ходу, без запинки, бодро и с некоторым даже вызовом бросает нам, зрителям в лицо: «РАДИ БОЛЬНОЙ МАТЕРИ!»
Я так и подскочил на своем табурете! Достоевский был прав! Сонечка Мармеладова жива! Нет, конечно же врала, без зазрения совести врала и скрывать не собиралась, что врет, и никто ей, разумеется, не поверил (а я тем более не поверил!), но дело совсем не в этом… Да и на Сонечку Мармеладову она нисколько не походила: крепкая, скуластая, кровь с молоком, училась, видно, плохо, и улицей испорчена, но и не в этом, не в этом дело! «Ради больной матери», – говорила Соня Мармеладова, «падшая женщина» девятнадцатого века, и – наша современница – «ночная бабочка», «путана» конца двадцатого говорит те же самые слова! Не важно, с какой интонацией, не важно, что врет, важно, что слова те же самые! Это для меня и есть неоспоримое доказательство того, что Достоевский был и остается прав, и Сонечка Мармеладова жива! А ее наглая ложь – это только симптом, тревожный сигнал, напоминающий о том, насколько она изменилась, и, к сожалению, не в лучшую сторону. Согласен, изменилась, но ведь и не исчезла вовсе! А ведь могла бы… Лично же я очень благодарен создателям телепередачи за то, что они, сами того не подозревая, примирили меня с нашим великим классиком. Могут, наверное, сказать, что девочка в школе успела «Преступление и наказание» прочитать… Но что же в этом плохого, господа хорошие? К этому могут также присовокупить расплодившиеся ныне модные суждения о том, что во всех-де наших бедах великая русская литература виновата. (Вот уж действительно – с больной головы на здоровую.) Всех, всех перевиноватили: царей, начиная с Рюрика и кончая Николаем II (включая Петра I), крепостное право и его отмену, крестьянство и аристократию, декабристов (!) – вроде некого больше уже, и вдруг нате вам – русская литература виновата. Мол, русские писатели слишком серьезно к своему делу относились, чересчур хорошо писали, а русские читатели очень внимательно их читали, принимая написанное слишком близко к сердцу. Даже термин такой появился – литературоцентризм. (Интересно, кто его придумал? Уж не все тот самый Веничка Малофеев, автор печально знаменитой на эту тему статьи?) Так они могут договориться до того, что Достоевский своими произведениями девушек на панель подталкивает. Да он возвращал их оттуда, понимаете вы, возвращал и возвращает! Литературоцентризм… Убейте меня, что же плохого в том, что, прочитав «Повесть о настоящем человеке», мальчишка начинает мечтать о небе? И никто литературу с жизнью не путает, потому что литература и есть жизнь! Или не было в реальности Маресьева? Был! То же и с Сонечкой Мармеладовой. Она была, это несомненно, то есть я хочу сказать, я уверен – у нее был реальный прототип. Какая же в таком случае это выдумка? И та вчерашняя десятиклассница прочитала «Преступление и наказание», правильно, всего несколькими словами выразив одно из главных его составляющих: «Ради больной матери». И, по правде сказать, за будущее этой «путаны» я не сильно беспокоюсь: запуталась – выпутается, упала – поднимется, а знаете, почему я так в этом уверен? «Родная мать» выпутает и поднимет! И вот, когда я это понял – в тот самый момент, перед телевизором (я даже подпрыгнул на своем табурете!), в тот самый момент я с Федором Михайловичем и примирился! Очень необычные отношения с Достоевским у Геры сложились: Гера его знает и ненавидит. Знает досконально и ненавидит люто, говорит даже, что лучше бы его казнили. «Для кого лучше?» – спрашиваю я. «Для всех. Своим творчеством он увеличил в стране процент параноиков, психопатов и маньяков», – отвечает Гера. «Ну хорошо, про психопатов я понимаю, но при чем тут маньяки?» – спрашиваю я.
«Он изнасиловал девочку!» – орет Гера[16].
Я:???
Гера: Перечитай в «Бесах» главу «У Тихона».
Я: Мне не надо перечитывать, я и так знаю, что Достоевский – гениальный писатель.
Гера: Никакой гений не может такое написать, если он это сам не пережил!
Я: Этого не может быть уже хотя бы потому, что он верил в Бога – искренне и бескорыстно. Достоевский – самый верующий из всех больших русских писателей.
Гера: Искренне, но совсем не бескорыстно! Из чувства вины верил, прощения просил, ада боялся твой Достоевский!
Я: Он не мой, он – наш.
Гера: Ада боялся ваш Достоевский! И если бы ад был, он бы сейчас в нем горел!
Гера читать не любит, но Достоевского очень хорошо знает, потому перечитывает постоянно. Знает и ненавидит – я даже представить не могу, как такое может быть! Вот я, к примеру, Венедикта Малофеева ненавижу – из-за мамы и русской литературы, но, за исключением той злополучной статьи в «Литературной литературе» его не читал, а не читал я его потому, что, как мне кажется (такое вполне может случиться и скорее всего случится), прочту, узнаю и перестану ненавидеть или, того хуже – полюблю. Надо честно признать – я не читаю Веничку Малофеева, или, как остроумно назвал его в одной своей статье Юлий Кульман, Веничку Ненастоящего, не потому, что не люблю, а потому, что боюсь полюбить. Кого читаю, того люблю, и, чем больше читаю, тем больше люблю… У меня и с Женькой так же: чем больше с ней живу, тем больше ее люблю. Это элементарная диалектика, правило жизни, которое, конечно, не бывает без исключений; таковым исключением и является мой друг Гера и его отношение к Достоевскому – знает и ненавидит. Хорошо, что лично для меня на Достоевском свет клином не сошелся, лично для меня свет клином сошелся на Толстом, но Гера к нему равнодушен. Однако тот тест подарил мне не Толстой, а именно Достоевский, и за это ему, как говорится, отдельное спасибо. Если бы не он – стоял бы я сейчас у окна и листал чужое «Дело» украдкой… Кстати, мама эту проблему гораздо короче и проще сформулировала: «Читать чужие письма подло». Мама. Она буквально вбивала в меня прописные истины, и за это я буду благодарен ей до конца своих дней. А то, что это вот «Дело» – не чужое письмо, дела, извиняюсь за каламбурчик, не меняет! На деле это больше чем письмо! Серьезней. Страшней. Опасней. «Дело» есть «Дело»… Почитай-ка ты лучше газетку! Потому что все, что не разрешено – запрещено, то есть, ха-ха, все, что не запрещено – разрешено. В самом деле, почитаю-ка я лучше газетку!
В № 96 от 6.4.97 г. СтоМ сообщал о зверском преступлении, совершенном накануне в одном из спальных районов Москвы, когда в лифте своего дома была изнасилована двенадцатилетняя девочка.
Зачем я это читаю?
Маньяк подкараулил несчастную жертву в час, когда школьница возвращалась с занятий. Несмотря на все ее мольбы и уговоры, насильник совершил половой акт с ребенком в особо развратной форме.
Нет, зачем я это читаю?
Но этого ему показалось мало: на прощание изувер отрезал бедняжке ухо.
Нет…
На поиски преступника были брошены все силы правоохранительных органов. Но результат пришел только вчера. Маньяк пойман! Им оказался безработный Козлов (фамилия в интересах следствия изменена). Он уже сознался в совершении этого злодеяния, и сейчас проверяется его причастность к другим подобным преступлениям. Любопытно отметить, что насильник оказался обладателем новенького шестисотого «Мерседеса», на котором он раскатывал по городу в поисках своей очередной жертвы.
Нет, расстреливать, только расстреливать! Я решительный противник смертной казни, и отнюдь не только потому, что, если мы ее наконец не отменим, нас не пустят в цивилизованную Европу, а просто это действительно дикость – в наше время, в самом конце двадцатого века применять смертную казнь, но всех этих гадов, этих сволочей я бы не то что расстреливал, я бы их собственными руками душил! Раньше я всего этого не замечал, подобная информация проходила мимо моих ушей, но когда подросла Алиска… И откуда только эти сволочи берутся? Причем раньше такого не было, нет, то есть было, конечно, просто о них не писали в газетах, но все-таки, кажется, не в таком количестве, как сейчас, все-таки не в таком… Ой, как громко он звонит!
– Алло?
– Алло, это прачечная?!
Что он так кричит?
– Нет…
И почему смеется? Разве я сказал что-нибудь смешное? Ведь это действительно не прачечная.
– А что?
– Это прокуратура.
Опять смеется…
– Прокуратура, говоришь? А ты кто?
– Я? Золоторотов.
– А Костя где?
– Костя?
– Постой, ты там кем работаешь? Новичок, что ли? Стажер?
– Нет…
– А что ты там делаешь?
– Ничего… Сижу.
– Посадили, что ль? – смеется.
– Нет, просто сижу.
Голос неизвестного мне человека тускнеет, как бывает, когда к собеседнику теряется интерес. А мне, наоборот, интересно – что значит «прачечная»? Он произнес это слово как пароль, а я не знаю отзыва.
– Это Копенкин.
Копенкин? Я напрягаюсь, вспоминая, всего одно мгновение – и вспоминаю: Копенкин! Не Опенкин, а Копенкин[17], именно на него опирался Сокрушилин в их словесном поединке с Заха-ха-ха…
– А ты чего смеешься?
– Извините, я просто вашу фамилию сегодня слышал.
– Меня все слышали. Так ты не знаешь, куда делся Михалыч?
– Его вызвали.
– Куда?
– В ад.
Смеется. С чувством юмора Копенкин.
– Там ему и место! Ну ладно, вернется, скажи, что я его искал, хорошо?
– Хорошо.
– И спроси его, как надо отвечать, когда прачечную спрашивают. Хорошо?
– Хорошо.
Далась ему эта прачечная! Но интересный человек этот Копенкин, сразу видно – интересный и с чувством юмора, что в наше время редкость. А Сокрушилин, значит, у нас Костя? Константин… Константин Михайлович… Спасибо старине Холмсу – старый добрый метод дедукции по-прежнему выручает. (Кстати, когда-то я мечтал о карьере следователя. Кажется, это было после того, как я расстался с мечтой стать пожарником, но еще не думал о теплом местечке продавца мороженого.) Константин Михайлович Сокрушилин – это звучит гордо! Его зовут, как Циолковского… Впрочем, Циолковского звали – Константин Эдуардович. А Константином Михайловичем звали Станиславского. Кажется… Вот именно – кажется!
Так, что там еще у нас? «От 5 до 10» – это мы уже проходили, а еще что?
На нары в домашних тапочках
В домашних? Забавно!
Прямо в домашних тапочках был отправлен в изолятор временного содержания лидер воронежской преступной группировки Эдуард Мотовцов по кличке Мотя, уже давно осевший в первопрестольной. На счету “воронежцев” – рэкет, разбой, вымогательство. Бандиты отличались от своих коллег по “бизнесу” известной интеллигентностью. Так, прежде чем вставить своей очередной жертве в задний проход паяльник, подопечные Моти заботливо смазывали его вазелином. Следствие опасается, что предъявить обвинения Мотовцову будет совсем непросто, так как сам он непосредственного участия в экзекуциях не принимал.
«Известная интеллигентность» – это неплохо, это стоит запомнить… Но – «От 5 до 10» – что же это все-таки такое? Ведь Сокрушилин не только проткнул эту заметку пальцем, он еще и подмигнул – отгадай, мол. Хорошо, не взятка, но тогда что? Герино преступление относится к тем самым библейским заповедям? А что, это мысль! Что там… «Не убей, не укради, не прелюбодействуй» – так, кажется? Ну разумеется, Гера никого не убил! Это невозможно! Мой друг – убийца? Нет! Но если бы вдруг… тогда… разве бы со мной так обращались? Кормили бы «биг-маками»? Катали бы на «Hummer’е»? Пели бы романсы? Тоже нет. Извини, старик, что я мог такое про тебя предположить. Даже гипотетически. Просто я провожу свое расследование, и это – версии. Дальше! «Не украдè…» Или, кажется, так: «Не укрàди». Тут сложней, тут сложней… Нет, Гера никогда чужого не брал и не возьмет, но – русский бизнес, русский бизнес… Подставили, могли подставить… «Не прелюбодействуй», да? По этой части, старик, тебе нет равных на всей территории бывшего СССР, но ведь за это уже не сажают! Что еще? «Не лжесвидетельствуй», кажется? А это, пожалуй, актуальнее для меня самого… Но я ведь не лжесвидетельствую, я просто молчу, молчание пока еще не лжесвидетельство?
– Молчание – золото, Золоторотов.
Итак, что у нас? Раз, два, три, четыре…
– Четыре?
Ну да, четыре, остается шесть… Что же еще там может быть? Ладно, разбираемся с тем, что у нас есть. Значит, Геру могли взять по второй заповеди, за третью не берут, за четвертую могут взять меня, но это только если я начну давать ложные показания. Надо быть осторожнее, хотя не обо мне сейчас речь. (Нет, в принципе, Гера мог и убить. Если человек из дома без пистолета не выходит, значит, он морально к этому готов?) Раз, два, три, четыре… А там «Пять из десяти» или как? «От 5 до 10». Да-а… А сколько у нас натикало? Скажи мне, мой «Rollex»… ЧЕТЫРЕ?! – Да не пугайся ты, не четыре, а шестнадцать, шестнадцать ноль-ноль… – А я и не пугаюсь. Ничего, время тикает, солдат спит – служба идет. А я, кстати, не сплю, я уже выспался и теперь снова выручаю друга из беды. Выручаю, выручаю, выручаю… Гера, я тебя уже выручил? И когда же, наконец, вернется Константин Михайлович? Сокрушилин. Товарищ Сокрушилин. Господин Сокрушилин. Мистер… Но – как? В самом деле – как? Как вас теперь называть? Это ведь только на первый взгляд кажется незначительным, неважным, а на самом деле… На самом деле – еще как важно! (Я думал об этом неоднократно.) Сейчас все ломают головы, спорят: с чего начать исправление пошатнувшихся в России нравов? (Пошатнувшихся? Нет – поверженных!) Сейчас все идеологию ищут. Идеологию, которая, как локомотив, ну и так далее… По моему же глубокому убеждению, надо начинать с малого! Ну вот хотя бы с принятой и узаконенной формы обращения одного российского гражданина к другому. Потому что общество, в котором запутана (а фактически отсутствует) форма обращения одного гражданина к другому – это общество изначально запутанных, а то и отсутствующих гражданских, социально-политических, да каких угодно связей! Мы перестали быть товарищами (давно, кстати, много раньше того времени, когда кончилась советская власть), но так и не стали господами. (И вряд ли когда станем!) Сегодня первое звучит, как насмешка, второе – как издевка. Но как? Как нас теперь называть? Понятно, что ни месье («Послушай, друг, мусью» – Лермонтов!), ни сэр, ни леди, ни джентльмен – ничто подобное у нас не привьется, сколько бы сил и средств мы на это ни тратили. А если так: милостивые государи! (И милостивые государыни, разумеется). Вы скажете – Солоухин[18]. И я скажу – Солоухин! Я и не претендую на пальму первенства. Пальма первенства у Достоевского, который в своих «Бедных людях» подобное обращение применил, когда бедные люди бедных людей милостивыми государями и милостивыми государынями называют. Так что Солоухин не первым был, он просто вспомнил забытое старое. Правда, тогда вспомнил, когда это, мягко говоря, не поощрялось. Но и сейчас невозможно пробиться сквозь панцирь цинизма, равнодушия и своекорыстия. (Я, кстати, всегда хорошо относился к писателю Владимиру Солоухину, исключая, конечно, его самодержавно-православные закидоны. А книжка про грибы у него вообще замечательная, я перечитываю ее перед каждым новым грибным сезоном.) Так вот! Надо плясать от печки:
МИЛОСТИВЫЕ ГОСУДАРИ И МИЛОСТИВЫЕ ГОСУДАРЫНИ!
Причем это может войти в нашу жизнь только сверху. Все настоящие реформы в России всегда спускались сверху и постепенно прививались внизу, как, например, Екатерина заставила русский народ картошку сажать, чем спасла его от голода. Трудно, да, трудно, но кто сказал, что должно быть легко? Петру Первому было труднее боярам бороды брить, они к ним привыкли, можно сказать, приросли, и ничего – сбрили, как миленькие сбрили, и мы, потомки, с удовольствием теперь бреемся. А здесь никаких особенных усилий предпринимать не надо, надо просто нашему первому законно избранному Президенту прийти в Думу и обратиться к депутатам со словами: «Милостивые государи и милостивые государыни!». И всё! Ничего больше не надо! И пусть коммунисты шумят! Пошумят, пошумят и успокоятся. И еще, конечно, гимн, гимн нашей страны… Тот, который был, советский, никуда не годился, особенно слова, и это очень хорошо, что историческая справедливость восторжествовала, что глинковский гимн вернулся. Но ведь слов-то нет, да и музыка, сказать по правде, не очень… А что если: «Я люблю тебя жизнь»? Согласен – песня, но какая! А какая актуальная! Ведь самое страшное, что с нами за годы советской власти случилось, – мы жизнь, жизнь, как таковую, разлюбили… А эта песня, став гимном, поможет эту любовь вернуть. Я, можно сказать, с этой песней засыпаю и просыпаюсь, она давно мой личный гимн, и если бы не она, не знаю, что было бы… Там можно немножко сократить и некоторые слова заменить, и вот вам готовый гимн! Гимн новой счастливой России… И третье, это улыбка, это, конечно, улыбка, я в этом уверен – улыбка! Гера много ездит, говорит, все улыбаются, во всем мире улыбаются, и только наши… «Если видишь: идет, стреляет крысиными глазками, значит, наш»… Но мы не виноваты, это жизнь виновата, которую мы разлюбили, а как ее можно было любить? Если бы я был Президентом, то выступил бы по телевидению со специальным обращением к народу, состоящим всего из двух слов: «РУССКИЕ, УЛЫБАЙТЕСЬ!». (Не в смысле русские как национальность – никакого национализма, – а как народ, нация. И даже орден учредил бы – орден Улыбки – высшая награда страны, и вручал бы его героям за подвиги. Ведь самая большая человеческая радость – радость жизни выражается улыбкой… Глупость? Может быть, согласен, но я так думаю…) Я так думаю, милостивые государи и милостивые государыни…
Второй (продолжение-3)
…А коммунисты пошумят, пошумят и успокоятся. Вот именно – успокоятся. И ты тоже успокойся! – Почему? – Потому! Потому что потому, как Алиска говорит, оканчивается на у, понятно? Ты сволочь и гад, понятно? И не только сволочь и гад, но еще скотина и свинья в придачу! Теоретизируешь тут, исправлением общественных нравов занимаешься, а диктофончика-то включенного здесь нет уже, его Сокрушилин выключил и в карман себе положил. Звони! Звони немедленно! – Звоню! – Только быстро и аккуратно, Сокрушилин имеет обыкновение появляться внезапно. Быстро и аккуратно! – А что, если в телефоне «жучок»? – Какой жучок? – Подслушивающая аппаратура. – Ага, подслушивающая и еще подсматривающая, ха-ха! Да кому ты нужен! Быстро и аккуратно… Первому – Гере, ему нужней всех. Если его телефоны не будут отвечать, значит, он уже в Америке. И тогда не надо будет больше валять дурака и тянуть резину. Сокрушилин вернется, и я ему все объясню. Извинюсь. Он человек широкий, он поймет. Я думаю, он просто рассмеется. А я попрошу его еще раз спеть тот замечательный романс, я думаю, он не откажет, я почему-то в этом уверен. Но какой же у Геры мобильный? 949 или 994? А дальше вообще никогда не вспомню. Значит, надо звонить домой. Правда, дома он редко бывает, а вдруг… Вдруг… Удача!
– Гера!
– 200-…-…
– Гера, это я!
– 200-…-…
Что за черт, откуда он знает этот номер? А, понял… Это он оставил автоответчик, называющий номер телефона, с которого звонят. Я про такие слыхал, но еще не слышал.
– 200-…-…
Ну и мерзкий же голосок у этого автоответчика: синтетический, вибрирующая стальная пластина, робот Арс из какого-то старого фантастического фильма.
– 200-…-…
Спасибо, я запомнил, долго теперь не забуду. Фу-у… Ну всё – Гера в Америке. Конечно, если бы я позвонил по мобильному, это была бы стопроцентная гарантия, а так – процентов шестьдесят или семьдесят… Даже восемьдесят. Потому что Гера не дурак, у него уже была подобная ситуация, он уже сматывался однажды в Харьков, к тетушке. Рэкетиры тогда его сильно достали. Кстати, как правильно: рэкетёры или рэкетиры? – Что ты гадаешь, когда есть хорошее и точное русское слово – вымогатели! Оно выражает суть явления, и в нем же отношение к явлению. Хорошее и точное… А все говорят: рэкетёры (или рэкетиры? Как же все-таки правильно?[19]). А почему, для чего? Чтобы облагородить преступников! – Да звони же ты, дальше звони!
– Алло, Даша?
– Алло, кто это?
Как хорошо, что я не назвал ее Женькой! А ведь я набирал, как я думал, свой дом, Женьку, а сказал: «Алло, Даша». И набрал Дашу! (Значит, я все-таки ее люблю!)
– Даша, это я!
– Алло, кто?
– Это я, Женя, твой Женя.
– Женя?
Но почему она говорит шепотом? Она простудилась? Но ей ни в коем случае нельзя простужаться!
– Дашенька, почему ты шепчешь? Ты простудилась?
– Нет. Папа приехал. Он сейчас спит. Ты звонишь с работы?
– Нет. Я…
– Ты мне не звони. Я сама… Откуда ты звонишь?
– 200-… -…
Зачем я это сделал? А если она позвонит, когда вернется Сокрушилин? Он спросит: «Это ваша жена?». Я скажу: «Нет». – «Любовница?» – «Тоже нет». – «А кто?» Он, конечно, спросит: «А кто?» Что ж, тогда я отвечу, я просто отвечу: «Даша. Моя Даша!» Папа у нее бывший хоккеист. Играл за команду «Сибирь», теперь работает в профсоюзах, зовут – не помню как… Ну да, Алексеем, Даша ведь, как и я – Алексеевна. Папа спит – и Даша разговаривает шепотом. Как же она любит своего папу! Но надо звонить домой, надо. – Только снова не перепутай! – 452…-… Занято! Еще раз… 452-…-… Снова занято! Эй, кончайте там болтать! Хороши, нечего сказать, мать и дочь – хороши: ваш муж и отец неведомо где, и с ними (то есть с ним, конечно) неизвестно что, а они по телефону болтают… Есть! Ну наконец-то… Что же вы теперь трубку не берете? Поболтали и поскакали? Или это кто-то до вас дозванивался, а вас нет дома? Пожалуй, этот вариант предпочтительнее. А кто дозванивался? Гера? Неужели он так и не уехал? Да, но куда вы можете пойти, когда отец и муж… ваш отец и муж, можно сказать, в заточении, как, ха-ха, Мцыри… можно сказать, кандалами гремит… Ну хорошо – одна уходит на поиски: милиция, бюро находок, ха-ха! морг (не смешно), одна уходит, но другая должна же в подобной ситуации дома на телефоне сидеть? Не понимаю! Может, позвонить на работу? Марик сегодня на вызовах, а то бы он все сразу понял и все устроил, а Цыца не поймет и перепутает. Она однажды кошку с собакой перепутала: «Ну, что с вашим Барсиком?» А это никакой не Барсик, а Шарик. Смех! Нет, с Цыцей лучше не связываться. Может, попросить отпуск за свой счет? На три дня, чтобы потом проблем на работе не было? Ни за что! Они будут обязаны выдать мне справку! И извиниться! Без извинения я эти стены не покину! Но кому же тогда еще позвонить? Выходит – некому… Это что же получается – во всем огромном десятимиллионном городе нет больше человека, которому ты можешь позвонить в трудную минуту? – Ну конечно – некому, и ты знаешь – почему. – Почему? – Потому что ты – свинья. Скотина и свинья! Самая натуральная скотина! И свинья! – И сволочь и гад в придачу!
– Алло, мама!
– Евгений?
– Мамочка, как я рад слышать твой голос!
– Евгений, не сюсюкай.
– Я не сюсюкаю, мама!
– Нет, сюсюкаешь!
Вот всегда, всегда она так…
– Мама!
– Я слушаю тебя, Евгений.
– Мама, как ты себя чувствуешь?
– Евгений, я тебя слушаю.
– Мама!
– Если ты сейчас не заговоришь по делу, по которому ты позвонил, я положу трубку. Говори – тебе нужна моя помощь?
– Да, мне нужна твоя помощь!
Помощь! Идиот, как я не догадался употребить это слово сразу? Есть несколько слов, которые, как волшебный ключик, отпирают сердце моей мамы. КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА! Одно из таких слов – ПОМОЩЬ.
– Я слушаю тебя, Евгений.
– Мама, не могла бы ты дозвониться до Женьки и попросить ее…
– Евгений, ты прекрасно знаешь, что я не стану звонить погрязшей в мещанстве женщине, даже если она твоя жена.
Есть также несколько ключевых слов, которые наглухо запирают сердце моей мамы. Одно из таких слов – мещанство. А у Женьки фамилия – Мещанинова, и она ею гордится. Вот и не сложилось…
– Хорошо, мама, не могла бы ты позвонить своей внучке Алиске и попросить ее найти в нашей телефонной книге номер мобильного телефона Геры…
(Молодец!)
– Разумеется, я могу это сделать, но почему ты не можешь это сделать сам?
(Идиот!)
– Евгений!
– Я застрял в дороге.
(В какой дороге? Ты точно идиот…)
– В дороге?!
Как же я мог забыть – это еще одно ключевое мамино слово – ДОРОГА! Теперь она сделает всё. Нет, старик, ты гений!
– Да, мама, я в дороге. И у меня сломалась машина.
– В это трудное для всех честных людей время ты купил себе машину?
– Это Герина машина, мама… Я ехал к нему, но машина сломалась. Я звоню из автомата, у меня один жетон, скоро кончится время…
– На какой ты улице?
– Это загородное шоссе.
– Загородное шоссе, какой километр?
– Это далеко, мама, общественный транспорт здесь не ходит.
Попробовал бы я назвать этот самый километр – через пять минут мама будет уже – В ПУТИ. Потому что: ЧЕЛОВЕК ПОПАЛ В БЕДУ.
– Евгений, ты попал в беду? Ты в опасности?
– Нет, мама, просто машина сломалась. Я в полной безопасности! В полной… Но мой друг Гера…
– Твой друг Гера отмывает грязные деньги.
Я знал, что она скажет именно так, я много раз это слышал.
– Мама, мой друг Гера в опасности! В очень большой опасности. Только, пожалуйста, не говори: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты», я слышал это много раз. Мама! Женька должна срочно до него дозвониться по его мобильному, номер записан в телефонной книге, дозвониться и сказать ему, чтобы он срочно уезжал. К своей тете в Харьков или к родственникам жены (если я скажу – в Америку, всё пропало, она не позвонит) – к родственникам жены, он знает куда. Срочно! Ему грозит опасность! Очень большая опасность! Моему другу грозит опасность!
Всё! Время кончилось, «жетон проскочил». Мама, это был вынужденный обман. Обман во благо. Мама… Если бы кто слышал наш разговор со стороны, то, наверное, подумал бы, что моя мама – жесткий, черствый человек, одним словом – сильная женщина. Но это совершенно не так! Моя мама – добрый мягкий человек, если одним словом опять же – слабая женщина. Но об этом никто не знает, никто даже не догадывается! Кроме меня. Хотя, мама, ты уверена, что и я этого не знаю. Ты ведь считаешь себя сильной, очень сильной. Потому что всю свою жизнь была вынуждена играть эту роль. Конечно, если бы был жив отец… Или, хотя бы, если бы ты еще раз вышла замуж. Или даже не замуж, пусть у тебя был бы друг – мужчина, даже, не побоюсь этого слова, – любовник, я на все согласен, лишь бы ты была самой собой (или самою собой, как правильно, мама?) – доброй, мягкой, беззащитной… Но ты не могла этого себе позволить. А что вы хотите – сорок лет учительствовать! Сотни, да нет, тысячи! Тысячи и тысячи неблагодарных кровопийц, один из которых – собственный сын. Вредный, въедливый, противный! Че Гевара сопливый… Никто и никогда не видел (двойное, даже тройное отрицание, я знаю, мама, но как еще сказать?), никто и никогда не видел твоих слез, я – видел. Ночью, когда притворялся, что сплю или просыпался вдруг среди ночи, а ты сидела над тетрадками и… Да, ты была строгая учительница, да, тебя боялись, но, что замечательно, прозвище у тебя было совершенно не обидное. Среди всех этих Уток, Волчиц и Черепах – Скобки Круглые. «Атас, Скобки Круглые идут!» (Интересно, что мама никогда не знала об этом своем прозвище, не догадывалась даже, а когда я, уже во взрослом возрасте, поведал ей эту тайну, она нисколько не удивилась, заметив лишь, что скобки помогают усваивать материал, причем не только круглые, но также еще квадратные и фигурные.) Как бы я ни готовился к твоим урокам, больше тройки ты мне никогда не ставила. Принципиально. А если наказывала, то первого – меня. Тоже принципиально. Одноклассники меня жалели. Зато никто ни разу не назвал маменькиным сынком! Да у меня лучшая мама на свете, а в том, что у нее не сложились отношения с моей женой и с моим другом, в этом виноват я сам! Сам! Моя душевная лень, мой внутренний конформизм, моя надежда на то, что все само собой рассосется. Не рассасывается! С какой стороны ни посмотри, во всем виноват я сам. Кроме сегодняшнего… То есть вчерашнего… Кроме сегодняшнего и вчерашнего. Это, старик, как ты любишь говорить, уже твои проблемы. Которые на время стали моими. Потому что ты мой друг. В противном случае здесь сейчас сидел бы ты. Как я сижу… И ждал бы Сокрушилина… Как я жду… Ага, вот он, кажется, идет! Ну, наконец-то, милостивый государь! Нет, это не он… Не он. Он не Сокрушилин, он другой… Не он. А кто? Грузин стоит под окнами роддома (там его жена родила), стоит и кричит ей: «Мальчик?». А она: «Нет». А он: «А кто?» Ха-ха! А кто? Не знаю кто, но со стопроцентной уверенностью могу утверждать, что не Сокрушилин. Нисколько не Сокрушилин, ни капли не Сокрушилин, просто полная его противоположность! Сокрушилин – это, если угодно, новая Россия, бесшабашная и щедрая, искренняя и непредсказуемая. Взял гитару и запел! В прокуратуре! Не побоялся, что в соседнем кабинете услышат. А этот – совок, осколок империи, мельчайший ее, микроскопический, можно сказать, осколок. Маленький, серенький, привыкший сгибаться перед начальством, а на голове, как у нашего покойного декана, нашлепка из волос. Нарукавников только не хватает… А, я понял, кто это! Это хозяин кабинета! Писигин! Типичный Писигин. (Как только я слышу эту фамилию, мне сразу хочется в туалет.) Интересно, он действительно меня не замечает или просто делает вид? Но у меня такое чувство, что где-то я его уже видел… Эта осанка, эта прическа… Где-то видел, где-то видел, где-то видел…
– Где-где? Во сне!
А точно, во сне! Я видел его совсем недавно, когда заснул здесь и спал, пока не стукнулся во сне лбом об стол! Ты медиум, старик, Вольф Мессинг, граф Калиостро, в своих снах ты видишь будущее вплоть до мельчайших его деталей! Та-ак… Все правильно, именно так оно все и было: он заметил лежащее на подоконнике «Дело» и удивился… Подошел, взял его в руки и стал читать… Все правильно, именно это я и видел во сне! Качает головой – правильно! А сейчас стукнет «Делом» себя по лбу! Не стукнул… Нет, брат, ты не граф Калиостро… И даже не Кашпировский. Посмотрел на меня (значит, увидел) и не поздоровался. Что ж, и я не буду здороваться. Молчит… Что ж, и я буду молчать!
– Простите, скоро вернется Константин Михайлович?
Это ты сказал? Это я сказал. И не сказал, между прочим, а спросил! А что, нельзя уже и спросить? Он смотрит на меня своими маленькими бесцветными глазками и спрашивает тихим, задавленным голоском:
– Какой Константин Михайлович?
Ну, не Станиславский, разумеется, – Сокрушилин!
– Сокрушилин.
– А кто вам сказал, что Сокрушилина зовут Константин Михайлович?
Никто. Я сам такой вывод сделал (методом дедукции). А, я все понял, я все наконец понял! Эврика! Нашел! Копенкин звонил не Сокрушилину, Копенкин звонил Писигину! Потому что кабинет – не Сокрушилина, кабинет – Писигина. Значит, это его, Писигина, зовут Константин Михайлович, и вот он и есть Константин Михайлович Писигин – собственной персоной! Что ж, очень приятно, хотя вы и не представились. И я «свое» имя назову только тогда, когда вы об этом меня попросите… А пока буду молчать! И я молчу и молча же наблюдаю, как он набирает на местном аппарате короткий местный номер. Занято? Но зачем же нервничать по подобным пустякам? Лично я по подобным пустякам никогда не нервничаю. Значит, так: на кого вы похожи, я выяснил, как вас зовут – тоже, и то, что вы человек нервный – к бабке ходить не надо. Сказать по правде, лично вы не очень-то меня и интересуете, а вот где Сокрушилин, хотелось бы все-таки выяснить.
– Простите, вы не можете мне сказать, где Сокрушилин?
Смотрит озадаченно. Сам не знает?
– Сокрушилин? Сокрушает…
Пошутил? Выходит так – улыбается. Пошутить и улыбнуться, чтобы было понятно, что – шутка. Декан наш тоже так шутил.
«Сокрушилин – сокрушает». А если собственную шутку повторить, можно и посмеяться? Полное эмоциональное самообслуживание! Приходится признать: «милостивый государь» пока еще не для всех, есть у нас еще «товарищи», стопроцентные товарищи! (Я человек терпимый, меня не тронешь, и я не трону, но есть люди, с первого взгляда вызывающие у меня активную неприязнь.) Ну что, дозвонились, товарищ Писигин?
– Алло, Валь, я его нашел… Да, здесь… Приходи – посмотришь.
Нашел – кого? Меня? (Тебя?) Посмотреть на кого? На меня? (На тебя?) А я, между прочим, никуда не прятался! И невежливо, между прочим, говорить о присутствующем человеке в третьем лице. И зачем на меня смотреть? Я что, зверь какой-нибудь? Я не зверь… «Валя, Валентина, что с тобой теперь?» – А почему ты решил, что Валентина, может, Валентин? – Да ничего я не решал, просто поэму Эдуарда Багрицкого вспомнил. Валентин конечно, откуда здесь, в прокуратуре, Валентина? А вообще – терпеть не могу все эти мужско-женские имена! В том числе и свое. И в первую очередь – свое… – «Терпеть не могу!» А вспомни, как вы с Женькой собирались Алиску назвать, когда она еще не стала Алиской… Вам казалось – будет оригинально: Женя, Женя и… Женя! Спасибо Гере: «Народ, не сходи с ума!» И предложил: «Алиса!» Я еще у него спросил почему-то, непонятно почему, хотя, наверное, потому, что очень люблю эту актрису: «В честь Алисы Фрейндлих?» А Гера ответил: «В честь Алисы в Стране чудес, болван». (А страна чудес называется Абсурдистан!)
Нет, этот Писигин вызывает у меня не просто неприязнь. Это уже больше, чем неприязнь!
– Вы давали уже Сокрушилину показания?
Это он мне? Это вы мне? Ну да, кому же еще…
А какое, в сущности, уродливое словосочетание – давать показания.
– Что?
– Сокрушилин задавал вам вопросы?
– Задавал…
– Вы отвечали письменно или устно?
– В диктофон.
– Какие вопросы?
– Один.
– Что – один?
– Один вопрос. Он задавал один вопрос.
– Какой?
– Что?
Как тихо он все-таки говорит.
– Какой вопрос вам задал Сокрушилин?
Ага, я сейчас скажу, и ты тоже станешь заставлять меня вспомнить то, что вспомнить в принципе невозможно. Ну, ладно…
– Сокрушилина интересовало, как я провел пятое апреля… сего года.
– Сего?
– Да, сего…
Он даже не чувствует моей иронии! Он серьезен, а я с трудом сдерживаю улыбку… Кажется, я сейчас засмеюсь… Телефон? Спасибо тебе, телефон! Низкий тебе поклон, телефон! Валентин звонит? Не придет на меня посмотреть? Впрочем, это уже не местный, это уже городской, тот самый, по которому я недавно разговаривал с Дашей… Писигин поднимает трубку, прижимает ее к уху и слушает… (ДАША ОБЕЩАЛА ПЕРЕЗВОНИТЬ!) Я смотрю на Писигина, и – я не вижу Дашу и не слышу ее, но это больше, чем видеть и слышать, – я чувствую ее, я знаю, что это она, и что она сейчас говорит, Даша, моя Даша!
– Здравствуйте, простите, можно Женю? – говорит она робко, с надеждой.
Писигин морщится.
– Кого?
– Женю… Евгения Золоторотова, он дал мне этот номер. – В ее голосе появляется растерянность.
– Здесь нет таких! – раздраженно бросает Писигин и бросает на аппарат трубку, и мне хочется броситься к нему, выхватить ее и прокричать ВО ВЕСЬ ГОЛОС: «Даша! Дашенька, я здесь! Я здесь, и я люблю тебя!» Но – поздно… Я смотрю на него, уже не скрывая своего негативного к нему отношения… Как?! Как можно говорить: «Здесь таких нет», – не спросив у сидящего напротив человека: «Вы, случайно, не Золоторотов?»
– И вы вспомнили?
Нет, я его просто ненавижу! Неужели он не видит? Неужели он не понимает? И я уже буквально открываю рот, чтобы сказать ему все, как вдруг до меня доходит, внутренний голос говорит мне: «Запомни, Женя, ты здесь не Женя! Запомни, Золоторотов, ты здесь не Золоторотов! Ты – Гера, ты – Герман, ты Герман Генрихович Штильмарк! Запомни это!»
– Так вы вспомнили? Что вы делали пятого апреля сего года?
Я хотел ответить, что не успел ответить, но не успел ответить, потому что вошла она… Не Валентин, но – Валентина!
– Здравствуйте, – сказала она, улыбаясь, и я вскочил и, не помню даже, сказал «здравствуйте» в ответ или не сказал – настолько ее появление здесь было неожиданным.
– Сидите-сидите, – сказала она, продолжая улыбаться.
И я сел. И сижу. И смотрю на нее. И думаю: «Ну вот, а ты говоришь – не граф Калиостро! Только сегодня вспоминал этот тип женщин и сетовал, что они куда-то подевались. Да вот же она! Татьяна Доронина в молодые годы. Ну, где-то средних лет… Валентина. Простое русское имя. Скромное. И очень в наше время редкое. Интересно, какое у нее отчество? Может быть – Ивановна? Очень часто Валентины бывают именно Ивановнами. Она следователь? Ну конечно, кто же еще? Бесстрашная, честная, красивая. – Как Александра Маринина? – При чем здесь Александра Маринина? Вот если бы она вела мое дело! То есть твое, старик, конечно же твое, но я бы тоже хотел с ней пообщаться. Хотя бы… один… допрос… Гера, никуда не уезжай! Приходи и сдавайся! Ты закрутишь с ней роман. Прямо в тюремной камере! Как тот цыган, о котором все газеты писали. Она пронесет тебе пистолет, ты совершишь побег, и вы станете грабить банки, как Бонни и Клайд. И, конечно, она не Татьяна Доронина, Татьяна Доронина с Зюгановым целовалась, я бы в это никогда не поверил, если бы сам не видел по телевизору. Татьяна Доронина, ха! «Скажите, пожалуйста, как пройти во МХАТ?» – «Вам в какой, в мужской или в женский?» Лично я предпочитаю мужской, в женском не был с тех пор, как Татьяна Доронина его возглавила, то есть с тех пор, как он, собственно, и стал женским… Вот! Нашел! Эврика! Валентина Ивановна похожа на эту депутатшу из Думы, она еще, кажется, министром была, социального, если я не ошибаюсь, обеспечения, а может, и сейчас еще министр, я это как-то упустил, – Элла Памфилова. Не Панфилова, а Памфилова. Только волосы не белые, а каштановые. – Крашеные, наверно. – Ну и что? У Памфиловой они, может, тоже крашеные. А ты вообще плешивый! И молчи! – И молчу.
Второй (продолжение-4)
…Зря, старик, мы с тобой волновались… Он ее муж… Он ее муж, представляешь?! Сморчок женат на королеве. Ты скажешь, что подобное обстоятельство никогда не было для тебя препятствием? А на это я тебе скажу: старик, выключи фары, тебе здесь ничего не светит, потому что она его любит. А тот, кто любит, изменить не может. Кто сказал? Да хотя бы я! Или тебе этого мало? А знаешь, как я понял, что она его любит? По одной простой, но стопроцентной примете – она его нюхает. Понимаешь? Не понимаешь! Сейчас объясню. Войдя в кабинет и подойдя к Писигину близко-близко, нисколько меня, постороннего человека, не стесняясь, Валентина Ивановна стала его нюхать… Я смутился, но, по правде сказать, не отвернулся, потому что это очень трогательная картина, когда женщина нюхает своего мужчину. (Еще так же трогательно бывает, когда женщина собирает с лацканов пиджака и плеч своего мужчины невидимые пылинки и ворсинки и даже сдувает их иногда.) И, глядя на них, я вспомнил, как однажды, в самом начале нашей семейной жизни, Женька вот также понюхала меня и сказала: «Запомни, Золоторотов, о твоей измене я узнаю по запаху». Но, видимо, Писигин дает основания ему не доверять, потому что Валентина Ивановна не просто нюхала, она его буквально обнюхивала, как, если помнишь, в фильме «Вызываю огонь на себя» немец обнюхивал нашего партизана, от которого пахло лесом, костром, партизанским отрядом, и унюхал-таки, фашист… Ты, я знаю, попытаешься мне возразить: а что, если она ему не жена, а любовница? А вот это, старик, абсолютно исключено! Чтобы сделать данный вывод, достаточно на Валентину Ивановну посмотреть, и сразу становится ясно, что она не из тех женщин, которые соглашаются на роль любовницы. Это – во-первых, а во-вторых – подумай своей башкой, станет ли любовница обнюхивать своего любовника, для чего? Чтобы унюхать запах его законной жены? Это же смешно! Итак, хорошенько обнюхав и не унюхав ничего подозрительного, Валентина Ивановна взглянула на МУЖА благодарным, счастливым взглядом (как, в сущности, мало нужно нашим женщинам для счастья!) и, облегченно вздохнув, спросила: «Где ты его нашел?» Не меня, старик, и не тебя, не меня и не тебя, а, увы, – «Дело»! «Здесь лежало», – ответил Писигин, видимо смущенный этим публичным, но законным актом женского недоверия, за которым скрывается конечно же – любовь.
Согласно классификации Л. Н. Толстого, любовь бывает трех типов:
Любовь красивая.
Любовь самоотверженная.
Любовь деятельная.
Что касается меня, то, как я думаю, я люблю Дашу по первому типу, Женьку по второму, Алиску по третьему – так я думаю, а вот Валентина Ивановна, это очевидно, это бросается в глаза, – любит своего мужа по всем трем типам сразу! И пока они – плечо к плечу, голова к голове – читают «Дело», я смотрю на них и любуюсь их любовью, ибо нет на свете более прекрасной картины, чем двое влюбленных вместе. Они читают «Дело», как врачи историю болезни. Странное, согласись, словосочетание – история болезни. История КПСС… История болезни в детстве была у меня довольно толстая – болел часто. Ангины, бесконечные ангины. Не такая, правда, толстая, как это «Дело», но тоже довольно объемистая. И вот так же, помню, два врача, мужчина и женщина, тоже читали мою историю болезни и так же многозначительно поглядывали друг на друга, и так же обменивались короткими малопонятными фразами. А мы сидели с мамой и смотрели на них. Снизу вверх. Мама была испуганная, притихшая, маленькая – едва ли не меньше меня, – никогда ее такой маленькой я потом не видел. Врачи решали – вырезать мне гланды или не вырезать. Вырезали – от чего потом открылось горловое кровотечение, и я чуть не умер. А потом стал мучить фарингит. «Фарингосепт»!
– Ты глянь, да тут листы выдраны! – восклицает Валентина Ивановна. – Шестьдесят, и сразу – шестьдесят шесть.
– Да я видел уже, – кивает он и прибавляет: – Пятое апреля как раз…
Что? Что вы сказали? Я не ослышался? Писигин и так тихо говорит, а тут просто шепчет.
– Ну дела! – смеется Валентина Ивановна, закрывая рот ладонью. Он тоже улыбается, они тихо по-семейному смеются, переглядываются, а потом… вдруг… смотрят на меня… Смотрят вопросительно. Но я не скажу! Даже если вы, Валентина Ивановна, спросите, даже вам не скажу, кто это сделал. Я не должен этого говорить, понимаете, не должен! Ну что вы на меня так смотрите? Или думаете, что это я? Я? Я это сделал? Да я даже не поднялся с этого кресла, чтобы просто посмотреть! Хотя мог, сто раз мог! Но не стал этого делать. «ВОТ И Я ТОЖЕ НЕ СТАЛ БЫ». Нет, отдельное, отдельное спасибо Федору Михайловичу! Фу, меня даже в пот бросило. Значит, я и покраснел – потея, я автоматически краснею. Женька моя иногда говорит «Золоторотов» – когда сердится, она обращается ко мне исключительно по фамилии, а когда злится – даже немного ее изменяет: Золотомордов или Золоторылов, но это редко, Женька моя горячая, но отходчивая. Так вот: «Золоторотов, своим присутствием ты отягощаешь мир». (Не тот мир, который «во всем мире», а тот, который в «Войне и мире», который писался раньше с палочкой и точкой – мiр, в смысле – общество.) Я с ней согласен. И все из-за моей дурацкой привычки краснеть! То есть это даже не привычка, а чистая физиология, мерзкая особенность организма, за которую я себя просто-таки ненавижу! Причем я изучил все стадии этого крайне неприятного процесса, но ни предотвращать его, ни даже приостанавливать так и не научился. Сначала я краснею – все сильнее и сильнее, а потом, когда морда становится малинового цвета, начинается отвратительный процесс потоотделения… Особенно сильно при этом потеет шея, иногда даже капельки за шиворот ползут… (Хорошо, что они вновь «Делом» увлеклись, можно незаметно достать из кармана платок и незаметно вытереть шею…) После последнего Нового года Женька со мной целых две недели не разговаривала. Ивановы подняли тост за любовь и верность, все благополучно выпили, а я подавился, закашлялся и вдруг почувствовал, как сильно вспотела шея… Женька тут же попросила меня выйти из-за стола и в кухне все высказала. Дело в том, что Ивановы давно не любят друг друга, это всем известно, изменяют направо и налево, и я до сих пор не понимаю, зачем в таком случае поднимать тост за любовь и верность? Хотя Женька, конечно, права: так тоже нельзя! В конце концов, может быть, у Ивановых какая-то особенная любовь, может быть, их бесчисленные измены им как раз для их любви и нужны? А верность, как верно подметила однажды Женька, понятие растяжимое; правоту ее слов я оценил, когда в моей жизни появилась Даша. Я незаметно вытираю шею, но незаметно не получается, Писигин поднимает на меня глаза и спрашивает:
– У вас дети есть?
– Есть, – автоматически отвечаю я и автоматически же прибавляю: – Дочь.
И только потом до меня доходит, что говорю об Алиске, а значит, и о себе, а не о Гере, но тут же вспоминаю, что у Геры тоже есть дочь, от второго, что ли, брака; вот ведь как получилось: правду не сказал, но и не соврал; точнее даже: соврал и одновременно сказал правду и, таким образом, Геру не подвел, правда, в этом моей заслуги нет, просто так получилось, и я рад, что так получилось…
– Вы любите детей?
Странный вопрос. Кто же их не любит? Но отвечать надо…
– Люблю…
– А в чем это выражается? В каких-то конкретных ваших действиях?
Вопрос еще более странный, но я могу на него ответить.
– Я председатель родительского комитета в школе. Бессменно уже много лет… Выпускаем стенгазеты… И во дворе – детскую спортивную площадку организовал…
– Дети наше будущее, – говорит он, и я смотрю на него: он это серьезно говорит или иронизирует. Кажется, серьезно. Тогда ладно…
– Сколько ей? – спрашивает он вдруг.
– Что? Кому? – не понимаю я.
– Сколько лет вашей дочери?
– Тринадцать…
Да, Алиске уже тринадцать, и Гериной дочери примерно столько же. Но как же ее зовут? Вероника? Она в Ленинграде живет, то есть в Санкт-Петербурге, Гера практически с ней не встречается и никогда о ней не говорит, поэтому я точно не знаю, но, кажется, Вероника… Однако, если Писигин сейчас спросит, как зовут мою дочь, я не смогу сказать, что ее зовут Вероника. Но, простите, при чем здесь моя дочь? Может, вы еще спросите, что она делала пятого апреля сего года? При чем здесь моя дочь?!
– Послушайте, товарищ Писигин…
Я не успеваю договорить – так и стою с открытым ртом, потому что Валентина Ивановна вдруг начинает смеяться. Она смеется, а я стою с открытым ртом и смотрю на Валентину Ивановну. Я уже понял, в чем дело – дело в «товарище». Лично у меня это совковое обращение ничего, кроме раздражения и злости, не вызывает, но приходится признать: и раздражение, и злость не являются выражением высоких человеческих качеств, иное дело – смех… Я стою с открытым ртом и смотрю, как – на неверных, подгибающихся ногах, беспомощно ломаясь в пояснице, терзаемая смехом, неотвязно и сладко смеется моя Валентина Ивановна, то беззвучно, глубоко, затаенно, словно стыдясь собственного смеха, то прилюдно им упиваясь, заливаясь во весь голос, весело и вольно…
Я смотрю на Валентину Ивановну и сам улыбаюсь и радуюсь за нее – счастливы люди, которые умеют так смеяться, так хохотать, как Пушкин, по свидетельству современников, хохотал.
– Товарищ… Ой, мамочки, не могу, товарищ… – Валентина Ивановна пытается сквозь смех выговорить фамилию мужа, пытается – и ничего у нее не получается! Я перевожу взгляд на Писигина, уверенный в том, что он, если и не смеется, то, по крайней мере, улыбается, и обнаруживаю картину диаметрально противоположную, и почти сразу Валентина Ивановна обрывает свой смех, потому что тоже обнаруживает ту же диаметрально противоположную картину: у Писигина белое бескровное лицо, синие губы и черные ямки закрытых глаз – ему ПЛОХО. Сердце? Спазм? Я врач. (Хотя и ветеринар.)
– Миленький, – говорит вдруг Валентина Ивановна, тихо, нежно и виновато. – Миленький, миленький… – И целует его в лоб – бережно, с какой-то даже опаской. (Так целуют покойников?) И тут, старик, на моих глазах происходит чудо: словно мертвая царевна, Писигин оживает: лицо его розовеет, губы светлеют, глаза открываются.
– Миленький, миленький, миленький, – продолжает повторять Валентина Ивановна нежно и виновато, очень виновато, хотя, убей меня – не понимаю, в чем ее вина? (Как мама меня учила: «Если над тобой смеются, сам смейся громче всех», но, видно, его никто этому не учил.) А Валентина Ивановна стоит рядом с ним (она выше его, не как Женька выше меня, но тоже – выше) и собирает с его плеч и сдувает невидимые, несуществующие пылинки. Очарованный этой удивительной картиной, я вспоминаю, когда последний раз Женька сдувала с меня пылинки, вспоминаю и вспомнить не могу, и от этого мне становится грустно, и тут же вспоминаю, что и не нюхала Женька меня уже много-много лет, и от этого становится еще грустнее…
– ТУК! ТУК! ТУК!
Я сразу понимаю – кто, шаги Харона возвращают меня в реальность. (Пожалуй, это самая большая загадка во всей этой истории, которая сплошь состоит из загадок.) По своему обыкновению, Харон в кабинет не входит, а лишь всовывается к нам до половины, свою нижнюю часть оставляя за дверью, открывает рот, и, пожалуйста, еще одна загадка, но – стоп! – этому предшествовала следующая картина: когда Харон – «ТУК! ТУК! ТУК!» – шел по коридору, Валентина Ивановна отскочила вдруг от Писигина, поправляя на ходу волосы и придавая своему лицу строгое, деловое выражение, выражая произошедшее одним словом, Валентина Ивановна от Писигина – дистанцировалась. Я думаю, тут одно из двух: или он не ее муж, или она не его жена… Но не исключаю и третьего: курьер, которого я в шутку прозвал Хароном, он ведь, в сущности, еще мальчишка, ребенок, которому рано еще видеть подобную, практически интимную сцену, тем более, в рабочее время и на рабочем месте. Данный вариант представляется мне наиболее вероятным. А Харон смотрит на них озорно и лукаво (точь-в-точь, как Алиска: «Да я все знаю!»), переводя взгляд с Писигина на Валентину Ивановну и с Валентины Ивановны на Писигина.
– Тебе чего, Вань? – спрашивает его Валентина Ивановна как ни в чем не бывало. (Сколько лет живу на свете, не перестаю удивляться женскому самообладанию – вон как Писигин нервничает, места себе не находит, а она – как ни в чем не бывало!)
– Так тебе чего, Вань? – повторяет свой вопрос Валентина Ивановна и улыбается. В ответ Харон закидывает назад голову (шея цыплячья, детская совсем), вскидывает длинный и острый подбородок и громко возглашает:
– Ва-ал!
И во второй раз:
– Ва-ал!
И в третий то же самое:
– Ва-ал!
Ты, наверное, вспомнил твоих любимых Ильфа и Петрова: «Ваал и Молох капитализма»? Нет, старик, все гораздо проще: наш Харон – заика, и его «Ваал» – всего лишь неудачная попытка назвать имя Валентины Ивановны. Она понимает это раньше меня и приходит ему на помощь:
– Валентина Ивановна.
Курьер смотрит благодарно и мотает головой, подтверждая, что именно ее имя он и пытался выговорить, а дальше продолжает уже без малейшей запинки – такая редкая форма заикания.
– Писигин приехал! – сообщает он и, широко разведя руки, восторженно прибавляет: – С во-от таким букетом цветов! Ва-ам!
По правде сказать, мне становится немного не по себе: Писигин-то – не Писигин, то есть тот, кого я Писигиным назвал, Писигиным не является, и, наверное, из-за этого он так расстроился.
– Он сейчас у Константина Михайловича, – прибавляет курьер, и мне еще больше становится не по себе – к тому же Писигин еще и не Константин Михайлович. Однако эта мгновенная досада на себя тут же сменяется законной за себя же гордостью: Валентина-то Ивановна! Угадал! Угадал? Что ты, бабка Угадка какая-нибудь? Ты не бабка Угадка, ты медиум, старик, граф Калиостро! Дедуктивный метод Шерлока Холмса, помноженный на интуицию майора Пронина, дает потрясающие результаты! Решил, что ее зовут Валентина Ивановна, и вот, нате вам, пожалуйста, – Валентина Ивановна! А что такое Харонов АД? Нет ничего проще! Ну, например, «Адидас»… Сокрушилин услышал и рванул. Впрочем, это раньше наш человек вот так мог рвануть за «адидасами». («Тот, кто носит “Адидас”, завтра Родину продаст», – любил, помнится, говаривать Гера, а сам, гад, в них красовался… Кроссовался, ха-ха!) Да нет, это я так про «Адидас» сказал, для примера, но, надеюсь, ты теперь понял, что за тем Хароновым адом стоит совсем не то, что мы имели в виду?
– Букет? Мне? – От удивления глаза Валентины Ивановны округляются.
– Ва-ам! – мотает головой Харон.
– Интересно, по какому поводу? – задумывается она и восклицает вдруг звонко и радостно: – Ах, ну да… Как же я забыла, сегодня же восьмое марта!
А как я мог забыть? И никому из своих женщин не подарил цветы: ни Женьке, ни Алиске, ни Даше… И маме, главное, маме, это ее самый любимый праздник! Я растерянно смотрю в растерянные глаза того, кого я считал Писигиным – тоже никого не поздравил? – перевожу взгляд на окно и вижу, что там не весна, а осень, и понимаю, что сегодня не восьмое марта, а какое-то ноября… И тот, кто не Писигин, тоже смотрит в окно… А Валентина Ивановна смеется, видя, что мы поверили, но не так, как недавно, когда я назвал не Писигина Писигиным, а иным, воркующим голубиным смехом, и, смеясь так, плавной походкой выходит из кабинета, вновь оставляя нас вдвоем с этим маленьким серым человечком, с этим Неписигиным. Он смотрит на меня, показывая всем своим видом, что больше шутить не намерен.
– У вас есть жена?
От этого вопроса мне становится просто смешно: если у меня есть дочь, то, наверное, есть и жена?
– Есть, – отвечаю я, с трудом скрывая усмешку.
Кто-то звонит. Даша? Неужели снова Даша? Если он снова ей нахамит, я не знаю, что с ним сделаю! Даша, я вижу по его лицу – Даша!
– Нет здесь никакого Агаджанова!
Нет, кажется, не Даша…
– Нет, не прачечная!
А он тоже не знает, как надо отвечать, когда прачечную спрашивают?
Вам лучше не знать, что это!
А я знаю – это прокуратура.
Смотрит на меня.
– У нас с прачечной номера похожи. А директор там Агаджанов. Звонят все время.
Спасибо за объяснение. Значит, и в первый раз не Даша звонила, и я очень рад, что не Даша… А в том, что я услышал ее голос, нет ничего странного, это для меня еще одно доказательство моей любви.
– Я хочу в туалет. – Это ты сказал? – Это я сказал. А что, нельзя? Хочу, давно хочу, но то стесняюсь спросить, то забываю.
– В туалет? – Неписигин криво улыбается. Что это значит? Не понимаю…
Да нет, это даже хорошо, что я ничего не понимаю, очень хорошо, потому что рано или поздно он все равно сработает, мой закон всемирного понимания (он же закон всемирного непонимания). Я открыл его однажды ночью, когда не мог заснуть, а заснуть не мог потому, что не мог понять всего, что вокруг меня тогда происходило, и как только я его открыл, так сразу и заснул! А утром поработал над формулировкой. «Количество непонимания рождает качество понимания». Или (это научнее и точнее): «Количество непонимания прямо пропорционально качеству понимания». Я не скажу, что после открытия данного закона мне стало легче жить, но проще, несомненно, проще. Со мной такое не раз бывало: не понимаю, не понимаю, не понимаю, а потом – БАЦ – и понимаю! Всё. Абсолютно всё. Да еще как понимаю! (Как Гера говорит, вижу вглубь на три метра, правда, это он про себя говорит.) Только не надо торопиться, не надо делать скоропалительных выводов, как, например, с Писигиным у меня получилось: думал – Писигин, а оказалось – нет. Должна образоваться критическая масса непонимания, а с ним этого, видно, не произошло.
…А ты знаешь, я сделал сейчас открытие: евроремонт пахнет точно так же, как наш простой тяп-ляп. Неписигин идет впереди, я сзади. (Кажется, должно быть наоборот? Хотя Сокрушилин тоже впереди меня всегда шел.) Молчит. И я буду молчать. Навстречу нам такой же молчаливой цепочкой идут трое. Из туалета? Три товарища, три мушкетера, три богатыря – похожи… Как их там звали? Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович. Поравнявшись, молча здороваются за руку. Сначала со мной, потом с ним… И идут дальше. Ну скажи, разве это можно понять? Нельзя! Лучше давай разгадывать шарАДы! – АДольф Гитлер! – А он-то здесь при чем? – Ни при чем, просто первый в голову пришел. – АДвертайзинг! – А это еще что такое? – Не знаю. – А я знаю. Это остаточное явление от изучения английского языка: пять лет в школе, пять лет в вузе, а остался один адвертайзинг…
Второй (продолжение-5)
Ну вот, как только я вспомнил закон всемирного понимания (он же – закон всемирного непонимания), как он тут же дал о себе знать! Во-первых, я понял, почему Неписигин скривился, когда я сказал, что хочу в туалет. Потому что в туалете (куда евроремонт еще не скоро дойдет) за старой грязной батареей была спрятана початая четвертинка водки, которую он оттуда вытащил и там же добил. Из горлышка и без закуски, вместо нее пшикнул в рот какой-то гадостью – я увидел это на выходе из кабинки, – он в это время делал последние глотки. Я опешил, конечно, но как интеллигентный человек сделал вид, что ничего не замечаю, и он соответственно вел себя так, как будто меня здесь нет. Так вот, пшикнув себе в рот какой-то гадостью, Неписигин облегченно выдохнул и сам себе сказал… Однако здесь я должен обратно в кабинку вернуться, иначе непонятно будет. Кстати, ты помнишь наш с тобой спор на тему о том, что литература и жизнь – вещи несовместные, одна к другой отношения не имеющие: жизнь – это жизнь, а литература – это литература. Это ты так считаешь. «В жизни человек ест, спит и испражняется, а в литературе, особенно в русской, он только вопрошает: “Тварь я дрожащая…?” или “Почему люди не летают”, ни разу при этом не пописав». Знаешь, я даже растерялся от такого твоего хамства, ты же все-таки мой друг, настоящий друг, а не какой-нибудь Веничка Ненастоящий, который отрицает Льва Толстого, всю русскую литературу отрицает только потому, что, как он в своей отвратительной статье написал, «образ Наташи Ростовой нереалистичен, потому что она не писает и не какает». Ну вот смотри, я сказал: «Я зашел в кабинку», ну, разве тебе непонятно, что я там делал? Понятно? Тогда поехали дальше. Итак, я зашел в кабинку и, стоя там в задумчивости, произнес вслух одно слово. Хотя, возможно, и не произнес. Со мной такое бывает, редко, но бывает, недавно, например, выхожу из ванной (что-то там подстирывал), а мимо Женька проходит и спрашивает: «Ты что-то сказал?» И смотрит на меня удивленно, и я тоже на нее удивленно смотрю, потому что сам не знаю, сказал или нет. Вот и там, в кабинке, слово у меня вырвалось, хотя, возможно, и не вырвалось, словом, вырвалось или не вырвалось – не знаю, зато знаю точно, какое это было слово, – я ведь все продолжал про себя сокрушилинскую шараду разгадывать. «АДвокат!» – такое слово мне в голову пришло, и, возможно, я его невольно озвучил, хотя, повторяю, возможно, и не озвучил, но вот что абсолютно точно, за что я ручаюсь, именно это, это же слово Неписигин произнес практически одновременно со мной, громко и отчетливо произнес:
– Адвокат!
Почти как в детской игре в «города» получилось, мы с Алиской раньше часто в нее играли, а сейчас, к сожалению, нет, ей это уже неинтересно, и вот иногда у нас точно так же получалось: и мне, и ей один и тот же город в голову приходит, Астрахань, например, и я: «Астрахань!», и она: «Астрахань!», а потом спорим до хрипоты, кто первый сказал. И у нас с Неписигиным так же почти получилось.
Я: Адвокат!
И он: Адвокат!
И еще он что-то там сказал, но я не стал в это вдумываться, его «адвокат» меня буквально потряс. Я подумал, что он тоже разгадывает тайну сокрушилинского ада! (АДдис-Абеба, кстати). Я просто опешил от этой мысли и в таком состоянии вышел из кабинки, а он, Неписигин, стоит прямо напротив, закинув голову и отставив в сторону под острым углом локоть – как пионер с горном, только вместо горна четвертинка и – буль-буль-буль! Разумеется, увиденное напрочь забило услышанное, о его «адвокате» я мгновенно забыл! И сделал вид, что просто его не замечаю и тут слышу: ТУК! ТУК! ТУК! Стук приближался, и я очень обрадовался, потому что, во-первых, этот забавный паренек мне очень симпатичен (да и фильм хороший был – «Курьер»), а во-вторых, его приход разряжал создавшуюся на тот момент в туалете напряженную атмосферу: мы стояли буквально в метре друг от друга и при этом делали вид, что друг друга не замечаем. Правда, сперва атмосфера сделалась еще более напряженной, а мне стало еще более неловко, потому что на моих глазах Неписигин испуганно кинулся к батарее и стал за нее засовывать пустую уже четвертинку. (Из чего я сделал вывод, что и полную он там прятал.)
Итак, входит курьер, и уже не до половины появляется, а целиком… Я уже начал догадываться, чем он там, бедняга, стучит, и только немного, как выяснилось, ошибся: я думал, что у него палочка, костылик, а оказалось – протез. И даже не протез, а как это… ортопедический – вот! – ботинок, здоровый такой, тесно зашнурованный башмак. Мне сразу нехорошо стало. Мне сразу нехорошо становится, когда вижу таких обделенных судьбой бедолаг. Просто хочется сразу все им отдать. (А ведь он к тому же еще и заикается.) А парнишка забавный, хотя, как потом выяснилось, не курьер, а стажер, и даже не совсем стажер, а практикант на стажерской ставке – в юридическом учится. Он принес мне тайну сокрушилинского АДа и сам же ее раскрыл. Знаешь, что такое АД? Только не падай в обморок. АД – это АДминистрация Президента! А? Каково? Значит, так: сюда, в прокуратуру, позвонили по «вертушке» из администрации Президента и потребовали срочно найти Сокрушилина, и все, конечно, кинулись его искать, и первым нашел он – практикант Ваня, я тому свидетель. Немаловажно также (не мало, а много очень даже важно!) – кто звонил. Звонил тот, кто молчал. «Жду, молчит, жду, молчит» – помнишь? Так вот, тот, кто молчал, тот наконец, позвонил! Наум! Как же я сразу не догадался, что Наум – это Наумов, да-да, тот самый всемогущий Наумов: олигарх, кукловод, серый кардинал и прочее, прочее, всё, что о нем плетут, ты прекрасно знаешь, а по-моему, так очень умный, образованный, интеллигентный человек, оставивший родную и любимую науку ради неродной и нелюбимой политики. Я давно и внимательно за ним наблюдаю, и не просто отдаю должное, но нередко и восхищаюсь. Единственное, с чем я не согласен, так это с одной фразой, сказанной недавно им в интервью «Демократическому наблюдателю»: «Я чист перед своей совестью». На первый взгляд, ничего особенного в этой фразе нет, но только на первый взгляд. Ведь это же очевидно – не бывает своей, только своей совести! То есть нет, конечно же есть – у каждого есть своя личная совесть, но она существует и функционирует только как часть общей, человеческой… Общечеловеческой, да. А общая она потому, что законы совести общие… Наум же утверждал как раз обратное: раз совесть моя, то и законы для нее тоже соответственно мои. Это меня насторожило. Это же страшно представить, что было бы, если бы каждый для своей совести сам свои законы устанавливал! Что было бы? Да ничего бы уже и не было. Дикие джунгли, ранний мезозой… Возможно, Наумов оговорился? Возможно. Во всяком случае, я очень на это надеюсь. Так вот, он сюда позвонил и сказал, что его, Сокрушилина, срочно желает видеть сам… Надеюсь, теперь тебе не надо объяснять, кто такой Дед? Но и это даже не главное, старик, ты только снова не падай в обморок, главное же то, что Сокрушилина назначают Генпрокурором! (Правда, пока это конфиденциальная информация.) Ты представляешь? Нет, ты представляешь?! На какой уровень мы с тобой вышли? Даже дух захватывает! А я, сказать по правде, рад. Не за себя, а, как говорится – за державу. Рад! Потому что, если таких, как Сокрушилин, там наверху будет больше, значит, за будущее нашей страны мы можем не беспокоиться. Белый плащ, мобильник, «Hummer» – это ведь все внешнее, наносное, это все со временем пройдет, но остается главное – его беспокойное горячее сердце! Ведь он пел свой романс, когда все здесь, образно говоря, на ушах стояли. А он сидел и пел! А что его, как говорится, заносит на поворотах, то это неизбежные издержки возраста. Ему нет еще и тридцати, а он уже без пяти минут Генпрокурор. Нет, здорово, очень здорово! Вообще-то, практикант Ваня зашел в туалет не для того, чтобы эти сенсационные новости сообщить, а чтобы сказать Неписигину, что его срочно вызывает к себе Константин Михайлович. (Когда тот услышал про Константина Михайловича, то достал из кармана свою пшикалку и еще раз пшикнул себе в рот, уже не обращая внимания и на Ваню.) И вот мы идем по длинному пустому еврокоридору – молчаливой цепочкой, как те три богатыря, только, по правде сказать, на богатырей не очень похожи: Илья Муромец хромает и заикается, Добрыня Никитич добил в сортире «четвертинку», а, ха-ха, Алеша Попович вообще неизвестно кто. (И неизвестно, за что!) Но ты знаешь, старик, что мне особенно понравилось во всей этой истории с «адом»? В ней еще раз нашел для меня свое подтверждение так называемый закон коротких рукопожатий. Точнее, он не так называемый, это я его так называю, называется он как-то иначе, но не это важно. Важно то, что не я сам открыл и сформулировал этот закон, его открыл и сформулировал довольно давно довольно известный ученый, лично я прочитал его статью еще в детстве в журнале «Знание – сила» и был буквально потрясен. (Помню, как прибежал к маме, чтобы поделиться с ней своим новым необыкновенным знанием.) «РУКОПОЖАТИЕ – ЭТО ВРЕМЯ, СПРЕССОВАННОЕ В ПРОСТРАНСТВЕ». В чем суть закона? Мир тесен, это известно всем, но мало кто догадывается, насколько он тесен на самом деле! Вот, например, Гера летит в Америку и здоровается там за руку с каким-нибудь негром (хотя Гера терпеть не может негров, и мне это в нем очень не нравится, но я так сказал, для примера, просто пример такой в голову пришел – негр), так вот, Гера летит в Америку и здоровается за руку с негром, и – получается, что от этого, совершенно неведомого мне негра меня отделяет всего-навсего одно рукопожатие! (С Герой.) А дальше уже легко представить…
Нет, мир ужасно, нет, мир прекрасно, просто-таки восхитительно тесен! (Со «Знанием – силой» в руках я прибежал к маме и восторженно и сбивчиво стал объяснять ей суть закона. Мама, как всегда, читала книгу. Она нисколько не удивилась, а только улыбнулась и сказала: «Вот видишь, это еще одно подтверждение того, что все люди – братья». И продолжила свое чтение. А мне так хотелось об этом законе еще поговорить, и я спросил: «Если все люди – братья, то кто же тогда их отец?», – созорничал, пытаясь отвлечь ее от книги. «У них нет отца», – ответила мама, поднимая на меня глаза. Я видел, что ей не понравился мой вопрос, об этом свидетельствовала появляющаяся в такие моменты складка над переносицей, но меня уже нельзя было остановить, меня просто несло: «А мама у них есть?» – «Есть». – «А как ее зовут?» – «Природа», – сказала, как отрезала, мама и вновь углубилась в чтение, всем своим видом показывая, что более полемизировать со мной она не намерена.)
А уже у самой двери кабинета Писигина я узнал, что наш курьер – стажер, и даже не совсем курьер и не совсем стажер, а практикант на стажерской ставке, и узнал это следующим образом: «ТУК! ТУК! ТУК!» – он уходил вперед, а мы с Неписигиным задержались у кабинета Писигина, и тут я решил выяснить, курьер он все-таки или не курьер?
– Курьер? – спросил я, глядя ему вслед.
– Практикант на ставке стажера, – неожиданно обстоятельно и благожелательно ответил Неписигин.
А Ваня как раз сворачивал за угол, обходя его по окружности, выбрасывая вбок свою больную ногу: ТУК! ТУК! ТУК! – сильно припадая при этом на ногу здоровую, и мне просто нехорошо стало, как всегда нехорошо становится, когда вижу таких вот бедолаг, и у меня невольно вырвалось:
– Хромает…
А Неписигин ухмыльнулся как-то подленько и сказал, и даже не сказал, а, я бы сказал – уточнил:
– И еще – стучит.
А Ваня действительно стучал, видно его уже не было (он скрылся за углом), а слышно еще было: ТУК! ТУК! ТУК! И тут я буквально чуть не взорвался, меня просто вывело из себя это его «стучит», еще немного, и я бы сказал, я бы сказал все, что думаю об этом человеке: «Да, он стучит, а ты? Что ты делаешь? Четвертинку за батареей прячешь? Из горлышка пьешь в рабочее время на рабочем месте?!» Не сказал, да, но одно могу сказать точно: если бы Неписигин протянул мне в тот момент руку, я бы отказался ее пожать, просто не стал бы этого делать, и всё! – И разомкнулась бы цепь всеобщего человеческого братства? – Знаешь что, братья тоже бывают разные: бывают родные, а бывают, как говорится, седьмая вода на киселе! Вот, например, мы с Герой совершенно разные люди, по всем параметрам разные, но он мне брат, и даже больше, чем брат, а этот… Нет, не подал бы я ему руки и никогда не подам!
Второй (продолжение-6)
Но согласись, старик: мир невероятно тесен. Смотри, что у нас получается: я поздоровался с тем, кого назвал Хворостовским, Хворостовский – с тем, кого он назвал Наумом, Наум же, как известно, чуть не каждый день встречается с тем, кого они называют Дедом, и при этом, естественно, здоровается с ним за руку. То есть от первого лица нашего государства меня отделяют всего-навсего два рукопожатия! Дальше – больше: Дед летит на встречу Большой семерки (или восьмерки?) и здоровается там со всеми сильными мира сего, от которых меня отделяют каких-то три жалких рукопожатия! Только ты не подумай, что я от данного обстоятельства возгордился, я просто наглядно объяснил тебе суть закона рукопожатий. Но это еще не все. Ты, наверное, забыл, рукопожатие – это время, спрессованное в пространстве, то есть что я хочу сказать: мир не только тесен в пространстве, он невероятно короток во времени! Я, например, знал одну старушку (лечил от облысения ее болонку), которая была знакома с дочерью А. П. Керн. То есть от солнца русской поэзии, от нашего всего меня отделяют всего-то два рукопожатия! Ну, хорошо, теперь три: старушка умерла, но я знаю ее дочь, у нее, кстати, тоже болонка, и, кстати же, болонок любила сама Анна Петровна, собственно, от нее в их роду мода на болонок и пошла! Не знаю, как у тебя, а у меня от этого дух захватывает, просто захватывает дух!
А Неписигин все продолжает испытывать мое терпение. Выпитая в сортире четвертинка придала ему уверенности, я бы даже сказал, нахальства. Он совершенно не торопится идти к Константину Михайловичу, хотя Ваня три раза повторил слово «срочно». Неписигина по-прежнему интересует пятое апреля сего года: достал из стола стопку бумаги, положил сверху шариковую ручку и говорит: «Пишите». Я говорю: «Что?» Он говорит: «Сочинение». (Шутит?) Я говорю: «На тему: “Как я провел лето”»? (Шучу.) Он: «Нет, как вы провели пятое апреля сего года». (Серьезно.)
Тут я наконец почти взорвался:
– Но я не помню, как я провел пятое апреля! Равно как и шестое, и двадцать девятое! У меня память так устроена, понимаете? Я не помню, не запоминаю даты, понимаете? У меня в школе была по истории тройка, но фактически – двойка, я всего две даты из истории помню: семнадцатый и сорок первый… Да еще 18 февраля 1831 года.
Смотрит удивленно.
– А тогда что было?
– Пушкин венчался с Натальей Гончаровой. – Зачем, зачем я ему это говорю?!
Смотрит удивленно.
– Вон вы что помните… Если захотеть, все можно вспомнить. Главное, чтобы при этом были свидетели.
– Свидетели? А если свидетелей не было?
Улыбается, смеется.
– Так не бывает, чтобы свидетелей не было. Свидетели есть всегда и везде. Это не обязательно люди. И не только стены имеют уши…
Теперь уже я улыбаюсь, хотя мне совершенно не смешно. Просто дуболомство какое-то!
– Вот мы сейчас с вами вдвоем разговариваем, и у нас нет никаких свидетелей.
– Это вам так кажется. – Опять смеется. – Вон муха летает… Не спит, наш разговор слушает…
И дальше все в том же духе, как Алиска говорит: «И тэдэ и тэпэ», и в какой-то момент я не выдержал и напомнил:
– Вас Константин Михайлович ждет.
Невежливо, конечно, было с моей стороны, но он меня достал, он просто меня достал! (Это, кстати, тоже из Алискиного лексикона.) Знаешь, что он ответил?
– Ничего, подождет.
Пришлось дальше объясняться:
– Я живу, как все: в будни работаю, по выходным отдыхаю. Зимой – лыжи, летом – «тихая охота».
Тут он почему-то насторожился.
– Какая охота?
– Тихая. Грибы люблю собирать. Это и называется «тихая охота», разве вы не слышали?
Смотрит так, что непонятно – слышал или нет.
– Так и живу. Пятое апреля, это какой день недели?
Смотрит в настольный календарь, шуршит листочками.
– Это среда.
– Значит, был на работе. А вечером пришел домой…
– Ну вот, уже и начали вспоминать! – обрадовался. Подбадривает. Да не надо меня подбадривать!
И тут я пошел ва-банк. Не сознательно, само так получилось. Я практически взорвался.
– Да ничего я не начал вспоминать! Чтобы что-то вспомнить, даже из ряда вон выходящее, нужен повод, ассоциация. Вы предлагаете мне вспомнить какую-то среду, одну из тысяч прожитых мною сред, а мне даже не за что зацепиться! Вы хоть скажите, в чем меня обвиняете? Может, тогда я что-то и вспомню?
Я фактически припер его к стене, загнал в угол. Но, знаешь, как он из этой практически безвыходной для него ситуации вышел? Очень просто! Просто взял и вышел…
Второй (окончание)
– Здравствуйте, доктор. У меня что-то с памятью…
– Что?
– Провалы. Все помню, помню, а потом ничего не помню.
– Очень интересно. И часто они у вас бывают?
– Что, доктор?
– Эти ваши провалы.
– Какие провалы?
Ха-ха! Значит, так! Встал я наверняка рано. («В шесть часов», – Гера!) Ну, не в шесть, в половине седьмого, я уже много лет так встаю. Люблю рано вставать! (Вообще-то, не очень и даже совсем не люблю, но в совином гнезде кому-то надо быть жаворонком.) Женька – сова, но какая! Если, допустим, ее разбудить в семь… Да не в семь, а в десять, и спросить, как ее зовут, она не ответит – она сама еще этого не знает. Природа есть природа, против нее не попрешь. Делаю зарядку, принимаю душ и даже успеваю немного почитать. Потом бужу Алиску, что тоже, надо сказать, непросто, готовлю завтрак, кормлю ее и отвожу в школу. Так заведено с первого Алискиного класса: я отвожу, Женька приводит. Я понимаю, сейчас она уже большая девочка, ей это не нравится, но что сделаешь, если маньяки на шестисотых «мерседесах» по Москве раскатывают, сволочи, расстреливал бы, душил бы собственными руками. Да, значит, возвращаюсь домой, варю Женьке кофе – большую чашку молотого без сахара, со щепоткой соли. Это, наверное, смешно со стороны выглядит: Женька сидит в постели, глаза закрыты, покачивается – спит еще, а я пою ее с ложечки и одновременно краем уха слушаю «Эхо Москвы». Оно для меня как кофе для Женьки. И даже больше. Если по какой-то причине я не послушаю с утра «Эхо Москвы» (заметил такую закономерность), у меня весь день потом идет наперекосяк. «Эхо Москвы» с утра – это мой ритуал. Хотя почему мой? Наш! «Эхо Москвы» – любимая радиостанция нашей семьи. Мы полюбили ее в дни первого путча, и сейчас все ее ведущие нам как родные. Можно сказать – члены семьи. Женька любит Бутмана, Алиска обожает Матвея Ганапольского, а я Натэллу Болтянскую… (Не то чтобы обожаю, но как она выглядит – хотелось бы увидеть, хотя и немного страшновато: вдруг с Натэллой Болтянской у меня то же произойдет, как произошло с Алексеем Венедиктовым?) Да, Женька, наконец, просыпается и для окончательного просыпания начинает названивать подругам. А я, наконец, еду на работу. Признаться, когда мы собрали на кооператив и стали жить на «Пражской», мне сперва не хватало центра, моего родного Тверского, но потом я не то чтобы привык, но нашел в этом свою положительную сторону. На работу час, и с работы час – целых два часа свободного времени! Два часа, когда никто не может вырвать у тебя книгу, шлепнуть по лысине или куда-нибудь послать. Еду и читаю – хорошо! Эти новые книжки в кричащих глянцевых обложках мы с мамой не признаем, и по-прежнему, как бы это ни было трудно, выписываем толстые журналы. Я получаю «Новый мир», «Знамя», «Иностранку», а мама – «Октябрь» и, по старой привычке, «Наш современник». «Литературку» я покупаю в киоске. Периодически мы с мамой встречаемся, чтобы обменяться журналами и своими мнениями о прочитанном. По-моему, слухи о смерти советской литературы очень сильно преувеличены. Именно – советской! Я ничего не имел и не имею против распада коммунистической империи, я его первым приветствовал, убежден, что советский человек, или так называемый homo soveticus – это ужасно, но советская литература – извините! Хорошо помню чувство охватившего меня негодования, когда прочитал в «Литературе» статью Венички Малофеева о смерти советской литературы. (Он говорил о советской, но подразумевал, без сомнения, русскую. Как-то она называлась? Не помню, не хочу вспоминать!)[20] Я прочел ее в обеденный перерыв на работе и сразу подумал: «Мама!» Набрал номер – не отвечает. У меня упало сердце. Отпросился у Марика, поймал машину, рванул на «Рижскую». «Мама!» Тишина. «Мама!» Опять тишина. Я чуть с ума не сошел. Она сидела за столом, обхватив голову руками, а перед ней лежала та самая злосчастная статья.
– Мама!
Она медленно повернулась и проговорила сквозь зубы:
– Он похоронил советскую литературу…
Я хотел сказать: «И не только советскую…» – но предусмотрительно промолчал.
Защемило сердце, я пошел на кухню, накапал валокордина. Мама вошла следом и вылила капли в раковину. (За всю свою жизнь она не выпила ни одной таблетки, а валокордин держит для подруг.)
– Ты помнишь свои слезы, когда прочитал у Константина Федина про собачку?
– Помню, мама.
«Женские слезы – это слабость, а мужские – позор». Мама. И еще: «Слезы – это духовная нищета». Мама. Помнил ли я? Я и сейчас помню, и еще как помню! В «Городах и годах», на второй странице, я был тогда мальчишкой, мне было лет двенадцать-тринадцать, и мама дала мне том Константина Федина – я прочитал про собачку, которую хозяин не пускает в дом, и она скребется своими лапками, скребется; зима, вьюга, мороз, снег, и на снегу – кровавые отпечатки ее лапок. Константин Федин употребил там редкое и точное слово, которое я впервые тогда прочитал, и оно меня потрясло, да и сейчас потрясает: РАСКРОВЯНИЛА! Я прочитал и зарыдал, и проплакал до самого вечера, пока мама не пришла домой. Собачка скребется и скулит, у нее уже все лапки в крови, а хозяин – не пускает…
– Почему ты плакал? – спросила мама и нахмурилась.
Я взял «Города и годы» в руки, хотел объяснить, и снова заплакал.
Мама положила мне руки на плечи и, заглядывая в глаза, спросила:
– Вспомни, плакал ли когда Павка Корчагин?
– Нет.
– А Алексей Мересьев?
– Нет.
– Вот и твой отец тоже никогда не плакал! Запомни это. Запомни на всю жизнь!
И я запомнил.
…Мама рвала малофеевскую статью на мелкие клочки и приговаривала: «Русская литература научила людей плакать, советская научила не плакать. А чему может научить это литературное ничтожество?»
Даже не помню, когда последний раз я плакал… Тогда, в детстве я поклялся, что никогда больше не заплачу, но, возможно, нарушал клятву, возможно плакал утайкой – не только ото всех, но даже и от себя, настолько утайкой, что сам точно не знаю – плакал или нет. Но что точно – несколько раз в детстве я просыпался оттого, что лицо было мокрое и подушка, и в груди тяжесть – неизбежные мальчишеские слезы находили свой выход во сне. (Что интересно, эти слезы вызывал всегда один и тот же сон, СТРАШНЫЙ СОН, страшнее для меня не было и нет: я проспал Новый год! Как будто мы с мамой собираемся его встречать, нарядили елку, накрыли стол, и, устав, я прилег отдохнуть, буквально на пять минут, но заснул, просыпаюсь, а Новый год уже пришел, его уже без меня встретили – очень страшный сон.)
Потом придумал (точнее – само как-то придумалось, само стало получаться), – смеяться! «Когда хочется плакать – не плачу», ну а я, когда хочется плакать – смеюсь. Оказывается, смех прекрасно замещает слезы! Это объяснил мне наш факультетский врач, после того как я засмеялся на похоронах декана… Во время гражданской панихиды, когда «от комсомола» выступал Дерновой, а декан, бедняга, лежал в гробу со своей злосчастной волосяной нашлепкой на голове… Меня чуть не отчислили вслед за Герой, хорошо, что вмешался наш факультетский доктор и все объяснил им, а заодно и мне… Вспомнил! Последний раз я плакал, то есть, конечно же, смеялся в Московском доме книги на Калининском, в прошлом году, под самый, как раз, Новый год. По заведенному в нашей семье обычаю все дарят друг другу подарки, а мне Женька просто выдает энную сумму, чтобы я потратил ее «по своему усмотрению». Она-то знает, что «усмотрение» у меня одно – книги! Поход в книжный всегда для меня был праздником, а сейчас, когда книг выпускается так много – это праздник вдвойне, праздник втройне, это праздник с большой буквы: Праздник! И вот стою я среди всего этого книжного изобилия, и меня вдруг посещает одна мысль (даже странно, что раньше она меня не посетила) – НЕ ПРО-ЧИ-ТА-Ю! Не смогу, не осилю, просто не успею… Читаю я быстро, это правда, но все равно, если сесть и сосчитать оставшиеся годы, с запасом, с нахальным, я бы сказал, запасом до ста, например, лет – все равно не успею. Действительно, странно, что эта мысль не пришла мне в голову раньше, хотя, наверное, это хорошо, ведь, чтобы ее пережить, требуется возрастная, если можно так выразиться, крепость, жизненная закалка, которая теперь, на пятом десятке, у меня, несомненно, появилась, да и то – после того случая недели две я не брал в руки книги, даже Женька удивилась и спросила: «Золоторотов, ты что, заболел?» И вот, значит, стою я среди всего этого книжного изобилия и смеюсь, смеюсь, да так, что на меня внимание уже обращают, а какая-то проницательная, несомненно, начитанная женщина подошла и спросила: «Вам плохо, молодой человек?» От «молодого человека» я пуще засмеялся и, извинившись, ушел из магазина, так ничего и не купив… Но я отвлекся, я, как всегда, отвлекся, что за дурацкая привычка отвлекаться! Работа. Работа как работа…. Хотя кому-то она кажется даже экзотической. «Профессор Плейшнер работает доктором Айболитом» – Алиска. Считается почему-то, что ветврачи хорошо живут. Я на это сразу отвечаю: далеко не все, а только те, у кого есть соответствующая клиентура. Тут не надо знать или уметь что-то, чего другие не знают или не умеют, просто надо себя поставить. С этой целью Гера мне «Rollex» и подарил, он сам потом мне это сказал. Не помогло. А вот у Марика нашего обычные, по-моему, часы, а клиентура – сплошь новые русские. Сумел себя поставить. Но я ему не завидую, а иногда даже жалею. Один его новый русский укусил своего бультерьера, и довольно сильно укусил. Марик разозлился и спрашивает: «Так кого я здесь должен лечить?» А тот пистолет достает…Что было дальше, Марик не рассказывает. Он славный – наш Марик. Он пришел в ветеринарию из человеческой медицины – работал много лет на «скорой». «Если бы вы знали, сколько я отправил на тот свет жидов и коммунистов!» – любил повторять он в наших коллективных застольях, каковые раньше случались частенько, а сейчас почему-то не очень. Изображал из себя циника. Однажды он вот так же сказал про жидов и коммунистов, а я – возьми и спроси: «А сколько спас?» Он смутился и больше уже свою коронную фразу не повторял. Я же говорю – он славный, наш Марик… Но, между прочим, я тоже пришел в ветеринарию из человеческой медицины (правда, так до нее и не дойдя). Твердо решив стать врачом, я собрал после окончания школы документы и поехал сдавать их в Первый мед, посмотрел на тех, кто туда поступает, и направился во Второй, оттуда в Третий и уже вечером оказался в ветеринарном, – называя вещи своими именами, испугался ответственности, решил, что со зверюшками проще, чем с людьми. Нет, старик, не проще, не проще, а в чем-то даже и посложнее! Да и ответственность практически та же, ведь за каждой кошкой, за каждой мышкой, за несчастной морской свинкой стоит человек… А как больно кусаются хомячки! Мама мой выбор одобрила, хотя она практически не ограничивала меня в плане выбора профессии: «Тебе открыты все дороги, кроме одной». По правде сказать, именно о той дороге я мечтал, с шестого класса средней школы – быть учителем русского языка и литературы. Как мама, конечно как мама. «Ты пишешь с ошибками», – у мамы врожденная стопроцентная грамотность, как зрение – она и сейчас не знает, что такое очки. «Но я научусь писать без ошибок!» (Мама была права – так и не научился, особенно – он, – ен в прилагательных.) Нет, в устах моей мамы слово «нет» означает только нет. Да, у меня нет богатых клиентов, но у меня есть Даша, и если бы не моя профессия, в которой, как Женька говорит, я звезд с неба не хватаю, у меня сейчас не было бы Даши… Да и зачем, почему, по какому такому праву я должен хватать с неба звезды? Я понимаю, про звезды говорится в переносном смысле, но слово ХВАТАТЬ, извините, не переносное, а буквальное и недвусмысленное. Так вот, Женечка, я никогда ничего не хватал и хватать не собираюсь! Извини, я, кажется, погорячился… И что есть в моей профессии успех? Вчера – это вылечить собаку какого-нибудь члена политбюро, какого-нибудь Кириленко, а сегодня – собаку Брынцалова? Что есть успех в профессии ветеринара? Я давно ответил для себя на этот вопрос: успех в профессии ветеринара есть любовь. Вот, например, ко мне на прием как-то пришли мама, бабушка и внучка. Все рыдают, слезы в три ручья, горе безутешное: «Кошечка выпала из окна, а мы живем на шестом этаже…» Я говорю: «Что же вы плачете? Радуйтесь, что живете на шестом, а не на третьем. Четный этаж для кошки спасение. Будет жить ваша Муська». Как же они радовались! Как они на меня смотрели! Любовь – вот что было в их глазах – ЛЮБОВЬ!
И все же главный мой успех, самое большая моя победа и, если угодно, награда – это Даша, моя Даша. Теоретически я мог бы встретиться с ней где угодно: на улице, в метро, в библиотеке, но, во-первых, я бы ни за что не решился подойти и познакомиться, а во-вторых, я полюбил Дашу в тот самый момент, когда она сказала: «Тотошка умирает». А он действительно умирал. После удаления грыжи у него развился чудовищный пародонтоз, из-за чего пришлось удалить сразу восемнадцать зубов, но и это не помогло. Впрочем, это все было еще до меня. А потом… Вызов! На Бабушкинскую. Заплутал. Долго искал дом, потом подъезд, потом квартиру. Нажимаю на кнопку звонка. Дверь стремительно открывается. Ты! Я помню тот день в мельчайших подробностях. (Но не помню опять же число и день недели, месяц даже не помню. Такой день – и не помню!) Ты стояла босиком на холодном полу в легком ситцевом платьице – белое с синим, тонкая талия, длинная шея и – глаза! Как все было – помню, а когда – нет… Раньше я считал дни, любил их считать, но это было давно, в детстве – считал, сколько дней остается до двухтысячного года… Сначала было десять тысяч, потом девять, и каждую относительно круглую цифру я отмечал каким-нибудь положительным поступком. Ну, не только там старушка, переведенная через улицу, или рекордное количество сданного металлолома, но и что-то более важное, значительное… (Во всяком случае, так мне тогда казалось.) Потом я перестал считать дни, но помнил про двухтысячный год всегда. Всегда. И, между прочим, хорошо помню, как все это началось… Мне было лет девять, и я сидел и мечтал. Делал вид, что делаю уроки, а сам мечтал. Напротив сидела мама и проверяла тетради, мечтать было трудно и опасно, но я все равно мечтал. О чем? О чем мечтают все дети: о будущем и о себе в нем. И мне вдруг открылось, что когда-нибудь наступит двухтысячный год. Да не просто когда-нибудь, а определенно наступит, в определенный день и час! И я буду его встречать. Я буду взрослым. Я часто представлял себя взрослым: высоким, как наш сосед по лестничной площадке – морской офицер, капитан какого-то ранга (надо честно признать – мой рост все же ниже среднего), с зычным командирским голосом (и голос довольно жалкий. А эта привычка запинаться, как бы задумываться не только перед каждым произнесенным предложением, но и посреди него… – Вот именно – как бы!). Я также представлял себя с пышной шевелюрой, с бородой и усами. Причем видел себя в будущем жгучим брюнетом, не имея на то ни малейшего основания, в детстве волосы у меня были, как говорила моя няня Варвара Васильевна, «льняныя», но капитан какого-то ранга был жгучим брюнетом, носил бороду и усы… Я списывал, «сдирал» с него свой взрослый образ – бессовестно и подобострастно, оставив лишь свои имя и фамилию. (А вот как звали его – не помню, нашими соседями они были совсем недолго.) Он казался мне идеалом мужчины и на какое-то время даже затмил образ моего отца. Причем его морская форма меня совершенно не прельщала, даже кортик в черных с золотом ножнах не так волновал. (Никогда не хотел быть военным!) Я видел себя взрослым, одетым в строгий темно-синий костюм (как мамина юбка, в которой она всегда ходила на работу), с золотыми часами «Полет» на руке (у мамы тоже был «Полет», но простые, а мне хотелось почему-то золотые.) А еще, это я тоже отчетливо помню, я свято верил в то, что в будущем во всем мире прекратятся войны, что Африка станет свободной, а у нас в Советском Союзе наступит коммунизм. Уже мало кто верил, Хрущева, который эту веру подкосил, уже, кажется, сняли, никто не верил, а я – верил. В то, что коммунизм все-таки наступит и будет много котлет. Любил котлеты. Наверное, потому, что мама никогда их не жарила? Я вообще не помню ее стоящей у плиты. Мы питались из кулинарии: манные биточки – не любил, а творожная запеканка – любил. А также жареная гидрокурица, она же камбала – не любил, и хек в маринаде – ненавидел. Мяса мама не ела – не из принципиального вегетарианства, а просто не ела, и всё. Не помню ее стоящей у плиты, но отчетливо вижу стоящей у окна с книгой. Она всегда читала, стоя у окна, долго-долго, до глубоких сумерек, не включая света.
– Ты живешь, чтобы читать, и читаешь, чтобы жить, – сыронизировал как-то Гера, застав меня с книгой.
– Боюсь, что ко мне это не относится, – проговорил я, усмехнувшись, и с гордостью подумал о маме.
«Если я перестану читать, я умру», – сказала она однажды.
А я про себя так до сих пор точно не знаю…
Книги – вся учительская зарплата уходила на книги, – в кулинарию я бегал с зажатой в кулаке мелочью… Котлеты продавались в нашем школьном буфете: отдельно – по десять копеек, на кусочке черного хлеба – по двенадцать, и – верх кулинарного мастерства и гурманства – котлета в тесте за пятнадцать копеек! Котлеты… Они были совсем небольшие, с концов такие остренькие, холодные и твердые, как камушки. Да, я их очень любил, но, признаться, представлял двухтысячный год с другими котлетами, и я знал, с какими… Однажды тот сосед – капитан какого-то ранга и его красавица-жена ими меня угостили. Почему-то я не мог попасть домой: то ли ключ потерял, то ли еще что, – сидел под дверью, пригорюнившись, а тут они – «Ну-ка, заходи!» – приказал он громко и дружелюбно. Во всей их квартире пахло чем-то одуряюще вкусным, а на столе в кухне стояла большая тарелка, в которой высокой горкой лежали котлеты – они-то так и пахли!
– Садись и ешь!
Я съел две или три штуки, больше не успел, потому что пришла мама и забрала меня, почему-то очень сердито забрала… Но я потом долго не мог есть школьные котлеты, и даже не называл их котлетами. Настоящие котлеты – это такие довольно большие, в пол-ладони круглые лепешечки с твердой поджаристой корочкой, при этом они очень легко разламываются пополам, и тогда густой теплый запах лука и чеснока, а также горячего сочного смешанного с мясом хлеба ударяет в нос так, что слюнки текут. И вот такая же точно тарелка с котлетами, как у соседа – капитана какого-то ранга, представилась мне стоящей на нашем праздничном столе во время встречи двухтысячного года, – я мечтал, а мама в это время проверяла тетради, уверенная в том, что я честно делаю уроки. Смешно? Конечно же смешно! Вместо котлетного коммунизма – бигмаковский капитализм. А Даша хорошо готовит… – Ты что, уже проголодался? Ты же сегодня два биг-мака слопал! – Сам ты слопал! Да я и не о еде вовсе, я – о Даше… Вареники, которые она приготовила в мой день рождения, были просто превосходны! Никогда в жизни не ел более вкусных вареников! (Правда, Даша сказала, что они из пачки, но я уверен, что это от скромности.) Но я все-таки хотел бы, чтобы, когда мы будем встречать двухтысячный год, на нашем праздничном столе были жареные котлеты. Я понимаю, что это блажь, блажь и нахальство, но мне все же кажется, что мечты должны иногда сбываться. – Значит, ты хотел бы встретить двухтысячный год с Дашей? – Да, хотел бы… А что, нельзя? – Ну почему, можно… Как Женька говорит: «Хотеть не вредно». – Вот именно. – А как же Алиска? – Алиска? А она прошлый Новый год дома встречала? Ей с ровесниками интересней. – И ты оставишь Женьку одну? – Почему одну? Мы никогда не встречали Новый год только вдвоем, всегда с соседями по подъезду: с Ивановыми или Глоцерами, у себя или у них поочередно. Я посчитал – двухтысячный год мы должны будем встречать у Глоцеров. Не хочу. И вообще! Я не собираюсь оставлять Женьку… И не собираюсь бросать Алиску! Просто… Я люблю Дашу, я просто люблю Дашу!
«– Это любовь с первого взгляда?
– А разве бывает другая любовь?»
Ну и что, что из «Человека-амфибии», зато какие прекрасные слова!
Даша вернула мне не только мою детскую мечту, Даша вернула мне веру. Да, да, – Даша вернула мне веру! В детстве я верил, что с приходом двухтысячного года наступит та самая «эра светлых годов», про которую пелось в пионерском гимне, и потом, когда вырос из пионерского галстука, – верил, иначе, конечно, но все равно верил – во что-то уже не пионерское, но все равно светлое! А потом, как-то незаметно, моя вера исчезла. Не могу сказать, что без этого моя жизнь потеряла смысл: семья, работа, мама, друг – это ли не смысл? Так что – и смысл был, и все было, не было лишь веры, моей личной веры. Я перестал ждать Нового года, и, когда вечером тридцать первого декабря ложусь вздремнуть полчасика, уже не боюсь проспать его встречу. Кто в этом виноват? Ивановы и Глоцеры? Нет, конечно, Ивановы не виноваты, а тем более не виноваты Глоцеры, просто, как мне кажется, нам не следует больше вместе встречать Новый год, но я не представляю, как об этом сказать Женьке, больше всего на свете Женька любит традицию, то есть «чтобы было, как было». Я тоже люблю традицию, но, понимаешь, Женечка, бывают традиции хорошие, а бывают традиции плохие, и вот от них надо решительно отказываться!
– А почему эта традиция плохая?
– Потому что мне от нее плохо.
– А мне хорошо!
Я знал, что именно так ты скажешь, наверное, ты права, да нет, ты, конечно, права, а я не прав, потому что, если одному члену семьи хорошо, другому не может быть плохо, ведь семья – это одно целое, так что мне не плохо, совсем не плохо, а очень даже хорошо, но только не с Ивановами и Глоцерами, когда мы встречаем с ними Новый год. – Так значит, ты хочешь встретить двухтысячный год с женой и любовницей одновременно? Интересно… – При чем тут жена? И никакая Даша мне не любовница! Я хочу встретить двухтысячный год так, как хочу его встретить – с котлетами, с настоящими котлетами, какие ел однажды в детстве, и с самыми дорогими и близкими мне людьми! Разве это много? – Мало. – Ну вот… А что касается Даши, то с ней мне хорошо всегда, в любую минуту, в любую секунду нашего общения. Снова и снова я вспоминаю тот момент, когда я позвонил, ты открыла дверь, и я увидел твои глаза, огромные, бездонные. Глаза – зеркало души. Кто сказал? Не знаю, и знать не хочу! Я знаю лишь одно – душа у тебя такая же огромная и такая же бездонная! И еще, конечно, голос… У Даши – голос. Который год она поступает в Гнесинку по классу вокала и, я верю, обязательно поступит. Правда, я не слышал, как она поет, – голосу нужна сцена, а о какой сцене может идти речь в маленькой однокомнатной квартирке? Не слышал, но знаю – голос у нее удивительный, голос уникальный, достаточно слышать, как она говорит. Это голос ребенка, одинокой маленькой девочки, у которой нет в огромном городе никого, кроме маленького Тотошки… Никогда не забуду, как ты тогда сказала: «Тотошка умирает…» Он держится на Дашиной любви и, отчасти, на моих визитах. По средам. «Дашины среды»… Мне хорошо во все дни недели, а по средам я просто счастлив! Так что успех в профессии ветеринара – понятие относительное. Я, например, знаю кое-что, чего не знают многие, например, про собак. Когда говорят, что собаки – те же люди, только лучше, они, конечно, преувеличивают. Собаки есть собаки. Но есть в них кое-что, что, несомненно, сближает их с людьми, и не просто сближает, а ставит в один ряд. ОНИ ВЗДЫХАЮТ! Они вздыхают, как люди, а это значит много больше, чем если бы они, как люди, пили, курили и сквернословили. Или разгадывали кроссворды… Нет, нет, что бы мне ни говорили, собаки сегодня ближе к людям, чем даже сами люди… Но как же я тебя ненавижу, как же я тебя ненавижу, Золоторотов! Нет, права, тысячу раз права Женька, когда говорит: «Запомни, Золоторотов: любовь – не слова, а поступки». Твоя любовь всегда абстрактна: любовь к семье, любовь к матери, любовь к Даше… Да и дружба твоя не выдерживает испытаний! И сам ты, Золоторотов, не выдерживаешь испытаний! Ведь ты уже несколько раз порывался сказать, что ты не Гера, и таким образом мог предать друга. Три дня и три ночи, как же… А сам уже сейчас готов спрятаться в кусты! «Дашенька, я люблю тебя!» Сволочь и гад, свинья и скотина!
– Алло, Даша!
– Угу.
Нет, это точно не Даша, это мужик какой-то, голосище, бас, и жует что-то…
– Извините, это 372-…-…?
– Угу.
– Простите, а можно Дашу?
– А Машу не хочешь?
Ошибся номером? Но он же сказал «угу».
– Нет, мне именно Дашу.
– Зачем она тебе?
А-а, я понял, это Дашин папа! Приехал из Сибири погостить, она говорила сегодня, а ты уже забыл. Дашин папа. Играл в хоккей за «Сибирь», теперь в профсоюзах работает. Проснулся. Голосище – сибиряк!
– Простите, вы Дашин папа?
– Папа, угу.
Обедает, наверное.
Смех, звонкий детский смех! Даша! Я узнаю ее голос среди миллиона других голосов.
– Это Женя Золоторотов, Дашин… близкий друг, дело в том, что она мне сюда звонила, а я…
– Слушай, ты, близкий друг, шел бы ты знаешь куда?
И снова смех, детский, заливистый. Дашин?
Гудки… Я не понял, я ничего не понял… Одно из двух: или Дашин папа – грубиян, этакий сибирский Собакевич, или… – А почему, кстати, сразу – грубиян, ты сначала думай, а потом говори! – Что? – То! «Близкий друг». Думаешь, приятно родному отцу такое про свою дочь слышать? Это же намек на интимную близость! – Какая интимная близость? Ни на что я не намекал! И что я мог сказать? Жених? Любовник? Ведь это все не так! И вообще, откуда ты взял, что это был ее отец? – А кто? – А никто, я вообще не туда попал! Ошибся номером, понимаешь? – Но он же сказал «угу»? – Сказал. Чтобы покуражиться. Хам! Пьяный хам! Сидит пьяный за грязным столом в майке и трусах, на столе водка и пиво, кильки в томате, окурки, грязь, вонища, скукотища, и вдруг – звонок… Как тут не покуражиться? Бесплатное развлечение… – А голос? – Что – голос? – Дашин… – Не трогай Дашу! Даша здесь ни при чем! Голос – детский, у всех детей детские голоса. Ребенок этого хама, несчастное дитя пьяного разврата, а мать, она же сожительница, пьяная тоже, лежит на железной кровати, вырубилась, спит. Так и вижу эту картину, так и вижу! Может, еще раз Дашин номер набрать… Чтобы снова не туда попасть? Нет уж, не надо! И вообще, в какой стране мы живем, что происходит со связью? Каменный век, Абсурдистан! Так можно человеку всю его личную жизнь переломать! Не мне, конечно, ее мне никакая связь не переломает, я не мальчик какой-нибудь, а взрослый мужчина, я сам вам могу такое выдать и завернуть, что у вас уши завянут! В письменном виде причем!
Докладная записка
Докладываю: я не помню, как я провел пятое (5) апреля СЕГО года. (Потому что у меня память так устроена. [А еще потому, что я не мальчик и не собираюсь ни перед кем оправдываться.] {И вообще, я не тот, за кого вы меня принимаете. })
Вот так! Чтобы материал лучше усвоили! Скобки круглые, скобки квадратные, скобки фигурные. Мысль, а в ней еще мысль, а в ней еще! В море – ларец, в ларце – утка, в утке – яйцо… («А на яйце написано: “Смерть Кащею Бессмертному!”» – Алиска придумала, очень остроумно, молодец!) А число, а подпись? Значит, вчера у нас был День милиции, десятое ноября, сегодня, значит, одиннадцатое, одиннадцатого, значит, одиннадцатого девяносто седьмого года: 11.XI.97 г. А теперь подпись! Подпись свою я сочинил в детстве, когда мечтал иметь строгий темно-синий костюм и золотые часы на руке, и она получилась очень необычная… Гера увидел и прокомментировал: «Так расписывается директор лесопилки, выписывая погорельцам кубометр теса». Да я и сам знаю: чем меньше, мельче человек, тем претенциознее у него подпись. Уже в зрелом возрасте я пытался ее переделать, упростить, но без малейшего успеха. Видимо, вошла в привычку, а, как говорят, привычка – вторая натура. – Ладно, расписывайся. – Ладно, расписываюсь… Расписываюсь и не вижу, точнее, вижу его, когда он уже сюда вошел, – стоит и смотрит на меня, а я все веду себя так, как будто он только сюда входит и не видит, чем я тут занимаюсь, и я торопливо сминаю лист в кулаке и незаметно бросаю его в урну, – я думаю, что незаметно, хотя уже и не думаю, это невозможно уже думать, потому что он стоит и смотрит, а я сминаю лист и бросаю его в урну… Я его ненавижу, этого Неписигина, и нисколько не скрываю своих чувств! Я смотрю на него, и он смотрит на меня. Он смотрит на меня укоризненно и насмешливо, вот точно с таким же взглядом он сказал про курьера Ваню: «Стучит», а сам-то… Но сейчас он ничего не говорит. Нечего сказать? Нечего сказать…
– Вы бы лучше съели, – говорит он мне и прибавляет: – Это было бы надежнее…
Это шутка, понимаю, и я, понимаю, должен улыбаться? Не буду я улыбаться!
Он подходит к урне, наклоняется, извлекает из нее мой несчастный листок, разворачивает и читает. Долго читает, внимательно читает, сосредоточенно читает. Да улыбнись же, это же шутка, понимаешь, шутка!
– А это мы подошьем к вашему «Делу», – говорит он, а сам складывает мой несчастный листок и прячет его в карман.
Ну подшивайте, что же вы? Подшивайте! А-а… Да знаю я, нет у вас никакого моего «Дела»! А когда спрашиваю, в чем меня обвиняют, уходите от ответа. Не знаете? Не хотите сказать? Боитесь? Вы боитесь! Сокрушилина боитесь! Потому что у него и «Hummer», и мобильник, и пистолет под мышкой! Потому что он без пяти минут Генпрокурор, а может, уже и сейчас Генпрокурор, а вы вообще неизвестно кто! «Пятое апреля сего года»! Оно вам нужно, это пятое апреля сего года? Сокрушилин сказал: «Пятое апреля сего года», и вы повторяете: «Пятое апреля сего года». А если бы он сказал не пятое, а двадцать пятое? Ноября! И вы бы повторяли: «Двадцать пятое ноября». Как попка! Повторяете, как попка! В то время, когда в стране – разгул преступности, когда на улицах гремят выстрелы и взрывы, вы повторяете, как попка!
– К сожалению, мы вынуждены вас задержать на срок до трех суток, – говорит он, как-то криво улыбнувшись, и уходит. И всё…
Но ты слышишь, старик, – до трех суток! А что это значит? Это значит то, что я решил для себя сразу, как только все это началось, точнее, не сразу, а когда проснулся среди ночи в КПЗ, это значит – три дня и три ночи! За други своя. Но откуда же это? Не помню. Ну вот и всё… Нет, не всё, далеко не всё, совершенно не всё! Как-то жалко улыбнувшись, он подошел ко мне и вдруг протянул узкую ладонь. И, ничтоже сумняшеся, мгновенно забыв о твердом решении никогда и ни при каких обстоятельствах не подавать ему руки, я подал и пожал! Но почему, почему, Золоторотов, всю свою жизнь ты делаешь то, что не хочешь, и не делаешь того, что хочешь? Говоришь, когда надо молчать, и молчишь, когда надо говорить? И всем, абсолютно всем пожимаешь руку – почему?!
Вторая
А в положении арестованного, милостивые государи, есть и свои положительные стороны. Тебя – охраняют! Ты – в безопасности! Ты идешь по длинному коридору, как по подземному переходу, – очень похоже, очень похоже… Так вот! Там, в подземном переходе на вас запросто могут напасть: панки какие-нибудь, скинхеды бритоголовые (а если просто шпана, банальная шпана, хулиганье – разве от этого легче?), вас там (в подземном переходе) могут ограбить, избить и даже убить… Здесь же (где здесь?) подобное безобразие абсолютно исключено! Во-первых, ты здесь (где здесь?) совершенно один (если не считать охранника), а не бояться одиночества еще в детстве меня научили мама и мужественный Бен из фильма «Последний дюйм»: «Никогда ничего не бойся, когда ты один». А я как раз один! (Не считая охранника.) Это – во-первых. А во-вторых – почему же его не считать? Ведь он меня охраняет! Он фактически тот же телохранитель. Бесплатный, замечу. Гера рассказывал, что, когда на него рэкет наезжал, он нанял телохранителей из частного агентства и платил им – а это когда еще было! – по сто долларов в час! Они его чуть не разорили. Гера потом рассказывал, что они натренированы только на то, чтобы успеть спрятаться самому, когда в тебя стрелять станут. (В конце концов Гера рванул в Харьков к тетушке и там благополучно отсиделся.) А вот у меня – телохранитель бесплатный. Он бережно хранит мое тело и, если я сейчас споткнусь, он не даст мне упасть, подхватит, поставит на ноги… А ты помнишь, как мы ехали, как застряли в пробке на Брестской улице, и на тротуаре (а было холодно, промозгло, сыро), на тротуаре лежал старик, и все его обходили, испуганно и брезгливо – стороной. А мы сидели в твоем красном «Ягуаре», в двух метрах от него, и я решил выйти посмотреть, мы ведь все равно стояли, а ты пошутил, очень остроумно пошутил: «Думаешь, у него чумка?» Оказался просто пьяный… О чем это я?.. Так вот! Если ВЫ упадете вдруг на улице, как тот бомж, к вам никто не подойдет, а мне здесь и споткнуться не дадут! Вон он какой у меня симпатяга – спиной чувствую… Только неправильно поет… Надо: «Зайка моя, я твой зайчик!..» «Алла родила от Филиппа пятерых». Армянское радио спрашивают: «Кто такой Леонид Ильич Брежнев?» Армянское радио отвечает: «Мелкий тиран эпохи Аллы Пугачевой». Ха-ха! А что, сбылось пророчество! Как там дальше-то? «Зайка моя, я твой пальчик!» Дурацкая песенка… Но забавная, между прочим, мысль просматривается: чтобы твое тело (то бишь ты сам) стало (стал) настолько ценным, чтобы к нему (к тебе!) приставили телохранителя, для этого надо! совершить! преступление! (А лучше, как я, не совершить.) И будет тогда у вас свой собственный телохранитель! За государственный, замечу, счет. Оплаченный налогоплательщиками. Да меня сейчас фактически (и юридически!) вся Россия охраняет! Вся Россия!
Я люблю, тебя жизнь, Что само по себе и не ново! А ты говоришь – не везет. Я люблю тебя жизнь, Я люблю тебя снова и снова! Еще как везет… Вот уж окна зажглись…№ 4? Ну и что?!
Раз…
Я шагаю с работы устало…Два…
Я люблю тебя, жизнь…Три.
И хочу, чтобы лучше ты стала…Четыре!
Я вхожу, а он сидит.
(Один!)
За мною дверь уже прогремела и затихла, и шаги, а он – сидит.
(Один.)
Я стою, а он сидит.
(Один, один, один… Один, был такой бог, кажется, у викингов.)
Сидит и пишет…
«Мы писали, мы писали, наши пальчики устали». (Алиска – когда была маленькая.)
Да что он там пишет-то? Оперу? Так опер, ха-ха, столько не прочитает.
– Здравствуйте, – я.
Не отвечает… Глухонемой? Не похож на глухонемого. Глухонемые, они и выглядят, как глухонемые. (Герасим, например.)
– Здравствуйте! – это опять я.
Ну прямо Пушкин в Михайловском! Или Ленин в Разливе.
– Здравствуйте, Владимир Ильич!
– Здравствуйте, Феликс Эдмундович!
Ленин в тапочках. В тапочках… В ТАПОЧКАХ? В ТАПОЧКАХ!
Он: Извините, я заканчивал фразу. Когда я пишу, не вижу ничего и не слышу. – Улыбается. – Как глухарь.
Ну почему же как глухарь? Глухарь все видит. Не слышит, это правда. Да и не пишет он в это время, а поет. Токует. Он или не он? Он или не он? Он или не он? Улыбается. Он, он, конечно, кто же еще!
– Дмитрий.
– Герман. – Что ты сказал? – Что слышал! Герман! – Но мы же не на допросе? – Не твое дело! И молчи! – Молчу.
А у тебя тут не номер, то есть не камера, а номер, прямо номер гостиничный… А точнее – вагонное купе, только стены каменные и окно маленькое, и высоко. «Небо в крупную клеточку»? Кто сказал? Может быть, тоже Юз Алешковский? Это ведь он, оказывается, написал «Товарищ Сталин, вы большой ученый». (А я думал – народная.) А вот и удобства… Ну тогда лучше, чем в купе, в коридор, ха-ха, не надо выходить и в очереди стоять не надо… И – не качает! Все правильно, такие в таких номерах и прохлаждаются… «Срок мотают»! Что ж, так «мотать» можно. В тапочках. – Ну, этот, понятно, а тебе-то за что такая честь? – Мне?! – Ну, не тебе – Гере… – А это ты у Геры спроси… Ну что, будем в молчанку играть? Пожалуйста, я могу и в молчанку…
– Горло болит.
– Это я сказал?
– Ты, кто же еще…
Он: Что? Извините, я не расслышал.
Я: Да нет, ничего, просто… горло болит.
Он: Ангина.
Я: Фарингит, знаете?
Он: Знаю, конечно. Моя жена им часто болела. Ей «Halls» в последнее время помогал, импортное средство, его Виктор Тихонов рекламирует по телевизору, знаете?
Я: Знаю, конечно. Но мне только фарингосепт помогает. Старый добрый фарингосепт. Болгарский. Знаете?
Он: Знаю, конечно. Жена его раньше употребляла, а потом перешла на «Halls».
Я: А потом – что?
Почему-то так бывает, что, когда что-нибудь у тебя болит, чтобы поскорей болеть перестало, надо обязательно об этом кому-нибудь сказать. Не серьезное, конечно, серьезное – разговор особый, там говори не говори, а если просто: горло, голова, нога… Скажешь, и все проходит, причем быстро и как-то совершенно незаметно. Мама в детстве подобные мои жалобы не приветствовала, и это мягко сказано – не приветствовала. Во-первых, мама считала, что жаловаться – это не по-мужски, а во-вторых, она всегда подозревала меня в симуляции болезни (и, надо признать, справедливо подозревала), поэтому этот номер у меня не проходил. Так что в детстве я не жаловался, а вот повзрослев, сделавшись семейным человеком, подобное стал частенько практиковать. Горло заболело, и я сразу Женьке: «Горло болит». Нет, не специально, это само собой вылетает, я сперва даже не замечал, а потом как-то заметил и жаловаться перестал. Мама права: есть в этом что-то не мужественное – жаловаться по всякой пустяковой болячке близкому человеку, отвлекать его, обременять по мелочам, но, когда я не жаловался, то и болеть не переставало. То есть переставало в конце концов, но очень нескоро, да и то после того лишь, как опять, незаметно для себя, пожалуешься… «Горло болит», и – будь уверен, на следующий день пройдет. У меня горло, у Женьки голова, у Алиски ухо. Так и живем. Но это не потому, что мы ближайшие родственники. Дашу тошнило, а сказала мне, и перестало тошнить. Правда, Даша тоже родной человек, но это совсем не обязательно, чтобы был родной, и это я тоже на себе проверял, когда не было дома Женьки с Алиской (в Анталии отдыхали), Гера в Америке, у Даши занято, а маме жаловаться бессмысленно, и тут вдруг сантехник пришел – унитаз лил без остановки, шумел, как Ниагара, и я ему, сантехнику, не специально опять же – вырвалось: «Горло болит» (он на меня посмотрел, как на идиота), а на следующий день про свое горло я и не вспомнил. Загадка, конечно. Человек – одна большая загадка. Кто сказал? Я. (И еще, кажется, Достоевский[21].) Когда я впервые в разговоре с Женькой эту мысль сформулировал, она сразу со мной согласилась, что, надо сказать, бывает крайне редко, – кивнула, усмехнулась и прибавила: «Особенно ты, Золоторотов». А вот этого я уже не понял и спросил:
– Что ты имеешь в виду?
– Булки с изюмом, – сказала Женька и пошла в ванную.
Правильно! Булки с изюмом! Мое отношение к булкам с изюмом Женька называет бзиком, однако никакой это не бзик! Это, если угодно, – позиция, как с теми же шампиньонами. Никто и никогда не заставит меня считать шампиньоны грибами! Так же и тут… Изюм, да – люблю, и против булок ничего не имею, но – по отдельности! Потому что изюм в булке – это уже не изюм, а что-то склизкое и совершенно не сладкое, и соответственно булка, в которой внутри изюм, это не булка, а вообще чёрт знает что! И чтобы я это ел? Один раз в детстве попробовал, и мне хватило на всю жизнь. Нельзя соединять несоединимое, вот что я хочу сказать, в этом моя принципиальная позиция и заключается! На том и стою… Постой, но это что же, ты жалуешься? Бандиту жалуешься? – Нет, я просто общаюсь…
Я: А потом что?
Он: Что – потом?
Я: Вылечилась? Ваша жена вылечилась?
Он: Нет, умерла.
От фарингита? Не может быть…
Я: Извините.
Он: Ничего.
Но неужели действительно от фарингита? Спросить? Нет, нельзя, неудобно…
Он: Машиной задавило.
Машиной… Бедняжка… Как-то он это сказал… Но имею ли я право ему сочувствовать? Нет, я бы, конечно, посочувствовал! Если бы был уверен, что это правда. Но даже если это и правда, то наверняка один ты не остался, такие, как ты, одни не остаются. Жену жалко, а тебя нет. А рожа мерзкая… Особенно не нравится мне эта так называемая трехдневная щетина – современный признак мужественности. Женьке нравится. И Алиске тоже. (А Даше – нет!) На самом деле они второй подбородок таким образом скрывают! «Мужчина должен бриться каждый день». Мама сказала это, когда я перешел в девятый класс, и я разбил свою свинку-копилку и за пять рублей купил первую в своей жизни электробритву. «Нева». Не «Нева», а Т-34… Как будто гусеницами танка по лицу… (Единственное, чего мне здесь пока не хватает, это моей старушки «Агидели».) А его очки в золотой оправе, сидящие на кончике носа, меня просто умиляют. Ну прямо профессор. «Кислых щей». Да не щей, Алиска, а тюремной жизни!
Он: Как там погодка… на воле?
«На воле»… На воле, браток, хорошо, на воле – малина!
Я: Да мерзкая погодка. Снег с дождем.
Он: Ну, тогда тут лучше.
Смеется. Тоже на самообслуживании, как Неписигин. Как все-таки много общего между представителями правоохранительных органов и преступного мира!
Я: Во всяком случае – теплее.
Он: Топят хорошо.
Я: Хорошо топят?
Он: Топят хорошо.
Я: А кормят?
Он: А кормят хреново.
Я: Хреново?
Он: Хреново.
А собственно, почему я тебя боюсь? Что ты мне можешь сделать? Здесь… Оружия-то у тебя нет. Да если бы не тапочки, я бы и не подумал! («Настоящий шпион не должен быть похож на шпиона». Кто сказал? – Не знаю. – «Настоящий бандит не должен быть похож на бандита». Кто сказал? – Опять ты!) В «Молодежнике» так и было написано: «известная интеллигентность». С ума сойти – интеллигентный бандит! МОТЯ! Но надо же, какое совпадение, прочитал, и вот он – Мотя! Утром в газете, вечером, ха-ха, в камере…
– Курите? – он.
Я: Нет, не курю.
Он: И не курили?
Я: Практически нет.
Он: А теоретически? – Смеется. Неужели смешно…
Я: Я учился в школе, где преподавала моя мама.
Он: Понятно. Вы любили свою маму?
– Я и сейчас ее люблю.
Он: Ваша мама жива?
Я: Да, жива… Конечно жива! – Моя мама…
Он: А моя умерла.
Все-то у тебя умерли, бедняжка. Скорбь людоеда – скушал всех своих родственников и сидит, плачет: «Ах, я сиротинушка!» (А на самом деле – голодный.) Ждешь, что посочувствую? Не дождешься! Мотя… Хотя маму, конечно, жалко… Мама – это мама…
Он: А потом так и не начали?
Я: Что?
Он: Курить?
Да что он привязался с этим курением?
Я: Нет. Даже в армии.
Он: Вы служили? – удивляется.
Почему-то все удивляются. Да, служил! Как говорится, отдал Родине долг. Хотя не помню, чтобы что-то у нее одалживал. Это уже Герины слова. И еще по этому поводу, из Геры: «Лучше две недели в психушке, чем два года в казарме». А вот тут я с ним категорически не согласен! Конечно, решающую роль сыграла мама. Когда я получил из военкомата повестку, она сказала: «Мужчинами не рождаются, а становятся». Не знаю, стал ли я там мужчиной, это уж, как говорится, не мне судить, но те два года не считаю безвозвратно потерянными и вспоминаю о них с теплотой.
Я: Служил.
– Только не говори, что в спецназе! – И не собираюсь!
Он: В каких войсках?
Я: В железнодорожных. За два года стрелял два раза.
Он (смеется): А, ну понятно…
Интересно, что ему понятно? Что он знает о железнодорожных войсках? Там, между прочим, даже бронепоезда были. А я, между прочим, БАМ строил, восточный участок! Спроси – расскажу, как с одного удара вогнать в шпалу костыль.
Он: А я трубку курю.
Ах, вон оно что! Это ты так плавно подводил. Мол, вот какой я интеллигентный. Только это меня не убеждает! Я заметил: трубку в наше время курят люди ущербные, у кого как раз интеллигентности не хватает. Как, например, наш спикер бывший, как его… чеченец этот… как его… Хасбулатов… Тоже «известной интеллигентностью» обладал…
Он: Не успел с собой захватить, забыл.
Что? Трубку? Зато тапочки не забыл. Но надо как-то на это сообщение прореагировать, кивнуть, может? Киваю.
Он: Вы сегодняшние газеты не читали?
Я: Только «СтоМ».
Он: «СтоМ»?
Я: «Столичный молодежник».
Он (удивленно): Вы читаете эту газету?
Я: Изредка. От случая к случаю.
Он: Я «Ежедневный бизнесмен» читаю. И еще «Демократический наблюдатель».
Подумаешь – доблесть. Я тоже их читаю. Но неужели правда читает?
Он (усмехается): А-а… Ну и что там пишут? В «СтоМе»?
А бандиты наши, оказывается, еще и тщеславны! Жадность, жестокость, глупость… И к этому еще и тщеславие. Впрочем, тщеславие всегда там, где глупость. А как он это спросил, а? Как бы между прочим! Артист! Плохой…
Я: Да разное пишут. У одной бабы в ухе завелся трехметровый червяк. – Что за развязный тон, приятель? Почему – баба, а не женщина?
Он: Какой ужас. Откуда он там взялся?
Я: Из Таиланда привезла.
Он: Оттуда еще не то можно привезти. – Смеется.
Я: Это точно!
И я смеюсь? Смеюсь? А что, нельзя?
Он: Были в Таиланде конечно?
Я: Ну конечно был.
Ты что, сбрендил? – А что? Гера же был! Не один раз! А ты что, совсем уже Гера? – Какая столица в этом чертовом Таиланде? – Идиот, убить мало…
Он: Сказочная страна, сказочная…
Я: Да-а… – Туда только бандиты и ездят. Оттягиваться…
Надо срочно менять тему! Как, кстати, его зовут? – Мотя. – Да не кличка, а имя, которое он назвал, когда мы знакомились. Я – Гера, а он… Борис? Нет, это бы я запомнил, по аналогии с Ельциным запомнил бы, а тут никаких аналогий не возникло.
Он: А еще что пишут?
Вот спасибо, браток, подсобил, выручил! Но, извини, заметку про тебя я пересказывать не стану. Технология введения паяльника в задний проход меня как-то не греет. Однако какой тщеславный! Это у Гоголя герой был или у Чехова? Газетной заметкой про себя все восхищался. Кучер Селифан? Или все-таки у Чехова? Но что же еще там пишут? А, вот! Сокрушилинская загадка.
Я: Пишут… Теперь в московских школах на экзаменах учитель может потребовать у школьника знание библейских заповедей. – Зачем я это ему говорю. Разве ему это интересно?
Он: Что вы говорите! – От удивления он даже привстает.
Я: Действительно.
Он: Потрясающе!
Потрясающе, конечно, но не настолько. Почему бандит этот так разволновался? Да что же это все значит? Не понимаю!
Он: Две беды у нас в России – дураки и плохие дороги.
Это кто сказал? Гоголь или Салтыков-Щедрин? По-моему, все-таки Гоголь. Но у него дороги расползаются, как раки… А дураки? Что у нас делают дураки?
Он: Вы помните, как Руцкой в церкви со свечкой стоял? По телевизору показывали.
Я: Помню конечно.
Он: А про то, что он губернатором Курской области стал, конечно, знаете?
Я: Знаю конечно.
Он: А про то, что он там в школах ввел обязательный предмет – Закон Божий, слышали?
Я: Нет, не слышал.
Он: Ввел! С прошлого года начали изучать. Как вам это нравится?
Мне вообще Руцкой не нравится. То есть сначала нравился, а потом – нет, после известных событий. Женька, та вообще была в него влюблена, тогда все женщины были в него влюблены… «Взлетели с рулежки», – повторяя эти его слова, Женька закатывала глаза и стонала… Это в девяносто первом… А в девяносто третьем он Москву призывал бомбить… А теперь, значит, Закон Божий в обязательном порядке…
Он: Разумеется, знание, как таковое, не бывает лишним, лишнее, в конце концов, память сама отбросит, да и этический аспект христианства я бы не стал сбрасывать со счетов. Если, правда, забыть про инквизицию, отлучение Льва Толстого и прочее церковное мракобесие.
Про Льва Толстого он верно подметил. Этого я тоже никогда не мог понять.
Он (продолжает): Но! Но кто там в курских лесостепях этот предмет будет преподавать? Попов столько не наберешь, да их и самих учить надо, они в основном из вчерашних партработников…
Это точно! Надо будет потом рассказать про английских священников!
Он (продолжает): Думаете, за что народ выбрал в губернаторы Руцкого? За то, что в Афганистане воевал? За то, что сбивали его там? За Белый дом? За усы? Нет, конечно! За то, что со свечкой стоял! Только за это, я вас уверяю! Но помяните мое слово! – Он торжественно поднимает палец вверх и повторяет: – Помяните мое слово: скоро они все там со свечками будут стоять!
Он смеется. И я тоже смеюсь. Потому что это действительно смешно, если представить…
Он (делаясь серьезным): Выбирая Руцкого со свечкой, народ… куряне эти самые – совсем не рассчитывали на то, что он их, извините, к храму поведет. Им достаточно того, что он сам туда сходил. У нашего народа вырабатывается, наконец, инстинкт самосохранения.
Я: Но ведь как сейчас говорят? «Народу нужна вера».
Он: Кто говорит? Скажите мне, кто говорит, и я скажу вам, зачем это ему нужно. Дорогой мой! Сейчас, на излете второго тысячелетия, вера не просто не нужна, она опасна, смертельно опасна. Знаете, что такое вера сегодня? Вера сегодня – это тридцать восемь американцев, которые, как тридцать восемь попугаев, одновременно принимают яд и укладываются в кроватки – дожидаются, когда на хвосте кометы Хейла-Боппа[22] прилетят инопланетяне и на своих летающих тарелочках увезут их души – заметьте, души! – в иные миры. Американцы! Прагматики до мозга костей! Причем там были самые разные социальные слои: фермеры, учителя, ученые. Они – верили! Вот что такое вера сегодня. Вы, конечно, знаете эту историю? Читали?
Я: Знаю. Читал.
Только, по-моему, их не тридцать восемь было, а тридцать девять, этих несчастных американцев. А вот название кометы никак не могу запомнить, хотя ходил смотреть на нее вместе с Дашей. И с Алиской… И с Женькой ходил смотреть, вместе с Алиской. (Как-как она называется? Ну у тебя и память!) Кажется, на Мотю он не похож. То есть он, наверное, и есть Мотя, но на бандита не похож. А на кого? Все-таки на профессора! И почему профессор не может быть бандитом? Запросто может. Жил-был профессор. Тихо-мирно работал в своем академическом институте, потом начались все эти пертурбации, институт закрыли, зарплату не платили годами, победствовал, поголодал и – кончилось терпение, надоело! А мозги есть, интеллект требует применения: собрал вокруг себя крепышей из спортивной секции, и – пошло-поехало. А что? Сегодня артисты – бандиты, спортсмены – бандиты, политики – бандиты, милиционеры – бандиты. Почему профессор не может, чем он хуже других? Да и надо же, наконец, про английских священников рассказать, а то потом не получится.
Я: Я как-то читал в одном журнале… Небольшая такая заметочка была. В Англии проверили священников на знание тех самых десяти заповедей. И результаты оказались просто удручающими…
Он: Это было напечатано в «Итогах»! «Sunday Times» проводила опрос, и две трети англиканских священников не смогли вспомнить заповеди Божии. Две трети! Там, кстати, были приведены слова одного из членов палаты лордов: «Это безобразие! Они обязаны их знать, потому что это их работа». Действительно, безобразие – с точки зрения налогоплательщика, на чьи средства англиканские священники существуют. Однако если взглянуть на вопрос шире, то не такое уж безобразие, а даже наоборот… Извините, я забыл ваше имя…
Забыл? И ты забыл?
– Евгений! Женя…
Вот так удача! Он смотрит на меня с коротким удивлением, ему что-то такое кажется, но поздно – я вернул себе имя. Извини, старик! А то как бы не получилось, как у Льва Толстого в «Хаджи Мурате»: один крестьянин пожалел своего брата, пошел вместо него служить, на войну, а его там убили. И всё. ВСЁ! А мы так не договаривались. Впрочем, мы ни о чем не договаривались, все это чепуха, минутная слабость, извини, старик… Просто ты – Гера, а я – Женька, и здесь я могу быть самим собой. Могу и хочу. Но вот как его зовут? Может, тоже спросить? Неудобно…
Он: Понимаете, Евгений… Вот вы заговорили об Англии. Вы были в Англии?
Я: Нет!
Он: Обязательно поезжайте! Чудесная страна! Монархия! Традиции. А библейские заповеди не знают даже священники. Забыли! Знали… Но забыли. А как при этом живут англичане? Как говорят в Одессе: чтоб нам так жить! – Смеется. – Взаимосвязь очевидна. И то же самое, уверяю вас, во всей Европе. И наоборот. Возьмите Иран с его фундаментализмом, Афганистан с талибами… Везде нищета и озверение.
Я: Но то мусульмане…
Он: А какая разница? Мы говорим о вере как таковой.
Я: Вы хотите сказать, что на Западе уже не верят?
Он: Нет, почему же, на Западе верят. Но как? Как говорила мне одна очаровательная француженка: «На всякий случай». Так верить можно! Пожалуйста! На здоровье! Но у нас же… Архиерейский Собор отлучил Глеба Якунина. Анафема! Им что, Льва Толстого было мало? Забыли, чем все это кончилось, когда русская интеллигенция отвернулась от них окончательно!
Да, Льва Толстого! В моей голове это тоже совершенно не укладывается. Это больше чем ошибка! Это – преступление. А он смотрит на меня поверх очков – спокойный, интеллигентный взгляд. – А ты, все-таки, идиот… – Идиот, согласен…
Молчит. И я молчу. Молчим. (Гера в таких случаях говорит: «Милиционер умер». Смеется. А если он действительно в эту минуту умер, и не просто умер, а героически погиб? Все равно смешно?)
Он (оживляясь): Так сколько, говорите, библейских заповедей должен знать московский школьник?
Я: Пять. Из десяти.
Он: Пять? Много. Недопустимо много! Я был в прошлом году в Египте, на горе Синай, где Моисей эти самые заповеди получил.
Не спросил. Не спросил про Египет!
Он: Вы были в Египте?
Спросил. Мотаю отрицательно головой.
Он (продолжает): На пути от подножия к вершине там когда-то стояли десять каменных ворот – по числу заповедей, и у каждых из ворот сидел священник. И каждый поднимающийся на вершину, перед каждым этим священником за каждую заповедь отчитывался. Так вот, ворот осталось только три. (Показывает на пальцах.) Три! Три, а не пять!
Я так и думал – три: не убий, не укради, не прелюбодействуй.
Я: А что, действительно там священники перед воротами сидят?
Он (машет рукой): Какие священники? Бедуины, верблюды, вонища. И деньги, деньги!
Я: Да, интересно…
Он: Да ничего интересного!
Я: У меня вопрос к вам немного неожиданный… Из другой, как говорится, оперы… Втемяшилось, знаете ли, и никак не вспомню…
Он: Да-да…
Я: Вы не помните, как звали Хлестакова?
Всё! Если скажет, значит, точно – не Мотя, точно не бандит…
Он: Какого Хлестакова?
Я: Ну того самого, гоголевского, из «Ревизора». Втемяшилось, знаете ли, и никак не вспомню…
Он: Иван Александрович.
Он задумался всего лишь на секунду. На секунду, не больше! Иван Александрович, конечно же!
Всё – не Мотя! Точно не Мотя!
Я: А вас? Вылетело, извините, из головы.
Он: Меня? Дмитрий… Дмитрий Ильич Слепецкий.
Ну вот… Как замечательно получилось: «А вас?» Значит: Дмитрий – Князь, Ильич – Ленин, Слепецкий – плохо видит.
Я: Да-а…
Он: Да-а…
Я: Несколько неожиданный разговор…
Он: Ну почему же неожиданный? Скорее злободневный.
Я: Да-а… – Нет, а ты определенно идиот! Не мог сразу отличить интеллигентного человека от уголовника. – Но он же сидит! – А ты, ты что здесь делаешь? – Я по ошибке. – А откуда ты знаешь… может, и он по ошибке? «Сидит…» Сейчас все сидят: генерал Дима сидит, подводник какой-то сидит, Властилина сидит, поэтесса… Алина Витухновская… (Почему-то запомнилось ее имя, хотя ни одного стихотворения я не читал. Наверное, потому и запомнилась, что сидит.) И это только те, кто на виду, кого мы знаем. А кого не знаем? Время сейчас, видно, такое – сидеть. Время сидеть! Все или сидели, или сидят, или скоро сядут. Вот так-то! – Да я сразу сказал, что он на профессора похож, но тапочки… – Заткнись со своими тапочками!
Он: Вы правильно меня поймите! Я не против религии, но только в ее современных, цивилизованных формах. Я сам могу зайти в церковь, полюбоваться росписью, послушать пение. Кое-где даже очень прилично поют. Могу даже поставить свечку! В простодушном, так сказать, смысле.
Смотрит на меня открыто, прямо и широко улыбается. Ну просто в душу мою заглядывает, просто мысли мои читает. Сказать? Скажу!
Я: Да-да, я тоже однажды зашел в церковь и поставил свечку… В простодушном тоже смысле.
Он: В какой церкви?
Я: В которой Пушкин венчался, знаете?
Он: У Никитских ворот? Ну конечно! Так называемое Большое Вознесение. Там не только Пушкин венчался, там еще и Ермолову отпевали. И мальчишек-юнкеров, которые Кремль от большевиков защищали… Между прочим, этот храм до революции считался храмом русской интеллигенции…
Я: Действительно?
Он: Ну разумеется.
И смотрит на меня и улыбается. И я смотрю на него и тоже улыбаюсь. И так смотрим и улыбаемся. Даже немного неловко.
Он: А я наконец вспомнил, где я вас видел!
Я: Меня?
Он: Вас.
Видел? Где? В клинике – приходил на прием? Возможно… К сожалению, я плохо запоминаю лица хозяев животных. Кто у него? Кошка? Собака? Морская свинка? Может быть. В данном случае все может быть. Может быть, даже – попугай, интеллектуалы любят попугаев.
Он: Я подумал, что где-то вас видел – сразу, как только вошли, и эта мысль все это время не давала мне покоя.
Но где? Где он мог меня видеть?
Он: В телевизионном репортаже. Вас брали. Ведь это вас вчера брали?.. Омоновцы в масках, с автоматами… Это были вы?
Я: Я.
«Я»! Кажется, нескромно, чёрт побери, получилось…
Он: Ну вот! Все правильно!
Я: А по какому каналу?
Он: По-моему, «Свободный». Да, точно, «Свободный».
Все-таки «Свободный»! Значит, мои видели…
Я: Наверное, в программе «Криминальная хроника»?
Он: Нет, по-моему, в новостях.
В новостях? За что же такая честь? – Ну, старик, ты теперь звезда экрана! – Да ладно…
Я: В новостях? Это неожиданно…
Он: Да, точно, в новостях, в программе «Тудэй».
Я: Вот как? И как же все это выглядело?
Он: Впечатляюще.
Я: У меня, наверное, был жалкий вид? Я выглядел растерянным?
Он (смеется): А вы что, не помните?
Я (тоже смеюсь): Помню, конечно… Но ведь со стороны себя не видишь… Я даже не заметил сначала, что меня снимают.
Он: Вполне достойно выглядели, вполне – достойно.
Ну, вот и кончилась наконец эта ужасная пытка неизвестностью, сейчас я все узнаю!
Я: И какой же там был комментарий?
Он: Комментарий? А комментария не было.
Я: Не было??
Он: Следователь выключил телевизор.
Следователь? Какой следователь?
Я: Следователь? Какой… следователь?
Он: Не какой, а чей. Мой следователь. Это происходило в его кабинете. Вас взяли вчера, а меня позавчера.
Он вдруг замолкает и смотрит на меня вопросительно. Улыбается? Или усмехается? Смотрит добрыми понимающими глазами из-под посаженных на кончик носа очков. Конечно, ему интересно… Да мне и самому интересно, я бы сам хотел узнать, за что меня взяли?
Он: Так за что вас взяли?
«Ни за что!» – говорю я в ответ, и даже не говорю, а декламирую – немного грустно, и он сразу меня понимает и продолжает в тон, но делано-грубо: «Не бреши, ни за что не содят!» И он смеется. И я смеюсь. И мы смеемся. Удивительно все-таки, удивительно! «Любите Жигулина?» – спрашиваю я. «Скорее, отдаю должное», – отвечает он. «А я люблю, – говорю я. – “Кострожоги” особенно». – «Да, это хорошее стихотворение», – соглашается он[23].
И я – смеюсь.
И он – смеется.
И мы смеемся.
И я отчетливо понимаю, что надо, пора рассказать, как все на самом деле было. Он смотрит на меня с благожелательным интересом и терпеливо ждет. Но я не знаю, с чего начать!
– Не знаю, с чего начать, – признаюсь я.
– С начала! – ободряет он.
И мы снова смеемся.
Я: История запутанная, я сам пока многого не понимаю. Точнее – ничего не понимаю. Мне на работу позвонил мой друг. И попросил, чтобы я срочно пригнал к нему «эсэра». Понятно?
Он: Нет.
Я: Вот и мне тоже… Ну, в общем… Мой друг Гера…
Он: Гера?
Я: Да, Гера, Герман.
Он: А вы Евгений?
Я: А я Евгений.
Он: Прямо по Пушкину!
Я: Все так говорят. Мой друг Гера, он… новый русский. Вообще-то, мне не нравится это понятие.
Он: Мне тоже, но вы, пожалуйста, не отвлекайтесь.
Я: Гера не типичный новый русский. Он не похож на этих – пальцы веером… Нормальный человек, может быть, несколько экстравагантный – патлатый такой, с бородой. Оперу любит.
Он: Оперу?
Я: Да, оперу. Он в Ла-Скала летал на Паваротти. На один вечер – только послушать.
Он: Вы давно знакомы?
Я: Сто лет.
Он: Он торгует?
Я: Ну конечно, сейчас все торгуют.
Он: Чем?
Я: Всем. Компьютерами, продуктами, бензином. У него несколько фирм зарегистрировано…
Он: Продолжайте, пожалуйста…
Я: Так вот… У него две машины: «Ягуар» новый, красный, шикарный и… «Опель-Кадет», он уже старенький, и мы в шутку называем его «Опель-эсэр», или просто «эсэр».
Он: «Эсэр»? Социал-революционер? Остроумно.
Я: Он у нас на двоих.
Он: Как это?
Я: Гера мне его отдал по доверенности, но сам иногда им пользуется… Он стоит у меня на работе, у нас ворота запираются, очень удобно.
Он: Кому?
Я: Что – кому?
Он: Кому – удобно?
Я: Нам. Мне и Гере. Ну вот… На прошлой неделе он заехал ко мне. Жены с дочкой дома не было, мы посидели, повспоминали… Выпили… А потом я смотрю (это уже когда он уехал), пиджак забыл, а в нем бумажник с документами…
Он: Наверное, много выпили?
Я: Да я бы не сказал… Я вообще не умею много выпивать. Знаете, ужасно страдаю на следующий день, а похмеляться так и не научился. А Гера может сколько угодно. И всегда садится за руль, каким бы пьяным ни был. А утром, как он сам говорит, копытом землю роет.
Он: Не отвлекайтесь, пожалуйста.
Я: Ну вот. Я сразу позвонил ему на мобильный телефон, говорю, вернись, забери… Он: «Я завтра заеду. Ты на работу возьми, а я заеду». Но не звонил, не заезжал, а вчера позвонил и попросил привезти все: пиджак, документы и «эсэра»… Я сел, поехал и меня остановили…
– Автоматчики в камуфляже?
– Автоматчики в камуфляже.
– В масках?
– Всё, как положено.
– Полный набор?
– Полный…
– Били?
– Кого?
– Вас.
– Нет… Мордой только назвали.
– Просто мордой?
– Просто мордой.
– Это еще ничего.
– Ничего, конечно…
Вторая (продолжение)
Вот тебе и ничего! Не ничего, а всё! Всё!!! Всё ясно. «Казачок-то засланный оказался». Откуда эта фраза? Из «Неуловимых мстителей»? Какая все-таки чушь держится в твоей голове! Именно чушь там и держится, а хорошее, дельное – нет. Как говорила Алискина первая учительница: «В одно ухо влетает, в другое вылетает». (Забавно, что и моя первая учительница так же говорила. Ее звали Елена Степановна.) А Алискину? Не помню… Странно… – А чего странного, это же Алискина первая учительница. – А мою первую учительницу звали Елена Степановна. А мою первую «наседку» зовут Иван. А фамилия у него Визиров. То есть я не знаю, как его зовут и какая у него фамилия, он так подписывается – ИВАН ВИЗИРОВ. Визир – это, по-моему, видоискатель или прицел, или что-то вроде этого… А есть еще визирь – персидский министр. А заседание у них называется – диван. Они, значит, на диване, а ты, идиот, на нарах. А он спит. Сном праведника. Сном младенца. Правда, храп у него не младенческий. Кстати, сколько ему лет? Сорок, но выглядит на шестьдесят… Или шестьдесят, но выглядит на сорок… Храп мерзавца! А может, в еду что-нибудь подсыпали? Я ведь ел, наворачивал с аппетитом, а он не притронулся. Хотя тушеная капуста была вполне приличная, не хуже той, что Женька готовит, даже, пожалуй, лучше, я вообще люблю тушеную капусту: вкусно, недорого и полезно. А что, могли подсыпать! Ты помнишь, какая усталость вдруг навалилась? А он сидел, как огурчик, и всё задавал свои вопросики, задавал…
Он: Ваш друг просил вас приехать в какое-то определенное время?
Нет, он сформулировал вопрос не так. Он сформулировал вопрос точнее, то есть подлее, если бы он сформулировал вопрос так, я бы, конечно, подвох почувствовал… – «Почувствовал…» Ты бы почувствовал! Да ты лох! Ты льстишь себе, когда идиотом себя называешь, ты хуже идиота, ты – лох! Лох, вот ты кто!
Я: Гера сказал: «Приезжай немедленно».
Он: И вы бросили все и поехали?
Я: Да. Он же мой друг.
Он: А на метро вы могли поехать?
Я: Мог! На метро мне было даже удобнее. Да и вожу я плохо, боюсь…
Он: Почему же вы не поехали на метро?
Я: Так я же говорю, Гере был срочно нужен «эсэр».
Он: А как же его «Ягуар»?
Я: А он сломался.
Он: Новый «Ягуар» сломался?
Я: Да. Гера сказал…
Он: А он не мог приехать на такси и…
И все его вопросы были такими – скользкими, обтекаемыми, подлыми! Он загнал тебя в угол, а ты, вот что самое ужасное, ты не пытался из этого угла вырваться! Я уже не слышал его вопросов, смотрел на него, видел его еще, правда, как в тумане, но практически уже не слышал. Подобное со мной случается, правда, очень редко и всегда в экстремальных ситуациях: словно твой скелет, костяк, основание, на котором все держится, вынимают – и ты начинаешь валиться, валиться… Спустя какое-то время я проснулся; со мной всегда так бывает – засыпаю, а спустя какое-то время просыпаюсь, думаю о чем-нибудь, о том, как прошел день, о том, что предстоит сделать завтра, и снова засыпаю… Я проснулся, открыл глаза, увидел, что он пишет, сидит за столиком и пишет, и снова заснул, только успел подумать, что интеллигентный человек – он и в тюрьме интеллигентный человек. (Нет, не случайно я, все-таки, подумал, когда в камеру вошел, что он «оперу» пишет. В шутку, но не случайно!) «Наседка» цыпленочка высидела… Впрочем, это во времена солженицынского сидения они так назывались, сейчас, наверное, иначе, все течет… «Наседка» не «наседка» – суть от этого не меняется! А суть заключается в том, что, когда ты проснулся во второй раз, он уже не писал, а спал. А проснулся ты от того, что услышал:
– Адмирал!
Властно и громко – нельзя было не проснуться: «Адмирал!»
Я подскочил на кровати, или нарах, не знаю, как уж они тут у них называются. Сердце колотилось. Потом оно немного успокоилось, и я стал соображать. Это, конечно, подсознание, подкорка мозга, где идет работа даже тогда, когда человек спит. Так было у Ломоносова, то есть, конечно, у Менделеева: ба-бах ночью – и периодическая система… Менделеева… (Я, конечно, упрощаю, но суть от этого не меняется.) – Ага, у Менделеева периодическая система, а у тебя – адмирал… – Ну что ж, каждому свое… То есть, как я понимаю, пока я спал, мой мозг отыскал в закромах памяти еще одно слово на АД, и тут же кто-то там в мозгу это слово озвучил. Хорошо, адмирал так адмирал, хотя и с опозданием, но, как говорится, и на том спасибо, и я с удовольствием вытянулся на жестком моем ложе, я вообще люблю спать на жестком, а Женька, наоборот, на мягком – привезла из Тамбова перину своей бабушки, – я понимаю, у Женьки ностальгия по детству, ничего ей не говорю, но я совершенно на этой перине не высыпаюсь, прямо задыхаюсь там, и чешется все, так вот, я с удовольствием вытянулся на жестком моем ложе и вспомнил почему-то, как этой весной встретился с адмиралом… Был чудный вечер, я брел по родному Тверскому, с легкой грустью глядя на дом, в котором мы с мамой когда-то жили, на два наших окна на третьем этаже… Я случайно, по вызову, оказался в центре – в Трехпрудном ощенилась фоксиха, брел, отдыхая, наслаждаясь весной и думая рассеянно о том о сем, как это обычно весной бывает, и вдруг – навстречу мне идет адмирал со своей женой-адмиральшей. (Или, может, контр-адмирал с женой, ха-ха, контр-адмиральшей; никогда, наверное, не узнаю разницы между адмиралом и контр-адмиралом: спросить не у кого, а вопрос не тот, чтобы специально его выяснять.) Я взглянул на него и подумал: «А что если он – тот самый капитан какого-то ранга, который однажды в детстве котлетами меня кормил?» Узнать, конечно, было невозможно: тот был черноволосый, а этот совершенно седой, но сколько лет прошло? А стать та же, и кортик, и якоря, и награды… (Это произошло напротив МХАТа, женского разумеется, он был для меня слева, а справа, опять же – для меня, был этот пошловатый памятник Сергею Есенину, который появился там неведомо когда и неизвестно, почему. Эх, если бы нашему Юрию Михайловичу побольше художественного вкуса и поменьше друзей вроде этого ужасного Церетели!) Я, видимо, так глазел на адмирала, пытаясь понять: не наш ли с мамой это бывший сосед, что он не мог этого не заметить… Он посмотрел на меня, улыбнулся и зычно, по-командирски объявил:
– Отличный денек!
От неожиданности я растерялся, но тут же нашелся и ответил – видимо, вспомнилось мое армейское прошлое.
– Так точно!
А что, я ответил по уставу, и товарищу адмиралу (или контр-адмиралу) наверняка понравилось. И мы пошли дальше: они – в сторону Тверской, а я – в сторону Никитских ворот. На скамейке под фонарем сидела женщина, бомжиха, худощавая, смуглая, в черном суконном пальто и с ленточками в волосах, сделанными из полосок сукна, оторванных от рукавов того же пальто. Даже не так бомжиха, как дурочка – если судить по ленточкам и выражению ее лица. С ней была собачка, беспородная, маленькая, черненькая, с такой же, как у хозяйки, ленточкой на шее. Собачка смирно сидела у женщины на коленях, и та гладила ее по головке и задумчиво смотрела куда-то вдаль. Туда же смотрела и собачка. Им было хорошо, это было очевидно, всем в тот день было хорошо! У памятника Тимирязеву я остановился и присел на скамейку – не по причине усталости, а чтобы полюбоваться одним из самых любимых моих в Москве памятников (несмотря на его конструктивный недостаток, который для меня вовсе не недостаток, скорее, скульптурная особенность, придающая фигуре борца и мыслителя редкую мужественность и одновременно трогательность и незащищенность). Я люблю памятник Тимирязеву с раннего детства, два строгих и емких слова на его постаменте стали одними из первых прочитанных в моей жизни слов: «Борцу и мыслителю». Мы проходили мимо с мамой, а я только-только научился читать и, прочтя эти слова, подумал: «Мыслить я уже умею, осталось научиться бороться», но о той, отчасти забавной особенности памятника узнал, уже будучи взрослым – от Геры, именно он указал мне на нее, почему-то сравнив при этом Тимирязева с Дерновым[24]. «Ты не находишь, что так они похожи?» – меланхолично поинтересовался мой друг, отхлебывая из бутылки пиво. «Не нахожу», – ответил я, испытывая чувство горечи и обиды за один из самых любимых моих в Москве памятников, хотя на первом месте конечно же памятник Пушкину. Отличный денек продолжался, я сидел на скамейке, смотрел на гранитного Тимирязева, думая о том о сем, как это обычно весной бывает, вспоминая с улыбкой, как шли мы с мамой мимо, мама куда-то торопилась, тащила меня за руку, а я едва за ней поспевал, складывая на ходу буквы в слова; как спустя много лет на этой же самой скамейке пили с Герой бутылочное «Московское», потому что «Жигулевское» кончилось, – дело происходило в стране двух сортов пива (и «вечно зеленых помидоров» – Жванецкий), и Гера безуспешно попытался сравнить Тимирязева с Дерновым; вспомнил, как неожиданно встретился с ним на Садовом кольце в дни второго путча, и тут же, решив не думать о плохом, вспомнил, что забыл, какой сегодня день – тысяча дней до двухтысячного года, ДДД, но ход моих мыслей прервали устроившиеся по соседству сборщики стеклотары, их было двое, и они делили между собой собранные на бульваре бутылки – сначала мирно, под мелодичное «звень-звень», потом стали спорить, ругаться, угрожать друг дружке, и вдруг один вскочил и… – тут уже мне ничего не оставалось, как вмешаться, точнее не вмешаться, а сделать замечание, правда, очень строгое, которое мгновенно возымело действие, и в результате этих и других последующих событий спустя какое-то время, довольно неожиданно для себя, я оказался в храме, в котором Пушкин венчался, и совершенно неожиданно для себя поставил там свечку… (А я ему еще про свечку! В простодушном, так сказать, смысле, тьфу!) Но дело не в этом… А дело в том, что… Дело в том, что, лежа на жестком бутырском ложе, я вдруг понял, что в тот день, когда в Трехпрудном переулке ощенилась фоксиха (вспомнил, как ее зовут – Луша), когда адмирал или контр-адмирал объявил: «Отличный денек!» и когда я поставил в церкви, в которой Пушкин венчался, свечку, – это был день пятое апреля… Сего года… Я даже не знаю, почему я это понял, просто понял – и всё… Но если это так, подумал я, то тот день я помню в деталях и подробностях, имея множество свидетелей: это и счастливые хозяева фоксихи, и адмирал с женой, и дурочка с собачкой, и многие-многие другие, я всех их могу назвать, если не по именам и фамилиям, то описать портретно. (За исключением сборщиков стеклотары, конечно, где же их теперь найти?) А все дело в том, что то был… тысячный день до двухтысячного года, то есть, я хочу сказать, в тот день до начала двухтысячного года оставалась ровно тысяча дней. Это я услышал утром по «Эху Москвы», когда поил Женьку с ложечки горячим кофе, в передаче «Ну и денек», я, кстати, очень ее люблю – познавательная, и исторический материал живо подается, и вот ведущий передачи (правда, не помню, кто это был) объявил вдруг: «До двухтысячного года осталась тысяча дней!» У меня рука дернулась, Женька обожглась и что-то сказала. А я подумал: «Может, как-то этот день отметить?» Нет, про ДДД я тогда не подумал, а если и подумал, то тут же забыл, но потом, когда в центре оказался, на улице Горького, то есть, конечно же, на Тверской, рядом с магазином «Trinity Motors» и увидел на доме напротив (где магазин «Наташа») наверху, на крыше световую рекламу, на которой было написано: «До 2000 года осталась 1000 дней», – увидел и подумал, точно подумал про ДДД. Тут надо еще отступить назад и вспомнить, что раньше у нас с Алиской была игра, которую мы называли ДДД. Алиске было тогда десять лет, да, десять, точно, десять как раз в тот день и исполнилось, мы отметили ее день рождения, гости разошлись – одноклассники и соседские ребята, и мы остались вдвоем… Женька уехала к подруге, она не выносит детских сборищ, от крика и мельтешения у нее болит голова; я Женьку понимаю, голова действительно может разболеться, но ведь кому-то из взрослых надо находиться поблизости, а то они все что угодно могут устроить, от пожара до потопа, да и интересно, познавательно, они ведь очень непосредственные и формулируют иногда так неожиданно, что просто диву даешься! Раньше во многих печатных изданиях были специальные рубрики и на радио передача: «Говорят дети», а сейчас почему-то нет, жаль… Я даже, помню, однажды посылал на радио одно Алискино изречение, года три ей было или четыре, когда она подошла ко мне, грустная такая, и говорит: «А в этом году грибов не будет». Я очень удивился, почему, Алисуш, спрашиваю. А она отвечает: «Потому что год лесокосный. Лес будут косить». А год был как раз високосный, она слышала, но по-своему поняла, по-детски. Високосный – лесокосный, надо же такое придумать! По радио, правда, не передали, жаль… Но тогда она маленькая была, а тут уже десять лет стукнуло; мы остались вдвоем за столом, заставленным бутылками из-под всех этих фант и пепси-кол, с кусками недоеденного торта на тарелках, и ты вдруг посмотрела на меня грустно-грустно, серьезно-серьезно и спросила:
– Папа, а зачем мы живем?
(До одиннадцати лет включительно наши отношения с Алиской я не могу назвать иначе, как замечательными, это была даже не любовь отца к дочери и соответственно дочери к отцу, это была дружба, самая настоящая дружба, которую никогда ничто не омрачало, если не считать маленького казуса, случившегося однажды на дневном сеансе в кинотеатре «Ашхабад», да я и не считаю, я давно и благополучно о нем забыл, а Алиска и вовсе не помнит, она еще совсем маленькая была, – да, до одиннадцати включительно, до двенадцати даже, до того самого момента, когда Алиска перестала выходить в кухню, когда по телевизору начинают выдавать и заворачивать, и стал выходить я. Что ж, девочка превращается в девушку, теперь ее лучший друг – Женька, женщина, мать, это понятно и объяснимо, и я ничуть об этом не жалею, хотя, конечно, немного жаль.) Так вот:
– Папа, а зачем мы живем?
Я не просто растерялся, я испугался. Ничего себе вопросик! А надо было что-то отвечать. И не просто отговориться, отболтаться, отшутиться, а отвечать серьезно и точно. Потому что вопрос был задан серьезно! Это же на всю жизнь! Ведь как я сейчас скажу, так она и будет дальше жить. В ту минуту в моей голове пронеслись все формулировки смысла жизни, которые там за всю мою жизнь скопились: от эпикурейцев до Николая Островского. И я вдруг понял: горю, пропадаю! Сам себе этот вопрос я никогда не задавал и ответа на него не искал: живу и живу, а дочка смотрит, и глаза у нее такие грустные и такие не по-детски серьезные, и вдруг как-то само собой сформулировалось, и я сказал:
– Мы живем для того, чтобы не делать зла.
Алиска подумала и спросила:
– Никогда и никому?
Я сказал:
– Никогда и никому.
Это я сказал, уже приободрясь, потому что видел, что грусть в ее глазах сменяется радостью, но это была уже не та безмятежная детская радость, не пресловутое счастливое детство («счастливое детство» – был такой штамп в нашей советской жизни – в газетах, на телевидении, везде: «счастливое детство», и больше ничего, «у матросов нет вопросов» – дуболомство какое-то, нет, не такая радость была в тот момент в Алискиных глазах, это была… осмысленная радость. Вот именно – осмысленная!) Она улыбнулась и спросила:
– А что делать?
(В том смысле, что если не делать зла, то что тогда делать?) Но тут уж было легко! Тут уж было просто! Я засмеялся и сказал:
– Добро!
И Алиска засмеялась, залилась прямо-таки звонким колокольчиком: оказывается, так все в жизни просто! Но самое интересное началось потом! На следующее утро Алиска подходит ко мне и говорит:
– ДБЗ!
(А у нас была еще такая игра – в аббревиатуры: один аббревиатуру называет, а другой ее разгадывает. Началось все с того, что Алиска спросила однажды, что значит СССР? Я расшифровал, ей страшно понравилось, так появилась эта игра, мы так и говорили: «Давай поиграем в СССР». Алискины аббревиатуры всегда ставили меня в тупик. Ну, например – КПД. Вы думаете, коэффициент полезного действия? Как бы не так! «Каша подгорела. Дрянь». КПД… Попробуй, отгадай!) А тут, значит:
– ДБЗ!
Я напрягся, но Алиска сразу пришла на помощь:
– День без зла!
Я сразу все понял и стал объяснять ей, что зло нельзя причинять никому на протяжении всей жизни, но она меня перебила, резонно заметив, что на протяжении всей жизни об этом можно и забыть, а в определенный, назначенный нами же день мы точно будем об этом помнить. Пришлось согласиться… Разговор наш произошел утром, а вечером мы докладывали друг другу о прожитом дне. Но просто не делать зла оказалось недостаточным, и скоро ДБЗ превратился в ДСД – День с добром, и, наконец, процесс поиска формы эволюционировал в ДДД: День Добрых Дел. Утром мы их намечали, днем выполняли, вечером друг перед дружкой отчитывались. Это продолжалось у нас два года, потом Алиске надоело, точнее, не надоело, просто она как бы выросла из этой игры, и у нее стали появляться другие интересы: наряды, мальчики, вечеринки, хотя, мне кажется, еще рановато, напрасно Женька это поощряет… Словом, ДДД из наших с Алиской отношений исчезли, но я так привык к этой игре, что некоторое время играл в нее один, а потом тоже забыл. А тут вспомнил! Вспомнил, потому что как еще отметить эту круглую дату? Тысяча дней до двухтысячного года. Первый день последней тысячи. Конечно, со стороны это выглядит глупо, но, извините, кто про это знает? Это тайна, моя личная тайна. Мы живем в такое время, когда существование простой человеческой тайны становится практически невозможным. «Алла родила от Филиппа пятерых» – пожалуйста! Тайны озвучиваются еще до их появления! А между тем каждый человек не только имеет право на тайну, на свое, так сказать, сокровенное знание, он просто обязан ее иметь! Для психического здоровья хотя бы, это я как врач говорю (хотя и ветеринар). Да, ДДД – моя тайна, о которой никто и никогда не узнает. И только я сказал про себя, объявил себе же «ДДД!», как – нате вам, пожалуйста, – у памятника Тимирязеву чуть не завязывается драка: устроившиеся по соседству два мужика или, как позже я их про себя назвал, два сборщика стеклотары делили между собой собранные на бульваре бутылки: сначала мирно, под мелодичное «звень-звень», потом стали спорить, ругаться, и вдруг один вскочил, ударил бутылкой о каменный край скамейки и, подняв над головой страшную стеклянную розочку, заорал на второго противно, истерично:
– Я тебе щас всю морду исковыряю!
Может, потому, что много книжек прочитал, у меня богатое воображение, я мгновенно увидел, как впиваются острые стеклянные края в большое одутловатое лицо несчастного, разрывая мышечную ткань и обнажая кости лицевой части черепа; промедление было смерти подобно, и я закричал со своей скамейки чужим, неожиданно высоким голосом то, что никогда не кричал и кричать не собирался:
– Я сейчас милицию позову!
Любопытно также, что в момент, когда до моего слуха донесся звон разбиваемой бутылки, я думал про ДДД, про то, что в такой Д надо еще какое-нибудь ДД совершить, и вот – нате вам, пожалуйста: «Я сейчас милицию позову» – смешнее и глупее этой фразы в подобной ситуации придумать трудно. Но факт остается фактом – нападавший испуганно на меня зыркнул, отбросил в сторону свое кошмарное оружие и сел на скамейку. (Что интересно, его потенциальную жертву – большого грузного мужика слово «милиция» испугало больше, чем обещание товарища исковырять ему морду.) Примерно с минуту было тихо, а потом я вновь услышал мирное «звень-звень». Быстро холодало и темнело, но я продолжал сидеть, пытаясь унять постыдную дрожь в руках и коленях, хотя это было бы легче сделать на ходу, при быстрой пешей прогулке, однако я не мог встать, просто не имел на это права, так как, во-первых, окончательно ситуация еще не разрешилась, а во-вторых, я не мог позволить им подумать, что я испугался. Я не испугался, у меня просто не было на это времени – так быстро все произошло, а дурацкая дрожь являлась всего лишь запоздалой реакцией на неожиданную ситуацию. (И плюс мое богатое воображение, конечно.) Я не смотрел в их сторону, а только слышал, как, хмуро и негромко переговариваясь, собутыльники закончили дележку, поднялись и – звень-звень – удалились. Я облегченно выдохнул, встал, мгновенно забыв о произошедшем, спустился по каменным ступенькам на тротуар, перешел на противоположную сторону улицы, туда, где раньше был кинотеатр повторного фильма, а сейчас, к сожалению, нет. У меня был выбор: идти вниз по Герцена или побродить по переулкам, двигаясь в сторону Арбата, – выбрав второе, я прошел примерно сотню метров и вдруг услышал за спиной знакомое «звень-звень»… Первым моим желанием было повернуться и посмотреть, но я успел остановить себя, ведь это означало бы, что я вспомнил их и испугался. А, повторяю, я не испугался, нисколько не испугался, в конце концов – смешно бояться тех, кто боится слова «милиция». И я продолжил движение, слыша за спиной однообразное стеклянное позвякивание, оно не приближалось и не отдалялось, так что становилось даже интересно: я замедлял ход, и сзади тоже его замедляли, прибавлял – и сзади прибавляли. Долго так продолжаться не могло, следовало, наконец, проверить: специально они движутся за мной или наши маршруты случайно совпали? (В какой-то момент меня даже азарт охватил.) Рискуя попасть под машину, я перебежал через Никитский бульвар, но не успел перевести дух, как вновь услышал хорошо знакомое «звень-звень». Нет, конечно, я мог обернуться и посмотреть, подойти спросить, что им от меня нужно, в конце концов, повторить слово, мгновенно вызывающее у них страх и трепет, – мог! Но… не мог, то есть, я хочу сказать, я не должен был этого делать, не имел на это права, потому что это означало бы, что я испугался, а это, в свою очередь, означало бы, что день, такой день своими собственными руками я сунул псу под хвост. Извините… Какой уж тут ДДД! Однако я опять стоял перед выбором: идти по освещенной улице или свернуть в темную подворотню, но первое означало поражение, и, без малейших колебаний, я шагнул в темноту. Какое-то время я шел в абсолютной тишине, но вдруг опять услышал становящееся зловещим «звень-звень»…
Так до сих пор не знаю: шли они за мной, или это мне казалось, а если все-таки шли – замышляли ли что нехорошее или просто проверяли крепость моей нервной системы? Если это так, то думаю, они убедились: нервная система у меня в порядке, но в какой-то момент блуждание по переулкам в районе Никитской площади мне решительно надоело, и я вошел в первую же открывшуюся передо мной дверь, тем более это была та дверь, в которую я давно хотел войти, но раньше она была закрыта, а когда открылась, все как-то не складывалось, а тут вдруг сложилось, и я, не раздумывая, вошел! (Это была церковь, в которой Пушкин венчался.) И поставил там свечку. (В простодушном смысле.) Даже не знаю, почему и зачем я это сделал (в смысле – поставил свечку), потому что добрым делом это никак не назовешь, в самом деле, заплатил денежку, запалил, поставил – какое же это доброе дело? Но это все к слову, по поводу… По поводу того, что если все же это было пятое апреля, то я тогда все вспомню! И, глядя в потолок, я стал считать… (У нашей математички была такая присказка: «Ты не Лобачевский». Это относилось ко многим, но когда очередь доходила до меня, Алла Рафаиловна восклицала: «А ты, Золоторотов, и подавно не Лобачевский!») Сначала было легко и просто: будущие девяносто восьмой и девяносто девятый – не високосные (не лесокосные), и я в уме сосчитал – триста шестьдесят пять и триста шестьдесят пять – получается шестьсот, и сто двадцать – семьсот двадцать, и два раза по пять – семьсот тридцать. От тысячи отнять семьсот тридцать – это будет триста… нет – двести семьдесят. Теперь предстояло отсчитать в нынешнем году двести семьдесят дней, но тут я вспомнил Аллу Рафаиловну и понял, что в уме такое не сосчитаю – нужна ручка и хотя бы клочок бумаги. И это все было рядом, только руку протяни. Сокамерник храпел. Я сел, взял его ручку и лежащий сверху лист бумаги и стал записывать и складывать – янв. 31 + февр. 28 + март 31 + апрель 30 + май 31 + июнь 30 + июль 31 + август тоже 31 + сентябрь 30.
31
28
31
30
31
30
31
31
30
___
273)
Теперь надо было отнять 13, и получится 260. Но я не стал даже этого делать, потому что и так все было ясно – в сентябре, где-то в середине. «Странно, – подумал я, – а мне казалось, что это было весной». Но математика – наука точная, с ней не поспоришь, особенно если ты «и подавно не Лобачевский», я и не стал спорить, а только подивился такой аберрации моей памяти: осень поменялась на весну. И тут я повернул листок и обнаружил, что на другой его стороне написано… Уверенным размашистым почерком там было написано:
Оперуполномоченному Васькину А. А.
Информатора Визирова Ивана
ЗАКЛАДНАЯ
Дальше шел текст этой самой закладной, который я, разумеется, читать не стал, а торопливо положил листок на место, опрокинулся на кровать и стал лихорадочно соображать: что я ему скажу, как объясню написанную мной дурацкую цифирь на его докладной? Первый импульс, первая мысль была – сказать правду. Но как совершенно справедливо говорит Женька: «Кому нужна твоя правда?» Тем более такая глупая… В самом деле, человек на пятом десятке, с высшим образованием и большим стажем работы по специальности, имеющий жену и дочь, – ждет двухтысячного года, как какой-нибудь детсадовец! Дни считает… Хорошо, что ты там письмо Деду Морозу не написал. Самое ужасное, что порвать, уничтожить тот листок – как вещественное доказательство моей глупости, моего идиотизма – я не имел права. Я стал придумывать объяснение и ничего лучшего не смог придумать, как то, что это дни, которые мне предстоит пробыть до двухтысячного года, если вдруг придется здесь задержаться. ДА НЕ СОБИРАЮСЬ Я ЗДЕСЬ ЗАДЕРЖИВАТЬСЯ! Я перебрал множество вариантов своего объяснения этой дурацкой цифири и остановился наконец на том, что это не дни, а деньги, долги, мои долги. Занимал по маленькой у сослуживцев, и вот – не спится – решил общую сумму подсчитать. Конечно, тридцать рублей – сумма слишком мизерная, чтобы думать о ней ночью, и это может вызвать недоверие с его стороны. А если сказать – доллары? Доллары – это доллары, и общая сумма выглядит внушительно. А если он спросит, откуда она у меня, кем вы работаете? «Ветеринаром». «Ветеринары так много получают, не знал». Вот и я тоже не знал… Да не будет он, чёрт побери, спрашивать, потому что он – интеллигентный человек! И как только я это подумал, до меня наконец дошло! («Как до жирафа» – Женька. «Как до утки, на четвертые сутки» – Алиска. Вы правы, мои родные, вы совершенно правы!) До меня дошло наконец, что представлялся он мне не как Иван Визиров, что, вообще-то, он: Дмитрий – Лже, Ленин – Ильич, плохо видит – Слепецкий. Дмитрий Ильич Слепецкий он! И мне стало не по себе, у меня буквально в глазах потемнело и стало противно, очень противно, как будто меня обокрали. Меня не раз в жизни обкрадывали: в поезде, в гостинице, в очереди в обменный пункт, и каждый раз я испытывал это противное чувство, как будто меня исподтишка испачкали, мазанули сзади какой-то вонючей гадостью, отчего я бежал не в милицию, чтобы написать заявление, а – в душ, чтобы скорей отмыться! (Однажды я поделился этими своими ощущениями с Герой, но он даже не захотел меня понять. «Ты, старик, чересчур чувствителен. Меня столько раз кидали и кидают партнеры, что я из душа должен не вылезать». – «То есть ты этого не замечаешь?» – «Ну почему же? Я их тоже кидаю». Вот-вот! В этом и заключается русский бизнес: выигрывает тот, кто кидает последним. Русский бизнес – бессмысленный и беспощадный.) Гера, но что? Что же это, что? Что ты наделал? Ведь это же серьезно, раз они подсунули мне «наседку»! Причем квалифицированную «наседку», образованную, с энциклопедическими знаниями, с современными взглядами, парадоксально мыслящую! «Осталось только трое ворот». Мыслящая «наседка», с ума сойти! Он взял меня на парадоксе, вел себя так, как не должен себя вести. По логике, он должен был сначала о себе рассказать, в доверие втереться, вывернуть, как говорится, свою душу, чтобы я в ответ свою стал выворачивать. Но он ни слова, ни полслова о себе не сказал, только лишь назвал имя (которое, кстати, сразу вызвало у меня подозрение). Но надо отдать ему должное: он, конечно, настоящий профи. На моем месте и Рудольф Абель раскололся бы… Высший пилотаж! А как, когда я рассказывал про Геру, про то, что Гера оперу любит, он со значением переспросил: «Оперу?» Он играл со мной, как кошка с мышкой. – А что, если это ФСБ? – ФСБ? – Да, ФСБ! – Да нет, это бред, ночной бред, спи! – Сколько, кстати, сейчас времени? – Какая тебе разница, спи давай, завтра день тяжелый. – Гера и ФСБ? – Спи! – Гера продал государственную тайну? – Ну, во-первых, он не знает никаких государственных тайн, а во-вторых… – Что – во-вторых? – Во-вторых: в нашей, ха-ха, несчастной державе их попросту не осталось. Всё разнесли! Пятачок – кучка. Осталась тайна русской души, да и та только у Достоевского. Правда, я читал, ФСБ стало заниматься финансовыми аферами и организованной преступностью. Нет, я, конечно, не верю, что Герин бизнес – на таком уровне, хотя, конечно, все может быть… Но как бы там ни было, я сделал все от себя зависящее. Ну, или почти все. Я молчал три дня… Ну – два. Неполных. А может, посмотреть, сколько сейчас времени? – Да, посмотришь, а там – четыре! Спит стукач, храпит стукач… – Но почему сразу – стукач? Стукач – это когда политика, инакомыслие, диссидентство. А здесь – человек делает свою работу… – Подлую! – Почему подлую? Скорее, грязную… Но необходимую. Страну захлестнула волна преступности, и в борьбе с ней все средства хороши. На том же самом Западе, я читал в «Литературке», не считается зазорным на своего соседа настучать. В Америке нашего шпиона так поймали, как его… Эймса – соседи настучали: им показалось подозрительным, что их сосед живет не по средствам и разъезжает на «Ягуаре»… – На «Ягуаре»?! – А ведь действительно на «Ягуаре»… Ну и что – на «Ягуаре»? А те его соседи теперь в Америке национальные герои. А в Германии, я там же читал, в «Литературке», существует специальный телефон доверия! Снял трубку, набрал номер, и – одним негодяем меньше! А мы все живем по принципу: «Моя хата с краю, я ничего не знаю»! Нет, чтобы заснуть, надо не раздражаться, а вспоминать что-нибудь хорошее, теплое, родное… Даша – да. Алиска – да. Женька… тоже, конечно, да. – И всё? – И всё. – Всё? – Всё… – Сволочь ты, вот ты кто! Сволочь и гад, и еще скотина и свинья! Про маму опять забыл? – И мама, конечно же – мама! Мама… А еще – ДДД! Последний мой ДДД… Мне почему-то все равно представляется, что это было не осенью, а весной, хотя математика – наука точная, с ней не поспоришь, да я и не собираюсь спорить – весной так весной, то есть, ха-ха, я хотел сказать – осенью так осенью; так вот, мой последний ДДД по количеству ДД был на редкость удачным. Да и по качеству, пожалуй, тоже. В тот день я не только предотвратил назревающую драку, но и отремонтировал лифт. Никогда в жизни я не отремонтировал ни одного лифта, а тут взял – и отремонтировал! Это случилось утром. (Накануне вечером мне домой позвонила Цыца и сказала, чтобы я не ехал с утра на работу, а сразу отправлялся по вызову на «Чертановскую», благо от меня это две остановки на метро.) Я вышел из дома в приподнятом настроении: шутка ли – тысяча дней до двухтысячного года! – доехал на метро до «Чертановской», оттуда на автобусе до Суминской улицы, нашел дом, подъезд (кодового замка не было, точнее, он когда-то был, но его выломали. Вообще, с этими кодовыми замками и домофонами столько мороки, что лучше бы их вообще не ставили!), вошел в лифт, в большой, потому что тот, что поменьше, – не работал, нажал пятый этаж, поехал, и вдруг – БАЦ! – встало… И я почему-то сразу почувствовал, что это всерьез и надолго. Хорошо еще, что вызов в Чертаново не был срочным, а то бы я еще больше нервничал. Хорошо также, что лифт был большим. Признаться, не люблю замкнутого пространства, легкая степень клаустрофобии у меня, без сомнения, наличествует, но, сохраняя спокойствие и хладнокровие, я нажал на кнопку с надписью «Диспетчер».
– Ну чего, застрял? – спросил тот с ходу, хотя я еще ничего не сказал. Я даже вздрогнул от неожиданности! А если бы вместо меня в лифте находилась женщина? Не мог же, в самом деле, он меня видеть? И я только и смог ответить:
– Застрял…
– Какой подъезд?
Я назвал. Кажется, подъезд был четвертый, да, чёрт побери, четвертый!
– Ничего не делай и жди, – приказал он.
– Ничего не делаю и жду, – только и смог сказать я.
Ждал я минут пятнадцать, а когда стены, пол и потолок лифта начали, как мне показалось, сближаться, я снова нажал кнопку с надписью «Диспетчер». В ответ – молчание. А потом вдруг:
– Ну, чего молчишь?
А молчал я потому, что думал – он снова первым заговорит. Я растерялся, даже пожал от растерянности плечами.
– Молчу… потому что жду вас…
И он снова замолчал. Я прислушался и услышал его сердитое сопение.
– Ты где? – наконец спросил он.
– В четвертом подъезде, – напомнил я.
– В четвертом тебя нет, – обиженно проговорил он.
Я тоже хотел обидеться, но в процессе дальнейшего обсуждения проблемы выяснилось, что он прав. Я ошибся подъездом. (Со мной такое иногда случается, но, в общем-то, это с каждым может случиться.) Потом также выяснилось, что я не только подъезд перепутал, но и дом, и улицу… Прямо по Булату Шалвовичу: «Просто вы дверь перепутали, улицу, город и век»! Хотя город я, конечно, не перепутывал, а век и подавно, но все равно неприятно – висеть между небом и землей неведомо где, и неизвестно, когда все это кончится… Да это Цыца во всем виновата! У нее не дикция, а самая настоящая фикция! Картавит и шепелявит одновременно. Однажды я ей об этом сказал, в мягкой, конечно, в очень мягкой форме. И знаешь, что она мне ответила? (Шевеля усами.) «Я так говорю, чтобы больше нравиться мужчинам». Я чуть со стула не упал! Так она мне адрес на Чертановской продиктовала, удивительно, как я еще на «Чертановской» вышел, а, например, не на «Площади Ильича»… Хотя, конечно, не одна только Цыца во всей этой путанице виновата, да и не виновата она вовсе, потому что телевизор у нас так орал, что если бы адрес мне диктовала сама Анна Шилова, я бы все равно записал неправильно. Показывали клип «Зайка моя», и Алиска с Женькой врубили на полную громкость и вместе с Аллой и Филиппом пели…(Хотя я не имею права обвинять жену и дочь за то, что они любят Аллу и Филиппа. «Алла родила от Филиппа пятерых», ха-ха! В конце концов, их вся страна любит! Получается, страна не права, а ты прав? Такого просто не может быть.) Но я точно знаю – кто, точнее – что, что стало причиной того происшествия в лифте. Причина в нашей глупости, в нашем неистребимом совковом дуболомстве! Нет, вы только подумайте – на одной станции метро, в непосредственной близости друг от друга находятся Суминская улица и Суминской проезд! Не хватало еще Суминского проспекта, Суминского переулка и Суминского тупика! Фантазия наших чиновников просто поражает своей ограниченностью! В конце нашего разговора диспетчер выматерился и отключился. Я не обиделся. В общем-то, он был прав – нельзя так запутывать человека. В тот момент я попытался его себе представить, точнее, он сам представился мне, сидящий в маленькой прокуренной диспетчерской: худощавый пожилой дядька с седыми, желтоватыми на концах усами, в спецовке, из нагрудного кармана которой торчит химический карандаш, в кирзовых сапогах и старомодной полотняной кепке. А зовут его все не по имени, а по отчеству – Иваныч, например. Его уважают, потому что есть за что уважать. Таким он мне представился сразу после того, как отключился, а может, и не сразу представился, а потом, уже когда я, как пробка, выскочил из подъезда на улицу, да, именно потом, потому что, когда диспетчер отключился, мне было не до того – моя глубоко скрытая клаустрофобия напомнила о себе, – ограниченное пространство лифта вновь начало угрожающе сжиматься. Стало вдруг трудно дышать. Я сунул руку в карман (не знаю, зачем и почему), и вдруг – о чудо, нащупал там свой «Victorinox»! Нет, это все-таки какая-то мистика: как добрая фея, Даша приходит ко мне в критические минуты моей жизни в разном обличье, – тогда она пришла мне на помощь в виде ножа… Я сразу вспомнил многочисленные рассказы в «Огоньке» про чудо-нож и подумал с азартом: «А чем я хуже?» Я вынул отвертку и быстренько открутил винты, на которых держалась металлическая пластина с указанием этажей, снял ее и задумался… Передо мной было переплетенье проводов и какие-то контакты или, не знаю, как они называются. В технике, как говорит Женька, я – ноль, а как Алиска говорит – «минус единица», и это правда, тут ни отнять, ни прибавить… (А очень трудно было его легализовать. Я придумал, что скажу: «Нашел на улице», когда Женька увидит и спросит: «Ого! Откуда он у тебя?» – главное, чтобы она не видела при этом мою покрасневшую врущую физиономию. Я решил произнести эту фразу, закрывшись газетой или уйдя внезапно в туалет, и так и сделал: схватил газету и бросился в туалет, когда Женька, обнаружив «Victorinox» в кармане моего пиджака, спросила: «Ого! Откуда это у тебя?» К сожалению, это была только часть вопроса, первая часть, а я, к сожалению же, до туалета не успел добежать… «Только не говори, что нашел». Такова была вторая часть. И тут я взорвался! Самое странное, что я искренне взорвался. «Почему ты думаешь, что я не мог его найти?» – взорвался я. «Потому что ты в жизни никогда ничего не находил. Ты всегда только теряешь». Логика, тоже мне… Не находил, и нашел! Как там: «Не было ни гроша, да вдруг алтын». – Не было ни шиша, да вдруг шиш! – Не смешно… Но, что интересно, этот разговор с Женькиной стороны продолжения не имел, но, видя мой «Victorinox», она почему-то всегда усмехается… А Алиска поверила, сразу поверила, потому что это же нормально: шел, шел человек и нашел!). Я нашел, как мне показалось, главный контакт (он был красного цвета), убрал отвертку, вынул шильце и ткнул в него… Нет, не так! Вытаскивая шильце, я поранился, хотя это громко сказано – поранился, просто порезал руку, – вместо шильца вывернулось вдруг второе (малое) лезвие (очень острое, даже более острое, чем большое, просто бритва опасная), оно и чиркнуло меня по ладони довольно-таки больно и кроваво, впрочем, не так больно, как кроваво, одним словом – было неприятно, хотя я сейчас думаю, это даже хорошо, что я в тот момент поранил руку, потому что кровь и боль моментально избавили меня от приступа клаустрофобии, я просто о ней забыл. Вытащив из кармана носовой платок, я перетянул раненую ладонь и все-таки ткнул в красный контакт. Метод научного тыка! (Я вспомнил в тот момент прекрасный фильм режиссера Михаила Ромма «Девять дней одного года», где один из героев бьет по какой-то сломавшейся электронной штуковине кулаком и она начинает работать.) Да, искрило, да, трещало, да, было страшно, потому что несколько раз в жизни меня било током, но, извините, что еще мне оставалось делать? Лифт дернулся, я поехал. Сначала вверх, потом вниз, остановившись сначала на восьмом этаже, потом, кажется, на третьем или даже на втором. Почему я думаю – на втором? Да потому, что, когда дверь открылась, я услышал снизу, совсем рядом, громкий стук (стучали кулаком по двери лифта) и громкие возмущенные голоса:
– Прекратите безобразничать!
– Совсем эти чёртовы дети обнаглели!
И что-то еще в этом роде… Голоса были, если можно так сказать, пенсионерские, то есть принадлежали они, несомненно, пожилым людям. Лифт пошел вверх, и очень хорошо, что вверх, а не вниз, а то представляю картину: стоят бедные пенсионеры, дверь открывается, и они видят раскуроченный лифт и меня, окровавленного, с ножом в руке – ужас! И работа закипела – я торопливо поставил на место пластину, прикрутив ее большими шурупами. (Для этого пришлось поменять шильце на отвертку.) За это время лифт поднимался и опускался дважды или трижды, и, приближаясь к первому этажу, я явственно слышал, как мне обещали надрать уши и даже, ха-ха, снять штаны и всыпать. Нет, о том, чтобы выйти на первом этаже, не могло быть и речи, попробуй потом докажи, что ты не верблюд? Я вышел на пятом, на котором, собственно, и собирался выходить. (Если, правда, не считать, что это был не тот дом и улица тоже не та.) Но напоследок я постарался стереть, где носовым платком, а где подошвой ботинка, капли крови на полу, потому что, конечно, людям неприятно входить вот так в лифт и видеть кровь, во всяком случае, мне это было бы неприятно. В последний момент я чуть было не забыл в лифте свой «дипломат», который подарила мне Женька в день, когда я сделал ей предложение. Сейчас, конечно, вид у него неприглядный, да и замок барахлит, открывается в самые неподходящие моменты, а тогда это был жуткий дефицит, и я был страшно благодарен ей за такой роскошный подарок. Я успел его подхватить, выскочил на лестничную площадку и прислушался… Лифт опустился на первый этаж, люди вошли в него, нервно, наперебой между собой разговаривая. Когда лифт проходил мимо пятого этажа, до меня донеслось одно, громче других сказанное слово: «…демократия!». Ну, разумеется, подумал я, разумеется – демократия. В том, что лифт застрял, виновата демократия, а точнее – демократические преобразования, произошедшие у нас в стране за последние годы. Как будто при советской власти лифты в домах не застревали! Знакомые речи… Знакомые и смешные. Выходя из лифта, я вспомнил, какой сегодня день: до начала двухтысячного года осталась ровно тысяча дней, и по этому поводу у меня сегодня – ДДД… И тут же до меня дошло, ЧТО я могу занести в свой актив ДД! Я отремонтировал лифт! А что, не всякий может похвастаться тем, что САМ (!) СОБСТВЕННЫМИ РУКАМИ ОТРЕМОНТИРОВАЛ ЛИФТ! Отремонтировал лифт… А еще та странная старуха… Забыл… Удивительно – был день как день, один из тысяч прожитых, обычный рядовой будний день, но вот пришлось его вспомнить (а прав был Сокрушилин), и оказывается, как много в нем всего было, не день, а прямо-таки целая жизнь! Столько событий, столько впечатлений, встреч… Одна странная старуха чего стоит! Хотя так и осталась для меня непонятной… Я с ней чуть не столкнулся, да, практически столкнулся – ткнулся в ходунки, которые она выставляла перед собой при каждом шаге. Ходунки – что-то вроде табурета на тонких ножках, но без сиденья, и, если бы не они, я мог ее бедную уронить. Страшно даже подумать… Стал извиняться, но тут же замолчал, потому что старуха (хочется назвать ее старушкой, это было бы гуманнее, но почему-то не получается, не старушка она была, а именно старуха – седая, худая, недобрая) молчала и внимательно, не моргая, смотрела на меня выпученными глазами. Сколько ей лет, утверждать не могу, но не удивлюсь, если все сто. Она была высушена многими годами, десятилетиями, а может, и столетием жизни и была скорее мертвая, чем живая. Хотя еще живая… Высушенные кости, обтянутые пергаментом кожи, напоминали цветки, заложенные между страниц книги и забытые там. Она была в грязновато-сером шерстяном платье и теплых меховых тапках. Личико немного лисье, с острым носиком и заостренным подбородком, волосы редкие и совершенно седые, подстриженные в скобку, так стриглись женщины перед войной или даже раньше. Да, необычная старушка, особенно глаза – неопределенного белесо-лилового цвета, они неожиданно напоминали глаза маленького ребенка, который только-только начал различать детали зримого мира, ничего еще не понимая и всему удивляясь, потому что находится в самом начале жизни. И она, похоже, ничего уже не понимала и всему удивлялась, находясь в самом ее конце…
Она стояла, полусогнувшись и опираясь на ходунки, и, опустив голову, тем же удивленным взглядом провела по полу лестничной площадки… Как на всех наших лестничных площадках там было не очень светло, но я сразу увидел лежащие в разных местах черные шарики. Я не понимал, что это такое, и у меня вырвался удивленный вопрос.
– Что это?
– Бусы, – ответила старуха довольно неприятным скрипучим голосом.
Я не понимал, как бусы оказались на полу, но тут же до меня дошло, что они рассыпались.
– Рассыпались? – спросил я.
– Рассыпались, – кивнула старуха.
– Собрать?
– Собрать! – неожиданно повелительно приказала она.
Ну и я, конечно, стал собирать… Бусины были крупные, холодные и очень тяжелые, как будто каменные… И мне почему-то вспомнилась Варвара Васильевна, моя единственная в жизни недолгая няня, вспомнилась тогда, и сейчас вспоминается… И я понимаю почему – она ведь тоже была старая, и там тоже фигурировали бусы… Хотя Варвара Васильевна была другая, совершенно другая… Мама запрещала называть ее бабушкой или бабой Варей, потому что бабушкой она мне не была, мама наняла ее, чтобы Варвара Васильевна со мной сидела. Она и сидела… И беспрерывно смотрела телевизор. А я сидел у нее на коленях и тоже, разумеется, смотрел. Может, потому я и не запомнил ее лицо? Я запомнил Варвару Васильевну спиной – она была большая и теплая. Как печка. Она сидела неподвижно и, почти не закрывая рта, комментировала происходящее на телеэкране, постоянно находясь в диалоге с ведущими, удивляясь новостям, которые они сообщали, соглашаясь или споря. А еще она всех жалела: проигрывающих хоккеистов, даже если те были нашими противниками, а в фильмах про войну жалела убитых немцев, шепча что-то неразборчивое и крестясь, и получалось так, что она крестила или, наверное, правильнее сказать – перекрещивала заодно и меня, тыча большими твердыми пальцами, попадая мне то в лоб, то в грудь, то в живот – это меня смешило и почему-то нравилось. Надо честно признать: Варвару Васильевну я любил тогда больше, чем маму, и понятно почему – мама разрешала смотреть по телевизору только редкие в те времена мультфильмы, а с Варварой Васильевной я смотрел всё подряд. Потом что-то случилось. Какая-то неприятная история. Я заболел скарлатиной, очень сильно заболел, так что ничего вокруг не видел и не понимал, а когда пришел в себя, Варвары Васильевны у нас уже не было. Случилась какая-то неприятная история… Говорили, она украла МАМИНЫ БУСЫ. Хотя никаких бус я у мамы не помню, она вообще их не признавала, утверждая, что ювелирные украшения превращают женщину из личности в предмет потребления, однако почему-то всем говорила: «Варвара Васильевна украла мои бусы». Мама была так сердита, что даже запретила мне ее вспоминать, но я конечно же вспоминал – ребенок есть ребенок; да и потом, став взрослым, иногда вспоминал, и вот надо же – снова старушка и снова бусы… Не помню, говорил ли я что, ползая на коленях и собирая раскатившиеся шарики, наверное, говорил, но что-то совершенно несущественное, чтобы как-то занять старушку, но она заговорила, что заставило меня замолчать и прервать сбор черных бусин на сером бетонном полу. Она сказала (странно, я это совсем забыл, а сейчас вдруг вспомнил, как будто она только сейчас это сказала), итак, она сказала, произнесла странную фразу:
– В Городище детки – безручки, безножки, безглазки, безголовки – плачут, безбожную Клару зовут, но Клара не дура, Клара в Городище больше ни ногой!
Абракадабра, понятно, но страшная абракадабра, таинственная абракадабра, впрочем, абракадабра всегда таинственна. Какое Городище, какие детки-безголовки, какая безбожная Клара? Но так, именно так, слово в слово, и интонация плачущая, страдающая: «В Городище детки – безручки, безножки, безглазки, безголовки – плачут, безбожную Клару зовут, но Клара не дура, Клара в Городище больше ни ногой!»
И еще она то и дело повторяла: «Если не он, то кто?» Если не он, то кто?
– Это куда-то… отнести?.. Положить?.. – собрав наконец бусы, напомнил я осторожно, чтобы поскорей закончить это не очень приятное общение.
– Отнести… Положить… – недовольно проскрипела старуха и, приподняв ходунки, двинулась к двери дальней квартиры: ходунки вперед – два шага, еще вперед – еще два…
Я шел за ней, с дурацкими бусами в руках, медленно, как на похоронной процессии. Она жила в однокомнатной, просто, если не сказать аскетично, обставленной квартирке, в которой я не заметил ничего, что могло бы пролить свет на прошлое моей странной собеседницы, там, кажется, даже не было на стенах фотографий, которые я так люблю в чужих квартирах разглядывать. Мне не удалось сразу от нее вырваться, потому что дальше начался рассказ про какого-то человека, мужчину, который несколько минут назад встретился ей на лестничной площадке и, крикнув «И ты, старая сука!» – сорвал с шеи бусы. Я предложил пойти поискать хулигана или позвонить в милицию, но старуха помотала головой и, неожиданно улыбнувшись, обозначив улыбкой несуществующие губы, в который раз повторила:
– Если не он, то кто? – И я понял, что она имела в виду этого негодяя.
Жалко было эту дряхлую полубезумную женщину, но я ведь не геронтолог, не психиатр, я всего лишь ветеринар и, между прочим, тоже человек… Не помню, как я оттуда вырвался или выскользнул, и только на улице вздохнул с облегчением… Но как все-таки странно устроена наша жизнь! Прямо-таки сплошняком она набита ненужными встречами с ненужными людьми, которые ничего для нас не значат и ничему не учат, она, наверное, наполовину, на три четверти, на четыре пятых даже из таких встреч состоит. И вот эта старуха, настолько неприятная, что встречу с ней я напрочь забыл и вспомнил только под давлением обстоятельств. Кто она? Как ее зовут? Сколько ей лет? Чем она занималась в прожитой жизни и почему ведет такие странные разговоры? Это вопросы, на которые я никогда не получу ответа, а раз так, зачем они мне? Но что-то ты расфилософствовался… Что было потом? Потом… Потом я отправился на работу, провел прием (РЫЖИКОВА!), а в конце дня поехал по срочному вызову в центр, в Трехпрудный переулок, где благополучно ощенилась фоксиха Луша (почему-то фоксих очень часто называют Лушами), там тоже была очень интересная встреча и очень интересный разговор, который, в отличие от встречи со старухой, я не забывал и, думаю, еще не скоро забуду. Итак, в приподнятом настроении я вышел на Тверскую, но почему-то не пошел, как собирался, в книжный магазин «Москва», а стал глазеть на выставленный прямо на улице «Hummer» за 113 000 USD (значит, это тоже было пятого апреля? Фантастика!), после чего прогулялся по родному Тверскому, на котором встретил адмирала (или контр-адмирала) с женой и даже немного с ними пообщался, а у памятника Тимирязеву «пообщался» со сборщиками стеклотары и, отчасти в результате этого, спустя какое-то время оказался прямо напротив церкви, в которой Пушкин венчался, где и остановился в раздумье: входить или не входить, и раздумье это было столь глубоким, что я напрочь забыл о моем, так сказать, музыкальном сопровождении, до боли знакомое «звень-звень» уже не звучало в ушах, кажется, оно исчезло еще за квартал до того места, на котором я теперь стоял. А стоял я, как избушка на курьих ножках, к храму, где Пушкин венчался, – передом, а к сидящему Алексею Толстому (к памятнику его) – задом, стоял и думал: могу ли я туда войти? С одной стороны – нет. По причине собственной некрещенности. Именно по этой причине я никогда не заходил внутрь действующих храмов. Даже когда на третьем курсе мы плавали на байдарках по рекам К-ской области и сделали остановку рядом с монастырем, в котором, как говорили, на пути в ссылку был Достоевский. Говорили, что в том монастыре Достоевский видел того отрицательного монаха, которого классик в «Братьях Карамазовых» описал, как-то его звали? Ферапонт, кажется, я эти смешные церковные имена с трудом запоминаю. К нашему удивлению, вместо монастыря там была тюрьма, зона, нас к ней близко не подпустили. Действующую церковь мы обнаружили позже, когда сплавились по реке Неверке ниже, и все наши пошли «службу смотреть», а я остался снаружи, у открытых дверей. (Где наблюдал картину просто возмутительную!) Наши потом допытывались: «Неужели тебе не интересно?» – а я ответил, что мне интересней зона, потому что живая жизнь, а в церкви что… Но что я мог ответить? Это как если бы мужчина в женское отделение Сандуновских бань собрался, там тоже интересно, но ведь ты не женщина… Так и здесь: раз ты не крещеный, то и нечего тебе в церкви делать! Порядок есть порядок, принцип есть принцип! Но это с одной стороны, и вообще… А с другой и в частности, я давно хотел в этот московский храм попасть, потому что ровно за сто двадцать пять лет до моего рождения, день в день, в нем венчался Александр Сергеевич Пушкин, который лично для меня даже больше, чем всё. Мне всегда хотелось увидеть, а может быть, даже и постоять на том самом месте, где стоял ОН – «солнце русской поэзии», чернявый, смешливый, на пять сантиметров ниже меня, а рядом она – «гений чистой красоты», юная глупышка ростом с мою Женьку; постоять и представить, как все это было: как, звеня, упало кольцо и покатилось по каменному полу, как побледнел Александр Сергеевич, а Наталья Николаевна улыбнулась, еще ничего не поняв…[25] Наверное, я бы долго еще сам с собой боролся, но вдруг большая церковная дверь со скрипом отворилась, из темноты вышла тетенька в сером халате и белом платке и, нагнувшись, подложила под дверь деревянный клинышек, чтобы дверь не закрывалась, и, выпрямившись, прежде чем уйти в свою темноту, посмотрела на меня удивленно, точнее, не удивленно, а, я бы даже сказал – укоризненно. Видимо, ее взгляд и перевесил чашу весов в пользу того, чтобы я вошел, а может, обошлось и без взгляда – просто моя любовь к Пушкину взяла верх над моими же принципами. Надо сказать, вошел я в храм, можно сказать, с благоговением, но почти сразу испытал страшное разочарование. ФАНЕРА! Банальная фанера превалировала во всем его внутреннем убранстве. Собственно, для посетителей была отгорожена лишь небольшая часть (фанерой же и отгорожена), из-за которой раздавался частый стук молотков и какие-то тяжелые, неритмичные, неприятно тревожащие удары. Но это ладно, на это можно закрыть глаза, точнее, уши, а вот фанера, тут уж как глаза не закрывай, фанерой и останется. Одно слово чего стоит – фанера. Да, я понимаю, идет ремонт, понимаю, что это временно, но кто же не знает, что нет ничего более постоянного, чем временное? И это при том, что неподалеку, здесь же, в центре, возводится эта громадина, которая никому не нужна – храм Христа Спасителя. Уж туда-то денег вбухивают! Я даже хотел сразу уйти – так мне все это не понравилось. Но тут внимание мое привлекла исповедь, хотя я даже не понял сразу, что это исповедь. Мне всегда казалось, я был уверен, что существует специальное помещение, где все это происходит. Как в кинофильме «Овод», где Сергей Бондарчук играет святого отца. И еще в каком-то фильме, в «Красном и черном», кажется, там такие специальные, разделенные надвое кабинки: сидит священник, а рядом за перегородкой, у окошечка, сидит тот, кто пришел исповедоваться. Очень удобно: священник не видит тебя, но слышит, а ты можешь все ему рассказать, не стесняясь. Очень удобно, действительно. Да и сидя тоже удобнее… Так вот, я даже не сразу понял, что это такое, и только потом догадался – исповедь. Но сначала я увидел очередь! Меня это даже развеселило: вроде избавились от очередей в магазинах, а они вот куда переместились! Причем очередь была не вчерашняя и не позавчерашняя даже, а, я бы сказал, времен Гражданской войны – серая, скорбная, унылая. В основном, женщины стояли, что усиливало сходство с очередью времен Гражданской войны. Интересно, что стояли они совсем недалеко от места, где производилась исповедь, всего в каких-то двух-трех шагах, и я не уверен, что они не слышали… Женщина, которая исповедовалась, была накрыта блестящей церковной тряпицей, и это тоже выглядело странно. Священник, правда, мне понравился: невысокий, с большой блестящей лысиной, в очках, интеллигентного вида. Но это даже не главное, главное – глаза, глаза его мне понравились, очень уж они у него были добрые… Впрочем, глаз его я как раз и не видел, глаза у него были все время закрыты, но представлялось несомненным, что они там – добрые, очень добрые. Он слушал женщину с закрытыми глазами, с мягкой улыбкой на полноватых губах, которые не могла скрыть довольно большая и мягкая (я почему-то уверен, что мягкая) золотистая борода, – склонив голову набок и плавно ею покачивая. Со стороны глядя, можно было подумать, что он слушает не перечень чужих грехов, а чудесную сказку, которую прекрасно знает, но любит слушать вновь и вновь. Сказку в стихах – он покачивал головой не только плавно, но и ритмично, как будто это было стихотворение, «У Лукоморья дуб зеленый» например… (Ну конечно же «У Лукоморья дуб зеленый», храм-то – пушкинский!) В какой-то момент я даже позавидовал женщине, накрытой блестящей церковной тряпицей, и мне даже немного захотелось оказаться на ее месте, но когда представил, что придется всё про себя рассказывать (это же со стыда сгореть можно!), – сразу расхотелось, а увидев, как после данной процедуры женщина стала целовать священнику руку – подобострастно, я бы даже сказал – униженно-подобострастно, – совершенно расхотелось! Гера шутит, когда видит, как мужчина женщине руку целует: «Салон Анны Павловны Шерер». Но то – мужчина женщине, а это – женщина мужчине! Да еще с таким подобострастием, с униженным, я бы сказал, подобострастием, – я не смог на это смотреть и отвернулся. К тому времени я уже понимал, что место, где стояли когда-то Александр Сергеевич и Наталья Николаевна, находится за фанерной перегородкой, откуда раздавался частый стук молотков и тяжелые, неритмичные, неприятно тревожащие удары. Общее разочарование нарастало, исходя из здравого смысла, мне следовало немедленно покинуть помещение, но что-то, какое-то несделанное дело не давало мне уйти. И я вдруг вспомнил: «Свечка! Надо же поставить свечку!» Насколько я знаю, каждый входящий в церковь должен поставить там свечку – это обычай, ритуал, если угодно – плата за вход, и, в конце концов, это просто красиво, и я ничем не лучше и не хуже других… Но чтобы поставить свечку, надо ее купить. Я посмотрел налево, посмотрел направо и, обнаружив отгороженный фанерой уголок, где продают свечки, сделал в том направлении шаг, как вдруг услышал:
– Морда жидовская, девочку ему подавай!
От неожиданности я остановился и прислушался… Да нет, не прислушался, в том не было никакой необходимости, эти слова были произнесены громко, демонстративно громко, однако никто, кроме меня, на них, кажется, не прореагировал. Я продолжил свой путь, слыша то, что слышал во время путча перед Белым домом: весь этот антисемитский бред про проданную евреям Россию. Ненавижу антисемитизм! У меня с Герой по этому поводу главные в жизни разногласия. Нет, не то чтобы Гера – антисемит (в таком случае я не имел бы с ним ничего общего), просто он, как он сам говорит, их не любит. Хорошо, не люби, никто не заставляет тебя любить евреев, но зачем же про народ гадости говорить? Про народ, про целый народ! «Ты не работаешь с евреями». Я не работаю с евреями? А Марик, а Цыца, они, по-твоему, кто? (Хотя Цыца, кажется, айсорка). Так вот, между нами, девочками, говоря, если меня, твоего друга, сравнить с Мариком, и даже если с Цыцей меня сравнить (не важно, еврейка она или айсорка) – как профессионала, как товарища по работе, как просто человека, – сравнение будет не в мою пользу, поверь – не в мою, потому что они лучше, чище, умнее! (Не мне ли об этом судить, я ли себя не знаю?) Антисемитизм – заразная болезнь, я тоже в детстве чуть не заразился, и неизвестно, что сейчас со мной было бы, если бы не мама. (Опять – мама!) Это случилось в детстве, в моем школьном детстве, в четвертом, кажется, классе, – я прибежал домой и сказал какую-то гадость про какого-то своего одноклассника. (Причем интересно, что этого я совершенно не помню, наверное, сказал про него, что он плохой, потому что он еврей, – реконструирую сейчас то событие). А потом (это я уже отлично помню) мама поставила меня прямо перед собой, очень серьезно посмотрела мне в глаза и спросила:
– А что, если твой отец – еврей?
– Мой отец – еврей? – растерянно пролепетал я.
– Я не знаю, – улыбнулась мама. – Я просто никогда не интересовалась его национальностью.
Я тоже улыбнулся, но – растерянно.
– Но если он еврей, тогда и ты тоже еврей? – В маминых глазах появился знак вопроса.
Мне нечего было на это сказать, и мама закончила:
– Поэтому, прежде чем назвать кого-то евреем, подумай – не еврей ли ты сам?
И – всё! Мой детский антисемитизм как рукой сняло! Тебе, старик, тоже не мешало бы получить такую прививку. Да, я знаю, твой папа – немец, ну а вдруг? Нет, я понимаю, что это практически невозможно, а теоретически? То-то же, старик, то-то же… (Нет, все-таки, мама – гениальный педагог!) Но я хочу спросить: почему там, где церковь, там и антисемитизм? Я читаю «Наш современник», по старой привычке читаю, и с прискорбием замечаю эту ужасную тенденцию. Православие, антисемитизм, народность – вот! Раньше было: православие, самодержавие, народность, а теперь – православие, антисемитизм, народность… Я остановился и прислушался, да, все-таки прислушался и услышал…
– Всю Россию себе захапали, теперь им девочек наших подавай!
Я обернулся. Это была женщина, одетая ярко, но безвкусно и грязновато, я бы сказал, убого. Яркая и убогая… (Именно таких, непонятного социального статуса, неведомо откуда взявшихся сразу в большом количестве женщин и мужчин я видел возле Белого дома во время второго путча.) Она посмотрела на меня с подозрением, продолжая нести свою злобную ахинею. Стоявшие рядом старушки слушали, открыв рты. А она, кстати, была не старая, ей было не больше сорока, и, всмотревшись в ее очень подвижное лицо, я обнаружил, что она – красивая, я бы даже сказал, чрезвычайно красивая женщина. У нее очень правильные черты: высокий лоб, прямой нос, большой хорошо очерченный рот и ровная линия подбородка. Из-под грязноватой шелковой косынки выбивались пышные каштановые пряди волос. Глаза ее было трудно разглядеть, да и не хотелось этого делать, так как под одним, левым, кажется, расплылся ужасный синяк. Кроме часто звучащего в ее речи слова «жиды», женщина употребляла также во множестве чисто церковные выражения, которые (видимо, в силу своей неконкретности) у меня в голове перемешались – все эти архангелы и архимандриты, но была одна фраза, которая запомнилась – своей необычностью и загадочностью: «Чрево отроковицы Богородица запечатала». Именно так – ЧРЕВО ОТРОКОВИЦЫ БОГОРОДИЦА ЗАПЕЧАТАЛА. (?!) Фраза эта запомнилась мне еще, наверное, и потому, что рядом стояла, видимо, та самая отроковица, без сомнения – дочь. Лет ей было двенадцать-тринадцать, не старше моей Алиски. Одета девочка была, как и ее мать – ярко, безвкусно и грязновато. Скромный белый платочек, повязанный, как видно, наспех перед самым входом в храм, на фоне химических, ярких цветов ее одежды выглядел чуждо и нелепо. У девочки были большие, я бы сказал – неправдоподобно большие, как на картинах Ильи Глазунова, красивые синие глаза, но при этом они были так жирно и безвкусно подведены, отчего красота их сводилась на нет, а губы были ярко накрашены, что превращало лицо ребенка во что-то ужасное. (Если бы я увидел такой мою Алиску, просто не знаю, что бы со мной было!) Внешний вид этой девочки вызывал сочувствие – ребенок, но одновременно и тревогу – очень испорченный ребенок, я бы даже сказал – порочный ребенок, хотя и страшно такие слова произносить. Да, еще… Одна щека девочки была залеплена от уха до скулы полоской бактерицидного пластыря, что усугубляло общее негативное впечатление. Медленно, лениво, напоказ она жевала резинку и покачивалась взад-вперед… У Геры есть выражение, вернее, характеристика определенной категории женщин: «Она ходит лобком вперед». Грубо, конечно, но Гера, как всегда, точен, я бы сказал – цинично точен. Это не только манера некоторых женщин ходить, но в некотором смысле их отношение к жизни и, в первую очередь, – к мужчинам… Девочка стояла на месте и двигала определенной частью своего тела взад-вперед, взад-вперед… (Как же неприятно всё это вспоминать!) Ту определенную часть тела прикрывала икона, которую держала девочка в опущенных руках. Это была довольно большая и, видимо, тяжелая икона в массивной раме, под толстым стеклом, но не старинная, а новодельная, может, даже фотографическая, украшенная мертвыми вощеными цветами и блестящей мишурой. Икона покачивалась в такт с движениями взад-вперед, и в ней, точнее, в закрывающем ее стекле дрожали, отсвечивая, огоньки свечей и лампад. Это выглядело неожиданно красиво, я бы даже сказал – завораживающе красиво, и я не сразу разглядел за бликующим стеклом саму икону. Там была изображена Дева Мария с направленными в ее грудь то ли шпагами, то ли кинжалами. Ничего подобного я нигде и никогда не видел. Та странная женщина в своем потоке малопонятных незапомнившихся слов не раз повторила малопонятное опять же, но запомнившееся слово – «семистрельная». Что-то вроде «Владычица семистрельная чрево отроковицы запечатала», из чего я сделал вывод, что имеется в виду эта самая икона. Да, возможно, их было именно семь, не знаю, не считал, но утверждаю, что это были никак не стрелы, а именно холодное оружие: шпаги или даже кинжалы. Язычество какое-то, а не христианство. (Я так и подумал в тот момент: «Язычество какое-то, а не христианство».) «Язычество какое-то, а не христианство», подумал я и ПОЧУВСТВОВАЛ, что она на меня смотрит. Девочка. Девочка на меня смотрела… Изучающе и насмешливо. Очень изучающе и очень насмешливо. (Практически презрительно. Это я тоже почувствовал.) Она хотела, чтобы я на нее посмотрел, но не просто посмотрел, не как взрослый человек на ребенка, а как мужчины на женщин в определенные моменты смотрят, она вызывала во мне именно такой взгляд. Видимо, мужчины уже смотрели на нее так, это ей понравилось, и теперь она хотела, чтобы и я тоже… Девочка, ребенок – она требовала, чтобы я, взрослый мужчина, посмотрел на нее, как на женщину! И даже не требовала – знала, она знала, была уверена, что я так на нее посмотрю, и эта уверенность и рождала ее ко мне презрение. И я понял – надо уходить, надо срочно уходить! Не поднимая головы, я торопливо направился к выходу, и уже взялся за ручку двери, когда вспомнил про свечку. Мне страшно не нравится в себе одна черта. Эта черта – нерешительность. Хотя в моем случае это не совсем точное определение. Нерешительность – это неспособность или нежелание принимать какое-либо решение из страха перед последствиями, я же принимаю его с легкостью, но любое, самое малое препятствие на пути моего самого твердого решения может изменить его до неузнаваемости, а то и просто отменить. С одной стороны, кажется, что так легче, так проще жить – как речка или ручеек огибает препятствия и течет себе, весело журча, однако это кажущаяся, обманчивая легкость! Я взялся за ручку двери, за медную холодную ручку, и мгновенно остыл, охолонул, как будто прислонился к ней не рукой, а лбом, но главное – я разозлился! О, великая злость, иногда ты приходишь мне на помощь! В этом состоянии я все могу преодолеть! «Я решил поставить свечку, значит, я поставлю свечку», – сказал я себе и направился к фанерной выгородке, где этими самыми свечками торговали. По пути я взглянул на святого отца, на его бороду, на его рясу или ризу, не знаю, как этот балахон называется, и подумал: «Какая это все-таки архаика, как это все-таки несовременно!» Я включил свою злость, как летчик включает форсаж, и подошел к столу, на котором лежали свечки. Они там были разные – от тысячи рублей самые большие, до ста – самые маленькие. Назло всем я решил купить самую большую и дорогую. Памятуя о том, что счастливые хозяева ощенившейся фоксихи отвалили мне кучу денег, я полез в карман и, к своему удивлению, обнаружил там лишь пластмассовый жетон на метро и какую-то мелочь. (В самом деле, куда делись в тот день деньги? Потерял? Страшно не люблю, когда что-нибудь теряю, но именно это происходит со мной чуть ли не ежедневно.) Женщина, торговавшая свечками, та самая, которая открыла дверь и подложила под нее деревянный брусок, смотрела вопросительно. Когда на меня так смотрят, я еще больше начинаю на себя злиться, я вытащил из кармана всю мелочь, стал считать ее на ладони и насчитал чуть больше ста рублей. У женщины было серое лицо и бесцветные глаза, которые по-прежнему смотрели на меня вопросительно.
– На все! – сказал я зло и сам взял свечку, самую маленькую, как раньше говорили, копеечную. (Копеечная свечка за сто рублей – подумать только! Как будто сто рублей, а по сути – копейка! В какой стране мы живем? Конечно же – в Абсурдистане!) А ведь я не только «на все» сказал, я еще и «сдачи не надо» прибавил – стыдно! И потом было стыдно, и теперь… А тогда нет. Но я знаю, почему я так себя вел. Я дал слишком много форсажа, я чересчур разозлился, и моя злость на себя автоматом перекинулась на всех, кто там был: на священника, на очередь времен Гражданской войны, на эту женщину с серым лицом и даже на ту неприятную девочку. Решительным шагом я подошел к ближайшей иконе и с возмущением обнаружил, что это не икона – репродукция, плохая глянцевая репродукция, вырезанная, может, даже из «Огонька», фактически тоже фанера. В прямом и переносном смысле – фанера! И я остановился, готовый уже сунуть свечку в карман или положить ее куда-нибудь незаметно и уйти, и вдруг:
– Тише!
Это был голос того священника. Он произнес это слово негромко, но требовательно и властно. Вмиг в храме стихло. Перестали шушукаться по темным углам старушки, замолчала та неприятная женщина, даже за фанерной перегородкой перестали стучать. Только сгустился церковный запах не знаю чего, ладана, кажется… И я пошел дальше, и, конечно, напрасно… Я вообще не люблю, когда на меня смотрят, а когда смотрят мне в спину, и подавно не люблю. (Хотя вряд ли все смотрели мне в спину, но тогда мне так казалось.) Итак, все смотрели мне в спину и ждали, что я дальше буду делать. Ближе всего стояло большое, в человеческий рост, распятие: Христос на кресте, а под ним жутковатые, как на столбах высокого напряжения, череп и перекрещенные кости. Я шел, боясь споткнуться и упасть, невольно при этом желая, чтобы тишина скорей нарушилась, чтобы зашушукались вновь по углам старушки, застучали молотки строителей, и пусть бы даже та неприятная дама несла свою антисемитскую ахинею. Но было тихо. Не помню, как я дошел до распятия, но дошел. Прямо напротив него стояла (не знаю тоже, как называется) блестящая подставка для свечей[26], но свечей в ней не было ни одной. Я рассказываю это для того, чтобы было понятно: мне не от чего было поджечь свою свечку, если не считать еле тлеющего огонька на лампаде посредине. (Лампада – знаю.) И я решил поджечь свою свечку от нее, хотя понимал, что могу и свечку не зажечь, и огонек в лампаде погасить. (Не представляю даже, что бы я делал, если бы это действительно произошло?) Я поднес свечку к крохотному зыбкому пламени и с раздражением обнаружил, что рука у меня дрожит. Вновь включив форсаж, я справился с волнением, поджег свечку и с силой вставил ее в латунную гильзочку. Потом поднял глаза на распятие и обнаружил, что оно тоже фанерное. (Фанерный Христос, как вам это нравится?!) За моей спиной по-прежнему стояла гнетущая тишина, как будто они все там смотрели на меня и ждали. Я знал, чего они ждали. Они ждали, когда я перекрещусь. (Когда ставят свечки – крестятся.) Но я совершенно не собирался этого делать! К тому же я не имел на это права! «Ну нет, голубчики, не дождетесь!» – мстительно подумал я, решительно повернулся и решительно же направился к выходу. И вот что интересно, как только я сделал первый шаг, все гулкое пространство храма вновь наполнилось звуками: священник стал что-то громко выговаривать женщине, которая только что поцеловала ему руку, неприятная дама вновь понесла свою ахинею, за фанерной перегородкой что-то, упав, загремело, и где-то стал робко распеваться невидимый хор, состоящий из нескольких слабых голосков. Я шел к выходу, как победитель, я сделал то, что хотел сделать, несмотря на возникавшие препятствия, и я не огибал их, как робкий ручеек, а, как бурный поток, пер напролом! Пер напролом, пока не случился облом. (Тоже рифма, хотя и неважная.) А он случился. Облом. Уж лучше б я не пер напролом. А дело вот в чем: я всегда твердо знал – есть вещи, которые делать нельзя. Никогда. Ни за что. Ни при каких обстоятельствах. Потому что, если ты это сделаешь, тогда пиши пропало. Назад возврата нет. А впереди пропасть. И ты в нее уже падаешь. Например? Например, нельзя говорить «нет», если у тебя есть. Деньги, например. Нельзя смотреть на жену друга как на женщину. Женщин нельзя бить. И детей тоже. Нельзя расстраивать маму. Вообще, их много, этих самых НЕЛЬЗЯ, причем не только общего порядка, но есть еще и частные, единоличные, одноразовые нельзя, когда в данный конкретный момент лично тебе нельзя делать то-то и то-то. Причем это сразу понимаешь, как будто кто-то говорит: «Тебе это нельзя». Может даже прибавить: «Ни в коем случае!». И когда я шел (пер) от своей горящей свечки на выход, я знал, что – нельзя. Нельзя смотреть на ту девочку. А я посмотрел…
Вторая (окончание)
А знаешь, старик, что самое неприятное в автозаке? Ты спрашиваешь, что такое – автозак? Ну, старик, надо знать. Автозак, это… автозак… Я вот тоже – который день нахожусь на положении арестованного, а только впервые еду в автозаке. То на «Жигулях», то, понимаешь, на «Hummer’e». А вчера вечером на «Волге», на черной, между прочим. Так вот – автозак. Устроен он следующим образом: эта его, скажем так, будка разделена надвое. В одной половине сижу я, в другой – мой охранник. Его я наблюдаю сквозь зарешеченное без стекла оконце, в которое, кстати, немилосердно дует. Охранник – милейший молодой человек. Всю дорогу спит, причем спит по-настоящему, а не делает вид. Даже всхрапывает… Вторая моя ночь, за тебя, друг, почти сплошь состояла из разговоров. Причем если до перерыва в основном говорил я, то после это был уже он, мой сосед, сокамерник, Дмитрий Ильич Слепецкий. Он начал говорить, когда я еще спал, – шепотом, вполголоса. Он повторял на разные лады одну и ту же фразу, которую мне совсем не хочется повторять, но ради правды жизни я готов это сделать… На разные лады: то рассеянно, то удивленно, насмешливо, презрительно, а то и вдруг зло… Она не матерная, но какая-то противная, я бы даже сказал – мерзкая, и мерзости этим трем словам прибавляет, конечно, ситуация, в которой они произносились: ночь, камера Бутырки, сосед Дмитрий Ильич Слепецкий, интеллигентный человек, и этот интеллигентный человек бубнит без остановки: «Орально, анально и, наконец, вагинально». Не три, а четыре слова, но это все равно, смысл не меняется, точнее, никакого смысла в них нет, а мерзости хоть отбавляй… И конечно, я ничего не мог понять и от этого непонимания, как обычно со мной бывает, засмеялся. Не сразу, нет, я долго крепился, сдерживался, не дышал, потому что, как только начнешь дышать, то сразу и засмеешься, но ведь нельзя долго не дышать, и я задышал, и сразу засмеялся. Не над ним – над собой, потому что решительно не мог понять, что же за человек этот Дмитрий Ильич Слепецкий? Последний раз я смеялся так среди ночи, когда Женька во сне разговаривала, и тоже не над ней, а над собой, а Женька тоже решила, что над ней, забрала одеяло и подушку и ушла к Алиске досыпать. Почему-то, когда я смеюсь, все думают, что я над ними смеюсь, как будто мне не над кем больше смеяться? И обижаются… Вот и Дмитрий Ильич тоже обиделся и закричал.
– Так вы не спите? Вам смешно?! Смешно, да?! Смешно дураку, что рот на боку! Вы – дурак! Вы знаете, что вы дурак? – Произнесено все это было возмущенно, но совершенно не обидно, и я не обиделся.
– В каком смысле? – спросил я и сел. Мне хотелось в ответ его тоже как-нибудь так назвать, но я не знал как, потому что так и не мог понять, что же это за человек.
– В каком смысле? – строже повторил я свой вопрос.
– В прямом и полном! – выкрикнул он. – Ваш друг вас кинул, подставил, разве вы не понимаете?
Я: Не понимаю.
Он: Не понимаете? Объясняю! Ваш друг вас кинул, подставил. Он купил этого продажного следователя, и вас взяли вместо него!
Мне снова стало смешно.
– Какого из следователей? – спросил я, кусая губу, чтобы не рассмеяться. – Какого из следователей вы имеете в виду? У меня их двое.
– Обоих! – закричал он. – И вас взяли вместо вашего друга!
Я: Как это – вместо, не понимаю.
Он: Вы помните, у Толстого в «Хаджи Мурате», где брат пошел служить на Кавказ вместо призванного в армию брата и его там шлепнули… Читали?
Я: Ну, допустим, читал.
Он: Это вам ничего не напоминает?
Я: Ничего не напоминает.
Он: Да это то же самое, только наоборот! Там брат брата спасает, а тут друг друга… кидает! Что вы молчите? Думаете, я вас не понял? Не раскусил? Да прекрасно я вас раскусил! В благородство решили играть? Молчать, чтобы он успел за границей скрыться? Поэтому не говорите им, кто вы есть на самом деле?
Я: Меня просто об этом не спрашивают.
Он: А вас и не будут спрашивать! Им на руку то, что вы молчите! Вас посадят и фамилию не спросят!
Тут я ничего не понял и даже руками развел.
– Но за что меня посадят?
Он: Не за что, а за кого. За други своя, понимаете?
Я: Нет, не понимаю.
(Я поразился проницательности моего сокамерника, но сделал вид, что ничего не понял.)
Он нахмурил брови и раздраженно махнул в мою сторону рукой.
– Да всё вы понимаете! Знаете, вы кто? Вы – «говядина»[27]. Знаете, что это такое?
– Знаю.
– Так вот, вы – новая русская «говядина»!
Извини, старик, я прерву свой рассказ, потому что наш автозак остановился и мой охранник куда-то торопливо отлучился. Куда, не знаю, улицу отсюда не видно, остается только догадываться… Можно ли отсюда убежать? Теоретически можно, но практически нельзя. Да, я так тебе и не рассказал, что в автозаке самое страшное… Возвращается, кажется… Точно. За сигаретами бегал. Что же курят славные наследники графа Лаврентия Берии? «Ява» явская – «Наш ответ Америке»[28]. Поехали дальше? Поехали дальше… А дальше было следующее! Мне не хотелось возражать на его несправедливые и неприятные доводы, просто не хотелось, и я согласился.
– Ну хорошо, пусть я дурак, я дурак, а вы – кто? Кто вы, человек, который вечером говорит одно, а ночью, в одиночестве, совершенно другое?
Сосед непонимающе моргает.
– Что? Что я говорил?
– Вам повторить?
– Сделайте милость.
– Орально, анально и, наконец, вагинально! – выпаливаю я и смотрю – прямо и требовательно.
Слепецкий неожиданно смеется – негромко, смущенно и как-то очень хорошо.
– Ах это… – говорит он, продолжая смущаться. – Это, знаете, когда не выспишься, прицепится какая-нибудь мелодия, «Зайка моя» какая-нибудь, и всё крутится и крутится в голове. А бывает, слова, фраза какая-нибудь, а это заголовок.
– Заголовок? – как похожи мы со Слепецким.
– Ну да, газетный заголовок. Заметка называлась: «Орально, анально и, наконец, вагинально». Она меня так поразила, что я целый день потом повторял. И вот вдруг всплыла и дергается, как поплавок на воде.
Наверное, на моем лице тоже сейчас улыбка. Дурацкая, разумеется…
– Ну и про что же там было написано? – осторожно спрашиваю я.
– А вы думаете, я ее читал? – с насмешливым вызовом отвечает Слепецкий. – Мне вполне хватило заголовка. Но вы спрашивали, кто я. Отвечаю: я заказчик.
Произнеся последнее слово, он как-то вдруг потух.
– В каком смысле? – не понял, а точнее, не поверил.
– В прямом и полном, – вновь ответил мне Слепецкий и прибавил: – Я заказал человека, жертву… – В голосе его вновь появилась твердость и, как мне показалось, даже зазвучала гордость за себя, заказчика.
И тут у меня опустились руки. Я лег и лежал неподвижно, глядя в потолок и размышляя…Вот так: не Мотя и не профессор, а коротко и ясно – заказчик. Страха не было, нет, страха не было ни капли, просто стало внутри как-то пусто. Я много раз читал в газетах про заказные убийства, и всегда в них говорилось, что киллера еще можно поймать, а заказчика – никогда. Я пытался их себе представить… Они виделись этакими Донами Корлеоне, таинственными и могущественными Карабасами Барабасами, которые дергают за невидимые миру ниточки и – пиф-паф! А они, оказывается, вот какие… Меня все это так поразило, что я даже забыл про Визирова. Я закрыл глаза и лежал так довольно долго.
– Евгений, вы спите? Евгений… – голос у него был печальный и виноватый.
Раз не отвечаю, значит, сплю. (Спу, как говорит Алиска.)
А он вздыхает громко и протяжно.
– Простите, я, кажется, погорячился… – говорит он и молчит, дожидаясь, видимо, что я все-таки заговорю. Не дождешься! Заказчик несчастный…
– Хотите, я вам все расскажу?
Не хочу.
Он вновь вздыхает и продолжает – тихо, примирительно:
– Ну, спите, спите… А я все равно буду рассказывать… Но с чего же мне начать? Представьте себе, вам пятьдесят лет, вы относительно здоровы, обеспечены, окружены привычными вещами, и не потеряли жизненный смысл…
Он прислушался, и я задышал ровно и глубоко, как во сне. Но он продолжал.
Он (продолжает): И в один прекрасный день на вашей лестничной площадке поселяется новый сосед. Как в песенке: «В нашем доме поселился замечательный сосед». И вот… он… начинает… сживать… вас… со… света… В буквальном смысле. А когда он отравил Изольду, я…
Изольда – жена? Но она умерла… От фарингита! Да не от фарингита, чёрт тебя дери, погибла в автокатастрофе! Значит, дочь? Он вполне мог назвать свою дочь таким экзотическим ОПЕРным именем. Сосед отравил его дочь? Неужели такое в наше время возможно? От возмущения я сел и посмотрел взглядом, требующим немедленного объяснения.
– Изольда – кто?
Он не торопился с ответом, громко и противно высморкался в носовой платок, жалобно вздохнул и наконец ответил:
– Персианка. Кошка.
Чёрт! Почему я сразу не подумал. Достаточно одного взгляда, чтобы понять, что он любит кошек. Типичный кошатник.
Он (продолжает): Любимая… Мне подарили ее после смерти Иоланты.
Иоланта – жена!
Он (продолжает): Она была маленьким пушистым комочком, а когда выросла… Белоснежка, снега Килиманджаро… Никогда не думал, что животное можно так любить. Весной, когда Изольда начинала требовать кота, я брал градусник, смазывал его вазелином и… – Он грустно улыбается. – Да, я заменял ей кота! Я просто не мог себе представить, что какой-то драный Васька будет взбираться на мое белоснежное чудо и впиваться своими когтищами в ее нежную спинку! Брал градусник – смазывал вазелином и… Вот что делает любовь к животным! Знаете…
Знаю. Любовь к животным не то еще делает. Это я понимаю, я не понимаю одного – кто такой Иван Визиров? Меня подмывало задать этот вопрос, и я уже открыл рот, но он меня опередил, сказав такое, что, однако, не позволило моему рту закрыться.
– Я – писатель, – сказал он просто.
Меня словно обухом по голове стукнуло. Писатель! Вот оно что! А я чувствую… Что-то подсказывало мне, что передо мною не простой человек, не обычный, а – необычный. Одно слово – писатель! (Тот, что в Трехпрудном переулке живет, он только собирается, он еще не писатель, а этот – писатель состоявшийся, настоящий… А как он сразу: «За други своя?» – вот что значит писатель…) Дмитрий Ильич Слепецкий. Дмитрий Слепецкий. Прочитать книгу – поступок, прочитать большую книгу – большой поступок. В наше время, когда жизнь расписана по дням и часам и на поступки не остается ни времени, ни сил, чтение выходит на передний план. Трудная книга – трудный поступок (кажется, вчерашней ночью я говорил это тому славному пареньку, как его фамилия…), но куда более трудный и значительный поступок книгу написать – многократно, неизмеримо более трудный и значительный. Тот, из Трехпрудного, я уверен почему-то, не напишет, а этот уже написал, без сомнения, написал, иначе он не сказал бы так: «Я – писатель». Нет, «человек» уже не звучит гордо, а «писатель» по-прежнему – звучит. Я читал писателей, видел их издалека и довольно близко (Андрей Битов в ночь путча), но никогда, ни разу, вот так не общался. И вдруг… Спасибо, друг! Нет, только ради этого стоило на всё это идти… Дмитрий Слепецкий, жалко, что не читал, обидно. Кого я только не читал, а его не читал. Обидно…
Он: Что же вы замолчали?
Я: Ничего, неожиданно просто… Очень неожиданно.
Он: Обычно, когда говоришь, что ты писатель, сразу спрашивают: «А что вы написали?» – а вы – нет.
Писатель смотрит на меня с задумчивым интересом, и я смущенно пожимаю плечами, радуясь тому, что не успел этот вопрос задать. Он сам задает вопрос.
– Вы не читали мой роман «Счастливые воды»?
– «Счастливые воды»? Какое красивое название.
– Да, у Тургенева «Вешние», а у меня «Счастливые».
– К сожалению…
– К сожалению, да или к сожалению, нет?
Глядя на меня, Слепецкий засмеялся.
– К сожалению, он еще не вышел. Но вот-вот должен выйти. Я обязательно вам его подарю. Мне важно ваше мнение. К сожалению… К сожалению, мы живем не в тургеневские времена, и писательство сейчас не кормит, приходится пробавляться журналистикой. Вы читали журнал «Мокба»?
– Да, читал однажды, – отвечаю я уклончиво, и он это замечает.
– Ну и как вам?
Я пожимаю плечами, подбирая подходящее слово.
– Не знаю, как сказать…
Он усмехается, подбадривает:
– А вы попробуйте…
– Он… опасный…
– Опасный?
– После него вообще читать не хочется. Я прочитал там одну фразу и бросил, испугался.
Он: Какую же?
Я: «Рубенс – художник для армян». – Я прочел это собственными глазами и запомнил на всю жизнь.
Он смеется и даже бьет себя ладонью по колену.
Он: Обиделись за армян?
Я: А еще больше за Рубенса…А потом, там, я видел, печатается Венедикт Малофеев, он там, кажется, литературный обозреватель…
Он (улыбается): Тот, который советскую литературу похоронил, а заодно и русскую? Я с ним лично знаком. Напрасно вы – интеллигентный человек… Но мы сейчас о другом… А как вам такая фраза: «Сегодня никому не нужно доказывать, что Шекспир – дрянной драматург». И это всё он, он написал…
Я: Кто?
Он: Матвей Голохвостов, редактор «Мокбы», не знаете? Тот, который предложил в Москве памятник мужскому члену поставить. Открываю январский номер, а там его редакторская статья. Знаете, как называется? «Им бог, нам…» Ну, сами понимаете что… Мужской половой орган… Скандал был ужасный! Лужков обиделся, церковь утерлась в очередной раз. И о скандале не слышали?
Я: Нет.
Он: Ну, знаете ли, Евгений Алексеевич, вы живете, под собою не чуя страны. – Вы что, не смотрите телевизор?
– Почти не смотрю.
– Да я тоже его почти не смотрю! Интеллигентные люди не смотрят телевизор. Но вы и глянцевые журналы не читаете?
– Не читаю.
– Почему? Из принципиальных соображений или из-за цены?
Я улыбаюсь дурацкой улыбкой и киваю, сам не понимая, что это означает, но Слепецкого мой ответ неожиданно удовлетворяет.
– Да я бы сам с удовольствием их не читал, но приходится…. Ведь я в них печатаюсь… Жить-то надо…. Тут колоночка, там заметочка, а здесь строчечка… Курочка по зернышку клюет… Деньги нынче в глянце… Так он там везде!
– Кто?
– Голохвостов? А началось все с одной его книги «Евангелие от Матвея». Не читали, не видели?
– Видел, но не читал… Но я подумал, что это то…»От Матфея»…
– То от Матфея, а это от Матвея. В том-то и фишка. Знаете, как она начинается? «Во мне нет ничего святого, и это главное мое достоинство». Неплохо, не правда ли? Именно эта фраза зацепила Наума, я надеюсь, вы знаете, кто такой Наум?
– Наум?
– Да, Наум, Александр Иович Наумов…
– Знаю, конечно, знаю…
– Ну слава богу… Так вот… Книжку прочитал Наум, восхитился и дал ему денег на издание журнала. А какую редакцию отгрохал в Доме Свободной Прессы – фантастика, двадцать первый век.
– «Мокба»?
– Она самая…
– Да-а-а – снова тяну я. – А я ничего этого не знал.
– Вы счастливый человек, Евгений. А тут… – Он задумывается и вздыхает. – С волками жить, по-волчьи выть. Знаете, сколько в этой «Мокбе» платят? Тысяча долларов страница.
«Не может быть!» – проносится у меня в голове, и тут же эта мысль вылетает наружу:
– Не может быть!
– Я вам говорю! – Слепецкий подтверждает свои слова кивком. – Нет, вы его еще узнаете! Вы его еще узнаете. Это не человек – чёрт! Самый настоящий! Голохвостов – подумать только! Между прочим, он утверждает, что его родной отец – хвостатый мальчик.
Я: Какой хвостатый мальчик?
Он: Тот самый! Мы с вами примерно ровесники, помните, в каком-то учебнике был нарисован хвостатый мальчик?
Я: Помню…
Он: Как доказательство того, что мы произошли от обезьяны.
Я: Помню, прекрасно помню!
Он: Глупейшее доказательство, но било в самую точку. Детям обезьяны ближе, чем какой-то бог. В сущности, дети те же обезьяны. Веселые, непоседливые и безответственные животные.
Я смотрю на Слепецкого с удивлением. Как же это точно. Вот что значит писатель! А он всё про Голохвостова:
– Мало того, он и на себя намекает!
– Что намекает?
– Что у него тоже…
– Что тоже?
– Хвост!
– Хвост?!
– Хвост! Да мне и не нужно знать про его хвост, мне достаточно слышать его смех. Я вам говорю – это чёрт, самый настоящий чёрт!
Я вспоминаю наш предыдущий разговор, и мне становится весело.
– Выходит, бога нет, а чёрт есть? – спрашиваю я.
Слепецкий опять смеется.
– Имеем то, что заслуживаем. – Но тут же мрачнеет и прибавляет: – Но там очень хорошо платят.
– Где? – не понимаю я.
– В «Мокбе».
– Но почему «Мокба», что за странное название?
– Так там же на первой странице объяснение печатается, не прочли?
– Не прочел.
Дурацкая привычка – читать газеты и журналы с конца. И нередко до начала не дохожу, если что-нибудь такое попадается…
Я: Не прочел.
Он: Не прочли? Один негр летел в Москву учиться. В Москву, to Moscow. Заснул в самолете, проснулся – самолет стоит. Смотрит в иллюминатор: написано – «Мокба». То есть написано Москва, но он-то читает: «Мокба»! И снова заснул! В честь этого случая и назвали журнал!
Я: А негра звали Мустафа?!
Он: Не знаю, как его звали, да и был ли негр… Всё есть, и ничего нет. Ничего настоящего, ничего святого. Законы стеба. Знаете, что такое стеб? Сейчас не пишут – стебаются, и Голохвостов в этом деле первый. И мне предложили нечто подобное написать. А что? Никто еще не стебался из-за тюремных застенков. Вот я и придумал подобную статью. В виде докладной записки некоего Визирова…
И тогда мне стало стыдно, как же мне стало стыдно! Заподозрить порядочного человека, и в чем заподозрить… Скотина и свинья, скотина и свинья! И еще сволочь в придачу…
Он вертит первый лист своей рукописи, с моей корявой цифирью на обратной стороне, сейчас спросит. Сейчас …
Он: А я гляжу, вы что-то свое здесь считали?
Спросил… А что отвечать? Врать? Но сколько можно врать? Тем более писателю…
Он: Долги?
Я киваю и незаметно вытираю со лба пот.
Он (улыбается): Я так сразу и подумал – долги… «Долги построились в полки». Так, кажется?
Я: «Приказа ждут и крови просят», – заканчиваю я строфу из еще одного любимого поэта.
Он: Любите Шпаликова?
Я: Люблю, конечно.
Он: Как мы все похожи.
Я: Мы?
Он: Ну да, мы, интеллигентные люди… А вы, случайно, не пишете?
Я: Нет.
Не случайно и никак.
Он: И никогда не писали?
Опять придется врать… Писал! В детстве… Когда посмотрел впервые фильм «Коммунист» и увидел, как разительно похож на моего отца главный герой в исполнении Евгения Урбанского. Меня это буквально потрясло, и я решил написать киносценарий художественного фильма под названием «Пожар в тайге». Главную роль в нем должен был сыграть, разумеется, Евгений Урбанский. (Его уже не было в живых, но этого я тогда не знал.) Весь во власти художественного замысла, я побежал к маме и поделился с ней своими творческими планами. Мама отнеслась к ним на удивление серьезно, посоветовав, правда, написать не сценарий, а рассказ. «Потом, – сказала она, – когда рассказ напечатают, ты сможешь его экранизировать». Энергия моего заблуждения утроилась, и, засучив рукава, я взялся за дело. В процессе работы, а точнее – в процессе подготовки к работе, выражавшейся в покупке пачки писчей бумаги приличного по тем временам качества и пузырька чернил (почему-то обязательно черных), росли мои творческие амбиции: рассказ превращался в повесть, которая, в свою очередь, раздувалась до романа толстовских размеров. Озирая наши бесчисленные книжные полки, я загодя подыскивал там место для себя… В конце концов пришлось согласиться с алфавитным порядком, в котором всегда пребывали в нашем доме книги, и я нашел свою нишу – где-то между Леонидом Зориным и Сергеем Залыгиным. Однако пришло время творить… Я подходил к письменному столу бесчисленное количество раз – решительно и твердо, как подходит штангист к заведомо неподъемному весу, и тут же отходил. Очень быстро огромный роман сдулся до размера повести, повесть скукожилась до маленького рассказа, который, в свою очередь, свелся к одному коротенькому предложению, с которого, собственно, всё и началось: «В тайге был пожар». Понаблюдав за моими творческими муками, мама одномоментно их прекратила, сделав следующий однозначный вывод: «Это означает, что ты не писатель». Заметив, что я расстроился, она подозвала меня к себе и спросила: «Если бы все были писателями, кто бы тогда их читал?» Эта простая, на первый взгляд, мысль буквально меня потрясла и перевернула мое сознание на годы вперед: мне стало стыдно перед писателями за собственное самозванство, и одновременно я почувствовал собственную же ответственность: если не я, то кто? С тех пор я стал читать даже больше, чем читал раньше. А спустя много лет, рассказывая очередной анекдот про чукчу, Гера подарил формулировку, ставшую для меня, можно сказать, девизом жизни: «Чукча не читатель, чукча – писатель». Правда, пришлось немного переиначить: «Чукча не писатель, чукча – читатель». Хотя где-то я читал, или кто-то мне сказал, или сам придумал, а может, и не придумал даже, просто так показалось – читатель всегда немножко писатель, он домысливает прочитанную книгу, незримо ее дописывая. Показалось так…
Конец ознакомительного фрагмента. Полный текст доступен на
Примечания
1
Камера предварительного заключения. – Примеч. автора.
(обратно)2
Чехами наши солдаты во время войны в Чечне называли чеченцев. – Примеч. авт.
(обратно)3
Названия телевизионных каналов по понятным причинам изменены. – Примеч. авт.
(обратно)4
Американский солдат. – Примеч. авт.
(обратно)5
Стихотворение Евг. Евтушенко «Зависть». – Примеч. ред.
(обратно)6
Названия некоторых газет и журналов изменены по тем же понятным причинам. – Примеч. авт.
(обратно)7
Тут приходится напомнить, что в 1997 году, когда все это происходило, мобильный телефон был малодоступен из-за своей дороговизны. Трубка, помнится, стоила пять тысяч долларов, минута разговора – доллар. – Примеч. авт.
(обратно)8
Насколько мне известно из доступных литературных источников, А. П. Керн не устояла раньше. – Примеч. авт.
(обратно)9
Строка из стихотворения А. Вознесенского «Плач по двум нерожденным поэмам». – Примеч. авт.
(обратно)10
Из стихотворения Евг. Евтушенко. – Примеч. авт.
(обратно)11
Чепуха. Я проверял: летят в разные стороны. – Примеч. авт.
(обратно)12
Здесь имеется в виду похожее на книгу здание бывшего СЭВа, в котором в 1993 году находилась противостоящая мятежному Верховному Совету мэрия Москвы. – Примеч. авт.
(обратно)13
Этими словами Порфирий Петрович напутствовал Раскольникова, отправляя его на каторгу. – Примеч. авт.
(обратно)14
Если быть точным, то никакого теста не было, а был разговор Достоевского с Сувориным, описанный в дневнике известного издателя. Они сошлись во мнении, что не стали бы сообщать о ставшем им известном готовящемся покушении на царя, но это вызвало в них не «законную» за себя гордость, а горестную печаль о существующем разрыве между российской властью и теми, кто любит Россию и служит ей верой и правдой. – Примеч. авт.
(обратно)15
Обскурантизм – от лат. «затемняющий». Крайне враждебное отношение к просвещению и науке, реакционность, мракобесие (Толковый словарь русского языка Ушакова).
(обратно)16
Как известно, подобные подозрения и даже обвинения преследовали писателя при жизни, о чем Гера мог не знать. Ему было достаточно текста. – Примеч. авт.
(обратно)17
Золоторотову ничего не сказала фамилия Копенкин, значит, он не читал «Чевенгур» Андрея Платонова, где главный герой носит такую же фамилию? Выходит так. Хотя странно… Впрочем, почему странно? Он даже не знает знаменитый анекдот про прачечную и министерство культуры. Такой человек… – Примеч. авт.
(обратно)18
Когда-то писатель Владимир Солоухин предложил такую форму обращения, чем вызвал в свой адрес насмешливое негодование так называемых культурных слоев общества. – Примеч. авт.
(обратно)19
Правильно – рэкетиры. – Примеч. ред.
(обратно)20
Статья Венедикта Малофеева в «Литературной литературе» называлась «Смерть советской литературы, или Русише литературен шнель капут». – Примеч. авт.
(обратно)21
Вообще-то, Достоевский говорил не о загадке, а о тайне. «Человек есть тайна. Ее надо разгадать, и ежели будешь ее разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время; я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком». – Примеч. ред.
(обратно)22
Комета Хейла-Боппа, открытая двумя астрономами-любителями в 1997 году, находилась на минимальном расстоянии от Земли и была хорошо видна даже в центре Москвы. В том же году в США было совершено коллективное самоубийство членов секты «Врата небес». – Примеч. авт.
(обратно)23
Это и мое одно из самых любимых стихотворений, почему-то вижу в герое себя. Ему семнадцать, он в ГУЛАГе на лесоповале жжет костер, и досужий охранник допытывается, за что его посадили. Следующее четверостишие я помню наизусть:
Что солдату сказать – не знаю. Все равно не поймет никто. И поэтому отвечаю очень коротко: – Ни за что…– Примеч. авт.
(обратно)24
Особенность данного памятника заключается в том, что при определенном угле зрения он выглядит не вполне прилично. – Примеч. авт.
(обратно)25
На самом деле тогда на месте храма Большого Вознесения стояла маленькая деревянная церковь и вряд ли пол в ней был каменным. – Примеч. ред.
(обратно)26
Аналой называется! – Примеч. авт.
Не аналой, а подсвечник. – Примеч. ред.
(обратно)27
В годы сталинских больших посадок «говядиной» называли заключенного, которого брали с собой в побег матерые уголовники для того, чтобы съесть его в тайге. – Примеч. авт.
(обратно)28
Известная в те годы реклама отечественных сигарет. Буквально на каждом углу стояла. – Примеч. авт.
(обратно)

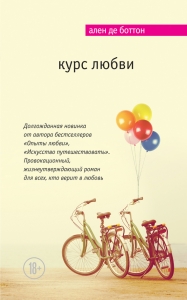




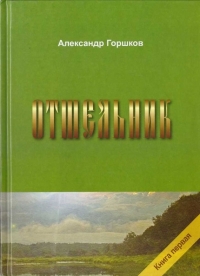


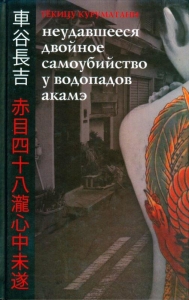

Комментарии к книге «Свечка. Том 1», Валерий Александрович Залотуха
Всего 0 комментариев