Владимир Ешкилев Андрогин. Книга странствий Григория Сковороды
Я желал бы лишь отстоять
пути мои пред лицом Его.
Книга Иова (13:15)Молния бьет туда, где люди скрывают грехи и клады.
Молния ищет грешников, находит грешников и не ждет покаяния.
Молния никогда не ошибается, и выводы ее окончательны.
Он снова видит свой главный, свой неотступный сон. Обугленное тело дядьки Галамана в черном круге выгорелой травы. Видит булатный блеск мертвой кожи и пепел цвета старого фарфора, оставшийся от его волос. Видит застывшую желтую пену вместо глаз. Гроздья пены. Видит, как чем-то сухим и черным крошится когда-то мозолистая пята. Все это он видит отдельными кадрами, словно телесные части казненного молнией грешника сами подпрыгивают к глазам. И нельзя отвести, нельзя закрыть глаз сновидца. По его щекам бегут слезы. Не медленные слезы жалости, а резвые страха. Ибо он молод и ему хочется жить. Хочется греться под солнцем, набивать рот терпкими ягодами, бежать полем под легкими струями летнего ливня.
Но ему, грешному рабу Божьему, – он знает! – уготована такая же огненная казнь. Ибо на небе ведают о его прегрешениях (там ведают обо всем, совокупно с последней спертой им грушей) и готовят прицельную молнию-палача. В момент, когда суровое небо моргнет ею, он упадет и почернеет. Его глаза закипят от неистового жара, треснут и вытекут на скулы пенистыми лужицами, желтыми пузырьками. Тело сгорит, а в грешную душу вцепятся лапы чертей. Возликуют рогатые, с отвратительным визгом затянут душу в самое пекло. Вниз, во тьму-тьмущую, и еще ниже. Туда, где мечтают о тьме. Туда, где не гаснут горнила огненные под исполинскими сковородками. Куда никогда не заглядывают Боженька с ангелами своими. И на одной из тех сковородок исполнится угроза, укрывшаяся до срока в его фамилии. Он чувствует, как холодные грехи клубятся в его животе и ниже его живота. Грехи отбирают тепло его тела, растят во чреве его Великую Мокрицу холода. Она раскидывает щупала свои от нутряной пустоты к шее, плечам и бедрам. Грехи чешутся, давят своей нечистой тяжестью и навлекают кару. Призывают белый немилостивый пламень, созданный Боженькой для выжигания всего неправедного.
Его тянет взглянуть на небесную твердь: не наползла ли на вечный ее покой свежая яростная туча. Но сквозь слезы он ничего не видит. Только льется иконный свет. Из ниоткуда в никуда. Яркий, золотой, словно отраженный от густой хлебной нивы.
И корчится от ярости золотого света Великая Мокрица. Сиротливо движет жевалами, поджимает щупала, ежится и умаляется до пустого места. Вот-вот исчезнет, забирая с собою маленького грешника. Унося его от мира. От иконного золотого света.
«По воле высшей и неисповедимой бугало огненный навестил сего невострепетавшего и избавил его отягощенную многими прегрешениями натуру», – слышит он зычный голос казака Начитаного, и все сущее вкруг него вздрагивает и уходит в плаванье. Несется мутным вселенским потопом без русла и берегов. Голос казака пропадает, а из пятнистого марева выныривает иной голос. Женский, звонкий. Он поет-присказывает:
Бешиха-бешихище Колючая, шипучая, жгучая, зудящая, Нудящая, ветряная, водяная, кровяная, пожарная, Глаженная, подуманная, помянутая, помысленная, насланная, Разойдись, развейся и на этом слове аминь!Сенянский монастырь, 29 сентября 1780 года
Он проснулся на «аминь». Низкий потолок остановил его взгляд. Копоть, потрескавшаяся известь, дикие завитки паутины. Он не впервые ночевал в этой келье и успел заметить: переплетение трещин составило подобие рисунка. Там можно было увидеть и некий ушастый лик, и крест, и покосившуюся пирамиду, и еще нечто продолговатое, отдаленно походящее и на кривую лестницу, и на ящерицу. Худой паук неторопливо прошел вдоль трещин «лестницы-ящерицы», на миг задержался, трижды переставил восковые ноги, словно раскинул тузов и пажей в пасьянсе «Одинокие гранды», двинулся дальше. Туда, где темнело пятно копоти.
Темнело-чернело, будто оттиск лохматых врат хаоса.
«Снова этот сон о молнии. Он всегда предвещает путевой сдвиг судьбы… Господи, помилуй меня, грешного». – Резким движением он сбросил с лица соломинку, откинул овчину, осторожно спустил на пол ноги. Вчера там стояла вода в два пальца, теперь было сухо. Только подмок, отяжелел край сенника.
«Утихли хляби небесные, – догадался он. – Теперь отступит грызущая суставы сырость… Но вот сей сон о молнии и сгоревшем дядьке. Сон преследующий, многолетний. Воистину, пережидая мир, не убежишь от ловчих века сего. Силы незримые, сидящие на престолах своих левее сердца, силы мстительные и шальные утомляют, истощают меня этим сном. Хотя помнится: Авксентий-старец говаривал, что оное знамение должно мне принимать как верный признак особенной Божьей ласки. Премудрым был. Наверное, был и прав. Топчет ли до сих пор старец пути смертного мира? Кто сие знает… Кем бы я был теперь, если б не сбежал из-под его руки? Схимником в черном клобуке с ясеневым посохом? Молчальником с пергаментной плотью и пергаментной памятью?»
Он стал для моленья на потертый коврик. Колени ощутили прохладную влагу.
«Призри, Отец, заблудших, негодных, тех, кто становился на все пути и со всех путей сходит на полдороге, кто прикладывался ко всем чашам и ни одной не допил…»
Он долго молился. Трудолюбивый паук за это время успел соткать треугольную паутину и устроиться в ее центре. Когда коврик под коленями совершенно высох, он почувствовал присутствие чужого. Оглянулся неспешно. В нынешние неверные времена за спиной мог оказаться кто угодно. И убийца с ножом, и ревнующий о напутствии.
– Простите, Григорий Саввич, что без дозволения ущербил ваше молитвенное стояние, – возопил плотного сложения гость, облаченный в платье, шитое по венгерской моде. – Жажду, истинно жажду припасть к чистейшему источнику любомудрия.
«Вот принесло еще одного народного златоуста. Не зря, значит, Начитаный приснился», – подумал Григорий, а вслух промолвил:
– Мир вам, добрый человече. Сия келья весьма тесна и темна. Однако для истинного философа рукотворные стены не есть тем Паргадом, сиречь занавесом предвечным, способным отделить существ сотворенных от невечернего света Творца их.
– Воистину! – согласился гость. – Какие сладкие слова извлекаете из ковчега мудрости, какие словеса медовые! Смакую ими и ликую душевно, слыша вас, Григорий Саввич!
«Сейчас растает от умиления. У таких и ковчег – конфетница».
А вслух:
– Откуда будете, добрый человече?
– Мое имя Остап из рода Бениковских, нежинских мещан звания купеческого, – определил себя гость. – Пришел к вам, драгоценнейший наш Григорий Саввич, не токмо от своей персоны, весьма незначительной, но и от совокупного всенежинского товарищества ваших почитателей. Они доверили мне передать вам сие.
Бениковский снял сработанный из парусины пояс, не без сложностей вывернул его тайный карман, и во мраке кельи блеснули башнями и портретами монеты пфальцской чеканки.
Григорий вопросительно глянул на Бениковского.
– Мы знаем, Григорий Саввич, – не уставал тот, – что вы являетесь истинным нестяжателем и со стоическим презрением смотрите на бренные металлы; умножением же оных озабочены слепцы века сего. Но известно нам и о том, что поручено вам недреманно и твердомысленно блюсти великое сокровище прадедов наших, что сим палладиумом во времена предуказанные будет выкуплена и спасена от проклятия земля наша. Исходя из оного, покорнейше просим умножить утаенное сокровище скромным овощем торговых трудов наших. Послали меня к вам, Григорий Саввич, в сугубой тайне. И как раз сейчас, когда здешние монастырские власти и сопутствующая им суетная людность отбыли в Харьков[1]. Прошу вас, не отказывайте и благословите, благой муже.
Бениковский неуклюже, как все толстяки, сполз на колени, натужно засопел и поставил столбик пфальцталеров на сенник возле Сковороды.
Тот молча глядел на смиренного нежинского мещанина. Размышлял о том, как мелеют и теряют глубину озера тайн. Как вытекает из них сквозь тысячи дыр человеческой болтовни тихая вода забвения. Вот уже и этот незваный лепечет о «палладиуме» и «спасении от проклятия». Будто пересказывает кумушкам ярмарочную сплетню.
Так суета проникает во все сокровенное.
Так изменчивость опошляет грозные тайны.
«Бугало огненный… Но как крикливо и нагло объяснение сна явилось. Не задержалось, не заблудилось, не отложило визитации. Молния бьет туда, где прячут грехи и клады. Молния не ошибается. Никогда».
Часть І Стадия Венеры. Башня
Киев, июль, наше время
Улица извивалась между складами и гаражами, разбегалась рукавами-переулками, пробиралась под балконами новостроек и советских «нахаловок», ныряла под мосты, но не исчезала, а бежала, лилась, вилась и спешила дальше. Ее пестрые здания с трехсотыми номерами казались позитивнее серых и желтых двухсотых. Чем дальше от центра, тем уютнее становились кварталы, выше липы и тополя, шире скамейки и чище окна. Упрямая улица в конце концов вывела Вигилярного за пределы промышленной застройки. Вывела туда, где еще сохранились полковничьи и профессорские особняки с мансардами и старыми яблонями. Утомленные деревья тяжело опирались ветвями на широкие доски заборов.
Покрытый десятками слоев зеленой «эмальки», крепкий дощатый забор окружал двор с двухэтажным особняком под триста 337 номером. От соседних заборов его отличал разве что яркий спрей-арт: обведенные черным контуром рисунки женских тел, раздутых, как цеппелины, bubble-letters[2] и росчерки, чьих завитков Вигилярный не разобрал. Граффити казались совсем свежими. Красное кольцо, которым обвели кнопку звонка, жирно блестело. Вигилярный не удержался и провел пальцем по соблазнительному блеску. Палец остался чистым. Хозяин пальца хитро прищурился на обманное кольцо и решительно нажал кнопку.
За забором протяжно скрипнула дверь. Еще немного, и Вигилярный физически ощутил присутствие. Взгляд. Кто-то смотрел сквозь щели в калитке.
– Я к профессору Гречику, – громко сказал гость. – Я ведь не ошибся, нет? Он здесь живет?
– А по какой он вам надобности? – ворчливый голос принадлежал немолодому и, возможно, не очень трезвому человеку.
– Я Вигилярный Павел Петрович, – гость сунул в почтовую щель прямоугольник визитки. – Если вы профессор Гречик, значит, это мы с вами разговаривали по мобильному. Четвертого дня, в понедельник. Вспоминаете? Кстати, там, на визитке, все мои атрибуты.
– Атрибуты, говорите? – Вигилярному показалось, что невидимый собеседник посмеивается. – Ну-ну, посмотрим на ваши атрибутусы…
Проползли две или три минуты, и калитку открыли. За ней стоял отягощенный лишним весом и немалым количеством выпитого мужчина. Представительный («породистый» – определил Павел Петрович) киевлянин лет шестидесяти, славянской наружности. Пятнистые шорты и футболка с созвездием дыр ничуть не портили первого впечатления. Очки-хамелеоны съехали на кончик потного профессорского носа, открывая морщины, отеки вокруг переносицы и отстраненное выражение глаз.
«Значит, не обманули. Он со вторника не просыхает», – убедился Вигилярный.
– Это вам лаборантка адрес дала, да? – спросил Гречик, сфокусировав свой взгляд на госте. – Я, насколько мне помнится, приглашал вас на кафедру… Сюда, вот сюда, я вас точно не приглашал.
– Нет, профессор, это не лаборантка. У меня свои источники информации, – Вигилярный попытался изобразить улыбку. – Извините за назойливость, но я приехал издалека и ограничен во времени. На кафедру я заходил дважды, вас там не было, а ваш мобильный не отвечает. Вот я и решил…
– Лаборантка! – усмехнулся владелец пятнистых шортов. – Это она. Я знаю. В понедельник я уши ей откручу. Медленно. Отовсюду пакостят, просто-таки отовсюду. Видели, как малолетки забор мне обрисовали? Сальвадоры Дали хреновы.
– Я заметил. Настоящий вандализм… Позволите войти, Геннадий Романович?
– Ну, входите, – смягчился Гречик. – Позволяю. Раз уж пришли, составите мне компанию. Вы, Павел Петрович, извиняюсь, какой вискарь пьете? Односолодовый или купажированный?
– Бурбон.
– Бурбон? – профессорский живот судорожно затрясся.
«Это он так смеется? – удивился Вигилярный. – Ну и кадр…»
– Никогда, молодой человек, никогда и никому не признавайтесь в подобной профанации, – профессор вознес в небесную синь указующий перст. – Бурбон не виски, а дешевое кукурузное пойло. Бурбон пьют му́жики (в этом слове он сделал ударение на «у»). – Мужи́ (теперь он сделал ударение на «и») пьют ирландское. Самобытные мужи, а не мужики подзаборные! Это я, профессор Гречик, вам говорю. Не забывайте об этом. Не стоит об этом забывать.
– Как скажете. – Вигилярный втянул живот, не без труда протиснулся между самобытным мужем и краем калитки.
– Так и скажу. – Гречик указал пальцем в глубину двора. – Видите беседку под орехами? Там и ждите. Я подойду.
Не успел Вигилярный рассмотреть хозяйственные постройки усадьбы, как возвратился хозяин. На стол он поставил граненые стаканы, бутылку Tullamore Dew, кувшин со льдом, тарелку с хлопьями пармезана и пиалу с оливками. Пиала выглядела старинной и ценной. Красно-зеленые павлины, нарисованные на тонком фарфоре, гордо задирали коронованные головы.
– Вот теперь, Павел Петрович, мы имеем правильный фундамент для правильного разговора, – констатировал Гречик. – Основательный фундамент. Ведь кто бы там что ни говорил, а разговор двух уважаемых мужей должен двигаться к цели. И не просто двигаться, а двигаться уверенно и четко.
– Это из Софокла?
– Из Софокла? – удивился Гречик. – Возможно. Все возможно. Кстати, как там у вас в Одессе?
– Жарко. Как и здесь.
– Глобальное потепление, говорят. А на самом деле – климатическое безумие. Точнее, климатический аспект мирового безумия. Не находите?
– Что-то в этом роде, – согласился Вигилярный. Он стал опасаться, что дальше погоды их беседа не продвинется.
– Вы уж меня простите, Павел Петрович, – тем временем сменил тему хозяин особняка, – что я вас оторвал от работы, сюда вызвал. Я внимательно, как говорили когда-то «с карандашом», прочитал вашу статью о находке в масонском музее. Очень интересная статья, весьма неожиданная, да… – Гречик наполнил стаканы, бросил в золотистую жидкость цилиндрики льда. – Кто бы мог подумать! Масонские архивы в Европе уже открывают для непосвященных исследователей… – Профессор скорчил значительную гримасу. – Прогресс! Так давайте, Павел Петрович, выпьем за нашу с вами встречу. Абысь було, как говорили наши предки!
Они выпили. Вигилярный на три четверти осушил стакан, взболтал остаток и забросил в рот льдинки. Виски бархатно лег на горячие складки горла.
– Правильно, – одобрил его действия Гречик и вновь наполнил стаканы. – Мы пока еще не выровняли наши с вами энергетические балансы. Вам нужно догнать, подняться на мой энергетический уровень. Тогда и разговор пойдет веселее… Так вот, относительно вашей статьи. Историки конечно же усомнятся в том, что в архивном упоминании речь идет именно о нашем славном Григории Саввиче, а не о другом человеке с фамилией или прозвищем «Сковорода». Скажем так, о неизвестном его современнике-однофамильце. И это с точки зрения историков будет профессиональным подходом к проблеме. На то они и историки. А вслед за ними на вас набросятся наши записные патриоты, стражи «священных коров» и прочие маразматики. Но лично я – подчеркиваю, лично я, как многолетний исследователь наследия Сковороды – не вижу ничего невозможного в том, что кто-либо из итальянских масонов мог общаться с Григорием Саввичем в тысяча семьсот пятьдесят первом или тысяча семьсот пятьдесят втором году, когда он пребывал за пределами Российской империи. Даже неспециалистам известно, что именно в это время в мировоззрении Сковороды произошли изменения. Да, изменения… Он стал глубоко изучать Библию, заинтересовался гностической символикой. То, что в сообщении масонского анонима речь идет об интересе некоего странствующего рутена Сковороды к мистическим символам, в принципе подтверждает выводы Чижевского. Выводы об эмблематичности философии Григория Саввича. Данный аспект вы вполне уместно очертили в заключительных выводах. Считайте, коллега, что в будущих битвах вокруг находки я буду на вашей стороне. Кстати, следующий тост – ваш. Только прошу покорно, не надо пить за нечто вроде «творческого союза литературы, истории и философии». Банальности оскорбляют мой разум.
– За вас, Геннадий Романович! – поднял стакан Вигилярный. – За известного корифея-сковородоведа! И за то, что вы на стороне истины.
– За жополизов! – Профессор залил себе в рот добрых полстакана виски, выдохнул и прищурился на гостя. – Мы же без вас вроде и не корифеи совсем. Так, старые пердуны…
– Ну-у… Зачем же вы так, Геннадий Романович…
– А вы, уважаемый, не начинайте с пошлых подходцев.
– Извините.
– Не извиняю. Я же предупредил вас: без банальностей. Мы не на ученом совете. Да еще и словище какое использовал: «сковородовед»! Еле выговорил. Я вам что, специалист по кухонной посуде? И откуда вы всю эту муть берете?
– Но ведь… – умышленно смешался Вигилярный.
– Предупреждаю.
– О чем?
– Жизнь – вещь сложная и неоднозначная.
– Я учту.
– А почему это вы до дна не допиваете? Плохой вискарь?
– Хороший.
– Точно?
– Лучшего я не пил.
– Опять тупой комплимент.
– Да нет же, профессор. Я без глупостей говорю: бомбовый вискарь.
– Так нужно же до дна допивать, если он бомбовый. А не прикидываться шлангом.
– Я не прикидываюсь шлангом.
– Прикидываешься, – внезапно перешел на «ты» ученый муж. – Нет на тебя старшины Калганова, который меня в армии пить учил. Он бы тебе устроил классическую «кузькину мать» за злостное неуважение к застольному ритуалу. Старшина Калганов, помню, учил салабонов: мужчины не пригубливают, мужчины пьют. Иначе им очко солидолом мажут… Это дело не политкорректное, но зато правильное. Армия держится на ритуалах. Исключительно и только на ритуалах. Нет ритуалов – нет армии, – Гречик наполнил стаканы. – Предыдущее не считается! Повторить! Стоя! Чтобы нас с тобой любили красивые женщины!
– Абысь було! – Вигилярный привстал, подражая хозяину, отсалютовал стаканом и совершил решительный глоток. На этот раз количественно он опередил Гречика. Лед в его стакане закончился, и благородная влага ввинтилась в пищевод жгучей спиралью.
– В армии служил?
– Нет.
– Заметно. – Гречик укусил пластинку пармезана. – Нет, коллега, у тебя ритуального ощущения. Не успел, видишь, войти в приличный дом, а уже из тебя ужасные старания полезли. Начал меня, старика, комплиментами расслаблять, пургу нести. За кого, коллега, ты меня принимаешь, а? За кафедрального динозавра? За гребаного бордельного дедушку?
– Ради всего святого, профессор, не обижайтесь. – Вигилярный решил быть предельно деликатным с запойным ученым. – Я же не хотел вас обидеть, честно. Это знаете… несовпадение протоколов. Всего лишь несовпадение. Возможно, я еще не научился определенным стандартам. Только год как вернулся в академическую среду.
– Хорошо, что признаешь ошибки. И то хлеб. А чем занимался до возвращения?
– Деньги зарабатывал.
– Вот так, да? – профессор попытался поправить сползшие с носа очки, но уронил их. – Черт! Чего же вы падаете… А каким способом зарабатывал?
– Малый и средний бизнес. Там купил, здесь продал, маржу в карман положил. Криминала – ноль, экзотики – ноль, удовольствия – ноль.
– Ну, коллега, эта ситуация нам знакома. Еще как знакома, да… Ноль-ноль, говоришь… А ты еще и удовольствия захотел? И рыбку съесть и…! – специфический судорожный смех вновь овладел Гречиком. – Но ведь у нас, коллега, не лучше. Нет, не лучше. Занимаясь наукой, много не заработаешь. Скорее потеряешь. Ноль минус один.
– Тут вы правы, Геннадий Романович. На все двести правы.
– Ну и зачем ты сюда вернулся, а? В эту юдоль диссертантских слез, пошлых интриг и копеечных окладов?
– Призвание.
– Шутишь, да?
– Да нет вроде бы. Не шучу.
– Призвание! – подпрыгнули профессорские брови. – Нет, ты скажи старику правду: это шутка была такая?
– Все так запущено?
– Ты о чем?
– О тотальном цинизме.
– Ну ладно… – смягчился Гречик. – Что вопросом на вопрос отвечаешь, прощаю. Да, все у нас запущено. Наука умирает… А, кстати, откуда просочилась информация о находке? Если не секрет, понятно.
– Да нет, не секрет. От итальянцев. У нас в позапрошлом году проходила научная конференция, я там познакомился с одним венецианцем. Он, если верить интернет-справочникам, уже лет двадцать занимается историей европейского гностицизма.
– Как зовут итальянца?
– Франческо Бернарди.
– Не слышал, – профессор покачал головой. – Нет… Он масон?
– Мы с ним не говорили на эту тему.
– Зря.
– Это было бы некорректно.
– Говорят, что они в Европе этого не скрывают.
– Не знаю, – пожал плечами Вигилярный. – Я в этом сомневаюсь. Все же Италия – католическая страна…
– Да, точно, у них еще тот скандал был, с ложей, как ее…
– «П-2». Это в начале восьмидесятых было. Многих масонов тогда выгнали из армии, полиции, попросили с государственной службы.
– Ты прав, – согласился Гречик. – Католическая страна.
После длительной паузы Гречик спросил:
– А до этого ты Сковородой интересовался?
– Интересовался. Я ведь для сборника материалов той конференции подготовил доклад “Итальянское эхо” в творчестве Григория Сковороды». Доклад перевели на английский и напечатали еще до конференции. Франческо прочитал его и вспомнил, что встречал фамилию Сковороды в архивах итальянских лож восемнадцатого века. Он сделал выписку. Заверил ее у масонского начальства во дворце Джустиниано[3]. Все чин по чину. А на конференции, где мы с ним встретились, подарил ее мне.
– Повезло тебе.
– Да.
– А почему заинтересовался Сковородой? Тема ведь не популярная.
– Я полагаю, что традиционные подходы к его личности уже не работают. Как мы привыкли: народный философ, ходил босой по деревням, играл на дуде, проповедовал науку сердечную…
– Вот как, да… А ведь так и было: ходил босой и на флейте играл.
– Это был «поздний» Сковорода. Состоявшийся. Сковорода семидесятых годов. После сорока пяти он мог себе позволить немного поскоморошничать. А до этого он себя кроил по образцовым европейским лекалам. Все то, что Сковорода с кровью из себя выдавливал, наши народники культивируют. Деревня.
– Каждый ищет близкое ему и понятное. Да, наши академические затейники в основном люди аграрной цивилизации. Даже здесь, в Киеве, «усатые» в большинстве.
– Вот и я говорю: взгляды этих людей уже не захватывают воображения новых поколений.
– Это не «взгляды», коллега, это так называемые «операбельные гуманитарные мифы». Когда-то они, как ты говоришь, «захватывали». А сейчас не очень. Сейчас многое из старого доброго мифического запаса не захватывает. Так что, собрать все и на помойку выбросить? Да?
– Если бы ваш «старый добрый запас» сидел себе на задней скамье и не рвался на должность единственно правильного учения… Но ведь взгляды этого вашего «запаса» до сих пор доминируют во всех сферах – в академической среде, в школе.
– Ну и пусть себе доминируют. Они для этого и были созданы. Академическая среда консервативна. Школьная – тем более. Особенно в гуманитарной сфере. Так было всегда, так всегда будет. Ты же не отберешь сказку у детей только из-за того, что существование мальчика-с-пальчик противоречит законам антропологии?
– Я не об этом.
– А о чем тогда?
– Мир изменился.
– Неужели? – искренне рассмеялся Гречик. – С каких это пор?
– Давние представления стают не просто устаревшими, они стают вредными. Они вредят, превращают нашу науку в этнокультурную оперетку. Я не хочу послушно деградировать вместе с тем синильным мирком, который вы так деликатно обозначили «аграрной цивилизацией». Не хочу быть стражем тотального вырождения. Я хочу, чтобы потенциал прошлого органически и продуктивно входил в современную жизнь. Чтобы он работал на жизнь. Чтобы он жил этой жизнью.
– А, понимаю, ну конечно… Хочешь перекодировать старые мифы на новый лад. Не оригинально. Таких, как ты, – легион.
– Хочу для начала понять. Подобраться с другой стороны.
– Глупости это все, молодой человек. Все вы так говорите, – махнул рукой Гречик. – Каждый вот так приходит, вдохновенно возводит руки и прорекает: «Истину тщусь яти!» А заканчивается все очередной заменой слов. Одни хитрые словеса меняют на другие хитрые словеса. Народнические мифы в свое время сменили мифами марксистскими. Теперь вот пришли вы. Или, может, вас прислали? Нет? Сами пришли? Ну и хорошо. Не важно. Важно то, что после вас, постмодерных истиннолюбцев, уже никто ничего не поймет. Аминь.
– Даже так?
– Ага. Именно так.
– А вам не кажется, профессор, что вы слишком категоричны?
– Кто? Я? – переспросил Гречик, покрутил в руках очки, хмыкнул. – В чем это, собственно, я категоричен? А? Категоричность! Где ж ты ее увидел? Ну уж нет, коллега, если бы я на самом деле был категоричным, как ты говоришь, то в университете мною уже давно бы не пахло. Даже воспоминаний не осталось бы. Это здесь я такой герой. Перед тобой, возвращенцем с масонской бумажкой. А там, – он махнул рукой в направлении забора, – там я рассказываю студентам о «ризоме» и «гипертекстуальности»[4]. Тьфу, прости господи! А то зачислят, не дай боже, во враги прогресса и демократии. Это же почти что «враг народа» в тридцать седьмом. Доказывай потом, что ты не верблюд. Я, коллега, не революционер. К сожалению, а может, к счастью. И не стремлюсь к тому, чтобы на руинах современного мира написали мое имя как имя его разрушителя. Совсем к этому не стремлюсь. Этот мир мне нравится. Как ни странно, нравится. Не потому, что он, этот мир, идеален. Нет, скорее по той причине, что мне в нем удобно. Если в этом мире действуют какие-то правила, то я с ними обычно соглашаюсь. Почти всегда соглашаюсь. Хотя и понимаю, что правила эти гребаные не для меня создавались. Что поделать, такой вот я проклятый приспособленец… Давай, коллега, выпьем за толерантность. Пусть живет, зараза, пусть процветает!
Стаканы вновь опустели. Гречик немедленно их наполнил.
– Ну ладно, – сказал он, «на глаз» выравнивая количество виски в стаканах, – я понял. На общественно полезные мифы у тебя аллергия. И куда же ты сам хочешь свернуть?
– У меня, Геннадий Романович, нет уверенности. Только интуиция.
– Так куда же?
– Во тьму.
– Куда-куда? – В покрасневших глазах Гречика затанцевали то ли чертики, то ли вечерние блики.
– Как мне кажется, Сковорода имел непосредственное отношение к тайному оккультному учению.
– И в самом деле, самая темная тьма из всех возможных, – профессор поднес стакан к подбородку. – Nox fert consilium![5]
– Я, профессор, не откажусь и от советов ночи, – Вигилярный, подражая хозяину, опрокинул в себя все содержимое стакана. Льдинки хрустнули на зубах.
– Рискуешь, – прикрыл глаза Гречик. На его лицо набежала тень.
– И чем же я рискую?
– Всем.
– Объясните.
– Не любят люди этой твоей тьмы. А еще больше они не любят усложнять. Ночь ведь не советует массам. Ночь советует только избранным.
– А может, люди просто боятся истины?
– Ну, коллега, это же всем известный и, по большому счету, уже неинтересный факт. – Профессор исправно наполнил стаканы. – Ежу понятно, что истина – весьма неудобная девочка. Как утверждали премудрые дидаскалы[6] во времена Григория Саввича: истина еси суть, стражденно высуполнена. А народным массам нужны простые и понятные лозунги. Позитивные и светлые, как герои телевизионных сериалов. Люди, они такие… Если заметят в тебе тьму, то за три секунды разорвут тебя на куски. На мелкие такие кусочки. Ради своего же собственного покоя и разорвут. Законы стаи они и в Африке – законы стаи.
– Но ведь можно попробовать их обойти.
– Попробовать всегда можно, – Гречик зачем-то надел, потом снял очки, положил их на стол и начал пальцами массировать подглазные отеки. – Только обходить придется самой дальней тропой и в бронежилете, ага… Научные степени и должности тебя, как я понял, не интересуют?
– Интересуют, почему бы и нет. А у вас, профессор, есть предложения?
– Не было б у меня предложений, я бы тебя в Киев не звал. Есть к тебе одно интересное предложение. Я бы даже так сказал: качественное предложение. Но об этом, уважаемый коллега, долгий разговор выйдет… То есть не выйдет, а получится. Тьфу! Господи, уже и заговариваться стал.
– Мы ведь никуда не торопимся?
– Мы никуда не торопимся, ты прав. Мы даже не спешим. Однако, Павел Петрович, дорогой мой, для важного и долгого разговора мы с тобой уже слишком… уставшие.
– Как скажете, Геннадий Романович.
– Так и скажу. Есть такие процессы, коллега, в которых стоит участвовать исключительно на трезвую голову.
Гречик тяжело вздохнул и снова нацепил очки. Они немедленно съехали на кончик носа.
– Сковорода, – сказал он, – был исповедником древней традиции. Исповедником осознающим и посвященным. И для специалистов этот факт не тайна. А для широкой нашей общественности пусть он остается блаженным дударем и народным философом… Может, и надо так. Чтобы не вводить в искушение малых мира сего.
– Чем?
– Тьмой, с которой ты советоваться собрался.
– Он был масоном? – взял быка за рога Вигилярный, которому надоели скользкие метафоры и недомолвки.
– Не угадал, – улыбнулся Гречик. – Он был их отцом.
– Чьим отцом?
– Отцом масонов, коллега. Истинным духовным отцом украинских «детей вдовы»[7]. Как ты там говорил: «большой потенциал прошлого»?
Пригород Львова, 11–12 марта 1751 года
Среди трактиров-гербергов, чьи грибоподобные крыши торчали на Краковском шляху, заезжий двор «Под кляштором» считался едва ли не самым чистым и дорогим. В пансион здесь входили услуги небольшого отряда стражников, при необходимости проверявших глейты[8], отгонявших злодеев и усмирявших слишком шумных постояльцев. Поэтому в здешнем пивном зале не гремели пьяные песни, не буянили записные драчуны, а гости не боялись выводить на трапезу жен и детей.
В тот вечер в пивном зале собрались три компании. За главным столом наслаждалась жареной бараниной, грецкими орехами и пивом большая купеческая семья. В темном углу перетирала свои гешефты стайка еврейских бачмажников[9], а у окна вели ученую беседу два молодых человека неопределенных чинов и призваний.
– Значит вы, Григорий, все еще надеетесь поучаствовать в экзорцизме? – спросил собеседника молодой.
– Да.
– Здесь, во Львове?
– Мне не удалось изучить этот ритуал в Пресбурге[10], – заметил темноволосый. – Местный епископ огласил городскому экзорцисту официальное недоверие и запретил ему заботиться о бесноватых.
– Епископ совершенно прав. Современные образованные люди не верят, что сатана не просто принцип зла, но и персоною обладает. Извлекать же из человеческого тела некое абстрактное понятие как-то неприлично. Вы не находите?
– Нет, кавалер, не нахожу, – Григорий подправил подушку, подставленную под поясницу. – Тем более, что в двадцать первом правиле «Ритуала изгнания дьявола» в редакции тысяча шестьсот четырнадцатого года четко и недвусмысленно указано, что убежденность в присутствии демона не является обязательным условием для оного ритуала.
– Таким образом, вас интересует само действие? Спектаклюс?
– Можно и так считать.
– Сами не пробовали писать пьесы?
– Возможно, когда-нибудь попробую, – улыбнулся Григорий. – Кстати, вы, Зормоз, вчера обещали рассказать о знаменитом пожаре в Санкт-Петербургской академии. Такой максимальный спектаклюс, как по мне, интереснее изгнания беса. Настоящее приключение века сего.
– Да уж, приключение случилось изрядное. Тут не поспоришь. Хотя до прошлогоднего московского пожара ему, как говорят, далеко. В Академии сгорело множество анатомических атласов и книг описательного свойства. Огонь также пожрал галерею с диковинами сибирскими и китайскими, готторпский Большой глобус, оптическую комнату и канцелярию с бумагами старой крысы Шумахера. Я своими глазами видел, как превратился в пепел славный глобус. Это, брат Григорий, скажу я вам, была знатная иллюминация. В Большом глобусе, как оказалось, славный профессор Крузиус прятал бутылки с медовухами и выморозками. Он спрятал там не меньше пятидесяти здоровенных бутылей. И не простых, а из толстого зеленого стекла. Знаете, наверное, – в таком стекле химики крепкие яды и кислоты держат. Как те бутыли взрывались! Это надо было видеть! Слово чести, друг мой: даже турецкие бомбы над Каменецкими куртинами не разрывались с таким сатанинским грохотом. Даже в Риме, во время свадьбы племянника кардинала Урбино, папским фойермейстерам не удалось произвести подобных оглушающих взрывов. Приходилось ли вам наблюдать настоящую большую иллюминацию?
– Приходилось. Семь лет тому, когда московская императрица паломничала в Киеве. Тогдашней иллюминацией, насколько помнится, руководил фойермейстер Йоган из Дрездена. Славный был мастер. Ему тогда удались и вихри огненные, и звездные купола.
– Над пылающей Академией звездных куполов я не заметил, но огненный вихрь вознесся над самим шпилем Петропавловского собора. Такой могучий был вихрь, что горящие куски крыши, словно адские чайки, долетали до Сиверсовой верфи. Там всю ночь поливали ребра недостроенных шнав[11]. Сгорела также Кунсткамера. Мы с Ломоносовым тщились ее спасти. Михайло чуть не сгорел, вытаскивая колбы со всевозможными уродами. Много народу нам помогало. Но природа огня оказалась сильнее. Почти все сгорело. Верите ли, я своими руками вытащил из огня чучело двухголового чудища. Говорят, что предивное сие чучело царь Петр обменял на стофунтовую малахитовую глыбу. У чудища из обеих пастей уже дым валил, когда я с ним выбежал на першпективу и окропил водой. Пресмешное и символическое было зрелище, зеваки даже священника позвали. Просили батюшку молитвой оградить столицу от огнедышащего Сатанаила. По этому случаю я и в «Ведомости» попал. Поймал, как говорят пииты, золотую улыбку славы. Только вот фамилию мою в «Ведомостях» переврали. Нарекли они меня в новостной циркуляции «странствующим мальтийским кавалером Загромозой». Как вам на вкус? За-гро-мо-за! Полагаю, что не вполне куртуазно, друг мой, входить в анналы человечества под таким пушечно-варварским именем[12].
– Не пора ли, друг мой, нам наполнить кружки? – Григорий помахал пустой посудиной[13]. – Тем более, что местные изманатчики наконец-то научились варить пиво не хуже пресбургского.
– А я бы не рискнул сравнивать, – не согласился кавалер. – До пресбургского ему, как крышам до неба. Но пить можно.
Когда кружки вновь опустели, кавалер приблизил свое лицо к лицу Григория и тихо произнес:
– Я слышал, что Мастер Пафлагонец предложил вам полноценное членство в братстве. Целиком поддерживаю таковую его конклюзию[14] и хочу, чтобы вы об этой поддержке знали.
– Благодарен за доверие, кавалер, но еще не чувствую должной зрелости для такого авантажного шага. Человек, подобно знаменитому колькотару[15] алхимиков, должен пройти все должные стадии, чтобы в должное время стать истинным золотом. Нельзя, друг мой, перепрыгивать через стадии.
– Очень метафорично, – тонко улыбнулся кавалер. – Вроде отказ, а вроде и не отказ. Но, согласитесь, кто-то же должен нести свет в степи Тартарии.
– Тяжкое сие ярмо.
– Но ведь и плечи крепки.
– Люди зря полагают, будто бы для основания чего-то полезного нужно взваливать на себя вселенскую тяжесть или пройти сквозь ужасы испытательного вертепа[16]. Согласитесь, кавалер, такая философия скорее подходит ослам и прочему тягловому скоту. Для основания чего-то существенного мускулистые плечи не обязательны. Основывать нужно, подчиняя свою волю, сокрушая сердце, смиряясь, пребывая в священном молчании, а не с помощью героических и кровопролитных упражнений. Так нас учат святые афонские старцы… Но, как бы там ни было, я весьма благодарен вам и конечно же Пафлагонцу. – Григорий положил на стол монетку. – Должен покинуть вас. Меня ждут дела.
– Уже поздняя ночь, друг мой. Я бы не советовал вам странствовать в такое время.
– Даже презреннейшие тати побрезгуют барваками[17] бедного школяра, – улыбнувшись, шепнул Григорий, поклонился кавалеру и покинул пивной зал.
Зормоз посмотрел вслед высокому юноше. В его взгляде внимательный наблюдатель заметил бы сумеречную смесь грусти, тревоги и скепсиса. Странствующий кавалер не хуже других знал, что от ночных татей не спасает ни дырявый карман, ни залатанная рубаха. Наоборот, голодная разбойничья злоба легко превращается в лезвие, гуляющее между ребер одинокого путника.
«Хотя кто знает, может, он и прав, – подытожил Зормоз. – Таких, как он, параклитов[18] охраняют высшие силы. И было бы странно, если бы устроилось по-другому. Это же не логично: послать в этот страшный мир мечтателя и оставить его без защиты. А ведь Великого Архитектора во все эпохи полагали источником абсолютной логики».
У порога герберга Григорий на миг задержался. Прохладный воздух быстро прочистил его мозг от пивной горечи. Сознание вновь обрело привычную ясность, а звезды над головой выстроились в указующую систему.
«Звезды – это здорово, – мысли Григория от высших материй незаметно возвратились к привычным страхам. – Если на небе вызвездило, значит, оно безоблачно. Соответственно, не имеет силы для производства карающего огня».
Он побрел по направлению к Львову. Охранники трактира провели его удивленными взглядами. Гостинец опустел, а в отдалении выли волки. Редкие огни пригородных поселений остались далеко позади, а темная громада львовских укреплений еще не показалась из-за деревьев охотничьего парка. Тишина и путь под благими звездами располагали к важным медленным мыслям. Григорий еще раз взвесил предложение влиятельного человека, известного в кругах европейских либертинов[19] и вольных каменщиков под конспиративным именем Мастера Пафлагонца. Именно он предложил школяру причаститься Истинного Света и соединить свою судьбу с тайным обществом.
Григорий догадывался, что лежало в основе приглашения в секретную жизнь.
Пробил час европейского Востока. Под скипетром северных царей дикая и подвижная жизнь украинской степи начала обретать твердые формы. Лидеры и стратеги тайных братств осознали: на бескрайних пространствах, обозначенных на европейских картах как «Рутения» и «Тартария», возникает берег нового мира. Колонизация степей выходит к Причерноморью. Страна казаков и кочевников медленно, но уверенно обретает контуры цветущей имперской провинции. В ближайшее время она станет или передовым бастионом абсолютизма, или тем краем, откуда полетят серебряные птицы новой Доброй Вести.
Его, Григория, задумали посвятить в хранители тайного теплого озера, где до поры назначено зимовать серебряным птицам. Ему предложили жреческую роль в стратегии, тщательно спланированной на столетия вперед. Стратегия предполагала неминуемый крах империй и создания на их землях федерации молодых славянских держав под присмотром и покровительством старых республик. Пафлагонец показал ему тайную карту, где магистры ордена начертали границы будущих суверенных стран. Одну из них, с центром в Древнем Киеве, предложили назвать Ruthenia. В этом имени Григорий ощутил присутствие мистической Розы, ее истинный красный цвет, ее животворящий пламень. Цвет и пламень предпоследней стадии созревания философского камня.
Секретная масонская карта уже несколько месяцев преследовала его воображение. Сначала он бредил видениями будущей степной республики. Он видел тысячеглавое вече, избирающее Княжескую раду, золотой блеск киевских куполов, патриарха у райских врат Святой Софии, мистическую Деву-Навну в сапфирово-синем небе. Навну хранящую и благословляющую.
Но вскоре в этих видениях возник и укрепился многосмысленный цвет алхимической розы. Золотое сияние налилось кровавыми оттенками, а шум битв заглушил литургическое пение. Он вспомнил, что стадия Красного Льва имеет двойственную природу. В ней присутствует древнее женское начало – мистический дух земли, ацетата свинца, известного алхимикам как Lac Virginis – Молоко Девы. Это было священное, животворное и неутомимое Молоко.
Однако Молоко благой Навны пролилось не на жаждущие грунты, а в жертвенную чашу богини степей Карны, безжалостной властительницы амазонок. Богини крови и мстительных земляных Сил. В снах он видел ее темное обнаженное тело, скорее мужское, чем женское. Тело, созданное не для продолжения рода, а для бесконечной битвы жестоких богов. От него шли волны неумолимой власти. Оно могло быть всем, оно перетекало из огня в воду, а из воды – в камень. Оно становилось огромным змеем, а потом из ползучей формы над притихшими степями вырастал и возносил свой меч Кром – бог воинов, тени которых все еще блуждали между курганами и каменными бабами. Григорий испугался этой победоносной языческой телесности, и тяжелая тень подозрения пала на его мечты. Он молился святым угодникам Печерским, и кровавые видения оставили его сновидения. Зато подозрение свило крепкое гнездо в его сердце. А еще он не смог забыть телесную форму Карны-Крома, удивительную плоть, соединившую силу мужских мышц с искусительной женской прелестью.
Эта плоть тревожила его сны неопадающей мужской мощью, слившейся с бархатной роскошью нежной девы. Эта плоть была готова к битвам и к любви. Одинаково готова принимать в себя страстных паломников Карны и раздвигать могучим орудием Крома сокровенные входы. Сновидец желал этой плоти и боялся ее сокрушающей силы. Он не знал, сможет ли выстоять в любовной битве с двойной природой воинственного божества. Подозревал, что не сможет, но от этого страсть его только росла.
Собственное тело казалось ему мягким и слабым. Он догадывался, что такому мягкому и слабому телу не предназначено стать хранителем серебряных птиц. А еще он опасался Великой Мокрицы, которая посеяла в его теле свой холод. Он боялся, что холод Мокрицы не даст ему власти над мужской силой и он станет содомитом, юношей для удовольствий, вечной игрушкой Крома и посмешищем для Карны.
Но знал он и другое. Если ему все-таки придется отдать себя небесной Софии-Навне, плотская страсть превратится в бич и в проклятие. И будет гнать, гнать и гнать его длинными дорогами мира. Загонять в ловушку, где уже притаился охотник – белый небесный огонь.
Перед тем как принять или не принять предложения Пафлагонца, он должен был разгадать эту великую загадку. Тайну отношений и высшего назначения двух могущественных и враждебных друг другу порождений первичной натуры. Двух начал природы – Софии-Навны и Крома-Карны. Уранической девы и ее антипода – двуполого порождения Хаоса. Тысячелетнюю загадку алхимических элементов, рождающих в своем мистическом слиянии совершенного Андрогина.
В самое темное время суток он достиг цели своего ночного странствия – укрепленного здания на восточной окраине Львова. Приземистый дом, возведенный из крепкого тесаного камня, расположился за городскими воротами. Его хозяином был один из тайных резидентов канцлера Бестужева – негоциант и городской патриций Протазий Духнич, известный в шпионских и контрабандистских кругах Галиции как Папаша Прот.
Во Львове середины XVIII века расцвели всевозможные авантюристы и политические пробаторы[20]. Умирающая Речь Посполитая превратилась в огромный рассадник интриг, заговоров и предательств. Шляхетские партии продавались всем, кто давал деньги, пропивал их и продавал снова. Буйные сеймы и сеймики жаждали золота. Много золота. Коррупция стала привычным способом существования. Большинство здешних резидентов, не отставая от моды, работали на двух или трех господ и не особенно скрывали источники своих доходов. Во времена, когда людей с соответствующими способностями, умениями и связями по всей Европе было несколько сотен, такая ситуация считалась вполне допустимой.
Первыми Папашу Прота завербовали французы. В смутное правление короля Августа[21] дальновидные министры Людовика XV решили открыть в Польше «второй фронт» против своего главного врага – Австрии. В Польшу сначала ручейками, а потом и реками потекло французское золото. Оно оседало в карманах гетманов и каштелянов, в сундуках епископов и магистратов. Золото, приправленное патриотизмом и радужными надеждами, сделало свое дело. Бо́льшая часть шляхты встала под знамена французского ставленника Лещинского, коронованного патриотической партией на сейме под Варшавой.
Однако на защиту австрийского кандидата на польский трон саксонского князя Фридриха Августа неожиданно поднялась Россия. Французская разведка уверенно докладывала, что Российская империя – финансовый банкрот и унылая деспотия во главе с бездарной племянницей Петра Великого – никак не способна помешать Лещинскому и его партизанам. Поэтому могущественный флот Людовика не торопился вмешиваться в восточные дела. И, соответственно, не успел вовремя высадить десант в Померании.
Когда же, после долгих колебаний официального Версаля, французские линкоры в апреле 1734 года таки подошли к устью Вислы, Данциг – главный оплот польских партизан – уже находился в осаде. Русские дивизии фельдмаршала Миниха надежно блокировали там Лещинского, кардинала-примаса Потоцкого и все шляхетское ополчение. Линкоры вернулись в Гавр и Марсель. Вскоре русско-австрийский ставленник стал королем Речи Посполитой.
Потерпев поражение, французское правительство начало восстанавливать утерянные позиции с перестройки своей резидентуры. Именно тогда министр Шетарди обратил внимание на некоего львовского негоцианта, способного предвидеть не только колебания цен на товары, но и такие изменчивые, внезапные вещи, как ход военных операций, вспышки эпидемий, финансовые настроения и процент залога для правительств в банковской конторе братьев Штерн. Вещего негоцианта звали Протазием, и в этом имени, созвучном с именем многоликого Протея, Шетарди увидел добрый знак для интересов французской монархии. С этого времени Папаша Прот ежемесячно отправлял в Париж свои прогнозы, касающиеся ветреной политики польских магнатов, перемещений российских войск и балканских планов правительства Высокой Порты.
Но в Санкт-Петербурге тоже не спали. Талантливый шпион попал в поле зрения Бестужева в 1744 году, когда Папаша перехватил и несколько раз перепродал разным темным лицам секретное письмо шведского министра и масона графа Нольдена, адресованное российскому генералу и тоже масону Кейту. Русскому резиденту в Кракове Голембйовскому удалось выяснить, кто именно провернул эту прибыльную операцию. Духничу от имени канцлера Алексея Петровича предложили не слишком широкий выбор: стать русским агентом с хорошим окладом в червонцах или же немедленно умереть во имя христианнейшего короля Франции. Львовский патриций, как и предполагал Бестужев, выбрал первое. С тех пор все нити русской разведывательной паутины, широко раскинутой на огромных пространствах между Веной, Хаджибеем и Уманью, тянулись к гостеприимному и щедрому дому Папаши Прота. Тут получали и меняли деньги, делали-переделывали паспорта и подорожные, писали криптографические письма и прятали подозрительных путешественников.
Ценные подарки поощряли львовских вельмож закрывать глаза на бурную деятельность Папаши. Тем более, что в городе никому не удавалось (что было странно) определить, на разведки каких держав трудится сей неутомимый паук, счастливый муж красавицы Доминики и отец шестерых толстых краснолицых детей.
Молодая служанка, открывшая дверь Григорию, знала пароль. Она выслушала условленную фразу, вежливо улыбнулась симпатичному оборванцу и впустила Григория в освещенную сальными свечами прихожую, где дежурили два головореза с концентрированными лицами. Головорезы ловко обыскали школяра и, не найдя оружия, молча подтолкнули к дверям зимней кухни. Ритуал принятия в доме Прота полезных гостей включал в себя сытный ужин. Григорий послушно прошел на кухню, где другая служанка налила ему миску густой юшки, щедрой рукой отрезала кусок буженины и наполнила до краев пивную кружку. Пиво оказалось намного гуще и вкуснее выпитого в трактире «Под кляштором».
– Поспи немного, – женщина указала на постель, разложенную под каменной аркой. – Пана Протазия сейчас нет, будет завтра после обеда.
– Я только письмо передам и возьму суккурс[22].
– Пока пан Протазий не скажет тебе своего слова, ничего не дадут. Да и не выпустят отсюда.
– Почему?
– Так принято.
– Это неправильно.
– Что «неправильно»?
– Что не выпускают.
– Помолчи лучше, здоровее будешь, – посоветовала служанка, знавшая, что не все гости Папаши покидают его крепость в целом виде.
Григорий дочиста опустошил тарелки, выпил пиво, осмотрел кухню: печи, кастрюли, рогачи, сковородки. Все это под задымленным сводом из дикого камня. Двери были толстыми, окованными железными полосами. На узких непрозрачных окнах укреплены массивные решетки. Настоящая крепость. Он решил, что спорить с местными – себе дороже. Еще в Пресбурге, когда решил подзаработать перевозкой тайной корреспонденции, Григория мучили недобрые предчувствия. Теперь они усилились.
«Коль уж позарился на легкий хлеб, то не гневи теперь пана Бога жалобами», – мысленно определил он, вытягиваясь в полный рост на застиранной тряпке.
– Тебя как окрестили? – спросила служанка.
– Во имя святителя Григория.
– Если есть деньги, Грыць, то можешь порадовать наших цорок[23]. Они у нас красивые, молодых немалженых любят.
– За сколько любят?
– Там договоришься. Вон те двери.
– Женщина прелюбодейная есть скудельный сосуд дьявольский, – громко провозгласил Григорий, перекрестился, задернул льняную занавеску, отделяющую спальную нишу от остальной кухни, и закрыл глаза.
– Нужник[24], а кем-то показаться хочет, – услышал он ворчание служанки. – Тьфу!
Григорий не обиделся на глупую бабу. Меньше всего его заботило, что думают о нем холопки Духнича. И что они думают вообще. Он ни на мгновение не сомневался, что вся совокупная мудрость обитателей дома-крепости не способна прояснить ничего существенного из предвечного спора Софии-Навны с загадочным многоликим телом, умеющим быть и Кромом, и Карной, и всем темным отродьем Хаоса.
Киев, июль, наше время
– Будет тебе предложение, будет! Возвращенец ты наш! – Гречик грозил собеседнику указательным пальцем. – Но ты, Паша, должен держать язычок на привязи. На вот таком поводке, – на сантиметр раздвигал пальцы профессор и подмигивал Вигилярному.
Тот лишь утвердительно шевелил бровями. Жара и крепкий алкоголь совершили свое упрощающее дело, и разговор ученых в конце концов превратился в нескончаемый монолог профессора, чей организм мог, казалось, бесконечно сопротивляться магии зерновых спиртов.
– Я еще во времена оно предвидел такого, как ты, фрукта, – Гречик вел свою застольную лекцию от тезиса к тезису, как пират пробитую шхуну. – Если тебя не опередят…
– Кто?
– Кто, спрашиваешь? – будто бы сошлись створки невидимых ворот и скрыли профессорские эмоции. – Дед Пихто и конь в пальто. Знаешь таких ребят? Не знаешь, ага… Думаешь, ты самый умный? Ты роешь, роешь, копаешь, как экскаватор. Но другие тоже роют… Как ты там назвал свой доклад? «Итальянский отзвук в творчестве Сковороды»?
– Эх-хо.
– Какое еще «хохо»?
– Не «отзвук», а «эхо».
– Понял. Эхо. Да. Кстати, у меня в библиотеке имеется книжка «Civilta letteraria ucraina». Если не ошибаюсь, там что-то есть об этом. О Византии, об Италии, о Сковороде… Читал?
– Читал.
– А монографию Ушкалова об итальянских образах в литературе украинского барокко?
– Тоже читал… Но в-вы говорили о тех, которые тоже р-роют. Кто роет? Что он-ни р-роют?
– Кто… Что… Ты что, Паша, все хочешь знать? Вот КГБ тоже хотело все знать, и где оно теперь? Скажи!
– Т-там.
– Именно, Паша, там. В жопе. Знания умножают печаль.
–..?
– Когда-то и ты все узнаешь, наступит время, – заверил Гречик, закашлялся и потянулся к бутылке (уже четвертой, если считать от прихода Вигилярного). – Кха! Обо всем узнаешь. Кха! А ч-черт, что-то в горло попало… Может, и опечалишься, когда узнаешь. А что касается тех, кто роет… Человек, Паша, всегда после себя оставляет такое, что при желании можно вырыть, найти, достать. Да! Всегда! – Гречик плеснул из бутылки виски. Одна четверть его попала в стакан, три четверти растеклось по столу. – Вот ведь зараза! – расстроился профессор. – Рука оскорбляет мой разум своим дрожанием…
– Так что именно р-роют?
– Что надо, то и роют. – Отворки невидимых ворот держались крепко. – Ты знай свое. То, что тебе знать надо.
– Но вы же н-на что-то намемек… намекаете.
– Вот-вот: меме, меме…
– Не драз-знитесь, п-профессор. Вы намекаете, я же п-понял.
– А если да?
– Хоч-чу п-понять.
– А не понимаешь? – профессор развел руками. – Не понимаешь, нет?
– Н-нет.
– Я тебе, дорогой, говорю о внутренних вещах. Есть вещи внешние, а есть внутренние. Открытые и закрытые. Глубинные и поверхностные. Для всех и для избранных. Не будешь ведь спорить?
– Нет. – Вигилярному показалось, что нить разговора становится тонкой и змеевидной. Еще немного, и она оборвется или ускользнет сквозь щели в досках стола, вслед за пролитым виски.
– Есть вещи, которые познаются только путем испытаний и проб.
– Д-да.
– Что «да»?
– Глубинные и поверхностные. П-признаю.
– А куда же ты денешься, дорогой… Вот к примеру, всем известная история о Моцарте и Сальери. Это всем известно, согласен со мной? Поверхностный сюжет о двух композиторах стал дешевым достоянием широких масс. Поверхностный, профанический сюжет пересказан тысячу раз. В романах, пьесах, фильмах. В чем его суть? Она проста. Бездарь завидует гению. Завидует, завидует, завидует и в конце концов убивает гения. Подсыпает гению яд в вино. Да?
– Д-да.
– А глубинный, истинный сюжет совсем другой. Принципиально другой. Моцарт не просто гений. Он гений-масон. Пока был жив император Иосиф Второй, известный покровитель масонов, Моцарт находился под его личной защитой. Но вот Иосиф умирает. Детей у него нет. На трон после смерти императора садится его брат Леопольд Второй. Тиран и фанатичный католик. Еще со времен своего наместничества в Тоскане он упрямо и безжалостно преследовал масонов. Вена, само собой, не Флоренция. Посадить в каменный мешок автора «Фигаро» и «Волшебной флейты» Леопольд не решается. С другой стороны, Вольфганг Амадей является масонским флагом для всей куртуазной Европы. Во-первых, потому, что он гений, бесспорный гений, а еще потому, что вся куртуазная Европа посещает оперу. Посещает и слушает. «Волшебная флейта» агитирует за вольных каменщиков эффективнее всех трактатов масонской Академии мудрости. А во Франции революция, сестру императора Марию Антуанетту держат под арестом. Габсбурги в ярости. Они винят масонов в организации революции, в несчастьях королевской семьи Франции, в планах уничтожить все королевские семьи. В этой ситуации Моцарт превращается в проблему политическую. И для решения политической проблемы применяют чисто итальянское средство. Классическое средство тогдашней итальянской реал-политики. Яд. Известную всему миру аква тофану. «Воду Тофаны». Смесь мышьяка и окиси свинца. Этот яд придумала одна добрая неаполитанка по имени Тофана. Она дала попить водички супругу, а потом супругу подруги, а потом еще и еще. Освобождала женщин Италии от средневекового семейного рабства. Но это, Паша, так, лирическое отступление. Я говорю о том, что Леопольд прошел итальянскую политическую школу и хорошо освоил местную науку… Вот таким является глубинный сюжет, дорогой коллега. Сальери приказали отравить, он и отравил. Иначе потерял бы должность первого капельмейстера. Потом бедняга всю жизнь мучился. Через тридцать три года сам сознался, что отравил гения. Но кто был заказчиком – не сказал. Не смог сказать. Не имел морального права. Все-таки полвека харчевался за императорским столом. Так и появилась литературная байка о бездарном композиторе, убивающем из зависти. А какая там могла быть зависть, Паша? Какая к хренам зависть! Сальери был успешным и богатым. Его музыка звучала по всему миру. С чего бы это ему завидовать человеку, который не имел даже средств на жилье в пристойном районе?
– Д-действительно. С чего б-бы это… – Вигилярный попытался мысленно сконцентрироваться. «У кого не было средств на жилье? Это у Моцарта не было средств на жилье? На какое жилье?» – ползало и не сползалось в его голове.
– Вот читаем воспоминания ученика Сковороды Ковалинского, что Григорий Саввич сравнивал Библию с храмом, – продолжал Гречик. – «Я удивляюсь смыслу храма, но не отбрасываю его внешности», – говорит Сковорода. Насколько мне известно, это прямая цитата из масонского ритуала. Хотя возможно и такое: ученик вставил в уста учителя свои слова. Ковалинский был вольным каменщиком, даже возглавлял ложу. Возможно, именно поэтому в его «альфа-версии Сковороды» цитируются масонские тексты?
– Мас-сонские тек-ксты… – промямлил Вигилярный.
– То-то и оно… В чем-то ты и прав, Паша. Написали кучу литературы, а сколько еще у Григория Саввича остается недосказанного. Возьмем его трактат «Икона Алкивиадская», где он вскользь так упоминает Ехидну. Знаешь ли ты, Паша, кто такая Ехидна? Не знаешь. А Сковорода знал!
– Э-это жив-в-вотное такое, – еле выговорил Вигилярный. Сквозь туман, обволакивающий голову, он почувствовал: разговор, подошедший несколько минут назад так близко, предельно близко к чему-то действительно важному, теперь оказался от этого важного очень далеко. Если бы его спросили, какими именно путями к нему пришло это осознание, он бы не смог ответить. Однако он почувствовал космическое расстояние между тем знанием, о котором намекал старый профессор, говоря «если тебя не опередят», и теперешними его упражнениями в эрудиции.
«В ерундиции», – улыбнулся сам себе Вигилярный.
– Животное? – презрительно переспросил его Гречик, вглядываясь в даль, ему одному видимую. – А вот и нет. Не попал. Мимо. Ехидна, Пашенька, это такая женщина-змея из древнегреческой мифологии. Дочь Форкила и Кето, а согласно другим мифам – Калирои. Живет она в пещере. А знаешь, кто были ее бабка и дед? Гея и Понт Евксинский, то есть, как ты понимаешь, Мать-Земля и Черное море. Ничего тебе не открылось в этих раскладах? Нет?
Вигилярный отрицательно покачал головой.
«Понт как понты, – в его сознание проникла неуместная аналогия. – И зачем он меня грузит этой своей Ехидной? Об этой гребаной ехидне Сковорода всего-то полтора раза упомянул».
– …Это же секретная гностическая аллегория о преградах на пути познания Бога! – На профессора снизошла очередная волна лекционного вдохновения. – Как пишет Григорий Саввич в другом месте: «Ты ехидна ядовитая. Но мы тебя в руки берем». Берем в руки! Ядовитую, смертельно опасную! Это же не просто так написано. В стихотворении Феодосия Гостевича, современника Сковороды, тоже читаем:
Камо идох, безумен? Ехидна сидяше на пути, Все вои воспятиша; а оная рече: «Симо и овамо!»Понял? Что такое «симо» и «овамо» знаешь? Должен знать, ты же историк. В переводе со старославянского «туда и сюда». Куда ни пойдешь, получается, а внучка Геи и Понта повсюду сидит. Повсюду! «Почему так?» – спрашиваем. Что хотел нам сказать законник Феодосий? Куда-то проник немытый старец святогорский, о чем-то он проведал. Во-первых, заметь, что средневековые алхимики, а потом и масоны, в своих трактатах именовали «ехидной» фундаментальную земляную субстанцию, отпадающую от философского камня на второй стадии его вызревания. Ехидна – это символ грунта, теллурической основы. Во-вторых – это земля рядом с Понтийским морем. То есть спрашиваем, это аллегория чего?
–..?
– А сам подумай. И вот тебе, Паша, еще пища для размышлений: согласно мифологии, Ехидна от своего сына Орта родила Немейского льва. Затем Геракл льва убил и в его шкуре шастал. Ехидна – львиная мать. Леотокос, сиречь «левородица»! То есть, учитывая тогдашнюю символику, она представлена, как изначальная матерь воинов… Но ты, Пашенька, уже совсем устал, – определил Гречик, заглянув в помутневшие глаза гостя. – Давай-ка, я тебя здесь, у себя, спать положу. А завтра мы продолжим, покажу тебе кое-что весьма занимательное…
Пригород Львова, 12 марта 1751 года
Протазий Духнич оказался человеком среднего роста, с лицом цвета печеного яблока. Свой огромный живот он покрывал камзолом доброго сукна, сшитым на армянский манер, виссоновой вышитой рубашкой и широким шелковым поясом. Духнич принял Григория, сидя за массивным столом. На стене висел портрет короля Августа. Неизвестный художник изобразил суверена в полный рост, кособоким и с носом-картошкой.
Папаша Прот перехватил веселый взгляд Григория, брошенный на уродливую парсуну.
– Негоже на образ монарха глумливо зыркать, – проскрипел резидент. – Вижу я, что вы, пиворезы[25], нынче страх Божий потеряли, в питейных склепах обретаясь.
– Я не пиворез, добрый пан, я спудей, сиречь школяр, – Григорий опустил глаза.
– Какого коллегиума?
– Тринитарского. В Пресбурге.
– Униат?
– Подвизаюсь в страдниках ставропигийного братства…
– Не бреши, – оборвал его Папаша. – Какие там «ставропигийные братства»? О чем поешь, пташка Божия? «Подвизается» он, смотри-ка! Это ты в землях Московских перед благочинной экспедицией малознайкой прикинешься. А здесь ты придурочного из себя не строй. Я таких лайдаков насквозь вижу. Если ты не перешел в унию, то как отцы-тринитарии пустили тебя школярничать, а? А? Что молчишь, раб Божий Григорий? Языком подавился? «Верую» в коллегиуме своем как глаголишь?
– С филиокве[26].
– То-то и оно, братчик-отступничек, – нехорошо улыбнулся резидент. – Ну, ладно, пускай… Бог с ним, с униатством твоим… Покажи хрисовулы.
Григорий одним движением оторвал от свиты изрядный кусок подкладки. Дешевое сукно, известное на Слобожанщине как «тузинка», легко разошлось по швам. Из тайника он достал листы тонкого пергамента, покрытые шифрованным письмом. Папаша осторожно взял пергаменты, пробежал глазами по криптографии и спрятал принесенное в секретер.
– Бери, – резидент одну за другой выложил перед Григорием четыре монеты. Польские, из тусклого порченого серебра.
– Еще обещали пролонгацию[27].
– Какую?
– На пребывание в землях Речи Посполитой.
– Подождешь.
– Здесь?
– Хочешь – здесь, а хочешь – в другом месте… А что, – прищурился Духнич, – в моем доме плохо кормят?
– Кормят изрядно, весьма благодарен. Особенно вкусная у вас юха. Не пробовал ей подобной от самого Пресбурга. Да и пиво знатное.
– А зачем девками брезгуешь? Слабосильный?
– Говорится в Писании: видишь опасность, обойди ее.
– И в чем опасность?
– Среди несохраненных женщин, добрый пан, умножились ныне хворые. Страдающие болезнью Онория, чесоткой, сыпью святого Роха и скорбной желтухой. А я с детства до болезней боязливый.
– Боязливый, значит… – кивнул Духнич. – А я уже хотел тебе поручить кое-что… В Киев не собираешься?
– Не в ближнее время, пан добрый. Хочу сильнее подпереть убогие мои знания латинской премудростью.
– К ученью тянешься. Славно. Abeunt studia in mores[28]… А, скажем так, до Рима осилишь добраться? Там такие, как ты, тоже подпирают убогие знания. И латинской премудрости там океан необозримый.
– Для такого, пан добрый, и деньги нужны немалые, и глейты весьма несомненные. Среди спудеев поговаривают, что папские шандары[29] восточных не жалуют.
– Не твои заботы.
– Как скажете, пан добрый. Волошскую землю[30] я бы не прочь посмотреть.
Некую немалую долю времени царило молчание. Потом Папаша спросил:
– Слышал, небось, что коронный гетман[31] при смерти?
– Все мы, пан добрый, под Богом ходим.
– Этот уже доходит. Наполовину сгнил. В Риме у него есть доверенные среди достойников папской курии. Для Рима старый греховодник никогда не жалел ни сил, ни времени. Денег не жалел тоже. Хотя ясновельможный пан гетман был известным чародеем, варил золото с чернокнижниками, папежники ему все грехи отпускали. Значит, было за что отпускать. Служил папежникам верно… Ты должен там выведать следующее: после того как пан коронный гетман представится, через кого из местных Рим намерен смущать наши земли…
– Но ведь сии дела касаемы великих властителей, дигнитариев, – смиренно заметил Григорий. – А я человек незначительный и без чина. Как сподоблюсь такие высокие сакраменты выведывать?
– Отсутствие чинов в таких делах помогает. Мелкое там пролезет, где крупное застрянет… С мелких камушков, Григорий, знатные камнепады начинались. Ты уж поверь мне. Я о властителях и о делах, тех властителей касаемых, знаю побольше, чем твои дидаскалы. Пойдешь в Римскую землю паломником. Мордой ты на пилигрима вышел, вон какой бледный и молитвенный… – Папаша порылся в бумагах, нашел там некий пергамент. – И вот еще. Будет тебе задание полегче. Говорят, что Орлик[32] тайно и под чужим именем подался в Венецию. Нужно вызнать, что он там забыл и с кем он будет встречаться. Сейчас там турецкие правящие люди пребывают. Возможно, он с ними интриги разводить будет. А возможно, и другое что-то злозатейное, понеже от Грыця оного мы постоянно партизанские нападения наблюдаем… – Резидент помахал пергаментом, словно на нем обозначили упомянутые «нападения». – Теперь на севере нависла война со шведами. Через два месяца, говорят, флот выйдет из Кронштадта. Мы знать должны твердо, что юг не колыхнет бунтом. Что турки останутся мирными и не всадят нам нож в спину. Сии дела государственные, важные. Если сумеешь вызнать о вражьих помыслах Орлика, получишь золото для постижения любимой твоей премудрости. И в Киеве найдется, кому перед Леонтьевым[33] и преосвященными за тебя слово замолвить, я позабочусь. Ведь ты, Григорий, – оскалился Папаша, – истинный злодей, апостат, причетник беглый. Регентство бросил, от Вишневского[34] самовольно ушел. Да еще и в унию перекинулся. И сего тебе никто не простит, если на службе царевой не постараешься. Висеть тебе на дыбе. А ведь дядя твой в Санкт-Петербурге не последний человек. Опечалится, ох опечалится Игнатий Кириллович, когда про тебя, выродка такого, дознается[35].
– Я от отцовской веры не отступал. Креста отеческого не снимал, прямых еретиков, иудеев и лютеран избегал. Все посты соблюдал по православному. Всех святых угодников поминал без пропусков. Не апостат я, вины на мне нет. Игнатию Кирилловичу стыд за меня иметь не следует. А Гаврила Федорович сами меня от регентского чина отставили, из капеллы выгнали, – тихо пересохшими губами произнес Григорий. – А про сии ваши сакраменты, то не ведаю, добрый пан, под силу ли мне…
– Не гунди, страдник. Знаешь, наверное, что со времен первого Петра в Европу посылалось немало из тех, кто в знаниях промышлять был способен. Из тех школяров потом министры, архиереи и даже великие канцлеры вышли. Не ты первый, не ты последний. Еретиков, говоришь, избегал? Опять брешешь. Мы о тебе знаем больше, нежели ты думаешь. Ты, как мне донесли, в австрийских землях с местной масонерией знался.
– Я с ними совместно постигал науки.
– И пиво совместно с ними пил. И на шабаши совместные к их магистрам бегал. Я не церковный суд, там будешь оправдываться. Нам же, скажу по правде, твоя фармазонщина только на руку. Ближе к Орлику подобраться сможешь. Орлик – фармазон основательный, в одной из парижских лож с самим принцем Конти сидит. Так вот, ты уже сегодня пойдешь к тому мальтийцу, с которым вчера «Под кляштором» пиво пил. Попросишь у него рекомендации для итальянских фармазонов. Я так мыслю, что Орлик в тех кумпаниях должен объявиться. Где же ему еще объявляться? В граде Венеции этих магистров не так уж и густо, все друг друга знают. А оттуда и до Рима рукой подать.
– Мне нужно поразмыслить над сиими диспозициями.
– Да ведь ты уже на все согласился.
– Когда?
– Ты же сам сказал, что хочешь Италию обозреть, – Папаша Прот не скрывал своего веселья. – Я же перед тобой, шамайником голожопым[36], здесь только что целую стратегию выстроил. А она, как ты понимаешь, сугубо секретная. Под государевым словом и делом пребывает. Теперь тебе обратного хода нет.
– Помилуйте, добрый пан… – Григорий казался перепуганным.
– Да не бойся ты так, – хмыкнул резидент. – Ты же казацкого рода ветвь. А дрожишь тут, как цорка нецелованая.
– Я духовного призвания муж.
– Не смертельно. В царском деле, поверь мне, и архиереи надлежаще тщатся, – перед Григорием появился кожаный кошель. – Возьми эти талеры, страдник, иди к мальтийцу. Пива с ним выпей. Завтра тебя буду здесь ждать. Не позднее заката. Не позднее, слышишь? Пароль у дверей будет: «Минерва выпускает сову».
Когда за Григорием закрылась дверь, Духнич вынул из тайного ящичка таблицы и принялся расшифровывать сообщения венского агента, принесенные школяром. В первом сообщении речь шла о новой жене русского посла в Австрии, которую венский двор не признал законной графиней Бестужевой. На последнем официальном рауте императрица Мария Терезия сделала вид, что не замечает оной, а посол Михаил Бестужев от такого публичного унижения захандрил и ушел из дворца еще до подачи десерта.
Эта новость весьма обрадовала резидента. Он знал, что канцлер Алексей Бестужев был категорически настроен против женитьбы своего шестидесятилетнего брата Михаила на молодой резвой вдове Гаугвиц. Канцлер надеялся, что сам станет наследником имений брата, но внезапный брак расстроил его планы. Он приложил колоссальные усилия для того, чтобы и в России, и в Австрии поставить под сомнение мезальянс посла и вдовы. И вот теперь эти усилия принесли зримый плод.
«За такую симпатичную реляцию Алексей Петрович отсыплет целый кошель червонцев», – мысленно подытожил Прот и взялся за второе послание, в котором речь шла о пребывании беглого капеллария Григория Сковороды, сына Саввы, во владениях германских кесарей. Агент сообщал, что упомянутый Сковорода на почве ученых занятий и книжных стараний сдружился со шляхтичем Орестом Коллонтаем, вольным каменщиком ложи польских изгнанников «Пеликан к Белому Орлу». А еще с венгерским астрономом Белой Фери, псевдоним Ракаский, аффилированным[37] в прошлом году в ложу «Филомена». Агент напоминал, что в «Филомену» перед Филипповым постом приняли польского партизана и ненавистника России Михала Конюковича – доверенного приятеля Орлика-младшего.
«Как в воду глядел, – похвалил себя Папаша Прот. – Вот оно где, кубло то вражеское».
Он позвал к себе одного из охранников. Когда тот стал под портретом короля, резидент спросил:
– Хорошо запомнил того причетника, что у нас ночевал?
– Запомнил, вашце.
– Не «вашце», лайдак, а «ваша милость»! Сколько вас, дурней, регулам[38] учить.
– Прощения просим, ваша милость.
– Пойдешь за ним в город. Все должен о нем вызнать: куда пойдет, с кем увидится, что делать будет. Понял?
– Да, ваша милость. Не впервой.
– Вот и хорошо, что не впервой. Следи, не ленись.
Киев, июль, наше время
Ночь Вигилярного прошла беспокойно. Во сне он шел по бесконечной площади, вымощенной черными и белыми плитами. На этой шахматной поверхности не росли деревья и не текли реки. Ни возвышенности, ни углубления не нарушали идеальной гармонии плит. Плиты, до самого горизонта одни только плиты. Над плоскостью вознеслось высокое светлое небо. Солнце пекло где-то за спиной, но сновидец не решился обернуться посмотреть на светило. Он шел, шел, шел, шел размеренным шагом, пытаясь не наступать на плитки черного цвета. Шел долго. Наконец двухцветное однообразие сломало круглое строение – ротонда с высокими белыми колоннами и небесно-синим сводом, сошедшая, быть может, с картин времен Ренессанса. Ротонда выглядела, как храм, но на самом деле оказалась беседкой, где за накрытым столом сидела черноволосая женщина в белой хламиде. Цвет ее лица сновидец определить не смог. Оно напоминало венецианскую маску, сработанную из зеркального металла. В этой маске, показалось сновидцу, отражались тени и изменения прошлого, неспокойного мира. Женщина мило улыбнулась металлическими губами и жестом пригласила его к столу.
Он присел на краешек полосатого барочного диванчика, но не решился положить руку на сияющий отраженным небом позолоченный подлокотник. Он никак не мог рассмотреть, что именно лежит на столе. Сначала ему показалось, что на серебряную тарелку положили фрукты. Но потом красные яблочные шары превратились на раскрошенные пирамидки пармезана и горгонзолы. А вокруг серебряной тарелки выросли хрустальные столбики бокалов, наполненные жидкостью цвета хереса.
«Ты устал?» – спросила женщина.
«Нет», – ответил, сам спросил:
«Кто вы?»
«Тот, кого мир ловил, но не поймал».
Сновидца почему-то не удивил этот ответ. Совсем не удивил. Это же только сон. Если во сне покойный философ приходит в образе металлической женщины, значит, так нужно. Он мог появиться в образе крылатого льва и в образе мыслящего вихря. Это его воля, его мир и его владения.
«Как вас теперь величать?»
«Имена в прошлом».
«Что же осталось?»
«Стремление к познанию».
«Разве смерть не убивает стремление?»
«Смотря что называть смертью».
«Грань. Предел».
«Это лишь предрассудок. Смерть намного сложнее. Она не любит итогов. Она текучая, в ней мириады лиц. Она готовится к встрече с каждым и поэтому присутствует при каждом рождении. Она впитывает в себя опыт предыдущих смертей. Когда ты приближаешься к ней по собственной воле, она отступает. Она не позволяет руководить собой и жестоко мстит тем, кто пытается это сделать. Истинная смерть имеет сестер, которых сложно от нее отличить. Они строже ее. Они темнее ее. Они моложе ее. Она посылает их к тем, кого желает испытать. Если человек отличает немилосердных сестер смерти от смерти истинной, такого человека зачисляют в тайную свиту смерти. Такой человек находится среди живых, но ему известны знания, запретные для живого. А еще смерть меняется и набирается мудрости. Смерть во времена фараонов и смерть в наше время – две совсем разные смерти. Это одна из глубочайших ее тайн. Таким, как ты, это трудно понять. Я тоже не понимала».
«Я боюсь смерти».
«Правильно делаешь. Она умеет удивлять».
«Удивлять тем, что после нее?»
«Тем, что сама определяет степень исполнения правил сущего».
«А Бога?»
«Что?»
«Бога она тоже определяет?»
«Меньшее никогда не определяет большего».
«Ты видела Его? Или, может быть, нужно спрашивать “ты видел?”»
«Как тебе удобнее. Живым удобнее постигать Его, нежели мертвым. Нам для того и дается жизнь, чтобы мы дерзали постигнуть Бога. Однако мы не умеем, не успеваем, не учимся постигать Его, а потом жалеем. Узнаем, что на самом деле могли постигнуть, а не постигли. Это и есть ад».
«А рай? Как же с ним?»
«Рай такой, как это вино. Вкусное?»
Сновидец не успевает выпить вино. Он пытается увидеть бокал, но внезапно ротонда превращается в карусель. Она начинает вращаться, и он просыпается.
У Вигилярного был небольшой опыт похмелья. Ему показалось, что он пробудился от головокружения – голова кружилась еще во сне, а после пробуждения безжалостная карусель прибавила оборотов. До туалета он не добежал – его вырвало на пол.
«И как это космонавты в центрифугах выдерживают?» – удивлялся Вигилярный, ища ведро и тряпку.
Откуда-то сверху донеслись звуки. Будто бы двигали чем-то тяжелым.
«Однако же конское здоровье у нашего профессора, – позавидовал одесский гость. – После такого адского похмелья еще и мебель переставлять… А может, это он там штангу поднимает?»
Вигилярный выглянул в окно, выходящее во двор. Над киевским пригородом поднимался и расправлял лазурные крылья солнечный день. В беседке под орехами так и остались неубранными остатки вечерней трапезы. Пиала казалась яркой запятой неоконченного ночного предложения. Пустая бутылка лежала на гравии, рассеивая призматическими гранями утренние лучи.
На втором этаже вновь что-то загрохотало. Гость оторвался от окна и продолжил поиски. Еще не хватало, решил он, чтобы корифей наткнулся на позорные последствия его, Вигилярного, абстиненции.
Тряпка и ведро нашлись на кухне. Сама же кухня оказалась на удивление просторной для такого, в общем-то, скромного дома. Здесь располагались «дворцового» размера обеденный стол, окруженный венскими стульями (старинными, изящно гнутыми, покрытыми темным лаком), и габаритный холодильник. Вигилярный понял, что при худших климатических условиях именно здесь совершались коллективные мистерии профессорского гостеприимства. Он заглянул в холодильник. Его объем весьма плотно заполняли бутылки элитной водки и виски, консервы и вакуумные пакеты с дорогими итальянскими сырами, колбасой и нарезанной ветчиной. В дверцах холодильника, словно гвардейцы на плацу, выстроились банки «будвайзера» и «Балтики». Вигилярный едва удержался от вульгарной тактики преодоления похмельного синдрома. Тошнота все еще таилась в засаде.
Вода из крана едва лилась. Он дождался, пока ведерко наполнилось на четверть, возвратился в комнату и кое-как отмыл пол. Когда уже выкручивал тряпку, то услышал шаги. Как бывает в доме со старыми деревянными ступеньками – сухие и барабанные. Вряд ли это шаги профессора, решил Павел Петрович. Далеко не тяжелый и не старый человек спускался по ступенькам. Вниз упруго сбегали молодые ноги.
Вигилярный выглянул в коридорчик и увидел девушку. На первый взгляд она была именно девушкой. Хотя могла оказаться и молодой женщиной. Спортивного типа. С длинными, затянутыми в узкие джинсы, ногами.
– Доброе утро! – поздоровался гость.
Видно было, что девушка не ждала появления незнакомого человека. Она резко обернулась на его голос. Ее рыжие волосы, собранные в пышный хвост, мотнулись, но удержались в пучке, словно склеенные. Лицо девушки оказалось широким, с выразительными скулами и аккуратным носиком.
«Она и в самом деле юная, – заметил Вигилярный. – Лет восемнадцать. Ну, двадцать».
– Я гость Геннадия Романовича, – опередил он вопросы рыжей. – Геннадий Романович позволил мне остаться здесь на ночь… А вы, я так понимаю, его дочь?
– Дочь, – подтвердила девушка. В ее светлых глазах застыли настороженность и нечто отстраненно-буддистское, обычно – как знал Павел Петрович – плохо сочетаемое с настороженностью. Взгляд дочери Гречика показался гостю ощутимо твердым. Впечатление было такое, что глаза девушки направляют на него невидимый таран.
«Неужели я на вора похож?» – удивился Вигилярный, а вслух спросил:
– Геннадий Романович еще не проснулся?
– Еще спит, – подтвердила рыжая, не отводя своего «таранного» взгляда от лица Вигилярного. – Я уже бегу, извините. Не успею кофе вам приготовить. До свидания.
– Ноль проблем, – широко улыбнулся гость. – Надеюсь, позднее увидимся.
Девушка не ответила. Выбежала из дома, коротко хлопнув дверью.
«Какая-то резкая у профессора наследница. Неприветливая», – подытожил Вигилярный и пошел искать кофеварку.
После двух чашек кофе его отпустило. Тошнота покинула засаду, отступила в свои нутряные укрытия. Не замедлил проснуться аппетит. Вигилярный с удовольствием употребил холодную ветчину, заварил новую порцию кофе и решился побеспокоить профессора.
«Все-таки уже одиннадцать, – он сверил наручные часы с хронометром на экране мобильника. – А он все еще спит, сурок старый. Ехидну, наверное, во сне видит. Здоровенную такую ехидну, рассевшуюся своей ехиднинской задницей на всех путях одновременно. А ведь глупости говорят, будто бы сон алконавтов глубок, но краток».
Вигилярный поднялся на второй этаж, подошел к закрытой двери и осторожно постучал по лакированному дереву. Никакого ответа. Он приоткрыл дверь и увидел разбросанные по полу книги. Коричневые томики Брокгауза и ярко-синие Ключевского. Это удивило Павла Петровича, и он решил осмотреть комнату. Профессора там не было. Постель разбросали, книжный шкаф отодвинули от стены. Плинтусы были сорваны. Одну из досок пола выломали. Ее обломок торчал, как корма тонущего «Титаника».
Впечатление было такое, будто кто-то провел в комнате быстрый и брутальный обыск.
«Так вот что это за звуки были», – догадался Вигилярный. Он вспомнил реакцию девушки на его появление. Теперь ему стало неспокойно. Очень неспокойно. И холодно. Словно ему на плечи накинули мокрую простыню.
Он побродил по комнатам. Гречика нигде не было. Однако и новых следов обыска не нашлось. Осмотр двора тоже не прояснил ситуации. Вигилярный окончательно сбросил с себя похмельную неторопливость. Его движения обрели уверенность и проворность. Он заглянул в недра невысокой пристройки, принятой им за гараж. Там обнаружилась домашняя мастерская с токарным станком и фрезой на массивной станине. Вдоль стены сложили дубовые доски, паркет и обрезки труб. Топоры, пилы, цепи повесили на стене. На полках, под потолком, выстроились шеренги банок, бутылей и закупоренных стаканов. С потолочных балок свисали шнуры.
«Профессор здесь мастерит, наверное, – предположил Павел Петрович. – Расслабляется рукодельем». Глаза его тем временем привыкли к полутьме и заметили нечто жутковатое.
Ручейки пота мгновенно смыли холод со спины Вигилярного. Из-за токарного станка торчали босые старческие ноги с широкими, набухшими ступнями. Несколько минут он не отрывал взгляда от кривых, небрежно обрезанных ногтей и желтовато-восковой кожи, словно припудренной серым. А когда оторвал, то заметил, что фрезерная плита залита жидкостью, казавшейся в полумраке жирной и черной. Стружка на полу набухла темными грудками. Он уже знал, что увидит, если заглянет в узкий проход между станками.
«Немедленно бежать отсюда», – решил Вигилярный. Ведь рыжая не просто так оставила его в живых. Вероятно, «назначила» именно его тем терпилой, на которого органам будет удобно списать убийство профессора. Он прислушался. На улице заскрипела калитка. Потом послышались голоса. Вигилярный судорожно осмотрелся вокруг. Слева от себя он обнаружил узкий проход, ведущий, судя по всему, в жилые помещения дома. В проходе он увидел крутые ступени, спускающиеся вниз, к двери, обитой крашеной жестью. Он подергал ее. Судя по звуку, дверь изнутри запирала лязгающая задвижка. Не требовалось усилий воображения, чтобы догадаться: проход вот-вот превратится в ловушку.
Тем временем звуки, доносящиеся со двора, становились все более определенными. Там разговаривали. Кто-то весьма энергично раздавал распоряжения, смысл которых почему-то не доходил до паникующего сознания Вигилярного. Воображение компенсировало проблемы восприятия, рисуя деловитую команду милицейских ищеек, рыскающих владениями покойного профессора.
«Подставила, ментов вызвала… Вот сука!» – он сильнее дернул крашеную дверь. Ему показалось, что невидимая задвижка поддалась его напору. Зацепил пальцами за край двери и почувствовал, как жестяной лист режет кожу на пальцах. Но выбирать не приходилось. Вигилярный предельным усилием потянул дверь на себя, запиравшая ее железка оторвалась и упала. Как показалось ему, с оглушительным звоном. Дверь подалась, он едва удержался на ногах. Боль от порезанных пальцев добежала до мозга.
«Только бы на улице не услышали!» – попросил он неведомые высшие силы.
За дверью повисла непроглядная темень. Вигилярный вытянул перед собою руки и на ощупь двинулся в эту тьму. Вскоре под рукой вместо шершавой стенки оказалось что-то гладкое и с выступом посередине.
«Выключатель!» Спустя мгновение тьма исчезла. Он стоял посреди довольно длинного и высокого кирпичного коридора, освещенного голой лампочкой, свисающей на скрученной проволоке. В дальнем углу коридора Вигилярный заметил еще одну дверь. Третий выход из коридора – и тоже закрытый – обнаружился рядом с ним, в правой стене. Нужно было выбирать. Причем быстро. Он попробовал сориентироваться в подземном пространстве. Вспомнил расположение мастерской, лестницы и коридора. Получалось, что двери справа вели к цокольным или подвальным помещениям особняка, а затем, скорее всего, в комнаты на первом этаже. Но туда уже могли заглянуть защитники правопорядка. Поэтому Вигилярный двинулся к торцевой двери. Она была значительно крепче той, от которой Павел Петрович оторвал задвижку. Дверь сварили из трехмиллиметрового листового металла и оснастили врезанными замками. Вигилярный внимательно присмотрелся к замочным щелям: в нижней разглядел колодку цилиндрического замка, в верхней – торец сейфового «бриссоля».
Когда-то, сам не зная зачем, Павел Петрович купил на базаре брелок с набором ключей-отмычек. Теперь криминальный сувенир мог его выручить. Он вынул брелок из кожаного футлярчика, раздвинул веером вороненые крючки и пластины.
«Вроде бы приличная сталь, – оценил Вигилярный. – Вот этот крючок, кажется, у блатных называется «люськой». А этот – «карпычем». Как-то так…»
Он вставил «карпыча» в нижнюю щель. Нажал, провернул, ощущая, как инструментальная сталь преодолевает сопротивление, срезая профиль колодки, насилует фуфловый металл. Потом услышал характерное клацанье.
«Виват!»
Сейфовый замок продержался значительно дольше. Между попытками его сломать Вигилярный прислушался к внешним звукам, но ничего подозрительного не слышал. Когда дверь наконец-то открылась, ощутил запах ацетона. За дверью оказалась кладовка, треть которой занимал старинный платяной шкаф. На полу кто-то оставил осколки винной бутыли, в углу ржавела канистра. Вигилярный сразу понял, что сюда давно никто не заглядывал. На полу, на осколках, на резных узорах шкафа покоился слой девственной пыли.
Он осмотрел зарешеченное окно. Решетку можно было сломать, но сделать это бесшумно и быстро вряд ли вышло бы. Он уже было вернулся в коридор, но что-то заставило его внимательней присмотреться к шкафу. Может, он вспомнил фильм о Нарнии, а может, какое иное воспоминание подтолкнуло его к допотопному гардеробу.
«Ведь зачем-то же, – подумалось Павлу Петровичу, – затащили эту древность в подвал, да еще и защитили от стороннего любопытства металлической дверью. Неспроста это, ой неспроста».
Львов, 12 марта 1751 года
Григорий настороженно (а сам он определил: «осмотрительно») шел Львовом. Он не любил городов с их подлым, злым и зря толпящимся народом. Деревни были ближе его пониманию. Они жили хозяйственными и святочными коловоротами, от урожая до урожая, от праздника к празднику. Их естество не вмещало хитрых стратегий. А в городах Сковорода каждый миг своего пребывания ощущал, как растет, ворочается, пульсирует в их мистическом сердце дальновидный замысел. Как живет своей причудливой и спрятанной от посполитых людей жизнью та стержневая корыстная необходимость, благодаря которой города и возникли. Духовным зрением Григорий видел: та необходимость, которая пряталась в мистическом сердце Киева, имела торговый смысл. Киев родился как речной базар на берегу Подола, продолжился как базар и жил теперь как базар. Всем его святым церквям, пещерным криптам, монастырям и часовням не хватало сил, чтобы молитвенными подвигами, покаянными шествиями, постами и схимами переназначить барыжную судьбу града Владимира и Ольги. Призвание Санкт-Петербурга определилось волей одного человека – его основателя. Город Петра родился схемой и жил как схема. Геометрически правильная, солдатская пустота площадей равнодушно господствовала над его домами, радовалась свежему снегу и желала военных парадов.
Необходимость Львова показалась Григорию призванием иного свойства. Воля князя-основателя уже давно не владела его за́мками. Ее заслонил замысел польского короля Казимира, давшего городу военно-торговое назначение. Рынки и фарные площади[39], где продавали и покупали все, чем торговали Европа и Азия, влияли на призвание города Льва не так фатально, как на ту метрополию, чьи кривые строения обсели Печерские высоты. Дворцы и дома Львова жались друг к другу спинами, будто ночные стражи, потревоженные исходящей из тьмы угрозой. Обыватели галицкой метрополии жили под защитой нагроможденных веками каменных стен, настороженных башен и угрюмых ворот. Львов, как и австрийский Пресбург, был прежде всего крепостью, созданной для противостояния завоевателям и кочевым демонам. И Григория, как исповедника вольного духа степей и странствий, он признавал чужим себе и не принимал в свое бытие. Сковорода знал, что вскоре покинет эту напряженную прикарпатскую крепость и критически приблизится к Отцу городов – Риму. Он пожелал познать еще и ту счастливую необходимость, на которой воинственный Ромул основал Вечный город. Он давно бредил Италией и ныне побеждал холод ранней львовской весны мечтами о жарких прикосновениях апеннинского солнца.
Над львовскими башнями и куполами тем временем собирались тучи. Григорий все чаще и чаще поглядывал в небо. Ему рассказали, как прошлым летом молния дотла сожгла карету, в которой на исповедь ехала жена местного патриция. Это произошло в самом центре, едва ли не на Рыночной площади. Патрицианка, поговаривали, уцелела лишь благодаря своей глубокой набожности и покровительству святой Агнессы, чьим именем нарекли ее при крещении предусмотрительные родители. Грозы в марте считались редкостью, но для карающих сил, как известно, нет ничего невозможного.
«По воле высшей и неисповедимой бугало огненный навестил сего невострепетавшего, избавил его отягощенную многими прегрешениями натуру», – снова звучал в его голове незабвенный голос Начитаного. Слова стучали в висках, как молотки масонских венераблей[40]. Опасность была совсем рядом. Опасность нависала, как зубастые гранитные глыбы в зените выкрошившегося свода. Опасность, опасность, опасность. Он догадывался, что львовские замки не защитят его, чужака, от небесного бугала. Но он все равно выбирал для странствия наиболее узкие улицы, рискуя попасть под выливаемые из окон помои.
На Сербской к Григорию прицепился нищий. Грязный, водянисто-пузатый, в лохмотьях. Прогугнявил:
– Подай, подай, добрый пан, шелюжку. Молитвеннику на прокорм!
– Не имею, человече Божий.
– Ачей кроху, щедрейший пан.
– Сам безбарвачник есмь.
Нищую морду покрыла ухмылка.
– Боишься огня небесного, – то ли спросил, то ли определил попрошайка. – Иди, иди к Черной горе, там лежит камень писаный, возле него живи. Огнь падающий того камня боится, дальней дорогой его обходит.
Григорий оторопел. Пока собирался с мыслями, попрошайка исчез. Только смрад, посильнее помойных ароматов улицы, повис в воздухе, подтверждая, что нищий провидец не был призраком. Сын Саввы перекрестился. И без того бледное лицо его покрылось пятнами цвета каррарского мрамора.
«Что это было? Кто сей юродивый? Неужели страхи мои на челе моем начертаны?» – Теперь он не осмеливался взглянуть выше стрельчатых крыш. Превозмогал давнюю привычку и не отрывал взгляда от затоптанного уличного настила. Только чувствовал, как сгущаются, наливаются тяжелой влагой грозовые тучи.
В церковь Святого Николая он успел до дождя. Почти бегом добежал до центрального нефа. Упал на колени перед суровым ликом святителя Мирликийского и вознес молитву. Но моление вышло пустым и неправильным. Благие энергии не восстали в его естестве, тело и голова оставались сочетаниями влаги, слизи, костей и мяса. Сумеречными и суетными вместилищами плотного в плотной среде.
– Это ведь вы хотели видеть преподобного отца Кирика? – услышал он голос за спиной.
Он повернулся, увидел молодого служку, подтвердил:
– Истинно.
– Следуйте за мной, – служка нырнул в дверь внешней галереи.
Григорий поднялся, последовал за служкой и быстро приноровился к его широкому шагу. Вместе они прошагали внутренним церковным двором к высокой кирпичной базилике. Зашли в притвор, свернули на витую лестницу. Она вела глубоко под землю. Служка снял со стены факел, подсветил себе, открывая дверь с причудливой медной ручкой. Эта ручку отлили в виде мантикоры – сказочного крылатого чудовища с телом льва и человеческим лицом. Григорий попытался вспомнить, какое из алхимических действий символизирует мантикора. Но поток дальнейших событий отвлек его от алхимии и чудовищ.
Навстречу ему из-за двери выпрыгнули странные звуки. Молитвенный речитатив, нечеловеческий вой, визгливые стоны. Отец Кирик уже начал ритуал изгнания демонов. На грязном каменном полу судорожно извивалось тело юноши, почти отрока, с длинными растрепанными волосами. Вокруг горели черные и зеленые свечи, лучились золотом и киноварью расставленные крестом иконы, колыхались темные фигуры клириков и мирян, отстраненно бродил огромный рыжий кот.
Григорий заметил, что у бившегося в судорогах юноши красивое тело. Сильные руки, гибкая талия, узкие мускулистые бедра. Такие тела он видел на гравюрах Джулио Романо. Он зажмурился и зашептал молитву, отгоняя неуместные мысли. Теперь ему действительно стало страшно. Он слышал, что во время изгнания демона нельзя мысленно отвлекаться по пустякам. Тем более, отвлекаться на прелести плоти. Известно было, что изгнанный демон может использовать грешную мысль как дыру и пролезть сквозь нее в сущую на ритуале душу. Григорий слышал о подобных прорывах обезумевших темных духов. Даже видел одного бесноватого, подцепившего беса-наездника во время экзорцизма.
«Раб невечного ты, Григорий, несдержанный и беспутный еси», – выругал он себя и открыл глаза. Лучше бы не открывал. Бесовская сила необоримо выкручивала и ломала тело юноши. На нем остались лишь жалкие клочья одежды. Мышцы на теле бесноватого перекатывались шарами, жилы, казалось, вот-вот порвутся, а стержень мужской силы налился темной кровью, напрасно ища утешения. Юноша обладал приапическим фаллосом – огромным, благородно изогнутым, красиво увитым нитями кровогонных жил. Фаллос жил своей особой жизнью, вращаясь, словно пушечное дуло на окруженном супостатами бастионе, хлопая бесноватого по животу и ногам, упираясь в пол, разбрызгивая слизистую смазку.
Юноша время от времени пытался поймать его руками, но могучий орган ускользал от его пальцев и продолжал свой парадоксальный танец. Казалось, что его движения и вызвышенный речитатив демоноборца подчинены некоему общему ритму. Из-за этого резонанса весь ритуал обретал для Григория одновременно соблазнительную и мерзкую двусмысленность.
Свечи горели и поднимались к сводам витые шнуры черной копоти.
Слова полосовали беса, как ангельские бичи.
И продолжался танец.
«Похотливая пляска», – мысленно уточнил сын Саввы.
«Божественный танец изначальной Силы», – шепнуло нечто в его голове.
Борьба за гибнущее человеческое тело увлекла Григория зловещей красотой воплощенного в движении отчаяния. Из демоноборца он, вопреки собственной воле, постепенно превратился в увлекшегося зрителя.
«А если бы, – подумал он вдруг, – вместо юноши здесь корчился старый дед с высохшими и гнусными, как старая тряпка, чреслами? Неужели борьба его духа с захваченным бесами телом так же отвлекала бы меня от духовного долга?»
Он ощутил, что ритуал достигает вершины, высшего напряжения борьбы преподобного Кирика с упрямой сущностью.
«Назови свое имя, демон!» – приказал сущности экзорцист.
Бесноватое тело ответило рвотой, ругательствами и волчьим воем.
«Назови свое имя!» – голос Кирика пел, звенел, грохотал, как большие лаврские колокола.
Фаллос бесноватого подло изверг струю спермы, облившую рясу священника. Бесноватый дико захохотал, сотрясаясь в чудовищных судорогах.
«Имя!»
Плотское естество Сковороды в этот миг пронзила жгучая внутренняя молния. Она ударила вдоль позвоночника, выйдя из чресел, раздвинув перепуганные легкие и войдя в основание шеи. А за внутренней молнией, будто пехота за конницей, надвинулись роты телесных болей, батальоны страхов и дурных предчувствий.
«Неужели это изгоняемый демон пробивает себе путь к моей бессмертной монаде?» – ужаснулся Григорий.
«Господи, помилуй!» – прошептал он, принуждая себя смотреть на бородатое и темное от напряжения лицо отца Кирика. Оно напомнило Григорию святые лики столпников на фресках Печерских храмов. Он смотрел на этот звонкий, возвышенный лик. Он любовался им, как последним оплотом святости. Он цеплялся за него, как утопающий за ковчег праотца Ноя. Он искал в нем мощь невечернего света евангельского. Но сквозь него видел низкие, вымазанные похотью и тленом, тени прошлого. Видел свои детские желания и взрослые соблазны.
Видел могучее тело Крома-Карны, мужское и женское одновременно. Видел алые губы степной богини и горячий столп осеменяющей силы Крома. Видел мощные смуглые бедра и глаза, обещающие сладкую смерть слабосильным. Видел жадное бездонное лоно Карны и черные волосы бога воинов, заплетенные в походные косы.
«Сгинь, сгинь, нечистая сила!» – вдруг выкрикнул он одновременно и бесу, и древним богам Степи, и жгучим воспоминаниям. И даже не увидел, а ощутил удивление служки, стоявшего рядом. Даже рыжий кот, как почудилось Григорию, посмотрел на него неодобрительно. Григорий понял, что крик его получился истерическим и писклявым, что демона этим криком он нисколько не напугал, и, тем более, никак не помог преподобному Кирику выяснить истинное имя нечистого. Наоборот, продемонстрировав свою слабость, лишь вдохновил врага на дальнейшее сопротивление.
Даже на полслова не сбился отец Кирик в молитве. А закончив ее, он вновь громоподобно потребовал:
«Имя!»
Тело бесноватого вновь мелко-мелко затрепетало, выгнулось «мостиком», вывернулось невозможным левосторонним «винтом». Из его распухшего, почерневшего от притока крови фаллоса вновь забил фонтан семени. Несколько капель попали Григорию на лицо. Он задрожал, брызги причинного сока обожгли его кожу, будто раскаленные адские искры.
Вместилище беса ощерилось на Сковороду. Он услышал (или так ему показалось) нечеловеческий голос, исходящий от бесноватого тела: «Идешь в Рим, так иди, иди! Пошел, пошел отсюда!»
Новая внутренняя молния выпрыгнула из чресел Григория, из восставшего грешного царства праматери Евы. Семя его тоже излилось. Благо, что его приняли в себя заплатанные школярские барваки.
Батыевою ордою молния прошла по хребту, обожгла сердце, сдавила стальным обручем шею и победно ворвалась в голову. От адамового яблока рванулась к горлу и носовым пазухам, ударила в переносицу и там взорвалась нежданно острой, разрывающей мозг болью. В глазах сына Сковороды вспыхнуло пурпурное сияние.
«Демон!» – запищало что-то в затылке. Боль словно вывернула ему глаза. А потом, как старый, траченный молью, занавес в крепостном театре Салтыкова, на сознание Григория опустилась добрая морщинистая тьма.
Бешиха-бешихище Колючая, шипучая, жгучая, зудящая, Нудящая, ветряная, водяная, кровяная, пожарная, Глаженая, подуманная, помянутая, помысленная, насланная, Разойдись, развейся и на этом слове аминь!…Они вместе с малым Яцеком прячутся от грозы в лесу. В прорезанном оврагами Совитовом редколесье. Идет дождь. Им холодно. Яцек прижимается к нему, и сквозь мокрую одежду юный Григорий ощущает тепло его тела. Это тепло совсем не такое, как то, что идет от печи или кострища. Совсем другое. Оно вызывает обратное тепло, рождающееся в теле Григория. Где-то глубоко в его животе.
Сначала он не обращает внимания на это обратное телородное тепло, но оно упрямое. Оно расползается его мышцами, ослабляет ноги, тревожит его крайнюю плоть. Ему хочется еще сильнее прижать к себе Яцека. Его руки самовольно начинают искать островки причинного тепла. Ищут медленно, очень медленно. Яцек не противится этим поискам. Его тело откликается на поиски Григория тихой, едва ощутимой дрожью. Мальчик поворачивает голову и очень серьезно смотрит на старшего приятеля. Он ниже ростом и стройнее сына Саввы, его кожа темнее. У него большие светло-коричневые глаза. От его тела исходит запах травы и дождя.
Он кладет свою ладонь на ищущую руку Григория. Гладит ее, потом сжимает. Без усилия, нежно и доверчиво. Потом ведет его руку туда, где уже ослаблен шнурок. Вот рука ныряет под ткань, вот она достигает сокровенного. Дыхание Яцека становится тяжелым и частым. А Григорий удивляется мощи, скрытой в смуглом теле мальчика.
Яцек судорожно облизывает запекшиеся губы, оборачивается лицом к Григорию. Тому на мгновение кажется, что мальчик хочет поцеловать его. Но Яцек лишь смотрит ему в глаза. Долго смотрит. Потом опускается на колени. Жаркая волна стыда, смешанного с желанием, заливает лицо Григория. Он расслабляет пояс…
И тут в землю вонзается огненное копье, брошенное рукой небожителя Ильи.
Вонзается за миг до окончательного торжества похоти над невинностью.
На небе не спят. На небе все видят. Все-все. И действуют неотложно.Молния ударяет так близко, что сын Саввы теряет слух и слепнет. Голова превращается в церковный колокол, в библейский кимвал медный и гудит, расшатанная взрывом. Дождевая влага на теле его закипает. Кожа отзывается болью. Грубая домотканая свита мгновенно высыхает и становится жесткой, как жесть. Яцека от него отрывает незримая рука.
Спустя долю времени чувства возвращаются к нему. Разбитое на куски мироздание восстанавливает свою целостность. Картина мира видится раскрашенной в адские цвета. В красные и алые. Соседнее дерево пылает, как неопалимая купина на иконе, написанной полтавским богомазом Пахомием.
Огненный столб поднимается над редколесьем, как торжествующий свидетель кары. Как дух дерева-мученика, взлетающего к серым облакам. Взлетает дух дерева и кричит: «Погибаю, сгораю за грехи существ малых и заблудших!» Яцек истово молится, преклонив колени и сложив ладони перед смертельно побледневшим лицом. По дороге домой они будут мертвецки молчать и не посмотрят более друг на друга.
– Не укрепив свой дух постом и молитвой, сын мой, не иди на войну с бесищем, – услышал Григорий утомленный, но твердый голос отца Кирика. Священник поднес к его губам серебряный крест-мощевик и внимательно смотрел Григорию в глаза.
– На Крест Животворящий зри, не на меня, убогого, – приказал отец Кирик. – Твори молитву Иисусову. Вслух говори, четко.
– Простите меня, грешного, преподобный отче, – виновато прошептал Григорий и начал: «Иисусе Христе, Сыне Божий…». Над ним нависал низкий свод кельи. Кто-то перенес его, беспамятного, в обиталище экзорциста. Выдержанное в аскетических правилах, это жилье пахло свечным салом, чесноком и кошачьей мочой. Григорий вспомнил рыжего кота, бродившего по подземной часовне во время ритуала. Он слышал, что львовские экзорцисты приводят на ритуал домашних животных, чтобы нечистому после изгнания было куда вселиться.
– Бог простит, – произнес священник, убедившись, что в естестве Григория нет видимого демонического присутствия. – У Него, у Него проси смиренномудрия. Если, сын мой, не чувствуешь твердости в себе самом, то как осмеливаешься выходить на смертный бой с прислужниками князя тьмы?
– Прегрешный я и немощный есмь. Отче Кирик, не держите на меня зла.
– Вместо того чтобы канючить и в немощи своей тут расписываться, собирайся, сын мой, в дорогу. На Святую Гору иди, в скиты, к святым предивным молитвенникам афонским. Святогорцы тебя научат, как беса гнать и плоть усмирять. Сей путь тебя не обманет.
Григорий не ответил на совет экзорциста. Он продолжил размышлять о мистической практике использования животных как вместилищ бездомных духов. Думал не потому, что данная практика его остро интересовала. Скорее, ради того, чтобы не давать времени и пространства бытию иных мыслей. Придирчивых и соблазнительных.
Киев, июль, наше время
Вигилярный распахнул створки шкафа. В нем он обнаружил нечто, похожее на языческий алтарь. На каменной призматической тумбе стояла деревянная статуэтка женщины, облаченная в красное с золотой вышивкой платьице. Почерневшие руки идола вместо ладоней заканчивались утолщениями, похожими на маленькие чаши. Лицо статуэтки не сохранило четких черт. Время и бесчисленные прикосновения стерли выступы и углубления, превратив его в почти плоскую шайбу. Старое дерево, все в мелких трещинах и пятнах смолы, резко контрастировало с платьем, новым и блестящим. На шею идолу надели крошечный венок из полевых цветов. Они засохли, но сохранили форму и цвет.
Возле тумбы Вигилярный обнаружил чемодан, обшитый темной кожей. Он взялся за ручку и сразу ощутил, что чемодан далеко не пустой. И почему-то не удивился, когда нашел в нем драгоценные вещи. Мешочек с золотыми монетами и два серебряных подсвечника. Он видел подобные в церквях и знал, что когда-то такие подсвечники называли ставниками.
«Так вот что искала та сука, – решил Вигилярный, взвешивая в руке один из подсвечников. – Тяжелая штука, килограмма три будет. Антиквариат. Дукаты тоже интересные… Но тебе, рыжая тварь, – скуластое лицо юной убийцы всплыло в памяти, – все это хрен достанется».
Находка улучшила его настроение.
«Нет худа без добра», – приговаривал Павел Петрович, рассматривая императорские и королевские портреты на золотых монетах. Он решил, что настало время решительных действий. Уже закрыв чемодан, он прикипел взглядом к идолу. К его удивительным рукам-чашам. К его красно-золотому платью. Размышлял он недолго, ибо где-то на глубинном уровне сознания пробился и потек тихий ручеек волевого побуждения: «Действуй, действуй, не сомневайся!» С размещением статуэтки в чемодане возникли проблемы, но он с ними справился.
Осталось лишь незаметно исчезнуть.
Павел Петрович вернулся в коридор и прислушался. Если бы в мастерскую вошли менты, в коридоре были бы слышны их голоса. Но под бетонные плиты, накрывающие подземелье, не проникало ни едного подозрительного звука. Где-то шуршала крыса, где-то капала вода. В кладовке, где Вигилярный нашел сокровище, что-то тихо скрипело. Прислушался: наверно, шатается дверь старого шкафа. Вигилярный погасил в коридоре свет, выключил звук в своем мобильном и двинулся к лестнице, ведущей в мастерскую.
За крашеной дверью никого не было. Осторожно, сдерживая дыхание, он поднялся по ступеням, остановился там, где они поворачивали под прямым углом, и снова прислушался. В мастерской было тихо. Вигилярный уже на полшага выдвинулся за поворот, когда услышал, как открывается гаражная дверь, ведущая со двора в мастерскую.
– Осмотрите это помещение, – приказал кто-то невидимый. – А я пойду еще раз посмотрю в доме.
В мастерскую вошли люди. Один из них тихо выругался. Потом загрохотало железо.
– Выключатель видишь? – спросил хриплый голос.
– Кажется, вот он… Но он не работает, – ответил другой голос. Вигилярному показалось, что у мужчины, искавшего выключатель, необычный акцент.
– А я фонарик забыл.
– У меня есть. В мобильнике, – акцент четко нарисовался в последнем слове.
«Наверное, прибалтиец», – предположил Вигилярный и попятился к двери, пытаясь не выдать себя звуками. Он помнил, что на ступенях лежат мелкие железки, поэтому двигался осторожно, медленно перенося массу тела с носка на всю подошву.
– Оп-па! Есть жмурик, – услышал сообщение «прибалтийца».
– Точно? – почему-то шепотом спросил хриплый.
– Точней не бывает. Вон там, за станком. Лежит головой к стене. Сейчас я посмотрю… Вижу проникающие. Позвони Санычу, пусть вызывает опергруппу.
– Подожди, нужно же его осмотреть. Может, еще жив.
– Да не, это жмур. Стопудовый жмур.
– Давай посвети мне. Вон туда посвети…
Вигилярный не стал ждать, пока менты разберутся с трупом Гречика и отступил в коридор. Больше всего он боялся, что жестяная дверь предательски скрипнет. Но обошлось. Теперь единственным возможным путем побега оставалась боковая дверь, ведущая неизвестно куда. Включить свет он не рискнул, и мысленно поблагодарил неизвестного мента за подсказку. В его мобильнике тоже был фонарик. С его помощью он осмотрел боковую дверь. Ее замок также не устоял перед «карпычем». Эта дверь оказалась скрипучей. Он лишь на несколько сантиметров приоткрыл ее, преодолевая сопротивление ржавых петель.
Вигилярный осветил темноту за дверью. Блеснули стеклянные цилиндры трехлитровых банок.
«Подвал!» – понял он. Обыкновенный погреб с полками, сундуками, консервированными огурцами, повидлом и наливками. Если бы он знал, что из погреба существует прямой путь на улицу, то рискнул бы открыть дверь. Но скрип ржавых петель наверняка выдаст его ментам, которые осматривают труп в мастерской. А в самом доме беглеца, скорее всего, будет ждать «Саныч». Кроме того, на пути могли возникнуть такие сюрпризы, как закрытая снаружи дверь и оперативники во дворе.
Вигилярному захотелось тихо завыть от конкретного ощущения тупика. Теперь его непременно поймают. Схватят с ценностями и обвинят в убийстве.
«Ищи выход, ищи!» – неутомимо ныл внутренний голос.
Вигилярный искал. Он вернулся в кладовку со шкафом. Еще раз обследовал окно, а потом заглянул за шкаф. Ему показалось, что там сгустилась подозрительная тьма. Закрыл дверь в кладовку и принялся отодвигать шкаф. А он был тяжелым, почти полностью сделанным из дубового массива. Вигилярный покрылся по́том и вскоре почувствовал боль в спине. Только после нескольких неудачных попыток сдвинуть дубовое сооружение он догадался вынуть из шкафа каменную тумбу-постамент. Дело пошло бодрее. Борьба Павла Петровича с монументальной мебелью достигла такой динамики, что от мебели с треском отвалилась дверка. Опасения, что менты в мастерской услышат этот треск, отступили перед нарастающим страхом загнанного в ловушку зверя.
За шкафом обнаружилась еще одна дверь. Даже не дверь, а что-то похожее на квадратный люк. Его сделали из грубого железа и спрятали в низкой нише. Именно ее темный проем заметил Вигилярный, когда заглянул за шкаф. Вместо замка люк закрывался массивной задвижкой. Строители подземелья, судя по всему, не предусмотрели возможности проникновения в кладовку снаружи. Лаз, открывающийся за люком, предназначался сугубо для незаметного бегства из дома.
«Эх профессор, профессор, – мысленно обратился к покойному Вигилярный. – Вы так все хорошо продумали, так подготовились к неожиданностям. Но вас все равно смогли захватить врасплох. Как вы там говорили: жизнь сложная и неоднозначная?»
Чтобы воспользоваться лазом, пришлось стать на колени и двигать перед собой тяжелый чемодан. Продвинувшись лазом на несколько метров, он заметил, что приближается к более широкому проходу. Оттуда воняло.
«Канализация!» – догадался Вигилярный.
Триест, 16 апреля 1751 года
Масонская община Триеста была немногочисленной и благородной, как и полагается тщательно законспирированному сообществу. Все местные масоны и масонки были объединены в одну смешанную Иоаннитскую ложу с сомнительной регулярностью и названием «Марк Аврелий»[41]. Ложа не имела постоянного храма и ежемесячно собиралась в жилищах сестер и братьев, владеющих просторными и хорошо защищенными домами. В этот раз работы вольных каменщиков из ложи «Марк Аврелий» проходили в парковом павильоне, который, как и ухоженный парк в английском стиле, принадлежал местному богачу графу Рески.
Павильон был оборудован большими окнами, начинающимися чуть ли не от пола. Слугам графа еще с утра было приказано тщательно задрапировать их синими гардинами. Теперь золотистое сияние свеч блуждало шелковыми складками, и от этого все в павильоне казалось причастным к таинственному истоку праздничного настроения.
Работу не начинали, ждали прибытия Досточтимого мастера. Братья и сестры уже развесили эмблемы и расставили атрибуты храма. Теперь они бродили павильоном без определенной цели. Офицеры ложи собрались возле престола, перелистывали протоколы предыдущих заседаний и о чем-то напряженно перешептывались. Граф Рески, уже в мастерском фартуке и с цепью Первого надзирателя на плечах, решил показать сестре Констанце новое венецианское зеркало, которое за день до этого установили в павильоне.
Констанцу, очаровательную супругу банкира Тома, на сегодняшней масонской работе должны были поднять до градуса подмастерья[42]. Исполняя обязанности Второго секретаря ложи, она уже несколько лет вела всю тайную переписку с братьями из других европейских стран. Считалось, что на этом поприще жена банкира достигла изрядной сноровки. Свободно владея несколькими системами шифров, Констанца, почти не заглядывая в шифровальные таблицы, за вечер успевала закодировать и раскодировать до полдюжины длинных посланий, наполненных масонскими и политическими секретами. Эта молодая женщина уже давно интересовала графа. Утонченная и молчаливая, с темной калабрийской кожей и веселыми глазами, Констанца была одной из самых привлекательных учениц на северной колонне[43] «Марка Аврелия». Ее муж, напротив, не вызывал у графа ни капли уважения. Невзрачный и неуклюжий, он редко посещал работы ложи и все свое свободное время посвящал выращиванию экзотических растений. Поэтому Рески намеревался действовать решительно. Он дождался момента, когда между Констанцей и остальными сестрами возникла уместная дистанция, гвардейским шагом подошел к ученице и пригласил ее осмотреть свое новое приобретение.
– Видите, как это зеркало подчеркивает вашу римскую красоту. – Граф расположился у зеркала таким образом, чтобы одновременно видеть и прелестную банкиршу, и ее не менее прелестное отражение.
– Мои родители не римляне. – Констанца поправила золотую бабочку на высокой прическе и вызывающую мушку над левым уголком губ. – Они южане.
– Ваше лицо говорит о том, что среди ваших предков, Констанца, были благородные римляне. Кровь Сципионов и Манлиев свидетельствует о себе и ныне, спустя века. Ваша красота – это belta folgorante, belta Guidesca[44]!
– Возможно, – пожала плечами калабрийка. – В нашей семье не сохранились древние родословные… Кстати, граф, мне говорили, что качество венецианских зеркал проверяют при помощи свечи. Сколько отражений пламени можно увидеть в этом зеркале?
– Сейчас проверим, – заверил Рески, взял со стола Первого надзирателя свечу и зажег ее от бра. – Попробуйте сосчитать сами, о прекраснейшая синьора Тома.
– Семь, восемь, девять… двенадцать. Bravo! Вы, милый граф, не бросаете денег на ветер.
– В моем дворце, несравненная синьора, вы сможете увидеть зеркала и лучшего качества. И не только зеркала.
– Я охотно верю вам, граф, – улыбнулась Констанца. – Но осмотр сокровищ вашего дворца мы отложим до лучших времен.
– Что нам мешает? Неужели ревность вашего мужа?
– Моего мужа? Вовсе нет, граф, – рассмеялась красавица. Благодаря особой акустике павильона, ее смех прозвучал слишком громко. В их сторону начали оборачиваться.
– У меня теперь много работы, – Констанца резко оборвала свое веселье.
– Всё письма пишете?
– Представьте себе, граф. Это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Переписка в последние месяцы стала исключительно напряженной. Иногда приходится расшифровывать и переводить по три-четыре письма в день. Вам, наверное, уже известно, что английские и прусские братья озабочены последними изменениями в политике Шенбрунна[45].
– Новые интриги Кауница[46]?
– Не только они… Кстати, братья из Лемберга[47] отправили к нам интересного guaglio umiliato[48]. Говорят, он является тем универсальным космополитом, чье прибытие со скифского Востока предвидел великий Розенкрейцер: самобытный эрудит, но со всеми внешними признаками жителей диких степей Татарии. Сын вольного народа, попавшего под власть северных деспотов. Мне не терпится увидеть это дитя природы. Это ведь нечто совершенно новое и свежее.
– Он масон?
– Еще нет, но считается кандидатом.
– Выходит, он очень молод.
– На грани кандидатского возраста.
– И вы, прекрасная синьора, уже заранее восхищены таким юным buffi?[49]
– Граф! – Констанца картинно, как оперная инженю, изогнула тонкие линии бровей. – Мы с вами, прошу прощения, еще не настолько близки. Ваша светлость, вы не имеете никакого права меня ревновать.
– О, простите, синьора.
– Надеюсь, ваши извинения искренни.
– Они рождены в моем сердце и правдивы, как скрижали пророков.
– А вы сладкоречивы, граф.
– Рядом с вами, синьора, и придорожный столб стал бы поэтом. Ваше очарование…
– О! По-моему, уже прибыл Досточтимый мастер, – Констанца не дала Рески договорить. Она ловко выскользнула из узкого пространства между зеркалом и монументальной фигурой графа.
Еще мгновение, и юная банкирша присоединилась к щебечущей стайке учениц. Все они, как по команде, сложили веера, встали за спины дам-мастериц и направились к дверям павильона, чтобы приветствовать первого офицера ложи.
Рески провел Констанцу взглядом, в который раз любуясь ее походкой и необычно тонкой талией. На ней красавица ловко и кокетливо завязала крошечный белоснежный фартук из козьей кожи. Увлеченный отменным вкусом Констанцы, граф не сразу услышал, как кто-то деликатно покашливает за его спиной. Рески неспешно оглянулся.
Между ним и зеркалом в напряженной позе застыл Первый секретарь ложи Боззони.
– У тебя, брат мой, очаровательная помощница, primabelta, – улыбнулся граф, про себя отметив, что Боззони тяжело дышит, распространяя запах гнилых зубов. Рука Рески невольно потянулась к боковому карману камзола, где прятался крошечный флакончик с крепкими духами.
– Да, ваша светлость, вы правы, – подобострастно забормотал Первый секретарь. – Милая, сдержанная и умная молодая женщина. Безупречно владеет французским и весьма недурно – английским. Не в последнюю очередь, благодаря ей, наша переписка сегодня ощутимо интенсивнее, чем у венских и пештских братьев. Через Триест теперь идут такие письма, от которых зависит будущее просвещенной Европы.
– А ты не преувеличиваешь, брат?
– Никоим образом, ваша светлость. Я недавно читал письмо высокоуважаемого брата лорда Стаффолка. Он, например, просит нас составить детализированный реестр морских вооружений Венецианской республики.
– Реестр вооружений? Это ведь не шутки. Нас, любезный брат, могут обвинить в шпионаже. Помнишь того молодого брата, Джакомо Казанову, рекомендованного нам французскими братьями? Говорят, что венецианская тайная служба раскрыла его шпионские козни.
– Теперь, ваша светлость, прошу прощения, все понемногу занимаются шпионажем. За это платят золотом и назначают на хлебные должности. Нашей ложе деньги тоже не помешали бы. Мы, как я понял из перевода упомянутого письма, можем получить от Стаффолка триста гиней на укрепление наших колонн.
– Реальнее получить кинжал в спину от агента Венеции… И прошу тебя, брат мой, не повторяй постоянно «ваша светлость». Здесь нет ни баронов, ни графов, ни герцогов. Здесь все мы братья и все равны перед лицом Великого Архитектора Вселенной.
– Извини, брат.
– А насчет этой переписки я поговорю с Досточтимым. Необходимо, брат мой, удвоить и утроить конспирацию. Враги не спят. А тем временем с Востока к нам присылают сомнительных личностей.
– О ком вы… ты, брат, говоришь?
– Только что ваша очаровательная помощница рассказала мне о каком-то татарском кандидате, которого к нам присылают из… Польши, кажется. Вот этот наверняка уж чей-то там шпион.
– Я что-то такое слышал… – неуверенно произнес Боззони.
Шире развить шпионскую тему графу не удалось. Досточтимый мастер призвал всех братьев ложи «Марк Аврелий» присоединиться к нему, расположиться вокруг таблицы первого градуса и начать ритуал открытия работ вольных каменщиков. Рески и Боззони прервали разговор на полуслове и направились к входу в символический Храм.
Дорога между Марибором и Цэле, 16 апреля 1751 года
Апрельские дни выдались теплыми и солнечными. Фургон странствующего цирка «Олимпус» весело катился битой римской дорогой, которая уже второе тысячелетие соединяла Вечный город с придунайскими землями. Между живописными холмами и пышными дубравами время от времени появлялись и исчезали сооруженные из камня и глины деревни. Столбы на почтовых станциях были выкрашены в желтый и черный цвета, и двуглавые орлы Габсбургов настороженно вглядывались в противоположные стороны бирюзового горизонта. Фельдкурьерские кареты с гербами и шандарами на запятках с бешеной скоростью проносились мимо циркового каравана, принуждая возничих выезжать на обочину.
Провожая взглядом одну из таких карет, старый акробат Дальфери сплюнул и прошептал:
– Azzemello, svegliar i morti!
Григорий, опираясь на свои познания в латыни, догадался, что речь идет о некоем «пробуждении мертвых». Но первое слово, сказанное акробатом, было ему неизвестно.
Азземелло.
От звонкого слова веяло Востоком и тайной. Школяр решил расспросить о нем Дальфери, когда спадет жара, а цирковые остановят фургоны для ужина и ночного отдыха.
Уже неделю странствовал он в цирковой повозке. Во Львове Зормоз договорился с импресарио «Олимпуса», что тот за символическую плату доставит Сковороду в славный град Венецию. Узнав, что Григорий играет на флейте, импресарио подрядил его сопровождать музыкой выступления коверных, акробатов и жонглеров. Бывший придворный певчий без особого труда приноровился к цирковым ритмам. Он без отвращения ел вместе с актерами постную похлебку, спал на вшивых сенниках и не кичился своими знаниями.
Цирковые пару дней присматривались к новому флейтисту и, найдя его вполне смиренным и умелым, приняли в свой кочевой коллектив. Первые заработанные медяки школяр, по обычаю, пустил на пропой всей честной компанией. После этого даже неприветливые дрессировщики обезьян исполнились к нему симпатии и позволили поиграть с макаками, умевшими с важным видом ходить по манежу, надевать забавные чепчики и препотешно передразнивать львовских патрицианок.
Как только дороги, ведущие к теплым водам Адриатики, высохли под весенним солнцем, «Олимпус» отправился на гастроли. С того времени у Григория прибавилось знаний о тайном мире Европы. О мире, где бурлила далекая от публичности жизнь низших сословий и классов, населенных преступниками, вагантами, колдунами, проходимцами, бездомными голиардами, проститутками, религиозными диссидентами и чернокнижниками.
Сковорода узнал, что в этой подпольной жизни странствующие цирки играли неожиданно важную роль. Актеры-ваганты объединялись в международные цеховые товарищества – вагабунды, имеющие давнюю и тесную связь с масонами. Об истоках этого многовекового союза Григорий так и не вызнал ничего определенного. Со скудных объяснений Дальфери он понял, что ваганты с древних времен доверяли ложам свои цеховые кассы. Многие из старых вагантов закончили свою жизнь сторожами или истопниками во владениях состоятельных вольных каменщиков.
С другой стороны, «дети вдовы» использовали странствующие цирки для перевоза через границу своих посланий, денег, запрещенных книг и беглецов. Среди масонов была мода брать себе амант[50] из числа циркачек. Некоторые братья сочетались законным браком с очаровательными акробатками и жонглерками.
В теперешние времена, сообщал Дальфери, никто уже не удивляется тому, что некоторые из уважаемых матрон с титулами баронесс и маркиз в свои юные годы бегали по канату, ассистировали цирковым магам и танцевали на шарах. Даже в семьях венецианских дожей, говорил он, ныне процветают бывшие примадонны странствующих вертепов.
Подслушав их разговор, пожилой коверный пустился в воспоминания о легендарной акробатке Страде, чьи небывало стройные ножки сразили бравого генерала фон Кезлера. Лучшим из воспоминаний своей долгой жизни коверный считал грандиозный банкет, который закатила своим бывшим коллегам по манежу новоиспеченная баронесса фон Кезлер. Банкет начался на вершине лета, в день святого Иоанна, и продолжался ровно десять дней – по числу каббалистических миров. В каждый из этих дней, вспомнил коверный, бывшая акробатка появлялась в новом наряде. Она сменила девять платьев, одно пышнее другого, а на десятый день банкета, названный «Кетером», вышла к застолью в костюме праматери Евы[51].
– Жениху это очень понравилось. – Старый клоун поднял указующий перст к небу. – Правильный был генерал.
«Правильный был масон», – расшифровал слова коверного Сковорода.
История о «банкете Страды» дала толчок новой порции откровений Дальфери. Оказалось, что союз вагантов и вольных каменщиков крепили совместные застолья, проходившие в дни летних и зимних солнцестояний, плюс общая борьба с полициями и тайными службами европейских монархов и римских пап. Акробат был уверен: именно «дети вдовы» добились, что в Англии пятнадцать лет тому отменили преследование за колдовство – давний и страшный королевский закон, сгубивший за сотни лет не одну тысячу вагантов.
«Они могущественные люди, они могут все!» – говорил о масонах Дальфери. К Сковороде он относился как к одному из жителей подпольного мира. Это отношение укрепило приключение, случившееся на имперской границе.
Австрийские таможенники шарили в цирковом фургоне долго и тщательно. Прощупывали одежду, тыкали длинными стальными иглами в подушки и сенники, заглядывали в задние проходы лошадям и даже выломали дно в клетке с обезьянами. Всех актеров «Олимпуса», и Сковороду вместе с ними, на время обыска отвели под навес и приказали им ждать на скамейке. Дальфери предупредил Григория, что позже их тоже обыщут. Мужчин прямо здесь, под навесом, а женщин – в черно-желтой караульной будке. Фискальные традиции империи были давними и заметно укрепились с тех времен, когда воспитанный иезуитами император Леопольд Первый принялся превращать монархию Габсбургов в державу, плотно охваченную полицейским надзором.
Пузатый шандар из венгров ходил вдоль скамейки и стерег. Сначала он пристально наблюдал за всеми, но потом его внимание сузилось на жонглерке Амалии, девушке юной и весьма привлекательной. Амалия заметила его интерес, принялась одаривать шандара обещающими улыбками и даже расстегнула две верхние пуговицы расшитой розами сукманки.
Внезапно Григорий почувствовал, что кто-то осторожно толкает его под правую руку. Он скосил глаза и увидел, что цыганка Лейла – фаворитка Дальфери, ворожея и танцовщица – подсовывает ему под локоть колоду игральных карт. Он удивился, но подыграл цыганке. Незаметно положил карты в широкий рукав школярской свиты. Там, в рукаве, были устроены секретные карманы. Колода удобно разместилась в одном из них.
Спустя минуту шандары повели женщин к будке, а старший таможенник спросил у актеров-мужчин, имеется ли у них оружие. Потом приказал всем встать, снять жупаны и камзолы. Он тщательно прощупал швы на жупанах. Потом настал черед обуви. С роскошных сапог Дальфери сорвали каблуки, а дыры в утлых башмаках Григория стали шире. Тем временем к таможенникам подбежал один из тех шандаров, которые перетрясали актерскую рухлядь на повозках. Он нашел там книгу с еврейскими письменами и спрашивал, не подпадает ли она под таможенный запрет. Старший таможенник мельком глянул на книгу, отрицательно покачал головой и буркнул актерам:
– Одевайтесь.
Обыск женщин длился намного дольше. Из будки они вышли растрепанными и порозовевшими. На распухших губах Амалии цвела многозначительная улыбка. Спустя час, когда на все подорожные поставили штампы, печати и хитрые закорючки, «Олимпус» перевалил через границу и двинулся в глубь имперских земель.
Когда таможня исчезла за поворотом, Дальфери облегченно выдохнул, обнял Григория и объявил всем, кто ехал с ними в повозке:
– E un vero leone![52]
Сковорода вытряхнул из рукава колоду и спросил:
– Разве в Австрийской державе запрещено играть в карты?
– А ты приглядись к этим картам, – посоветовал старый акробат.
Григорий последовал совету Дальфери и увидел на картах необычные эмблемы. Это были совсем не те карты, за которыми бурсаки в Киеве и школяры в Пресбурге коротали свои грешные ночи.
– Это карты Таро, – услышал он голос Лейлы. – За Таро в Австрии можно попасть к господину аудитору.
– За эти картинки?
– С их помощью можно увидеть будущее.
– Гадательные карты, – сообразил Григорий.
– Можно и так сказать.
– На них церковный запрет?
– Да, – вмешался в разговор Дальфери, – папа запретил Таро. Не теперешний папа. Это было давно. Но запрет действует и сейчас. В этих картинках скрыта древняя египетская мудрость.
– Я хотел бы познать эту мудрость, – увлекся Григорий.
– Мы ваганты, – улыбнулся в седые усы акробат, – мы мало понимаем в философии. Вот приедем в имперский город Триест, там тебе помогут в познании тайных вещей.
– Там живут знатоки Таро?
– Ага, – Дальфери заговорщицки подмигнул Сковороде. – Там живут люди, понимающие в древних начертаниях… Эй, Лейла, ленивая женщина!
– Чего тебе, Карл? – цыганка отложила трубку с длинным чубуком и перебралась ближе к мужчинам.
– Во-первых, прекращай курить. Фургон спалишь. А во-вторых, погадай на Таро для этого юного льва. Разложи карты, посмотри на его счастье. Может, в Триесте его ждет судьба. Богатая и страстная аманта, мечтающая о белокожих северных юношах.
Лейла разложила «анх»[53], посмотрела и рассмеялась.
– И что же там смешного? – нахмурился акробат.
– Григо не любит женщин.
– Это не беда. Быстрее выйдет в кардиналы. А долго будет жить?
– Долго. Так долго, что и сам устанет от своей жизни, – заверила Лейла. – Его будут уважать и отдадут ему на сохранение ценные вещи. Очень ценные вещи.
– О! – поднял указательный палец Дальфери. – Это и в самом деле важно. Кто держит кассу, никогда не окажется на паперти.
Когда солнце скатилось к облитому подвижным пурпуром горизонту, импресарио пан Федеш приказал цирковому каравану съехать с большака на грунтовую дорогу. Вскоре ваганты увидели заезжий двор, приютившийся под длинной, поросшей крепкими дубами, горой. Невысокая ограда окружала освещенное кострами поле, где разместились многочисленные повозки. Место ночлега охранялось от разбойников – у рогатки караулили вооруженные люди, а с насыпного укрепления в глубину дубравы грозно вглядывался ствол чугунной мортиры.
Импресарио ушел ужинать в дом, а цирковые остались ночевать в фургонах. Григорий с Дальфери и Лейлой устроились у костра. Ваганты раскурили трубки, Григорий достал свирель и попытался импровизировать. Амалия и ее брат Амадео уселись на сложенные неподалеку связки хвороста. Но вскоре им надоело сидеть неподвижно – они принялись жонглировать галькой и палками. Сковорода засмотрелся на их движения и перестал играть. Молодые, почти подростки, жонглеры поразительно походили друг на друга. Грудь у девушки еще не образовалась, а длинные волосы мальчика по-девичьи спадали на плечи. Григорий вспомнил, что когда Амалию во время выступлений одевали в мужскую одежду, а ее брата в юбку и сукманку, то люди не замечали разницы, принимая сестру за брата и наоборот. Ему также вспомнилось, как однажды Федеш, наблюдая за переодетым девушкой и соответственно зачесанным Амадео, крикнул цирковым: «Дьявол мне в печень, ребята! Эта красавица получилась соблазнительней Амалии!»
Дальфери перехватил взгляд Григория, брошенный на Амадео, и понимающе улыбнулся в свои разбойничьи усы.
– Так тебе точно не нравятся женщины, Григо?
– Да нет, почему же, нравятся… – Сковорода почувствовал, что его слова прозвучали неубедительно и добавил: – Женщины красивые, а мне нравится вся природная красота, возникшая по воле Божьей.
– Красивые парни также созданы Богом, – заметил Дальфери. – Смотри, какой стройный и нежный наш Амадео. Чем тебе не любимое творение Создателя?
– Но, Карл, его ведь считают красивым лишь по той причине, что он похож на красивую девушку. Такую красоту я полагаю красотой подобия.
– Тебе что-то или кто-то нравится только тогда, когда так считают другие, или наоборот – потому что оно тебе самому нравится?
– Есть устоявшиеся, апробированные и признанные авторитетами каноны красоты.
– Подожди-ка, парень, не вали на меня гору своей учености. – Акробат выбил пепел из погасшей трубки. – Я понимаю, что ты у нас премудрый школяр и обучен разным там канонам. Я же тебя не про это спрашиваю. Я тебя спрашиваю: ты бы хотел, чтобы Амадео стал твоим любовником?
– Это грех содомский, – твердо сказал Григорий.
– И снова ты не про то, Григо, – покачал головой Дальфери. – Я же не спрашиваю тебя: грех оно или не грех. Я спрашиваю о том природном магните, который или имеется в человеке, или его нет. Я спрашиваю: хотел бы ты, Григо, именно ты, а не кто-то из проклятого Содома, сегодня ночью приласкать Амадео?
– Я не могу пойти против природы Бога.
– Григо, не приплетай сюда природу и другие вещи, которые мы не можем пощупать. И на счет воли Божьей тоже можно поспорить. Давай-ка я просто сейчас договорюсь с Амадео, он парень авантажный и знает, как доставить удовольствие другому парню. И тогда ты сам почувствуешь, противоречит ли натуре и воле Господа такой способ познания красоты. Постигнешь все сам, своим природным магнитом. Нельзя же вечно между собой и жизнью ставить каноны и прочую ученую книжность. Так только фарисеи делали. Ты же не хочешь уподобиться проклятому племени фарисейскому?
– Ты весьма искусный софист, Карл, – Григорий спрятал свирель в сумку. – Но вот что я тебе скажу. Если хочешь сделать мне приятное, договорись с Амалией. Она очень красивая девушка. Мой природный магнит тянет меня к ней.
– Ты слышишь, Лейла! – акробат засмеялся так громко, что вскочили на ноги сторожевые псы, лежавшие под валом пушечного укрепления. – Григо сказал, что сегодня ночью хочет любить Амалию!
– Так бывает, – согласилась Лейла. – Кто-то хочет дальнего, потому что боится ближнего. Особенно тогда, когда дальнее очень похоже на ближнее. Но Лейла скажет вам: ничего не получится, парни. Сейчас нам принесут ужин, а малышку позовут к пану Федешу.
– А может, пан Федеш найдет себе в трактире новую юбку?
– Нет, – уверенно возразила Лейла. – Я знаю. Он сегодня трижды подъезжал к той повозке, где везли Амалию. Он ее позовет. Да и зачем ему тратить деньги на гнилозубых моравок, если с Амалией он может развлекаться бесплатно.
– И не надоест же ему.
– Когда мужчина много выпьет, он ищет не свежую женщину, а ту, которая сумеет поднять его утомленную плоть. А кто сравнится в этом умении с нашей Амалией?
– Только ты, звезда моя.
– Карл, ты старый болтун.
– Видишь, Григо, какой переменчивой и неверной может быть Фортуна, – сделал большие глаза Дальфери. – Наконец-то ты согласился на что-то, а оно – olla! – и проплыло между пальцами… I eu ben l'ounour de riverilo[54]. Может, мне все-таки побеседовать с нашим Ганимедом, то есть с милым мальчиком Амадео?
– Нет.
– Возможно, тогда осчастливишь мою Лейлу? – не отступал старый совратитель. – Я тебе уступлю ее за полкроны. До рассвета. Парень, ты не смотри, что она у меня не первой свежести. В любви она истинная тигрица. Лейла может утомить своими прелестями целый гусарский эскадрон. Всех тамошних жеребцов. И двуногих, и с четырьмя ногами. Правда, звезда моя?
– А не пошел бы ты… – Лейла встала, подобрала свои длинные юбки; покачивая бедрами, пошла к фургону.
– Не, ну ты посмотри, она обиделась, – хохотнул акробат. – И знаешь, парень, почему она обиделась? Совсем не потому, что я предлагал ее тебе, не надейся. Ее обидело, что она «не первой свежести». Да, парень, именно это. Такие вот они, женщины… А я ведь не обижаюсь, когда она бегает к конюхам… О, смотри-ка, уже и ужин нам несут. Наверное, опять какие-нибудь помои…
– Я еще хотел спросить, – сказал Григорий.
– О чем?
– Ты сегодня произнес одно слово.
– Какое еще слово?
– Азземелло.
– Чего? Разве я такое говорил? Когда?
– Да, говорил. Тогда, когда мимо нас проезжала казенная карета с шандарами.
– Разве я должен помнить все, что бормочу себе под нос? Может, ты плохо расслышал?
– Не отпирайся. Я все правильно слышал.
– И что с того?
– Хочу узнать, что это слово значит.
– Откуда я знаю? – пожал плечами Дальфери. – Так говорил мой отец, а до этого отец моего отца. И я так говорю. Это древнее и сильное вагантское заклятие против auditori santissimo[55], шандаров, сбиров и прочей служивой погани. Действует, скажу я тебе, безотказно… Зачем, спрашиваю, мне или тебе знать, что оно означает на самом деле? И какие именно черные колдуны, из какого черного пекла его придумали? Когда принимаешь снадобье и оно тебе помогает, ты же не будешь сильно страдать из-за того, что лекарь не открыл тебе его рецепта? Помогает и ладно… О, ты слышишь?
– Что? – спохватился Григорий.
– Амалию зовут к Федешу. Моя прокуренная пророчица таки была права.
Яремче, август, наши дни
Александр был старше Павла на двенадцать лет. Его родила первая жена капитана Петра Вигилярного. После смерти матери Александр женился на уроженке Гуцульского края и жил теперь на изгибе живописной карпатской долины. Он давно забросил свою инженерную профессию. Женина семья еще с советских времен промышляла изготовлением сувениров, и сын капитана приобщился к семейному бизнесу горцев. Сувенирный промысел позволял ему жить весьма небедно, содержать дом, учить детей в престижной гимназии. К своему младшему сводному брата Александр никогда не испытывал пылкой братской любви. Но считал себя правильным мужиком, признавал закон крови и при добрых знамениях не отказывал Павлуше в помощи. Тем более, что младший из года в год, каждое лето, приглашал его с семьей в Одессу, где роскошная отцовская квартира позволяла без особых бытовых напрягов разместить представителей обеих ветвей фамилии Вигилярных.
Когда младший вдруг позвонил по мобильнику и сообщил о своем приезде, Александр Петрович не удивился. «Где-то залетел малый, денег одалживать будет», – решил он. Такое уже бывало. Тогда Павел зарегистрировал частное предприятия и взял кредит под залог жилья. Партнеры его «кинули», и отцовская квартира едва не отошла банку. Тогда старший брат оперативно помог бизнесмену-неудачнику. Тот три года возвращал долг, продал автомобиль, но расплатился до последней копейки.
«Если Павлуша залетел штук на десять-двенадцать «зелени», я его и теперь вытащу», – про себя решил Александр, поразмыслил и добавил к этому вердикту одно маленькое примечание. На этот раз беспроцентного кредита не будет. Он даже представил себе, как именно сообщит младшему о неотвратимости процентов. «Кризис, братан, все финансовые рынки расшатанные, валюты падают. Так что извини», – скажет он брату с непреклонным и суровым выражением лица. Он зашел в спальню, где стояло старое антикварное трюмо, и отработал перед ним несколько вариантов решимости, сосредоточенной между подбородком и лбом.
Добившись предельной твердости взгляда, Александр Петрович позвал жену Марию и сообщил, что завтра вечером к ним приедет Павел Петрович. Приедет погостить. Один, без семьи. Ненадолго. Мария все поняла с полуслова, стиснула тонкие губы и сказала:
– Нужно будет голубцы сделать.
– Лучше сделай фаршированных перцев, – посоветовал Александр Петрович, неспешно расслабляя мышцы лица. – Такие, как на мой день рождения. Павлуша в прошлый раз говорил, что у тебя получаются фундаментальные перцы.
Плато Красс вблизи Триеста, 20 апреля 1751 года
Лейла устало откинулась на спину и спросила Григория:
– Тебе понравилось?
– Да.
– Не ври.
– Я не вру, лишь мое тело врет. Во всякой плоти скрыт обман.
– Не понимаю я твоих премудростей, Григо. Давай лучше спать.
– А тебе?
– Что «мне»?
– Понравилось?
– Мне было приятно и жарко. Из тебя мог бы получиться хороший любовник.
– «Мог бы»?
– Если бы какая-нибудь умная и ловкая синьора занялась твоим воспитанием. Научила бы тебя не спешить и давать женщине время для ее удовольствия. Может, в Святом Писании ты что-то и смыслишь, но в искусстве любви ты пока что настоящий дикарь. Не обижайся на глупую цыганку, я правду говорю.
– А я и не обижаюсь, Лейла. Никогда не обижаюсь. Возможно, я даже хуже дикаря. Возможно даже, что я худший из людей.
– Худший из людей? Olla! Любишь унижаться? Тебя это заводит?
– Не в этом дело.
– Ты меня не стесняйся. Я встречала таких мужчин, которым нравилось унижение. Я умею доводить их до львиной похоти. Если хочешь, в следующий раз мы сыграем в «госпожу и слугу».
– Ты не поняла, Лейла. Я говорю не об унижении плоти, а о мудрости сокрушенного сердца.
– Какого сердца?
– Сокрушенное сердце – это такое сердце, которое не заросло терниями забот жизненных, всегда готовое получить правду и милость Божью: освободитесь и разумейте.
– Снова книжная премудрость! Да какая хитрохвостая! – Лейла зашлась тихим смехом. – Возможно, тебе для начала стоит освободиться от своего проклятия, а потом уже другим толковать об освобождении?
– Моего проклятия? – ледяные мурашки затанцевали между лопаток Сковороды.
– Да, Григо, твоего проклятия, твоей gran peccato[56], – подтвердила ворожея. – Я еще тогда, на границе, когда гадала на Таро, удивилась: почему это каждый раз в центре «звезды» на тебя выпадает перевернутая «Башня»[57].
– И почему же? – Григорию будто удавкой горло перехватили.
– Я долго-долго наблюдала, Григо, и однажды увидела, как ты прячешься от грозы под возами. Когда рядом ударила молния, у тебя на лице нарисовались все звездные знаки ада. И тогда я все поняла, парень. На карте «Башня» нарисована молния. Ты боишься молнии. Почему? Кто-то нагадал, что ты погибнешь от небесного огня?
– Ты так хорошо знаешь Таро… А какая из карт обозначает Андрогина?
– Кого-кого?
– Существо, в естестве которого равнозначно и благодатно проявляются как мужская, так и женская природа.
– Таких существ не бывает, Григо. Я тебе точно говорю. Если бы такие существа жили под солнцем, цыгане бы о них знали.
– Не бывает? А жонглер Амадео? Он ведь занимается любовью и с женщинами, и с мужчинами. Разве он не представляет собой нечто, приближенное к Андрогину?
– Амадео? – фыркнула Лейла. – Olla! Что ты мелешь, Григо? Мальчик просто любит монеты. Он не имеет в теле женских частей и не может, как настоящая женщина, родить себе подобного. Он способен только удовлетворить чужую похоть теми местами, которые предназначены совсем для других вещей. А что касается Таро… Я покажу тебе одну карту… Зажги-ка лучину, парень.
– Подожди, я сейчас. – Григорий нашел трут и огниво. Спустя минуту в недрах фургона затанцевал золотистый огонек.
– Посмотри. – Лейла поднесла Таро эмблемами к свету. – Это карта «Дьявол» из Великих Арканов. Очень опасная карта. Видишь, страшный старый дьявол сидит на троне и держит цепи, к которым прикованы мужчина и женщина? И мужчине и женщине также нарисовали маленькие хвосты и рожки. Смотри-смотри, Григо, рожки и хвостики, как у дьявола.
– Да, вижу. И что же означает сия эмблема?
– Означает она то, что всякое телесное единение двух натур происходит под присмотром темных сил. Каждый раз, когда одно тело совокупляется с другим, темные силы просыпаются и наблюдают.
– Зачем?
– А затем, парень, что любовь питает темных богов.
«Потому что ею умножается лицемерная и непрочная материя. Умножается посредством рождения новых людей!» – понял он, но вслух спросил:
– Значит, всякая любовь совершается через грех?
– Тьфу, какой вредный! Как ты любишь эти слова книжные: «грех», «ад», «благодать», «Божья правда». Григо, Григо, какой ты еще глупый. Знай, парень, грех и ад придумали папы с бискупами, чтобы выманивать у людей монетки. На самом деле есть темные боги, древние-древние боги. В городах о них уже давно позабыли, но в деревнях и таборах о них помнят. Уважают древних богов, идут к ним за помощью. Те боги питаются ночной страстью влюбленных, как мы питаемся медом и вином. И делятся с влюбленными древними знаниями о наслаждениях. Запрещенными знаниями о наслаждениях. О таких жарких, убивающих и воскресающих наслаждениях, Григо, о которых ты совсем-совсем не знаешь. Даже не догадываешься.
– Так ты язычница, Лейла?
– Держи язык за зубами, – посоветовала ему цыганка и задула лучину.
Яремче, август, наши дни
– Ну, заходи, брат, заходи. – Александр Петрович раскрыл свои объятия младшему Вигилярному. Тот припарковал к стене дорожный чемодан и шагнул навстречу старшему. Братья обнялись. Затем Павел Петрович церемонно поздоровался с Марией и старшей дочерью Александра, тоже Марией.
– Тут я вам привез кое-что… – начал он, но хозяин дома подхватил чемодан и заметил:
– Это же не на улице делается, Пашка. Пойдем, пойдем в хату… Ну и тяжелая у тебя эта чумайдана. Ты ее что, кирпичами набил?
«Чумайдана! – мысленно передразнил младший. – Набрался наш Саша гуцульских приколов».
В гостевой их уже ждал накрытый стол. Тут Павел Петрович подарил обеим Мариям золотые цепочки с крестиками. Глава семьи присмотрелся к цепочкам, заметил, что подаренный жене толще и дороже, чем дочкин, одобрительно кивнул и пригласил гостя к столу.
Младшая Мария взялась было за чемодан, но Павел остановил ее:
– Оставь, Маша, оставь, потом… Я должен показать кое-что папе твоему.
Вигилярный-старший сделал жест рукой, чтобы их оставили вдвоем. Обе Марии немедленно вышли из гостиной.
– Ну, что, Паша, братан, выпьем за встречу, – хозяин дома наполнил стопарики самогоном. – За встречу главных мужчин нашей семьи.
– За встречу! – Стаканы звякнули, братья выпили.
– Ты бери перчик, закусывай. Мария эти перчики специально для тебя готовила. Она твои вкусы помнит.
– Спасибо ей. Конгениальные перчики.
– Еще бы… Ну что же, рассказывай, брат, рассказывай. Какая такая беда тебя сюда сорвала? – Александр Петрович и сам принялся за закуску.
– Сначала я тебе кое-что покажу.
– Давай, показывай.
Младший расстегнул чемодан и вынул из него идола и подсвечники. На дубовом лакированном паркете подсвечники выглядели дорого и празднично, а идол, наоборот, потерялся, превратился в кусок грязного дерева.
– И откуда все это? – Старший снова наполнил стаканы.
– Антиквариат.
– Да я вижу, что антиквариат. Я тебя спрашиваю: откуда?
– Не из магазина.
– Слышь, брателло, – Александр Петрович оперся широкими ладонями на стол, приблизился лицом к младшему. – Ты ведь, как я понимаю, проехал тысячу километров не для того, чтобы мне здесь загадки загадывать. Я прав?
Павел отхлебнул самогона, несколько секунд помолчал, потом принялся рассказывать. Он в деталях описал старшему все, что произошло на профессорской даче. Единственное, о чем он не упомянул, был мешочек с золотыми монетами. Несколько монет он уже успел сбыть ювелирам, а остальные положил в арендованную банковскую ячейку. В течение его долгого рассказа Александр Петрович бросал косые взгляды на дверь. Он, не закусывая, опорожнил треть графина.
– Н-да… Попадалово… – промычал он, когда Павел Петрович завершил свою историю. – Если, конечно, ты мне правду говоришь… Подожди ты, не дергайся! Я тебе верю. Я тебя знаю, ты не мог старпера завалить. Я верю, что все было так, как ты говоришь. И точка. Слышь, что говорю? Точка. Все. Но теперь я спрашиваю тебя: чего ты, брат, в сложившейся ситуации от меня-то хочешь?
– Помощи.
– Какой?
– Помоги спрятать идола. Сделаешь – один из этих подсвечников твой.
– А с чего ты вдруг решил, что я буду прятать вещдоки с места преступления?
– Бери оба подсвечника.
– Слышь, ты не покупай меня. – На лице Александра Вигилярного появилось то самое выражение, которое он накануне шлифовал перед зеркалом. – Не на базаре. Ты отвечай на мой вопрос. Почему это ты вдруг решил, что я буду помогать в таком гнилом деле?
– Ты мой брат.
– А ты, брат мой, уголовный преступник.
– Я?
– А кто? Может, это я сбежал с места преступления и по дороге ограбил господина профессора? Кстати, если помнишь, тех, кто грабит покойников, называют мародерами.
– Люди, убившие Гречика, все равно забрали бы все это. Рано или поздно.
– Это только твое предположение. А согласно уголовному кодексу, ты – преступник. Вор. Мародер. Точка.
– Пусть так. Хорошо. – Павел налил и выпил. – Ты меня сдашь ментам, или как? Я не врубаюсь.
– Не сдам, не бойся. Но и это барахло ворованное прятать не буду. Мне проблемы без нужды. Все, что мне в жизни нужно, у меня есть. Сам знаешь. А чужое барахло мне в доме без надобности. Это, брателло, очень опасное барахло.
– Я же не о твоем доме думал. При чем здесь твой дом, я же не лох. Ты когда-то говорил, что имеешь в горах тайники. Я думал…
– Думал, думал… Не тем местом ты думал, брателло, вот что я тебе скажу.
– А ты знаешь, Саша, сколько оно все стоит?
– И знать не хочу.
– Каждый из подсвечников весит около четырех килограммов. Чистого, заметь, серебра. Если не учитывать антикварную ценность.
– Забери их себе вместе с антикварной ценностью.
– А этого идола, – Павел положил себе на колени фигурку с чашками и погладил ее потемневшие бедра, – можно будет продать за полмиллиона. Полмиллиона евро!
– Что ты гонишь, брателло? – Старший внезапно покраснел, расстегнул воротник рубашки. – Что ты тут пургу гонишь? Что ты о деньгах знаешь? Ты хоть понимаешь, головой своей пустой, что это за бабло: пол-ляма евро? И кто ж это у нас такие деньги отдаст за гребаное полено? Это же бред… Нет, ну я не дурак, понимаю, что где-то там за границей на их аукционах. Но для этого нужно точно указать место находки и все такое… Да и тогда, я не верю, что оно потянет на такие деньги… Ты всегда вот такой, брат. Кидаешь в перетерку такие стремные шняги, что не знаешь, смеяться с тебя или плакать. – Александр неодобрительно покачал головой, подцепил вилкой перчик и отправил его в рот. – Это же надо – «полмиллиона евро»! За полено?
– Ты меня не дослушал…
– Я такие шняги фуфловые и слышать не хочу. Я жизнь знаю, брат, цены знаю.
– Я, Саша, не лось ушастый. Меня консультировал лучший оценщик древностей. К нему обращаются за экспертизой и менты, и коллекционеры, и антиквары, и «черные» археологи. Дядька крупнейший ас в своем деле. Он имеет научную степень, имеет свою фирму, реставрирует картины, иконы. Все цивильно. Его вызывают на экспертизы за границу, оплачивают ему самолеты, отели. Это не сказки, не «шняги фуфловые», как ты изволил выразиться. Это все реальные темы. У дяденьки эксперта солидная академическая репутация. И он мне сразу сказал, что идол уникальный. Что ему тысяча лет.
– Ложь. Дерево за такое время должно было рассыпаться в труху. Я всю жизнь работаю с деревом, меня не проведешь.
– Не ложь и не фуфло. Слушай сюда. Эксперт хотел сам купить идола. Предлагал мне сначала пятьдесят штук, потом восемьдесят. Он завелся, я видел, какими глазами он смотрит на эту вещь. Но я отказался. Категорически. Я сразу понял, что вещь стоит больше. Намного больше. Я заплатил только за официальное экспертное заключение две с половиной штуки. Две с половиной штуки зелени, Саша, за одну сраную бумажку с печатью и подписью дяденьки. Это не базарная экспертиза, это заключение научное. Специалиста высшего уровня. Хочешь почитать?
– Это все бред.
– Смотри сюда. – Младший вынул из чемодана, упакованный в прозрачный файл документ. – Это официальная экспертная оценка артефакта. С оригинальной подписью и мокрой печатью экспертной конторы. И эта подпись, и эта печать очень авторитетны. И для черного рынка, и для международных аукционов уровня «Кристи» или «Сотбиса».
– Дай сюда. – Александр вытер пальцы скатертью, осторожно вынул экспертное заключение из файла и принялся читать. Закончив, достал из кармана охотничьего жилета очки, еще раз перечитал текст, внимательно изучил печать, рассмотрел водяные знаки на гербовой бумаге.
– Нужно над всем этим хорошо поразмыслить, – отложив документ, подвел итог старший. – Кстати, спать будешь на третьем этаже, там тебе Мария все приготовила… Ну что, дорогой брат, еще по сто?
Триест, 21–22 апреля 1751 года
– Вот он, – указал на Григория импресарио «Олимпуса». – Как и договаривались в Лемберге, я доставил его сюда целым и невредимым.
– Мы что-нибудь вам должны? – спросил кавалер Цельбе.
Федеш махнул рукой. Мол, какие там расчеты между своими.
– А в Венецию мы разве не поедем? – удивился Сковорода.
– Ты поедешь конечно же но уже с другими вагантами, позже, – объяснил ему Цельбе, а Федеш кивнул, как бы подтверждая свое участие в этом плане.
Кавалер дал Григорию знак идти за ним, и они зашагали улицей, стиснутой с обеих сторон белыми каменными стенами. Он оглянулся на цирковой караван, но там никто не провожал его взглядом. Старый акробат распрягал повозку, Лейла меланхолически потягивала трубку, а жонглеры развешивали на веревках промокшие после ночного дождя тряпки. Григорий мысленно поблагодарил вагантов, ускорил шаги и распахнул свое естество для новых впечатлений, знакомств и мыслей. Триест начинал ему нравиться. Здесь было много света, а узкие белые дома казались подрастающими мельницами. Еще дорогой он увидел море и торговые барки, пришвартованные к отдаленным пирсам.
Море здесь отличалось от моря в Санкт-Петербурге – веселое, ярко-синее, покрытое бликами. Оно подходило городу, а он, в свою очередь, казался россыпью его известковых и каменных порождений.
Цельбе повел Григория к новостройкам Триеста, к богатым кварталам Борго Терезьяно, где улицы были шире, а фасады домов украшали высокие окна и барочные карнизы. Они подошли к одному из таких роскошных строений. Кавалер трижды постучал в его ворота – два стука и через паузу еще один. Им открыли не сразу. Наверняка разглядывали в секретный глазок, которого Григорий не сумел рассмотреть.
За воротами он увидел прямого, как палка, старика в лакейской ливрее. На нем были черные чулки и старомодный парик с блестящими от свиного жира буклями. Пергаментное лицо привратника казалось неподвижным, но глаза внимательно изучали Григория.
– Его рекомендовали, – сказал старику Цельбе.
Из того странного факта, что кавалер вдруг пустился в объяснения перед слугой, Григорий сделал вывод, что и старик, и Цельбе принадлежат к одному из местных герметических обществ.
Привратник едва склонил голову в знак согласия и повел Сковороду к лестнице, ведущей на bel etage[58]. Там Григорий увидел длинную анфиладу залитых солнечным светом проходных комнат, окрашенных в белые и голубые тона. Уходящая в перспективу цепочка распахнутых дверей блистала свежей эмалью и позолотой. Мебели в комнатах не было, а в мраморных каминах Григорий не заметил следов копоти. Дом был свежим, стены еще не просохли, и дух влажной извести царил в его просторных помещениях. В одной из комнат, где на пол бросили простой солдатский сенник, привратник остановился.
– Жить будете здесь, – сказал он.
– Ему позволено топить камин? – спросил Цельбе.
– Нет, еще не доделаны дымоходы, – качнул головой старик. – Сейчас уже тепло, не замерзнет.
– Я не замерзну, я привык к холоду, – подтвердил Григорий.
– Воду и еду тебе принесут, – пообещал ему кавалер.
– А здесь есть книги?
– Насколько мне известно, библиотеку еще не перевезли. Какие именно книги тебе принести?
– Я дерзаю изучать эмблематические книги. Особенно те, где имеются толкования эмблем египетских и халдейских. Но ведь такие толковники… Они, наверное, весьма ценные…
– Попробую разыскать для тебя альбомы с египетскими эмблемами, – пообещал Цельбе и направился к выходу.
– Не покидайте этого помещения, – приказал Григорию привратник, двинувшись следом за кавалером. – Ночной горшок стоит под сенником.
Оставшись в одиночестве, Сковорода впал в меланхолию.
«Сие несправедливо, – мысленно сетовал он. – Вот я в славном граде Триесте. В граде портовом и многолюдном, исполненном диковинок и реликвий. За окном вольная жизнь, теплое море, а мне приказали безвылазно сидеть в пустой холодной комнате».
Он взобрался на широкий подоконник и стал разглядывать улицу. Но там ничего интересного не происходило. Напротив окон опоясанные пыльными фартуками работники возводили цоколь еще одного палаццо. Время от времени улицей проезжали телеги, кареты, фургоны. Григорий и не заметил, как уснул.
Он убегает. Преследователи надвигаются снизу, а единственный путь к отступлению ведет вверх. Выше, еще выше по темной спиральной лестнице. Ноги легко несут его ступеньками, но преследователи быстры и ловки. Вдруг ступени заканчиваются, и он выбегает на каменную площадку, под бескрайний свод ночного неба.
«Это Башня, – догадывается он. – Та самая Башня с карты Таро».
На зубцах парапета башенной площадки возвышаются каменные фигуры во владычных саккосах. Ему кажется, что он узнает подобия ныне предстоящих молитвенных столпов Киевской церкви – митрополита Тимофея Щербацкого, епископов Арсения Могилянского, Никодима Сребницкого и Амвросия Дубневича.
«Отцы-святители, преподобные владыки православные, уберегите от бесей меня, раба грешного», – вымаливает он у подобий церковных достойников.
Он откуда-то знает, что попасть на эту площадку преследователи не могут. Здесь он для них недоступен. Но над ним нависает иная опасность. Небо черное, грозовое, в нем может прятаться черная туча – громовая мать молнии. Он видит, что у зубчатого парапета стоит его отец в серой домашней свите, а рядом с ним замерло какое-то чудище – фигура в женском платье с серебряной маской на лице. Ему страшно.
«Отец, идите сюда скорей», – шепотом зовет он.
Но Савва Сковорода лишь хмуро смотрит на сына. Как во времена его детства, когда Григорий потерял козленка. Савва набухший, громадный и медленный. «А если это вовсе не отец мой покойный, а надутая ведьмовская обманка?» – подозревает Григорий. Когда он бесштанным отроком пас на хуторе коз, женщины в Чернухах перешептывались о том, что ведьмы ловят земляных жаб, при полной луне вымачивают их в колдовском зелье, а затем вставляют им в зад соломинки и надувают в размер человека. Такая надутая жаба как две капли воды похожа на персону, супротив которой ведьма замыслила зло. Фальшивка по воле ведьмы идет в деревню, пакостит, озорничает, убытки наносит людям. А потом за все эти ведьмовские проказы тяжко и беспросветно отдувается подлинная персона.
Григорий налагает на фигуру фальшивого Саввы знак креста и сам пугается последствий. Чудище лопается с мерзким чавканьем, серые куски жабьей плоти разлетаются по башенной площадке. Из-под серебряной маски слышен глумливый женский хохот.
«Ведьма проклятущая!» – определяет Сковорода. Он зачитывает сто восьмой псалом, сотворенный боголюбивым царем Давидом на погибель демонам: «За любовь мою они со мной враждуют, я же молюсь…» Ведьма прекращает смеяться. На ее маску падает тень. Ведьма вздымает худющие руки. Григорий видит, как из кружевных рукавов ее платья вылезают кости, обтянутые желтой кожей. Ведьма сопит и бормочет колдовские формулы.
«Она вызывает молнию. – От ужаса в теле Григория проявляется блудная суть материи и оно становится словно глиняным. – Но ведь молнии слушаются только Отца Небесного. Почему эта ведьма повелевает молниями?» Он оглядывается, ища пути для побега, но вокруг него тьма. Что-то больно толкает его в плечо, он вскрикивает и падает.
В регулярном мире он свалился с подоконника на пол. За окном темнело. Григория мучила жажда.
«Обещали доставить питье и еду. И где же оное?» – вспомнил он слова кавалера. И словно в ответ где-то далеко, в другом конце анфилады, хлопнула дверь, заскрипел под шагами еловый паркет.
В комнату вошел уже знакомый привратник с трисвечником в руке.
– Следуйте за мной, – велел Григорию.
– Куда?
– С вами желает беседовать одна знатная персона.
– Что за персона?
– Вы не находите, что задаете слишком много вопросов? – заметил привратник. – Идемте, вас ждут.
Он провел Григория на первый этаж, где под арками широкого въезда ждал закрытый рыдван. На козлах сидел кучер в гербовой ливрее и красных чулках.
– Наденьте вот это, – привратник подал Григорию широкий черный плащ и какую-то тряпицу того же цвета.
Наблюдая, как молодой иностранец беспомощно крутит в руках тряпицу, привратник сокрушенно покачал головой:
– Вы что же, молодой человек, никогда не видели маски?
– Никогда, – признался Григорий.
– Дайте сюда, я покажу, – старик на себе продемонстрировал, как надевается маска.
Спустя минуту Григорий, завернутый в плащ и с маской на лице, ехал вечерними улицами Триеста. Он пытался не выглядывать из рыдвана, думая, что людей испугает его вид. На самом деле в Италии плащ и маска удивляли разве что странствующих английских литераторов. В те времена немало жителей романского юга, начиная с великосветских озорников и заканчивая наемными убийцами, использовали после заката маски.
Рыдван покинул пределы Борго Терезьяно, обогнул высокий холм с византийской базиликой на вершине и въехал под кроны длинной аллеи, обсаженной с обеих сторон платанами. В конце аллеи Григорий, глядевший на окрестности из-за кучерской спины, заметил темную громаду обширного палаццо. Ни в одном из окон не горел свет. Только при воротах чадили факелы. Свет их был тусклым и неверным. Вымощенным двором разбегались неспокойные тени.
Невидимые слуги открыли кованую решетку, и рыдван въехал в просторную галерею, отделенную портиком от внешнего двора и любопытных глаз. Кучер остановился напротив открытой двери, где ждал высокий мужчина в плаще с поднятым капюшоном.
Мужчина сделал Григорию знак рукой. Сковорода понял, что его приглашают в недра таинственного палаццо. Они поднялись на третий этаж, бесшумно скользя по коврам, паркетам и мраморным ступеням. Даже в окружающей полутьме Сковорода разглядел отменную роскошь мебели, навощенные до блеска паркеты и большие живописные полотна, покрывавшие стены залов и комнат, которыми они проходили.
За очередной дверью горел яркий свет. Григория провели в зал, освещенный сотнями дорогих восковых свеч. Свет отражался от хрустальных подвесок люстр, пробегал зеркальным паркетом и прятался в бархатных складках. Высокие стены зала покрывали шпалеры и гобелены, выдержанные в желто-красных и охряных цветах. Дальнюю часть зала от остального пространства отделял каминный экран. Окна закрывали двойные гардины с бахромой и тяжелыми золотыми кистями.
На низких кушетках, расположенных посередине зала, в непринужденных позах возлежали две дамы. Их лица скрывали серебристые маски-домино, а сквозь газовые накидки просвечивали стройные телесные формы, присущие ранней молодости. Дамы опирались на расшитые подушки и атласные валики. Их высокие причудливые прически стягивали сетки, сплетенные из тонкой золотой проволоки. Одна из дам ласкала левретку, другая игралась огромным китайским веером, перебирая его лакированные дощечки. Роскошь одеяний, скроенных в модном «гаремном» стиле, и впечатляющие бриллиантовые гарнитуры говорили о том, что дамы принадлежат к весьма обеспеченной прослойке высшего имперского сословия. Григорию стало предельно неловко. Он в одночасье почувствовал себя диковинным зверем, приведенным к аристократкам забавы ради.
«Если бы додумался прихватить свирель, то не стоял бы тут как чучело огородное, а сыграл бы этим принцессам какую-нибудь скерцетку», – промелькнула в голове Григория пораженческая мысль. Он почувствовал, как кровь приливает к его лицу, и обрадовался маске, скрывшей от «принцесс» очередное предательство слабой плоти.
– Дайте ему стул, – приказала дама с веером.
Крепкого сложения лакеи в темных камзолах и париках, чьего присутствия Григорий до сих пор не замечал, поставили рядом со школяром стул. Пока они суетились, Григорий лихорадочно перебирал подходящие моменту приветствия. Сначала он хотел возгласить «Pax vobiscum»[59], но оная лаконичность показалась ему слишком уж простецкой для этой обители роскоши и неги. Ситуация требовала чего-то одновременно классического и возвышенного. Он вспомнил, как апостол Павел обратился к коринфянам в своем послании и последовал его примеру:
– Gratia vobis et pax![60]
– Fiat![61] – рассмеялась дама с собачкой. – Вы говорите по-итальянски?
– Немного разумею, ибо язык сей сродный латыни, – сказал Григорий и покраснел еще больше. Ему вдруг почудилось, что, утверждая сродность языков, он не совсем оправданно использовал слово «familiari», а не более уместное в данном случае «generi». Вследствие сего, как ему показалось, вышло, что итальянский не одного рода с латынью, а лишь «близко знаком» с нею.
«Ну и невежда ты, Грыць!» – пронеслось в голове Сковороды. Он представлял, как «принцессы» мысленно смеются над неловкой лексикой северного дикаря.
Дамы тем временем обменялись выразительными взглядами. Затем та, что с веером, сказала:
– Будем беседовать на древнеримском наречии, но если мы с сестрой не удержимся на высотах цицероновского искусства, то всегда сможем дополнить латынь греческим, немецким, французским или английским. Вы владеете этими языками?
– Классическим греческим и немного немецким.
– Cum Deo![62] – подытожила языковый протокол Констанца Тома (это она играла веером). – Садитесь, садитесь, юноша, это для вас принесли стул. Пришло время нашего знакомства. Согласитесь ли вы беседовать без масок?
– Я не боюсь показать лицо. В нем нет ничего уродливого или подлого.
– О! – рассмеялась Констанца. – Это острое замечание, bravo! Мы, кстати, тоже не уроды. Речь идет о конспирации.
– Мне нечего скрывать. – Григорий снял маску.
– А нам тем более. – Констанца одним изящным движением освободилась от серебристой личины, сестра последовала ее примеру. – Раз уж госпожу Конспирацию мы отослали спать, то теперь ничто не помешает нам познакомиться. Я Констанца, а сестра моя – Клементина.
– А я Григорий, сын Саввы, – представился Сковорода. Его поразила броская красота сестер. Внешность Констанцы показалась ему более гармоничной, чем у сестры, но последняя побеждала молодостью. Ее юная свежесть успешно оттеняла «птичью» резкость черт, характерную для уроженок итальянского юга. Прозрачная ткань позволяла рассмотреть пышные груди и упругие животы сестер, но Григорий старался не глядеть в тот нежный полумрак, что дразнил его вожделение тенями, складками и розовыми куполами сосков.
«Старшая – классическая римлянка», – решил Сковорода, любуясь нежным овалом лица, волоокостью и точеным носиком красавицы. Удивительно, но оценка, данная молодым певчим, едва ступившим на тропу Эрота, полностью совпала с мнением графа Рески, утонченного и многоопытного ценителя женских прелестей.
Констанце тоже понравилось лицо Григория, природная бледность которого и проступившие на лице признаки волнения выдавали натуру чувственную и гордо-самобытную. Как женщину, наделенную сильным и прихотливым воображением, Констанцу отпугивало в новых знакомствах все банальное, однообразное и покрытое светским лаком. Напротив, все необычное, непознанное и непризнанное ее увлекало. Для радостного познания мира ей были необходимы свежие ощущения и чувственные открытия, способные удивить и разжечь воображение предельными (и, как правило, запрещенными господствующей моралью) фантазиями. Констанце также показалось, что под школярской свитой угадывается мощь молодого тела. Это ее не удивило. Немногие из мужчин сохраняли спокойствие плоти при виде полуобнаженных сестер. Готовясь к беседе с загадочным гостем, Констанца и Клементина приняли решение, что их одежда не будет скрывать ничего, кроме самых сокровенных алтарей Венеры. Озорная Клементина пошла еще дальше. Она натерла свои соски так, что ее подростковая грудь величиной и упругостью почти сравнялась с сестриной.
– Вы живете в татарских степях? – спросила Констанца, мгновенно представив необозримые пространства под высоким небом, табуны диких коней, кибитки, волчьи охоты и жестокие забавы кочевников, беспощадных к слабым и пленницам. Именно о такой Татарии извещали читающую Европу Марко Поло и другие авторитетные путешественники.
– Эти степи, госпожа Констанца, днесь уже не принадлежат татарам. Они распаханы и туда вернулся мирный хлеборобский народ, искренне верующий в Христа. Народ, живший там задолго до татар, во времена благоверных ромейских кесарей Ираклия, Константина и Василия. Я, по роду своему, по вере и по словесности принадлежу к этому народу.
– Григорий, ваш народ называют рутенами, я не ошибаюсь?
– Это имя привычно в Европе, записано в книгах, нанесено на карты, но мы себя в сем имени не находим. Нас также именуют черкасами и малороссами. Но по натуре и по изначальному роду нашему мы славяне и казаки, вольные владетели степей со времен сарматских и скифских. О славянах же, предках наших, немало писано в старых ромейских бревиариях[63]. Казаки ведут свой род от тех непобедимых воинов, коих ни персидскому Дарию, ни понтийскому Митридату покорить не вышло. Древние властелины Хазарии и православные кесари царьградские признавали нашу изначальную, завоеванную мечами и пиками вольность. Ныне мы оседло живем по обоим берегам Борисфена, держим славные города и фортеции крепкие. Храним завещанный предками и в хартиях писанный закон, item[64] чтим выборных судьей. Императрица Елизавета, славная дщерь Петра Великого, держит наш край под своей высокой рукой.
– Казаки, если я не ошибаюсь, были некогда ревностными подданными Польской республики?
– Так было во времена правления Сигизмундов, монархов крепких и воинских. Но поляки тогда ущемляли веру нашу, и скоро будет сто лет, как перешли мы под руку царей московских.
– О чем, вероятно, сожалеете?
– Воли поменьше стало, – признал Григорий. – Но и татарскому озорству теперь свободы нет. Кибитчики сидят в дальних степях и редко беспокоят наши заставы. А в недобрые времена Сигизмундов мы от татар тех сильные притеснения терпели.
– Право на свободу – наивысшая из присущих людям ценностей, – заметила Клементина.
– Наивысшим правом человеческим, по моему смиренному усмотрению, есть природное право на познание воли Божьей. Ведь все мы подвизаемся странниками в мире сем, и окончательная patria[65] всех людей – Божье Царствие.
– Это из Августина, Станца? – обратилась к сестре Клементина.
– Подожди, Манти, – Констанца отложила веер. – Григорий, ваш народ одной веры с греками и московитами?
– Да.
– И вы против папы?
– Наши архиереи не признают его авторитет.
– А вы, Григорий?
– Я православный от прадедов своих, Констанца. Но я не питаю недружественных чувств к иным верам, так же как и к другим племенам и народам. Все, что прославляет Творца, для меня сродно, – здесь Сковорода для обозначения сродности использовал слово «genus», чтобы сестры не думали, что у него узкий запас латинских лексем. Он еще подумал и добавил на итальянском: – Vengo adesso di Cosmopoli[66].
– Мы также числимся гражданками сего славного города, – одобряюще улыбнулась масонка. – Вы не думайте, Григорий, что мы с Манти устраиваем вам допрос. Просто мы интересуемся всем, что происходит в мире. Особенно нас занимают далекие страны, о которых в Европе почти ничего не известно. Хотя мы живем на восточной границе христианского мира, недалеко от пределов Азии[67], но о ваших землях и о ваших сродных знаем не так уж и много. Однако, мы видим, что вы, Григорий, по духу вашему принадлежите к всемирному братству, хотя, может быть, и не присягали на алтаре Соломона. Нам хотелось бы, чтобы истинный свет как можно ярче осветил берега Борисфена. Чтобы ваш прекрасный и гордый народ стал примером для других наций в обретении достойной судьбы. А еще мы знаем, что вы еще не ужинали, и просим вас, Григорий, не побрезговать нашим скромным столом.
В зале вновь, словно ниоткуда, появились слуги и раздвинули каминные экраны. За ними, как оказалось, прятали накрытый на трех персон стол. Слуги зажгли свечи на канделябрах, и свет их затанцевал на хрустале и золоте, на цветных перьях декорированной дичи, на серебристой чешуе рыб, на плесени драгоценных сыров, на темном стекле высоких, покрытых паутиной, винных бутылок. Сковорода почувствовал: его желудок сводит судорога. Прошло уже больше суток, как он ел цирковую похлебку. Григорий сосредоточил всю волю на том, чтобы не выдать низменных желаний своей изголодавшейся плоти.
Сестры с замечательной синхронностью поднялись со своих кушеток, подхватили Григория под руки и повели к столу. Сквозь бархатные завесы пробилась музыка. Невидимые скрипачи ударили по струнам, в зал вошли стройные шеренги праздничных звуков. В них доминировала торжественная и бодрая тема, ведомая альтами. В тот миг Сковорода вдруг вспомнил, что черный плащ не скрывает его дырявой обуви, совершенно неуместной посреди такого королевского приема. Новая волна стыда выплеснулась на его скифские скулы.
А в это время, за какую-то милю от палаццо банкира Тома, где сестры тайно принимали экзотического гостя, граф Рески, с не меньшей конспирацией, встретился с одним из своих доверенных агентов. Тот ловко запрыгнул в карету графа, когда та проезжала узким неосвещенным переулком Трех пекарей в сторону соборного храма Сан-Джусто.
– Когда-нибудь, Марк, ты сломаешь себе шею, – неодобрительно покачал головой граф.
– Вряд ли, ваша светлость, – хохотнул агент. – В нашей семье все научены прыгать. Мой брат однажды перепрыгнул с колокольни Сан-Северино на крышу старого палаццо барона Розенберга. И ничего. Обошлось даже без синяков.
– А что делал твой брат на крыше баронского палаццо?
– Грабил господина барона, ваша светлость.
– Хм… Даже так…
– Таких ненасытных мытарей, как Розенберг, сам Господь велел освобождать от лишних деньжат. Даже если барона уволят с таможни, его виноградники и мельницы не дадут обеднеть ни ему самому, ни его правнукам.
– Так что тебе удалось узнать?
– Сегодня утром в город приехал один хитрый босяцкий цирк. «Олимпус» называется. Знающие люди мне рассказали, что этот вертеп отличился во многих темных историях. Его теперешний владелец Антонио Федеш некогда в Трансильвании проходил первым свидетелем по делу чернокнижника Баль-Садоча, а акробат Дальфери, бегающий там по канату, на самом деле никакой не акробат, а самый настоящий buli[68], разыскиваемый полицией Испании и Неаполитанского королевства. Настоящая фамилия того головореза – Ландриани. Его обвиняют в заговоре с целью убийства дофина Карла[69] и в организации trattamento di coltellate[70], во время которого, кроме всего прочего, зарезали двух королевских судей, привезенных дофином из самой Севильи. Этот чертов «Олимпус» появился в Генуе как раз перед тамошним восстанием. Говорят, что в цирковых повозках доставляли ружья для бунтовщиков. Очень подозрительный вертеп, ваша светлость. Странствующие цирки все подозрительны, но от этого на десять лиг воняет заговорами и темными делами. Например, в этом вертепе совсем не держат тех уродов и лицедеев, ради которых народ и ходит смотреть цирковые представления. Нет бородатых женщин, толстяков, карликов, поглотителей огня и хвостатых мальчиков. Разве не странно, ваша светлость?
– Действительно, какое-то извращенное место, – согласился Рески.
– Странствующее извращенное место, – усложнил агент.
– Не забывайся, Марк, – вдруг разозлился граф. – Я нанял тебя не в качестве поэта, а в качестве шпиона.
– Ваша свет…
– Докладывай дальше. Но без… метафор.
– Так вот, ваша светлость, сегодня после обеда к этому вертепу приходил известный нам кавалер Цельбе. Он о чем-то беседовал с Федешем, а потом забрал с собой некоего молодого парня, ехавшего с цирком из самой Польши.
– Циркача?
– Не ясно. Говорят, что во время цирковых представлений парень играл на флейте. Также поговаривают, что раньше этого флейтиста в «Олимпусе» никто не видел. Вот, к примеру, Ландриани с ними уже третий год, а флейтист появился всего несколько недель назад. До этого они справлялись без флейтиста. Откуда он взялся, никому не известно. Похож на поляка, худощавый, высокий, белокожий, с темными глазами.
– И куда же Цельбе повел его?
– К новому палаццо графа д'Агла.
– Жениха Клементины?
– Да, ваша светлость, к тому желтому палаццо со слюдяной крышей, в котором Асканио д'Агла собирается жить после женитьбы на Клементине, младшей дочери Гино Анатолли.
– И циркач до сих пор там скрывается?
– Наверное.
– Ты что же, не поставил своих людей следить за домом д'Агла?
– Нет, ваша светлость. Я ждал ваших указаний.
– Зря. Ты поступил неразумно.
– Я понял. Прошу вашу светлость простить мою ошибку. Но, говоря по правде, этот парень совсем не похож на значительную персону. Он весьма бедно одет и выглядит… – агент умолк, подбирая точное слово.
– Больным, спитым?
– Нет, ваша светлость, не больным и не спитым… Как бы это вам объяснить… У него глаза такие же, как у падре Виджилио, когда тот проповедует о маленьком Иисусе.
– Ты имеешь в виду того забавного священника из Монфальконе?
– Да, ваша светлость, того нищеброда, который все время ходит в засаленной рясе и проливает слезы над каждым дохлым воробьем. Такие люди, ваша светлость, не бывают ни шпионами, ни мятежниками.
– Но из таких людей выходят савонаролы[71], – проворчал граф Рески.
– Прошу прощения, о чем это вы, ваша светлость.
– Это я не тебе, Марк. Не тебе… Ты, кстати, имел сегодня возможность заработать несколько монет, но не позаботился о наблюдении за домом д'Агла. Поэтому сейчас же выпрыгивай из моей кареты и беги туда.
Яремче, август, наши дни
Александру Петровичу не спалось. Отправив брата с его сокровищами в верхнюю комнату, он уже не смог восстановить душевного равновесия. Его раздражали звуки: лай соседских собак, гудение трансформатора, безнадежное трепыхание ночной бабочки-бражника меж оконных стекол. Алкоголь не помог. Старший Вигилярный побродил по комнатам первого этажа, накричал на дочь из-за неприбранной комнаты и сел покурить на террасе.
Противоречивые мысли роились в его голове. С одной стороны, дороживший своей репутацией сын капитана не хотел иметь ничего общего с той мутной историей, в которую вляпался Павел Петрович. Уголовщина с детских дворовых лет вызывала у Александра Петровича стойкое отвращение. В свое время он запретил домашним смотреть сериал «Бригада» и не уставал следить за окружением старшей дочери, достигшей опасного возраста. Чтобы там не завелся – не приведи Боже – какой-нибудь смазливый блатной типчик.
Но, с другой стороны, текст экспертного заключения стоял у него перед глазами. За последние часы он столько раз перечитал его, что мог цитировать по памяти. Особенно такие выводы эксперта:
«Задача определения точных даты и места изготовления представленного на экспертизу ритуального предмета требует дополнительных данных. На основании сделанных в радиохимической лаборатории факультета химии и биологии Н-ского университета (платный хозрасчетный экспертный заказ ЕПК 34/12, входящий кассовый ордер № 105ЕЛ-12, ответственный исполнитель н. с. Лизинчук А. С.) радиоуглеродного и минералогического анализов, а также сравнительных исследований структуры дерева можно с вероятностью до 95 % утверждать, что изготовление данного ритуального предмета относится к периоду 1300–1500 лет до н. э. Ритуальный предмет практически не имеет известных науке аналогов или близких по форме и ориентированных по возрасту ритуальных артефактов такого типа. Не представляется возможным определить, для домашнего (семейного) или храмового употребления он предназначался. При его изготовлении (материал – дерево, дуб) была применена неизвестная консервирующая технология, возможно, на основе долгосрочного томления дерева в природном или искусственном рассоле. В структуре дерева, в частности, найдены минеральные вещества, по общему составу и уровням концентрации характерные для сильно минерализованной воды. Перечень приведен в таблице № 3».
И еще вот это:
«Данный предмет (идол в виде женской статуэтки) находился в ритуальном обиходе продолжительное время, включая последние годы. Специфические сложные липоидные слои на поверхности ритуального предмета нуждаются в дополнительных анализах на молекулярном уровне».
Александр Петрович посмотрел в словарь иностранных дел. Там слово «липоиды» трактовалось как «группа жироподобных веществ растительного происхождения, сложные липиды».
«Жрецы мазали идола жертвенным жиром, ублажали своих богов, – догадался старший Вигилярный. – Возможно, и человеческим жиром мазали. Серьезный «ритуальный предмет». И люди за ним, скорее всего, стоят крутые».
Другое дело, что найденное Павлом Петровичем сокровище могло прийтись весьма кстати, учитывая деловые планы Александра Петровича, недавно купившего участок для строительства семейной гостиницы. Под этот участок на живописном горном склоне он взял кредит. Тогда его погашение казалось делом несложным. Но наступили времена мирового кризиса. Семейный сувенирный бизнес пришел в упадок, скупщики гуцульских топориков, поясов и шкатулок резко сбили цены. Затем подкралась новая беда: в Карпатах неизвестно откуда появились китайцы, поставившие производство дешевых поделок на поток. Закупочные цены упали еще ниже, и никакие ссылки на эксклюзивность и «стопроцентный хенд-мейд» на скупщиков не действовали. Александр Петрович попытался организовать собственную торговлю, но столкнулся с жестким противодействием рыночной мафии. Построенный им придорожный магазин сожгли. В конце концов старший Вигилярный вынужден был приостановить работы на участке. Строительные материалы мокли под дождями и снегом, портились и разворовывались.
Если бы удалось найти солидного покупателя древностей, размышлял Александр Петрович, строительство отеля можно было бы закончить за год-полтора. А это, учитывая нынешний туристический бум, решило бы все финансовые проблемы семьи. Соблазн был немалым.
Пуская из трубки дымовые колечки, сын капитана смотрел на ночные горы, на огни многочисленных гостиниц и мотелей, корпуса которых раскинулись темными склонами напротив, расползлись вдоль каменистых берегов Прута, взобрались по лесным просекам на поднебесные пастушьи пастбища. Там, под пестрыми металлокерамическими крышами, деревянными навесами и зонтиками летних кафе, играла музыка, рычали моторы, смеялись дети, вспыхивали огоньки смартфонов. Гости Карпатского края проедали, пропивали и выпаривали в саунах доллары, евро, рубли и гривны.
Если бы не проклятый кризис, думал Александр Петрович, он уже был бы владельцем такого же прибыльного заведения. Не какого-то там убогого гэст-хауса с провонявшими мышиным пометом комнатами, а настоящего охотничьего приюта для состоятельных туристов, с приличной ресторацией, гаражом для снегоходов, бассейном и сауной. Купил бы себе тюнингованную спортивную «бэху». А со временем осуществил бы заветную мечту: получить лицензию на учреждение частного аэроклуба и летать над Карпатскими хребтами на личном самолете. И не на старенькой, обшарпанной «цессне», арендованной им в лучшие времена, а на реактивном Cirrus Vision SF5. Фотографию этого безупречного вип-джета, вырезанную из журнала, сын капитана оправил в лакированную рамку и повесил над супружеской кроватью. Мысленно Александр Петрович называл себя «эсквайром». И если бы построил отель, то назвал бы его «Ранчо эсквайра Алекса» или «Приют эсквайра Алекса». А может и так: «Заимка эсквайра Алекса». Окончательно он еще не решил.
«А самое гнилое попадалово в том, что не с кем посоветоваться, – признался себе будущий карпатский эсквайр, докуривая вторую трубку. – Положиться, в случае чего, тоже не на кого. Женины родственнички из Микулычина пьющие и ненадежные. А еще и жадные. До желтого блеска в глазах. Им большие деньги и показывать-то нельзя: украдут, да и убить могут. А сама Мария за все годы совместного бизнеса так и не научилась держать язык за зубами. Не дай бог, разболтает о сокровище по всему Яремче. Павлуша, если его не контролировать, наделает глупостей. Это как пить дать. Лузер хренов, за столько лет даже диссертации не осилил».
«Все нужно делать самому», – решил старший Вигилярный и решительно направился в верхнюю комнату. Из спальни показалась взъерошенная супруга, но, глянув на лицо мужа, закрыла дверь.
«Вот это ты правильно сделала, – мысленно одобрил ее Александр Петрович. – Теперь, Машенька, не до тебя. Уж извини».
Триест, 22 апреля 1751 года
– Григорий, попробуйте вон тех жареных перепелок, – посоветовала Сковороде Клементина. – Новый повар Констанцы очень искусен в приготовлении дичи. Он родом с Ассизы и перед прожаркой томит дичь в кислом соусе с сиенским базиликом и кардамоном, а потом, перед подачей на стол, поливает ее горячим сиропом, сваренным из цедры померанцев. Так вкусно! У вас на севере растут померанцевые деревья?
– Манти, померанцевые деревья на севере не выживают, – опередила гостя Констанца. – Там долгие ледяные зимы, а померанцы боятся холодов.
– Вы правы, – подтвердил Григорий, наблюдая за тем, как лакей выкладывает на его тарелку подрумяненное мясо перепелок. – Зимы у нас бывают долгими. Начинаются они за Михайловым днем и длятся в иные годы до Благовещенья. Даже такая знатная река, как Борисфен, покрывается льдом, бывает, от берега до берега. И лед крепкий, панцирный, здоровенные возы и коней выдерживает. В турецкую кампанию литые пушки по нему возили, сам видел. А со степей зимой дуют ветра восточные, да такие сильные, что способны крепкого мужа сбить с ног и покатить по полю. И такую презнатную метель те ветра поднимают, что за два шага человека не видать. Случалось, что отцовский дом за одну ночь снегом забрасывало. Сугроб дыбился до самой крыши. Мы дверей отворить не могли. Разбирали крышу, делали дыру и сквозь нее, как из ковчега звери Ноевы, на свет Божий выбирались.
– Какой ужас! – искренне поразилась Клементина. – Станца, милая, ты слышишь?
– Вы мужественные люди, гиперборейцы, если способны выдерживать такие зимы, – заметила масонка. Она подняла бокал:
– И Плиний Старший, и Гораций завещали нам, что истина сокрыта в вине. Пусть это, посвященное Венере, вино поведет нас темными путями опьянения. Поведет к познанию гармонических и регулярных истин, действительных как для теплой Италии, где мужчины стали галантными, изменчивыми и слабыми, так и для страны казаков, где и в наше время живут люди сильные и цельные, похожие на древних римлян, моих славных предков. In vino veritas!
Они выпили. Григорий в который раз подивился крепости и густоте выдержанного тосканского вина. Голова отставного певчего кружилась, присутствие красивых молодых женщин вдохновляло его резвое воображение искусительными картинами и греховными фантазиями.
– Подобного сему вина я в жизни своей не пил, – искренне признал он. – Изрядный напиток.
– На мой вкус, старое кипрское слаще тосканского и со временем обретает благородные оттенки, но мой муж – увы! – скуп, и с Рождества мы еще не пополняли запасы кипрского, – сообщила Констанца. – А каковы женщины и девы в стране казаков? Встречаются ли в нынешних степях воинственные и беспощадные Геродотовы амазонки?
– Об амазонках не слышал, а женщины у нас белокожие, чернявые и стройные. Они не воинственные и вовсе не беспощадные. Добрые христианки.
– Они стройнее итальянок? – улыбнулась Констанца.
– Я видел не так уж много итальянских красавиц, чтобы дерзал сравнивать. Если они все подобны вам, Констанца, и вашей сестре…
– Не все, – фыркнула Клементина.
– Манти права, – улыбнулась жена банкира. – Иногда встречаются такие чудища!
– Как, к примеру, толстозадая дочь графа Рески.
– Манти, не будь жестокой к несчастной Матильде.
– Я не жестокая, я искренняя. У Тильды гадкие рыжие волосы, похожие на парик Простака Мака[72].
– Вам, Григорий, еще предстоит познакомиться с итальянками поближе, – улыбнулась Констанца. – Наши женщины нежные, мечтательные и страстные, они любят силу и решительность, уважают щедрость и куртуазный подход. Они влюбляются в разбойников и гордятся кровью, пролитой во имя любви. И еще – они никогда не прощают предательства. Опаснейшее из существ, рожденных под солнцем, – итальянка, которую предали. Она яростнее льва и мантикоры, коварнее иезуита и злопамятней калабрийского арендатора. Вы не найдете ни одной итальянки, которая не держала бы в секретном ящичке флаконов со смертельными ядами. Мужчины-предатели долго у нас не живут.
– Я смиренный школяр и причетник, Констанца, далекий от плотских игрищ мира сего.
– О, я знала нескольких смиренных школяров из местных. Из очень уважаемых и набожных семейств, – масонка улыбалась, но в ее глазах не было смеха. – Потом они оказались страстными любовниками и погубили немало красавиц. Тоже смиренных и набожных. Тоже из лучших фамилий Триеста. Эти истории заканчивались печально. Убийствами, самоубийствами, пожизненными заточениями знатных грешниц в суровые монастыри. Плоть – страшный деспот и жестокий палач. Вы, Григорий, когда-нибудь задумывались над этим?
– Да, задумывался, – нахмурился Сковорода. – Последнее время я много размышлял над одной из глубочайших и запретнейших тайн плоти.
– О, кажется, это уже нечто, находящееся за пределами смирения, – прищурилась Констанца. – И что же это за тайна?
– Тайна предивного Андрогина.
– Андрогина? Двуполого существа?
– Двуполое существо именуется гермафродитом, – напомнила Клементина. – В честь дитя Афродиты и Гермеса, то есть Венеры и Меркурия.
– Андрогин – это не гермафродит, – заметил Григорий. – Это особое творение Бога, гармонически объединяющее два исконных начала – мужское и женское. Как на телесном, так и на духовном уровнях. Это творение обладает истинным равновесием сущего, его природный магнетизм сопричастен не внешнему миру, а его собственному самобытному естеству. Из всех творений Бога только Андрогин пребывает в нерушимом естественном спокойствии, в состоянии Священной Исихии[73]. В таком безграничном совершенном спокойствии, которым преодолевается животное ограничение, изначально наложенное на все существа. Я знаю, что существуют древние египетские эмблемы, на коих начертаны правдивые знаки Андрогина, и что ними объяснен тайный смысл его пронзительного назначения.
– Цельбе говорил мне, что вы просили для изучения эмблематические книги, – вспомнила Констанца. – Так вы хотите отыскать там изображение Андрогина?
– Да.
– Я помогу вам, – пообещала масонка. – Но путь к Андрогину может проходить не только через книги.
– Я думал над этим.
– И что ж надумали?
– Возможно, вам известно, что я добирался сюда со странствующим цирком. Мы ехали несколько недель. Среди цирковых лицедеев были брат и сестра – Амадео и Амалия. Юные создания, почти дети, но уже опытные в делах плотской похоти.
– Актерских детей очень рано развращают, – вмешалась Клементина. – Сами их родители…
– Подожди, Манти, дай Григорию договорить, – шикнула на нее старшая сестра. Вино уже сделало свое дело – ее щеки порозовели, губы налились чувственной и властной силой. Венера сошла со своего олимпийского трона, горячее дыхание богини коснулось естества Констанцы, пламенеющих в нем горнил Эрота. Венерическая мощь восставала, текла и разливалась по всему ее телу, и она ничуть не противилась этой внутренней революции.
Клементина мгновенно ощутила, как магнетизм Венеры овладевает лабиринтами плоти сестры. Дочери Гино Анатолли с детских лет пребывали в тесном эмоциональном контакте. Клементина бросила на Констанцу короткий радостный взгляд и тут же почувствовала, как уже в основании ее собственного живота обретает жизнь нечто, похожее на очень горячий и очень подвижный шарик. На мгновение она замерла в счастливом предчувствии.
«Приветствую тебя, о Сладостная! Приветствую зарождение соков твоих, о великая богиня пределов и проникновений!» – мысленно возликовала младшая сестра. Она чуть развела ноги, открывая телу возможности для напряжений и увлажнений. Скрытые занавесом музыканты словно уловили настроение сестер. Скрипки заиграли анданте.
– Эти подростки поразительно похожи друг на друга, – не замечая происходящего, продолжал Григорий. – Иногда во время представлений их намеренно переодевали, и нельзя было определить, кто из них мальчик, а кто девочка. А еще, как бы в подтверждение своей двойственной сути, они занимались делами Амура и с женщинами и с мужчинами.
– У Амалии была аманта? – спросила Констанца.
– Да, и не одна. А ее брат, представьте себе, за мзду малую спал с мужчинами. Но и противоположному полу они не отказывали в удовольствиях. Когда они были вместе, то казались одной натурой, почти поровну разделенной на два существа. Они гармонично двигались в одном ритме, когда танцевали и жонглировали, одновременно грустили и радовались. Когда Амалия простудилась, Амадео также мучился головной болью, хотя сам не болел. Если Амалию звали к импресарио, то Амадео также искал ласки в мужских объятиях. И, наоборот, когда с его сестрой была женщина, он желал женской нежности. Мне показалось, что существует нечто незримое, какие-то невидимые неощутимые жилы, соединяющие этих двоих. Они друг без друга не могли долго жить. Между ними существовал натуральный, сиречь истинный магнетизм. Тот, о котором свидетельствуют мартинисты в запрещенных трактатах. Магнетизм сей властвовал над их телами, царил в их душах. Когда Амалия и Амадео спали вместе, то прижимались друг к другу так плотно и нераздельно, что казались сиамскими близнецами.
– Очень интересно, в самом деле, – оценила рассказ Констанца и длинным глотком осушила свой бокал. – А вы видели сиамских близнецов?
– Видел заспиртованных. В Санкт-Петербурге, в Кунсткамере.
– Нам с Клементиной рассказывал о сиамских близнецах Казанова. Вы с ним знакомы?
– Нет. А кто он?
– Фатальный любовник, – рассмеялась Клементина. – Коллекционер разбитых сердец, перстней и драгоценных часов.
– Шут, – определила суровая Констанца. – Хотя, нужно признать, в нем что-то есть… Но вернемся к Амалии и Амадео. Вы меня заинтриговали, Григорий, правда… Ты о чем-то хотела спросить, Манти?
– Да, – подтвердила младшая. – Вы говорили, Григорий, что во время сна эти дети плотно прижимались друг к другу. А при этом они соединяли свои гениталии?
– Боже мой, какая же ты развратная, сестричка, – рассмеялась Констанца. – Я не завидую Асканио, ох, не завидую.
– Мне просто интересно, Станца, – надула прелестные губки Клементина. – Уже и спросить нельзя.
– Развратная маленькая потаскушка… – продолжала старшая, вздрагивая от тихого смеха. – Только и думает, что о гениталиях. И вообще, как ты смеешь называть вещи своими именами! Что бы на это сказал твой духовник?
– Можно подумать, ты у нас святая!
– Бедный, бедный Асканио, – Констанца уже откровенно хохотала. Под прозрачной тканью было видно, как соблазнительно колышутся ее развитые, с широкими и темными сосками, груди.
– Кто бы говорил! О себе вспомни, – продолжала тем временем огрызаться Клементина.
– О, если я начну вспоминать.
– То что?
– То многое вспомню. Асканио и не снилось.
– Радуйся, что твоему Генриху, кроме дурацких овощей, ничего не снится. Он, наверное, сам овощ.
– Умбрийский кабачок! – сквозь смех подтвердила банкирша.
– А ты – жена умбрийского кабачка! Калабрийская дыня!
– Манти, ты не только развратница, но и стерва…
– Простите меня, если я что-то не так сказал. Я ничего не знаю о телесных соединениях. Мне кажется, тут важнее метафизический принцип. – Григорий поторопился замять, как ему показалось, вспыхнувшую между сестрами ссору. Он чувствовал себя неловко. Никогда в жизни он не общался с великосветскими дамами, которые бы так легко и бесстыдно обсуждали интимные вещи. В Санкт-Петербурге музыканты, а в Пресбурге школяры часто посещали кухарок и продажных женщин, но Григорий не принимал участия в амурных набегах на дома с женской прислугой. Его немногочисленные приключения с женщинами были случайными и не принесли ему большого удовольствия. Эти греховные эксперименты только укрепили его согласие со святым Августином в том, что материя является субстанцией несовершенной, блудливой и мерзкой. Что она лишь случайно, благодаря усилиям зла, заключает в себя удивительную безграничность духа.
«Возможно, сие отвращение касается не всех сущих в сем мире женщин, – мысленно допустил он, не в силах оторвать взгляд от тяжелых, налитых желанием, сосков Констанцы. – Может быть, источник сего отвращения в тех женщинах, с которыми мне выпало совокупляться? Ведь они, все как одна, были вульгарными, не слишком красивыми и не следили за запахами своего тела».
– Я хочу увидеть Амалию, – сказала, прекратив хохотать Констанца. В ее глазах Григорий увидел некое принятое решение и еще нечто такое, чего он по-настоящему испугался.
– А я – Амадео, – поддержала сестру Клементина. – А где остановился ваш странствующий цирк?
– Вам лучше спросить об этом кавалера, который привел меня в палаццо, где ныне я обитаю.
– Мы обязательно у него спросим, правда, Манти? – подтвердила Констанца и сестры заговорщицки переглянулись. – Возможно, мы вместе с вами, Григорий, попробуем приблизиться к тайне Андрогина. Мы благодарны вам за рассказ. Вы заинтересовали нас с Манти сей философской загадкой. Кстати, я уже завтра прикажу найти для вас эмблематические альбомы. Вам их принесут вместе с ужином. А еще вам принесут бумагу и тушь. Они вам понадобятся, если найдете в альбомах что-либо стоящее копирования… Кажется, один такой альбом я видела в библиотеке твоего жениха, Манти.
– У Асканио выдающаяся библиотека, он коллекционирует книги, – похвасталась Клементина. – В его собрании имеются драгоценные инкунабулы. Там есть рукописные тетради, старинные мавританские атласы, еврейские свитки, одно весьма редкостное издание Нового Завета с гравюрами Дюрера, роскошные альбомы Джулио Романо и даже четыре автографа самого Петрарки. Скоро библиотеку перевезут в тот новый палаццо, где вас поселил Цельбе. Мы приказали построить для ее хранения и для чтения книг специальные залы с прозрачными потолками и калориферами. Я уже видела эскизы книжных шкафов, заказанных Асканио. Они очень высокие и с большими гранеными стеклами.
– А вам не скучно, Григорий, одному, в холодном, сыром палаццо? – вдруг сменила тему Констанца. – Там, по-моему, даже мебели еще нет.
– Правду говоря, без книг там скучновато, – после краткого молчания сознался Григорий, который на трезвую голову никогда б не решился на столь наглое заявление. – Я очень благодарен, что вы согласились одолжить мне книги и приборы для рисования.
– Одолжить вам книги и приборы… Григорий, возможно, кроме книг и бумаги, одолжить вам еще кое-что? Например, нежную и опытную в делах Венеры девушку, которая могла бы сделать ваше пребывание здесь, в Триесте, гораздо более приятным? – предложила Констанца и громко позвала: – Лидия, выйди к нам, моя золотая рыбка.
Ближайшая к столу портьера раздвинулась, и в залу, не торопясь, вошла совсем юная девушка, босая, с распущенными длинными волосами. В расшнурованном почти до пояса длинном вырезе ее платья гордо и напряженно покоилась высокая грудь. Своими размерами и подтянутой свежестью форм она зримо превосходила грудь Констанцы. Безупречно вылепленное, лицо девушки светилось чарами гаремного Юга. Огромные темные глаза насмешливо смотрели на Григория. Они словно обещали ему экзамен: «Ну что, иноземец, вот мы сейчас и проверим, на что ты способен!» От такого испытующего взгляда тело Григория напряглось, будто гальванические токи пробежали его хребтом. Он лишь теперь понял, что наслаждения могут приобретать безжалостные и бесчеловечные формы. «Плоть – страшный деспот и жестокий палач», – вспомнил он слова Констанцы.
– Вам нравится моя Лидия? – спросила Констанца, любуясь девушкой. – Она просто чудо. Сегодня она – полномочный посол Венеры. А мы все обязаны совершать то, что прикажет богиня посредством ее тела. Слышишь, Лидия? Сегодня ты – королева венерического ритуала.
Девушка улыбнулась Констанце и сложила губы, словно готовя их к поцелую. От этого на щеках Лидии появились очаровательные ямочки.
– Да, – прошептал Григорий. – Она прекрасна, как юная Аврора…
А сам подумал: «Она смотрит на меня, не как посланница, а как аудитор. Неужели Гесиод и Вергилий не проведали, что в свите Венеры имеются инспекционные должности?»
– Я одолжу ее вам на сегодняшнюю ночь, – пообещала Констанца, снимая со своей прически золотую сетку. – Лидии, безусловно, не хватает космического совершенства желанного вами Андрогина, но в том искусстве, которому покровительствует Венера, она достигла высокого мастерства. Поверьте мне. – Старшая из сестер тряхнула головой, раскидывая по плечам тяжелую гриву своих темных волос. – Но, в конце концов, Григорий, почему вы должны мне верить на слово? – Она вопросительно посмотрела на Клементину, та кивнула в знак согласия и тоже освободилась от сетки. – Можете убедиться в этом просто сейчас. Так сказать, временно изменить Минерве с Венерой. Мы с Манти с удовольствием посмотрим, как управляются с женщинами жители суровой Гипербореи. Девиз этого вечера: нет ничего запрещенного!
– Лидия целуется, как амурная бестия, как истинная жрица любви, – подтвердила сказанное сестрой Клементина. – Ее язык похож на быструю и неутомимую змею. Она может не вынимать его из моего тела часами и не останавливаться ни на миг. Мне иногда кажется, что я умираю и воскресаю, вновь умираю и вновь воскресаю во время любви с Лидией. Если бы мой Асканио умел так целоваться, я бы ни за что ему не изменяла. Никогда в жизни. Даже с девушками.
Лидия, не теряя времени, развязала пояс, подчеркивавший ее осиную талию, резко повела плечами, и платье ее соскользнуло на пол. Григорию показалось, что в зале посветлело от ее ослепительной наготы. У Лидии было ловкое и сильное тело юной крестьянки: стройное, с широкими бедрами и крепкими, как на полотнах голландских живописцев, икрами. Окрестности главного алтаря Венеры девушка тщательно выбрила, чтобы ничто не мешало наблюдать ее совершенство. Она по-прежнему, не торопясь, давая ему рассмотреть себя всю, приблизилась к Григорию, опустилась перед ним на колени и резким властным движением раздвинула его ноги. Потом медленно облизала свои карминовые губы, так, чтобы Григорий смог оценить гибкую прелесть ее языка. Сравнение со змеей вдруг показалось Григорию совсем не метафорическим. Он искренне, до озноба, до холодной испарины, испугался языческой похоти, исходившей от юной красавицы, словно жар от раскаленного горна.
«Змей! Дочь Евы и Змей! Это же прямое продолжение библейской истории. Грех первородный! А сия бесстыдная гетера со змеиным языком – живое оного воплощение!» – услышал он нутряной вопль своего естества.
– Сие… Не надобно… – Григорий хотел подняться, но от коварного вина его мышцы ослабли. Несколько секунд он отчаянно пытался восстановить власть над собственным телом, но безрезультатно. Он совсем не ощущал тела. Ему показалось, что сейчас он не справится, что блудливая плоть предаст его и он не пройдет испытания. Фатально опозорится не только перед гетерой, но и перед прелестными образованными аристократками. Его рука скользнула по скатерти, задела драгоценный бокал с вином. Жалобный звон хрусталя тонкой шпагой пронизал ткань музыки. Лидия на миг оторвалась от него и промурлыкала нечто одобрительное. Как показалось Григорию, на моравском диалекте.
Словно зачарованная этим мурлыканьем, навстречу губам и пальцам Лидии восстала башня его вожделения. И вспомнил он слова цыганки о «Башне» Таро и сон свой о башне.
– Лидия – дочь земли, заклинательница плоти, настоящая, как сама страсть… – услышал он медовый и хриплый голос Констанцы. Григорий хотел возразить, объяснить, остановить; оглянулся на троноподобное кресло, где восседала хозяйка палаццо. Однако та уже не смотрела в его сторону. Нагая, дрожащая от возбуждения, она помогала Клементине освободиться от остатков одежды. Греховное зрелище сплетенных в страстных объятиях сестер заставило Григория закрыть глаза.
Когда он снова их открыл, ситуация в зале кардинально изменилась. К участникам застольной оргии присоединились освобожденные от одежд слуги. Клементина, не прекращавшая исступленно ласкать сестру, ловко сменила позу и приняла в себя башни двух лакеев. Григорий догадался, что диспозиция ритуала отшлифована частыми повторениями. Ни одна присутствующая персона не осталась без применения, все старательно и мастерски исполняли полюбившиеся роли. Ритмы дыханий и музыки ускорялись, тела двигались с некоей полумеханической целеустремленностью. Страстные стоны Констанцы сливались с бешеным ритмом скрипок и альтов.
– Не прекращай, Манти, fortiter, fortissimo![74] – понукала она сестру, когда та вынужденно отвлекалась, разрываемая напором двух щедро одаренных Венерой слуг. Безликие и мускулистые, словно ожившие парковые изваяния, они честно трудились во имя многоименной богини любви и похоти.
«Это же големы![75] – Григорию показалось, что он проник в природу этих вспомогательных существ. – Их специально создали для таких ритуалов. Это подобия, наколдованные каббалой, или надутые ведьмами жабы. У мужей, рожденных женщинами, не бывает столь огромных башен. Как это такая юная и хрупкая дама выдерживает сию оголтелую мощь?»
Еще один «голем» тем временем занялся «золотой рыбкой», которая не выпускала из умелых рук Григория. Сам отставной певчий вдруг обнаружил себя сторонним наблюдателем. Как будто добросердечная Минерва отделила от тела его зрение и тем отстранила смущенный дух от зараженного похотью пространства. При этом ему казалось, что наблюдает он свальный грех не глазами, а неким зрящим отверстием на своей переносице. От этого картина оргии выходила странной, словно отдельные ее фрагменты увеличились в размере и светились. Тело амурной бестии окутывало нестерпимо яркое серебристое гало[76], тела Констанцы и Клементины сияли теплой охрой и старым золотом, а «големы» (как и положено заколдованным жабам) светились тускло-зеленым. Его собственное тело также окружало мерцающее сияние. Только оно было не золотым и не серебряным, а голубоватым.
Теперь Григорий еще больше поразился красоте сестер. Юная Клементина еще не достигла полной физической зрелости. Ее тело сохранило некую субтильную угловатость, свойственную подросткам. Тем уверенней она оттеняла безупречные формы Констанцы.
Стройное, необычайно гибкое тело старшей сестры змеей извивалось под ласками младшей, подставляя под восхищенный взгляд Григория то напряженный изгиб тонкой талии, то пышные бедра, то сплетенные над спиной Клементины длинные ноги и маленькие розовые ступни. Но более всего Григория возбуждали ее покатые плечи, изящно переходящие в шею, словно широкое речное русло в гибкую струю водопада. Совершенная линия этого перехода, подчеркнутая свежими следами от поцелуев и укусов Клементины, необъяснимо волновала художественную натуру Сковороды. Он попытался запомнить бег этой линии, чтобы когда-нибудь дерзнуть повторить природу и собственной рукой воспроизвести ее гармонию.
Ему казалось, что время ползет улиткой, что целую вечность, целых две вечности он смотрит, смотрит и не может насмотреться на игры гармонически организованной материи. Теперь он знал, почему из двух старших Арканов Таро, равно означающих принцип андрогинности – «Дьявола» и «Возлюбленных», – цыганка выбрала рогатого. Хотя зал заливал яркий свет сотен свечей, Григорий ощущал тьму. Великую тьму, раскинувшую свои крылья над оргией. А в ней – тех жадных богов древности, о которых рассказывала ему Лейла. Они принюхивались к поту разгоряченных тел, прислушивались к любовным стонам, питались энергиями похоти и сами возбуждались, мечтая овладеть красивыми и сильными телами, совокуплявшимися в гостином покое банкирского палаццо. Древние боги наполнили зал своим присутствием. Астарты, ваалы, молохи, сатиры, титаны, стрибоги, перуны и одины теснились между колоннами, высовывались из гардинных складок, свисали с люстр и лепных амуров на потолке. Стало жарко, словно дух египетской пустыни окутал оргию своим раскаленным покровом.
Наконец Констанца хрипло вскрикнула и запрокинула голову. Клементина оторвалась от ее содрогающейся плоти и сразу же подставила свое красное и мокрое лицо под работу големских башен.
Тем временем Лидия взгромоздилась на Григория, приняв в себя еще и лакея. Школяру, который наблюдал эту диспозицию амурной бестии с «големом» как бы со стороны, подумалось, что ныне он совокупляется с некоей подлой и оскорбительной пародией на Андрогина. Тем не менее, ему настоятельно захотелось «возвратиться» в свое тело и ощутить не только плоть Лидии, но и любовную работу «голема» в ее разгоряченном теле. О таких ощущениях ему рассказывали завсегдатаи пресбургских притонов, но сам он доселе их не испытывал. Его любопытство в тот миг оказалось союзником врага рода человеческого. Союзником темных богов и того, канувшего в небытие, мира, где эти боги кроваво властвовали над людьми.
Однако предусмотрительная Минерва (или же Сила высшего порядка) не допустила профанации. Наблюдающее естество Григория не соединилось с естеством блудящим. Он продолжал смотреть, как Констанца уступила свой широкий трон Клементине и пыхтящим от напряжения «големам», а сама подошла к трем сплетенным телам: Лидии, лакея и его собственному. Поглаживая свои до синяков зацелованные груди, она несколько минут откровенно наслаждалась зрелищем. Затем масонка выпила еще один полный бокал вина, скрутила растрепанные волосы в «хвост», проворно залезла на стол, проделала там несколько танцевальных па, смахнула со стола часть посуды и ловко присела над опрокинутым лицом того, в ком Григорий уже едва узнавал самого себя.
Даже в этой позиции Констанца была прекрасна. Ее гибкий стан выгнулся дугой, а груди вызывающе напряглись и заострились, демонстрируя наблюдающему естеству Григория свое совершеннейшее строение. Вероятно, блудящее естество школяра не ударило в грязь лицом и доставило супруге банкира искомое удовольствие. Констанца тяжело и часто задышала. Лидия попыталась присоединиться к процессу, но хозяйка оттолкнула ее лицо.
Амурная бестия зашипела, но смирилась и вернулась к нижней позиции.
Внезапно Григорий ощутил нехватку воздуха. Голова закружилась, огни свечей поплыли перед его глазами. Он понял, что тело Констанцы вот-вот задушит его. Он взмолился Минерве, прося ее срочно вернуть его дух в тело, но не успел завершить языческое моление. Хищная тьма навалилась на него лесным медведем, сознание стало меркнуть.
Надоблачный хор грянул: «Ныне отпущаеши!»
«Зело нелепая приключилась кончина, как для особы духовного звания», – успел подумать Сковорода перед падением во влажную и горячую беспредельность.
Часть ІІ Стадия Меркурия. Ехидна
Яремче, август, наши дни
Павел Петрович Вигилярный вновь шагал по черно-белой «шахматной» равнине. Теперь эта пустыня была холодной, а безжалостное солнце пряталось за ширмой белесого тумана. Он оглянулся вокруг, ища ротонду, где в прошлый раз беседовал с Маской. Но ее нигде не было. Он шагал, шагал, шагал. Ничего, кроме искусственной геометрической беспредельности. Тогда его охватил протест против окружающей бессмысленной простоты, и он решился на маленький бунт. Присел на холодные плиты и обратился к черно-белому Ничто: «Сами меня найдете».
Но никто его не искал. Из-за пределов сна грубо надвинулась чужая воля, и он проснулся, ощущая, что его тормошат за плечо.
– Просыпайся, брателло, – услышал сновидец голос Вигилярного-старшего. – Дело есть.
– А до утра это дело не подождет? – Павел едва разлепил веки, под которыми еще не погас серебристый свет иного мира.
– Нет, не подождет.
– Ну, говори.
– Где эти твои канделябры, хочу на них глянуть.
– Вон там стоят, – Павел показал на гардероб. – Смотри, изучай. Протрави кислотой. Потри пастой ГОИ. На зуб можешь попробовать.
– Ты их экспертам показывал?
– Нет. – Младший брат в темноте искал джемпер; ночью в долину Прута сполз горный холод. – А зачем мне их светить перед экспертами? Какого черта? Две барочные железки, на три свечки каждая. Гребаный восемнадцатый век. И ради чего я должен был кинуть в клюв экспертному дятлу еще пару сот евро? Чтобы услышать то, что и сам знаю?
– Понял тебя. Дрыхни дальше.
– Стоп, братан. Скажи-ка по правде, на фига это тебе в три часа ночи канделябры понадобились?
– Я же тебе уже сказал, хочу на них посмотреть, – Александр Петрович вынул канделябры из гардероба, закрыл за собой скрипучую дверь, вышел из комнаты.
– Ну, смотри, смотри, – проворчал Павел, надел джемпер и снова нырнул под одеяло.
«Зябко в этих хваленых Карпатах. Не стал бы я здесь жить. Ни за какие пряники», – решил он.
Нежданно, уже на грани нового сна, Павел Петрович услышал:
«Сами тебя найдем».
Александр Петрович спустился на первый этаж и открыл ту комнату, где когда-то собственными руками строгал, клеил, вырезал и покрывал лаком подарочные шкатулки. Большие и маленькие, с узорами и без, с латунными замочками, бархатной обивкой и цветными вставками. Теперь сувениры делали племянники Марии. И не в доме, а в арендованном цеху, где стояли большие станки и досушивались пахучие еловые доски.
Домашняя мастерская потихоньку покрывалась паутиной и пылью.
Вигилярный-старший установил канделябры на плите столярного станка, нашел среди инструментов лупу и принялся внимательно изучать поверхность подсвечников. Еще во время ужина опытным глазом мастера он заметил, что в одном из канделябров верхняя часть с «чашками» сместилась на четверть оборота относительно подставки. Он догадался, что канделябр собрали из отдельных элементов, способных вращаться вокруг вертикальной оси.
Александр Петрович почти сразу нашел то, чего не заметил (да и не мог заметить) его брат-гуманитарий. Тщательно зашлифованное, закрытое широким обжимным кольцом место винтового соединения там, где канделябр разветвлялся к трем свечным патронам. Он попытался открутить его среднюю колоннообразную часть, но невидимый фиксатор (крючок, шплинт, что-то более хитрое?) сопротивлялся его усилиям. Александр Петрович понял, что мастер, изготовивший канделябр, оснастил его так называемым «секретом» – механизмом, принцип действия которого способен раскрыть либо посвященный в тайну канделябра, либо другой мастер, не менее опытный, чем автор «секрета». Подобные механизмы «карпатский эсквайр» и сам устанавливал в шкатулки и секретеры по просьбе заказчика или просто по причине любви к сложной механике.
Поэтому он понимающе улыбнулся, обнаружив «секрет» – механическую шараду безымянного коллеги, жившего триста или более лет тому назад.
«И что ты здесь, парень, такого хитростного намутил? – мысленно вопросил он творца канделябров. – Ну, посмотрим, посмотрим…»
Александр Петрович принялся последовательно нажимать на различные элементы декора, но это не дало результата. Только после часа безуспешных попыток он заметил, что один из свечных патронов закреплен на своей «ветке» немного не так, как остальные. Соединение его с «веткой» не имело запирающего шплинта, а на обжимном кольце отсутствовала внутренняя резьба.
«Вот оно что, – сообразил он. – Патрон можно поворачивать как вентиль краника, но только при условии, что нейтрализован некий секретный фиксатор. Значит, нужно его, этот фиксатор, поискать».
Методический осмотр продолжился. Напрасно испробовав все возможные элементы в средней части, Александр Петрович пригляделся к массивной основе подставки. И наконец увидел то, что искал. Крошечное, умело замаскированное литым декором и отодвигающейся пластиной, отверстие для ключика.
Покопавшись в ящиках, он нашел отмычки для шкатулочных замков. Спустя четверть часа хитрый замок капитулировал. Александр Петрович покрутил свечной патрон и канделябр распался на две части. Это произошло так неожиданно, что «карпатский эсквайр» не успел удержать основу. Верхняя часть осталась у него в руках, а тяжелая подставка, в полном соответствии с «законом бутерброда», упала на босую ногу. Вигилярный-старший не удержался от громкого проклятия.
Немедленно прибежала Мария.
– Все хорошо, – успокоил жену Александр Петрович. – Я тут экспериментирую, маленько ногу ушиб.
– Не с добром к нам Павел приехал, – мрачно вздохнула Мария. – Смотри, муж, затянет он тебя в дерьмо.
– Я как-нибудь сам разберусь. Не мальчик уже, не учи. Иди спать.
– Разберись, разберись, – пробормотала Мария, уходя к себе наверх. – Чтобы только другой кто с этим всем разбираться не начал.
Когда за женой закрылась дверь, Александр Петрович поднял подставку с пола. Как он и предвидел, ее оснастили тайником. Из тайника он достал скрученный в трубку лист плотной бумаги или пергамента. Развернул. На листе просматривался выцветший рисунок: человекоподобное существо с двумя головами, похожими на головы барочных купидонов. Рисунок был окружен зловещего вида знаками и каллиграфическими надписями латынью. Тонкие витиеватые надписи почти не читались, а знаки «карпатский эсквайр» счел каббалистическими.
Несколько разочарованный находкой, Александр Петрович принялся за «секрет» второго канделябра. Его механизм оказался аналогичным первому. Со вторым пришлось повозиться немного дольше, так как отмычка сломалась, а ее обломок заблокировал доступ к замку. Но рукастый сын капитана справился и со вторым «секретом».
В тайнике Вигилярный-старший увидел еще один свернутый пергамент. Он был мелко-мелко исписан кириллическим «полууставом». И никаких рисунков или знаков.
– Что за хрень? – не понял «карпатский эсквайр». – Тут не по моей части. С этим без Павлуши не разобраться.
Триест, 22 апреля 1751 года
Пробуждение Григория было тяжелым и покаянным. Увидев над собой высокий потолок с вычурной лепниной, он долго не мог сообразить, где находится. Потом спохватился, сел и обнаружил себя в сырой комнате палаццо, принадлежавшем, как теперь ему было известно, жениху Клементины, любителю старинных книг по имени Асканио.
Судя по яркому солнечному свету, пробивавшемуся сквозь немытые стекла высокого окна, солнце уже давно прошло полуденную черту и склонялось к западному горизонту.
Рядом с сенником, на котором он неизвестно как оказался, стояла плетеная корзина с хлебом, сыром и ветчиной. Чуть дальше выстроилась шеренга бутылок рейнского. За нею лежало нечто угловатое, завернутое в плотную холстину и бережно перевязанное голубой шелковой лентой.
«Это же книги, обещанные Констанцей!» – понял Григорий и обрадовался, как ребенок. Но вспышка чистой радости погасла под грозовой тучей воспоминаний о ночной оргии. Осознание греха разрасталось и тяжелело, подобно снежному кому, катящемуся с горы. Все выглядело премерзостно. Сначала он легкомысленно согласился стать шпионом, а теперь еще и принял участие в языческом шабаше. Перед его глазами, как в паноптикуме, одна за другой возникали отвратительные картины. Нагая Констанца с бокалом в руке, совокупляющаяся со слугами Клементина, жадный рот Лидии, снова Констанца, прижимающая к срамному месту голову родной сестры. Затем он вспомнил, как Клементина и Лидия, возвращая к жизни полузадушенного школяра, заливали ему в рот жгучую граппу, как попеременно гарцевали на нем и принуждали к извращенным соитиям. Его губы вспомнили вкус Констанцы, а уши – святотатственные здравицы Венере и Вакху. За один вечер он многократно согрешил с тремя женщинами, среди которых одна была замужней (и скорее всего, венчанной), а вторая помолвленной. То, что эти женщины были блудницами и сами ввели его в грех, теперь казалось ему призрачным утешением. Однако, как бы там ни было, а большой грех требовал сурового искупления.
«Властительные богачки отыскали себе на забаву дикаря потешного. Поиграли с ним, попользовали и отослали». – Он ощущал себя вещью, пассивным инструментом для удовлетворения женского любопытства и похоти. Инструментом, у которого не спрашивают ни согласия, ни разрешения, в котором не усматривают наличия души и присутствия самобытных мировоззренческих принципов. Но худшим было то, что он сам позволил себя использовать, сам обмазался греховностью, аче дегтем. Он не вышел с рожном против тьмы Вавилонской, не укротил демонов, поднятых похотью из глубин его сущности. Он, по слабости телесной, позволил двум безднам – внешней и внутренней – преступно соединиться в сатанинскую мистерию. Он потерял власть над своей грешной сущностью, обратился в нравственный прах и способствовал умножению зла.
Однако на том глубинном уровне, где живут мысли, не успевшие отделиться от предчувствий, теплился, мерцал оправдательный свет.
«У апостола Павла, – возникла в памяти подходящая к случаю цитата, – в Послании к римлянам есть такое: “Знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе; потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Добра, которого хочу, не делаю, а зло, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех”».
Не тронув еды и не развернув упаковки с книгами, Григорий приступил к покаянной молитве. Установил на подоконнике маленькую иконку, с которой никогда не разлучался, слезно преклонил колени, со многими поклонами молился до заката, пока не достиг душевного утешения. А потом вытер слезы с лица, съел все, что нашел в корзине, выпил бутылку легкого рейнского и развязал шелковую ленту.
В холстине обнаружились старинные альбомы в кожаных переплетах, папка с чистыми листами дорогой, тонированной под пергамент бумаги, тушь, тонко отточенные гусиные перья и большая связка восковых свечей.
Он приступил к первому альбому. Бережно расстегнул серебряные пряжки на переплете, погладил тисненую кожу, открыл, вдохнул запах инкунабулы, коричный и желудевый. Затем стал читать титул. Оказалось, что это известный сборник мистических эмблем Pia Desideria, изданный в 1628 году. Григорий окунулся в мир древней оккультной мудрости, предназначенной для сугубо избранных. Разнообразие и глубокий смысл символических изображений, собранных и прокомментированных Германусом Гуго, потрясли воображение школяра. Над страницами книги он почти моментально забыл об оргии, да и обо всем остальном тоже. В ту ночь для него ничего не существовало, кроме этих удивительных эмблем, от которых веяло тайнами канувших в Лету знаний. Веяло отстоянной, как старое вино, тысячелетней мудростью, закодированной в надежде на проницательность и мистическую интуицию любопытных.
Тем временем Констанцу мучила совесть. Думая о ней исключительно как об образованной, но чрезвычайно развращенной и бесстыдной аристократке, Григорий допустил ту же ошибку, что и большинство мужчин, склонных к поверхностному и одностороннему восприятию женской природы. Констанца Тома принадлежала к той разновидности богато одаренных, страстных и романтических натур, которым было тесно и душно в рамках общественных суеверий, сурово ограничивающих женщин XVIII века. Масонство служило этим «валькириям позднего барокко» отправной станцией для поисков тайны совершенства, известной из трактатов вольных каменщиков как Истинная Гармония.
Григорий, взыскуя «спокойствия сердца» посредством идеи Андрогина, сам того не ведая, затронул сокровенные стремления масонки, скрытые до времени в той затененной части рассудка, которую спустя двести лет назовут подсознанием.
Констанца тоже желала сердечного покоя, хотя понимала его совсем не так, как Григорий. Если ее младшей сестре для достижения внутреннего равновесия было достаточно «умереть и воскреснуть» в объятиях Лидии, то Констанце подобные наслаждения давали лишь шаткое и преходящее утешение. Любовные увлечения молодости принесли ей больше разочарований, чем радостей. Она поняла: большинство женщин навевает себе состояние влюбленности. Отчаянно внушает себе: вот она, истинная любовь, описанная в стихах и романах.
В конце концов Констанца согласилась с мнением философа Бальтасара Грасиана, что человек высокого стиля должен сам руководить своим воображением, не позволяя фантазиям примирять себя с реальностью. Приобщаясь к оргиям Клементины, Констанца принуждала реальность своеобразным способом «перепрыгивать» через воображение. Параллельно она испытывала мужчин и женщин в таких предельных ситуациях, когда все маски слетают, а тщательно скрываемые пороки вылазят наружу во всей своей мерзости.
Лидия стала идеальным инструментом для испытаний, а также живым алтарем для служений Венере Требующей. Непосредственная в своих желаниях, юная словенка с пылким и неутомимым телом быстро выявляла галантную фальшь и телесную слабость дворцовых героев и салонных героинь. Она тонко чувствовала энергии чужого тела, которые говорили ей о человеке больше, нежели все свидетельства друзей и близких. Она безжалостно экзаменовала гостей палаццо Тома, пока его прекрасная хозяйка дирижировала оргиями, властвовала над ситуацией, внимательно наблюдая за всеми участниками венерических ритуалов.
Благодаря играм, где безжалостной посланницей Венеры она назначала Лидию, Констанца со временем научилась искусству, стоявшему в основе любой земной мудрости – умению отделять главное от второстепенного. Главным стало присутствие тайной энергии, которую она отождествляла с «теллурической силой» и Красным Львом алхимических трактатов. Эта энергия исходила от людей, не растерявших природной основы и не разменявших на внешние атрибуты той изначальной цельности, которой Великий Архитектор Вселенной так щедро наделяет каждого из потомков Адама и Евы.
Григорий, сам того не ведая, сдал Констанце экзамен на звание «природного человека». Его тело в объятиях Лидии действовало отдельно от «смиренного» ума, слепленного в лоне ортодоксальной Восточной церкви. Сама Констанца, выпившая вина больше обычного, плохо помнила детали оргии, но и Лидия, и Клементина подтвердили, что тело скифа способно принести достойную жертву на вечно горячий алтарь Венеры.
«Хотя, – добавила склонная к критицизму Клементина, – до кавалера Казановы ему еще учиться и учиться».
Старшая сестра только фыркнула, услышав такое профаническое сравнение.
«Что, в конце концов, – подумала она, – возьмешь с незамужней девушки, которой едва исполнилось шестнадцать лет».
«Посланница Венеры сделала свое дело, – подумала Констанца, – и теперь пришел черед более сложных и более тонких проверок».
«Именно его тело, его естество природного человека, не ослабленного цивилизацией, подсказало скифу-космополиту отправиться на философские поиски Андрогина. Нужно поддержать его в этих поисках и попробовать найти Андрогина вместе с ним», – решила Констанца, которая неизменно придерживалась той мысли, что лучше с умным потерять, чем с дураком найти.
Из писем львовских братьев она знала, что Григорий следует в Венецию, где планирует встретиться со своим знаменитым соотечественником и активным масоном графом де Лазиски Дентвилем, одним из генералов Людовика XV. Сей авантажный полководец, родовым именем которого значилось Orlyk, по слухам, был сыном последнего независимого правителя страны казаков. Эту страну, еще не испорченную соблазнами цивилизации, Констанца (усердная читательница трудов Геродота, Страбона и Полибия) привыкла называть Скифией. Она представлялась масонке бескрайней степной Аркадией, отчизной людей сильных, решительных и сверх всего любящих волю. Согласно единодушному мнению ее французских и польских корреспондентов, эта страна попала под власть Москвы почти случайно, из-за трусливых интриг Габсбургов и в силу иных необоримых обстоятельств.
Упомянутые корреспонденты были уверены в том, что империя потомков Петра Великого в числе первых падет под ударами той всемирной революции, которую масонерия начнет вскоре во имя Свободы, Равенства и Братства. Воображение Констанцы рисовало яркие картины восстания свободолюбивых скифов, в котором Григорию, разумеется, будет отведена далеко не последняя роль.
«Возможно, когда-нибудь мы вместе с ним напишем Конституцию для свободной Скифии», – решила она, почему-то позабыв о мудром предупреждении Бальтасара Грасиана.
Проснувшись после обеда, Констанца взялась писать Григорию письмо. Она решила описать ему свое отношение к идее Андрогина. Сначала она попыталась письменно объяснить просвещенному скифу, в чем именно состоит высшая цель «испытания Лидией», но потом отказалась от этого намерения. Как известно каждому опытному иллюзионисту, объяснение секретов удачного фокуса порождает лишь скуку и недоверие. После долгих размышлений Констанца осознала, что еще не время раскрывать будущему вождю вольных скифов философский источник венерических дел. Женская интуиция также подсказывала ей, что цельная натура Сковороды не воспримет мистических смыслов, заложенных в идею придуманного ею «испытания».
«Он ведь еще философский девственник и мыслит традиционными понятиями греха и грани дозволенного, – размышляла Констанца, выводя на гербовой бумаге формулу эпистолярного приветствия. – Нельзя требовать от природного человека быстрого отказа от привычных для него способов осознания мира. Трансформация мировоззрения – тончайший процесс духовной алхимии, требующий строгого соблюдения всех этапов и последовательностей. Искусственное ускорение этого процесса приведет к катастрофе, к невосполнимой потере доверия. Если такое случится, наше единение в поисках Андрогина не состоится. К процессу осознания скифом его собственной теллурической силы нужно подходить осторожно, прокладывая путь через самобытную свободу его тела и через алхимическую идею Андрогина Восстановителя, так удачно захватившую его воображение. Он должен почувствовать андрогинность в себе самом, ощутить себя одновременно и мужчиной и женщиной, строительным материалом и строителем, светом Тьмы и светом Света, хаосом и порядком, фениксом и пеплом. Только тогда произойдет его настоящая инициация, его приобщение к незримому царствию Истинной Гармонии. Только через мистическое и телесное слияние с Андрогином он придет к исполнению героической судьбы освободителя Скифии, уготованной ему Великим Архитектором. Придет к величию… И я вместе с ним».
В конце концов Констанца решила написать Григорию письмо, содержащее в себе притчу. Она вспомнила древнюю легенду вюртембергских масонов и принялась писать письмо по-немецки. Но затем, хорошенько подумав, решила, что для этой легенды лучше подойдет латынь. Тем более, что ей не было известно, насколько совершенно владеет языком Лютера и Лейбница ее адресат.
Письмо в окончательной (третьей) редакции получилось таким:
«Salve! Tibi et igni![77]
Любезный друг мой, Григориус! Вчера Вы прошли сквозь первые врата на пути к Гармонии – сквозь Врата Венеры. Но впереди вас ожидают новые испытания.
Прочтите эту притчу, которую я переписала для Вас из древней секретной книги. Она поможет Вам приготовиться к будущей встречи с тем, кто сподобился на имя Rebis.[78]
Треугольник, или Малый Перерыв в Строительстве
Строителей направил король, а меня – Командор Розы и Креста Вольфрам фон Эрландорф. Пока строители – камень за камнем – возводили стены Собора, я в медитациях и снах пестовал его мистического двойника, бывшего втрое прекраснее самого каменного сооружения. Я строил его из грез и воспоминаний о причудливых зданиях, увиденных мною в годы путешествия на Восток. Было задумано: когда строители завершат свой труд, а Священство освятит храмину, я вселю призрачного двойника в гранитное и известняковое тело Собора. И дух нетленный и животворящий войдет в его отторгнутую от скал и водораздельных глин плоть. Войдет, дабы пребывать там тысячелетия во Славу Божию. Во имя истины, посланной нам, посвященным, через Розу и Крест. Также: через Крест и Розу. Через четыре Луча и алый цвет невысказанной Авроры.
Работа каменщиков уже близилась к концу и мой незримый труд подходил к завершению, когда случилось непредвиденное. Утром в соборе нашли повешенную. Женщина ушла из жизни добровольно, пытаясь забрать с собой на тот свет нерожденный храм. Работы были приостановлены. Погруженная в мое беспредельное отчаяние, мистическая Душа Храма, рожденная и выращенная мной, за несколько часов угасла и почернела. Агония недостроенной Души перебросилась на мое тело: ноги отекли, лицо покрылось мерзкими пятнами, словно знаками моего поражения.
Я долго молился, а потом принялся собирать в мешок утварь для медитации, снял со стен арендованной комнаты лики Луны и Солнца. Потом забрызгал известью золотые звезды, нарисованные на потолке бродячим живописцем Таубе. Когда, семь лет тому, он рисовал эти звезды с неровными нервными лучами, я был молодым и счастливым, а фундамент храма еще не сровнялся с брусчаткой соборной площади. Теперь у меня не хватало даже сил вспоминать те светлые, исполненные рвения дни и ночи. Мешок за семь лет источила моль. Его ткань рассыпалась, как только я до нее дотронулся. Пеналы ароматических палочек вываливались сквозь дыры на пол. Хрустальный шар я завернул отдельно. Это был подарок ветхого армянского мистика. Его нельзя было сочетать с дырявыми вещами дырявого сущего.
Вечером пришел Архитектор, почерневший и невнимательный. Он сказал, что мудрые магистраты, заседавшие в Ратуше, учитывая, что, согласно церковным канонам, оскверненную самоубийством постройку нельзя делать храмом, постановили достроить уже бывший Собор как муниципальный органный зал, упростив паруса центрального нефа, уменьшив диаметр и высоту куполов, которым теперь никогда не познать крестов. Он также сообщил, что не может собрать старших мастеров цеха вольных каменщиков. Все они как один в тот вечер пили в кабаках с девками и оскорбляли унынием свое призвание.
Мы тоже решили выпить. Я открыл припасенный бочонок божественного вина, приготовленного из отборного и благословенного Розенкрейцером винограда, растущего в севильских имениях командора. Я берег это вино для того дня, когда освятят Собор, но теперь это перестало что-либо значить. Архитектор пил сию драгоценную амброзию как обычную воду, заедая дешевым английским сыром. Жирным, словно бедра здешних кухарок. При других обстоятельствах я бы обиделся, но теперь мне было все равно. Бледный, двухтактный голос Архитектора только скользил по поверхности моего внимания. Реквием, наугад составленный из сумасшедших тем и пустынных воплей дервишей, пульсировал под моими висками. В нем не было ни алых, ни розовых звуков. Только серые, как голоса сытых вампиров.
В полночь кто-то постучал в дверь.
Я открыл ее, надеясь увидеть старших мастеров, ищущих своего предводителя. Однако увидел старого попрошайку, которому не отказывал в мелких монетках. Он обычно сидел на противоположной от моего жилья стороне соборной площади.
«Я – Второй», – произнес бродяга. А у меня даже не хватило сил обидеться на Командора, тайно подстраховавшего меня дублером. Архитектор долго смеялся, а потом заметил, что, мол, «вот она, полнота Треугольника – нас трое – мы можем привести в движения миры и призвать ангелов из Йесода – но даже втроем мы не сможем воскресить ту проклятую дуру, которой взбрело в голову повеситься в Соборе и испортить все – то есть все-все-все-все».
«Давайте пить вино, благословенное и праведное», – предложил Второй.
Мы пили, и полнота Треугольника вокруг нас крепла.
На рассвете пришли мастера и сообщили, что тело повешенной исчезло из городского морга. В полдень нашелся уважаемый в городе господин, подтвердивший под присягой, что видел самоубийцу живой, покупающей хлеб на углу Фонарной и Кривой улиц. А потом таких свидетелей стало трое. Мудрые магистраты приказали уволить престарелого врача, ошибочно признавшего женщину мертвой. В экспертный покой они назначили молодого лекаря с хорошим зрением и острым слухом. Воскресшую немедленно объявили в розыск. Первичное назначение Собора было официально и торжественно восстановлено.
«Вот почему я не извинялся, опоздав к вам на ужин. Пришлось немного поработать», – сказал мне бродяга, когда я вечером бросил ему монетку. Правда, я бросил ее уже не бродяге, а Второму, мистическое творение которого вскоре поселится в Соборе.
«Первому, а не Второму», – поправляет меня Архитектор, и я молча принимаю его замечание, хотя где-то в глубинах моего несовершенства рождаются протест и обида. Ведь, говорю/молчу я, все углы Треугольника одинаковы».
Я надеюсь, любезный друг мой, что легенда вам понравилась. К слову, в ближайшее время мы вместе с моим мужем Генрихом собираемся навестить соседнюю Венецию. Если это не входит в противоречие с Вашими планами на ближайшие недели, приглашаем Вас составить нам компанию, а также воспользоваться нашими венецианскими апартаментами, расположенными на улице Отцов Тринитариев. В городе святого Марка много всего интересного. Я попробую (разумеется, в пределах моих скромных познаний) показать Вам самые выдающиеся из тамошних памятников. К сожалению, Генрих не переносит морской качки. Мы, увы, не сможем странствовать морем, что в такую жару было бы гораздо приятнее. А также безопаснее, учитывая, что разбойники все чаще тревожат путешественников.
Мы едем в город святого Марка собственным экипажем – весьма удобной и быстрой каретой с новыми рессорами и мягким салоном. Имею достаточно оснований полагать, что дорога займет не более двух суток, даже учитывая время, которое – к сожалению! – придется потратить на венецианскую таможню (нужно заметить, с недавних пор – после известных политических событий – тамошние чиновники настроены крайне недружественно даже к респектабельным путешественникам). Оплату Ваших таможенных и дорожных расходов Ганрих, по моей просьбе, любезно согласился взять на себя. В дороге нас будут сопровождать опытные охранники. Ганрих едет решать свои дела и везет с собой в Венецию ценные бумаги. Мой муж будет рад знакомству с Вами. Он – образованный человек и интересный собеседник. У меня нет ни малейшего сомнения, что Вы с Генрихом станете хорошими друзьями.
Ad notam[79]: Манти и амурная бестия передают вам искренние поздравления. Вам удалось поразить их обоих своим выдающимся природным магнетизмом.
Все углы Треугольника должны быть выравнены!
С пониманием и уважением,
▲С. Т.
22 апреля 2767 года от основания Соломонова Храма».
Яремче, август, наши дни
– Это же бомба! – Павел Вигилярный еще и еще раз просматривал текст пергамента, от заголовка до подписи. – Неизвестный автограф Сковороды! Философский фрагмент, Саша. Зацени название: «Всемирная Ехидна, сиречь решительное и полное совлечение тайных покровов». А я все тогда думал: зачем это мне Гречик о какой-то ехидне втирает…
– Бомба-то она бомба, – буркнул Александр Петрович, – только вот обнародовать эту бомбу и прославиться тебе, брателло, пока что не светит.
– Почему это? – не сообразил Вигилярный-младший.
– А как ты объяснишь людям, откуда взял это… эту рукопись?
– Ну… Как-нибудь объясню.
– Как-нибудь, у как-нибудь, за как-нибудь… – передразнил Павла Петровича «карпатский эсквайр». – А если бандиты, убившие профессора, приходили к нему именно за этой рукописью? Они же сразу тебя вычислят. Легко – как два пальца об асфальт. А потом и меня, если я вдруг возьмусь все это прятать… Давай мы так договоримся, братик дорогой: если уж я возьмусь тебе помогать, то ты будешь во всем советоваться со мной, слушаться и не наделаешь снова глупостей.
– Чего я такого наделал? – возмутился младший. Он чувствовал, что теряет инициативу. Это его раздражало. В доме профессора рисковал именно он, а теперь Александр демонстративно его опускал.
– Чего наделал? – насмешливо переспросил старший. – Спалился, вот что ты наделал. Засветил идола во время экспертизы.
– Эксперт не заинтересован…
– А ты там знаешь, в чем он заинтересован, а в чем нет? А может, они его заинтересуют? Может, они ему яйца в двери зажмут и он им расскажет все? Это же бандюки, Павлуша.
– Так я не понял, ты мои цацки берешь на хранение?
– Я еще не решил. Сомневаюсь я что-то, что слушаться будешь.
– Я буду все с тобой согласовывать.
– Даже так? Ну, большое спасибо тебе.
– Меня чуть не убили…
– Еще не вечер. Ты лучше скажи мне, что это за картинка такая?
– Там подписано. Старинная эмблема, изображающая Андрогина.
– А, я знаю. Гибрид мужика и женщины. Типа трансвестита?
– Андрогин – это высшее существо, преодолевшее, среди прочего, ограничивающее материю половое разделение, – объяснил Павел Петрович. – А трансвеститы, Саша, из другой оперы. Не путай.
– Высшее существо, говоришь? Это типа той девушки из «Пятого элемента», которую Йовович играла?
– Уже горячее.
– Но она там не двуполая. Не андрогин.
– Это же фильм.
– Ага, фильм… И что, Сковорода такое вот рисовал? Преодолевших половое разделение андрогинов?
– Авторской подписи под рисунком нет. Но зато его подпись есть под фрагментом о ехидне.
– Его это подпись или не его, еще доказать нужно. Может, подделка.
– Маловероятно.
– Все может быть.
– Из-за подделки не убивают.
– Тебе, между прочим, не известно, за что его убили. У тебя ведь, Павлуша, одни лишь предположения.
– В археологии, братан, есть такое понятие: «привязка к культурному слою». Если артефакт найден в раскопках на соответствующей определенному культурному слою глубине, если рядом с ним найдены другие предметы, относящиеся к данной культуре или эпохе, то сомнений в его подлинности не возникает. Если бы мы с тобой, братан, нашли автограф в пластиковом файлике где-нибудь в библиотеке, то это одно. А когда мы его находим…
– Я нахожу.
– Хорошо, когда ты его находишь в тайнике, в старинном подсвечнике, который я нашел в нычке с древним идолом и еще с одним таким же подсвечником, то значит, он привязан к определенной эпохе. И это уже совсем другое.
Какое-то время они молчали. Каждый думал о своем. Потом Вигилярный-старший спросил:
– А вообще, есть конкретные исторические данные о том, что Сковорода плотно занимался андрогинами?
– В его эпоху андрогины были модной темой. Тогда даже куклы такие механические делали. Автоматами назывались. Немного на мальчиков похожи, немного – на девочек. И картины рисовали. Например, я сам видел такую алхимическую гравюру восемнадцатого века, на которой Солнце и Луна совместно создают высшее существо, имеющее признаки и мужчины и женщины. То есть создают Андрогина. Существо, восстанавливающее целостную природу живого.
– Понятно. Мистика.
– Ага.
– В мистике сам черт ногу сломит.
– Ага.
– Что ты «агакаешь»? – неожиданно разозлился Александр Петрович. – Смотри, агакает он… И вообще, какого хрена ты поперся к этому Гречику?
– Не кричи. Никуда я не «перся». Он сам меня пригласил к себе. Нашел мой контакт. Позвонил на мобилу. Предложил приехать в Киев, к нему на кафедру, пообщаться. Он возглавлял кафедрой филологии и литературоведения. Намекал, что у него есть для меня хорошее предложение. Сказал, что разговор не телефонный, серьезный. Хотел бы я видеть того аспиранта, который отказался бы от встречи с ученым такого уровня.
– А какого «такого» уровня? Просвети меня, темного.
– Профессор, автор десятков монографий. Был известен в научной среде. Основатель научной школы. Переведен на европейские языки. Считался, среди прочего, одним из авторитетнейших исследователей литературного и философского наследия Сковороды. А у меня как раз прошла сенсационная публикация о Сковороде. Об упоминании его имени в итальянском архиве. Все логично.
– И какое предложение он тебе сделал?
– Он не успел его сделать.
–..?
– Когда в Киев приехал, я на кафедре его не нашел. Нет и все. Где – неизвестно. Тыкнулся я туда-сюда, никто, типа, ничего не знает, все «дурака» включают. Я коньяк купил, конфет, подкатил к лаборантке. Там у них на кафедре лаборантка такая сопливая, из заочниц. Ноги от ушей, а мозги вставить постеснялись. Я ей конфеты дал, конину открыл и перетер тему. Поплакался. Мол, так и так, человек я не местный, на ночлег в столице не рассчитывал, денег на гостиницу не имею, вечером поезд. Дай, мол, красавица, наводочку, куда это твой завкафедры так крепко заныкался. Ну, длинноногая растаяла и сдала профессора. Сказала, что у него «День пограничника». В запое он конкретном. И что искать его нужно дома. Дала мне адрес.
– Синяк, значит, твой профессор был… – хмыкнул Александр Петрович. – Синюшина запойная. Ну, среди гуманитариев случается. Через одного.
– А о том, что дальше было, я уже тебе рассказал. Мы с ним пили. Он сказал, что предложение обсудим на трезвую голову, утром. Ну а утром его…
– Понятно, – помотал головой Вигилярный-старший. – Вернее, ни хрена не понятно. Ноль. Зачем он тебя из Одессы выдернул, господин профессор объяснить не успел. Допустим. Потом какая-то девка молодая его убила, но до тебя, красавца, она даже пальцем не дотронулась. А потом ты каким-то чудом слинял из дома, где ментов как грязи было. И не просто слинял, а по дороге еще и клад нашел. Здесь, Павлуша, что-то не так. Нестыковочки. Я печенкой чувствую: есть во всем этом какая-то лажа.
– Я думал о той девке, – признался младший. – Наверное, она меня не тронула, потому что не мешал я ей. Так, пассажир левый: привет-привет. Как свидетелю мне бы никто не поверил. А потом, она ведь меня под статью подставила. Если бы менты меня там нашли, все. Тапки. Закрыли бы лет так на двенадцать. Ни один адвокат не отмазал бы.
– Подстава реальная. В том, что касается подставы, ты, конечно же, прав, – согласился старший. – Но относительно всего другого… Я скажу так: реально в этой шняге почти ничего не понятно. Кроме того, что ты оказался, как говорят в американских боевиках, не в том месте и не в то время… Слышь, брателло, а ты точно знаешь, что этого профессора убили? Ты говорил, что только ноги видел.
– Я некрологи читал. Его на Байковом похоронили. Все академики на поминки съехались. Речи толкали. Мемориальное собрание сочинений готовить начали.
– Некрологи, говоришь… – вздохнул Александр Петрович. – Хорошо, спрячу я твой клад. Надежно спрячу. Ни одна сволочь не найдет. Только мы с тобой будем знать о тайнике. Я, ты и никто, кроме нас… – он выдержал паузу, продолжительности которой позавидовал бы не один театральный трагик, и добавил почти скороговоркой:
– Однако, брат, за сохранение и риск мне полагается сорок процентов от реализации. Сорок процентов со всех тем.
Венеция, 7 мая 1751 года
Инквизитор Венецианской республики Антонио Кондульмеро осторожно коснулся кончиками пальцев исписанного цифрами тоненького листка бумаги и вопросительно взглянул на секретаря Священного трибунала.
– Откуда?
– Из Триеста, монсеньор. Зашифрованное письмо от доверенной персоны.
– И где расшифровка?
– Простите, монсеньор, но ключа к этому шифру у меня нет.
– Как таковое возможно? – брови инквизитора подпрыгнули от удивления.
– Наша доверенная персона в Триесте переписывалась лично с монсеньором бывшим инквизитором. А он, в свою очередь, никому не доверял шифр и не показывал оригиналы писем. Мы уже отправили в его домашний архив мессера гранде[80]. Он попытается найти в бумагах покойного монсеньора шифровальные таблицы. Осмелюсь просить вашу милость о том, чтобы до того, как таблицы найдут, сие письмо неизменно пребывало в вашей секретной шкатулке.
– Тито, что я слышу? С каких это пор вы не доверяете своим помощникам?
– Наш конфидент в Триесте очень ценный и тщательно законспирированный агент. Мы должны беречь этого человека. Он, как нам известно, пользуется полным доверием как австрийских властей, так и франкмасонов. Сообщения, получаемые нами от него…
– Меня в свое время информировали об этом набожном и смелом человеке, – прервал секретаря инквизитор. – Однако мне также сообщили, что в последний раз конфидент присылал письмо покойному монсеньору полтора года назад. Как видите, Тито, мне тоже кое-что известно.
– Вы совершенно правы, монсеньор. Мы уже решили, что он по каким-то причинам навсегда прекратил переписку со Священным трибуналом. Однако, как видим, мы ошибались. Не исключено, что его теперешнее письмо содержит нечто чрезвычайно важное и срочное.
– Возможно, – согласился Кондульмеро. – Но, Тито, вы все-таки не ответили на мой вопрос. Что именно заставляет вас не доверять должностным лицам Священного трибунала? Если у вас имеются какие-нибудь обоснованные подозрения, то вы обязаны немедленно доложить о них мне.
– Ничего конкретного и ничего обоснованного, монсеньор. Поэтому я и не докладывал вам. Однако же, осторожность никогда не бывает лишней. Шпионы франкмасонов научились искусно маскироваться и разбрасывать повсюду свои дьявольские сети. Там, где не помогают деньги и ложь, они без колебаний применяют черную магию. Две недели тому назад в Падуе арестовали некоего аудитора, оказавшегося, представьте себе, руководителем масонской ложи. У него нашли приборы для планетарной магии и восковые подобия тех, кто умер от прошлогодней гнойной лихорадки.
– Наслышан, наслышан об этих сказках, – скривился, как от кислого, инквизитор. – На самом деле все там было иначе. Я бы даже сказал: кардинально иначе. Синьора аудитора оговорили завистники. Он недавно женился на молодой богатой вдове, и кто-то в Падуе по этой причине весьма и весьма огорчился. Такая вот, Тито, это банальная провинциальная история. А вы говорите: «планетарная магия», «гнойная лихорадка»!.. Не огорчайтесь, не стоит. Это я лишь ради того, чтобы напомнить вам, синьор секретарь Священного трибунала, что не стоит быть столь доверчивым к сплетням… Ну хорошо, пускай это письмо пока что погостит в моей шкатулке. А вы можете вернуться к своим обязанностям.
Венеция Григорию не понравилась. Город провонял гнилью, как старое лесное болото. Если в Триесте морской ветер успевал разгонять городские миазмы, то здесь он явно не справлялся. Запахи разложения и распада преследовали Сковороду и на улицах, и в роскошных апартаментах супругов Тома. Он откровенно скучал и жалел, что оставил палаццо д'Агло, где в свое удовольствие изучал эмблематику и копировал рисунки из альбомов. Он с радостью обменял бы украшенную балдахином роскошную кровать в апартаментах на улице Трех Тринитариев на сенник в сыром палаццо жениха Клементины.
Венецианская архитектура его впечатлила, но тяжеловатая красота Сан-Марко и Дворца дожей не смогла заменить хорошего настроения. Констанца была само обаяние, но зрелище оргии не покидало памяти Григория. Муж прекрасной аристократки оказался скучным педантом, абсолютно равнодушным к философии и ко всему, что интересовало его жену. Он вообще уделял супруге лишь жалкие крохи внимания и ложился спать в кабинете, отдельно от нее. Сковорода решил, что флегматичный, склонный к рациональному восприятию нрав банкира способствовал его телесной холодности. Единственным, что могло поднять настроение супруга Констанцы, было время, проведенное в оранжерее, где, под наблюдением опытных садовников, росли диковинные, привезенные из дальних краев, деревья, цветы и овощи. С Григорием Генрих Тома держал себя непринужденно и корректно, но чувствительная натура Сковороды улавливала во взглядах банкира, брошенных им исподтишка, невысказанные вопросы и растущее подозрение.
Перед поездкой в Венецию Констанца подарила «природному человеку» три смены добротной светской одежды, в которой Григорий ощущал себя удобно, но непривычно. Особенно порадовала его новая обувь. Его старые башмаки окончательно расползлись, и если бы не щедрость супругов Тома, школяру пришлось бы ходить по улицам Венеции босиком. Теперь же на его ногах красовались черные туфли из телячьей кожи с пряжками и квадратными каблуками. Вместе с Констанцей они гуляли по городу и проводили время за метафизическими беседами. От гнилостного смрада у Григория почти постоянно болела голова, но все же он пытался понять и запомнить как можно больше. Констанца охотно шла навстречу его познавательным стремлениям. Она объяснила Григорию строение и составные элементы каббалистического Древа Сефирот. Умственно провела его по мирам Древа: от Малхуда и сияющего Йесода к неизъяснимому Кетеру и дальше, в запредельную даль Эйн-Софа. Взамен Сковорода твердо решил познакомить красавицу с писаниями знаменитых афонских и печерских старцев.
Разговор об Афоне начался с того, что Констанцу заинтересовала иконка, которую Григорий держал на комоде, рядом с кроватью. На иконке киевский иконописец, в характерной нововизантийской манере, изобразил инока, приставившего указательный палец к губам, судя по всему, призывая к молчанию. Констанцу поразило сходство этого жеста с ритуальным масонским знаком градуса «тайного мастера». Она поинтересовалась, кто именно изображен на иконке.
– Святой греческий мученик Максим Исповедник, обучавший тому чину молчания, каковой смиренные иноки именуют Священной Исихией, – пояснил Сковорода. – Он шел путем, проложенным некогда преподобным Дионисием Ареопагитом, указавшим нам подвизаться на стезе Господней, идущей не стороной познания Его зримых дел, а стороной познания истинного отсутствия чего-либо зримого и явного.
– Я так понимаю, что Дионисий предлагал путь познания, противоположный пути Аристотеля.
– Истинно так, Констанца, истинно так. Смысл света можно уразуметь, познавая тьму, смысл любви можно определить посредством познания нелюбви, сиречь равнодушия, а смысл Творца выясняется, когда постигаешь Ничто[81]. Ибо напрямую познать его невозможно.
– А в чем смысл священного молчания?
– Оно деятельно приближает нас к Творцу.
– Каким образом?
– Наш предвечный Творец, как известно, ничего не познает, поскольку не нуждается в этом. Он всезнающий. Его всезнание настолько безгранично и абсолютно, что мы не способны себе его представить. Не существует таких слов, какими можно было бы пересказать его безграничность.
– Еще бы! – согласилась Констанца, вспомнив старую масонскую гравюру, на которой Великий Архитектор был представлен в виде сферы с бесчисленными лучами, охватывающими задуманную и созданную им Вселенную, изображенную художником в виде рассыпанных по темному пространству гравюры планет и звезд.
– Познание окружающего нас мира – это то, чем занимаются люди. Сам Бог не нуждается в знании, так как это предусматривало бы такую невозможную вещь как отстраненное осознание Богом самого себя, то есть присущую людям двойственность. Человек может смотреть на себя со стороны, так как не охватывает всего сущего. Благодаря этому существует возможность такой «стороны», с которой мы смотрим на себя, оцениваем себя, ругаем себя за недостойные поступки. Но этого нет и не может быть у Бога, в Его абсолютной Целостности и абсолютной Полноте. Поэтому невозможно представить себе познание, обращенное Господом Богом на Него самого.
– Григорий, простите, но вы объясняете мне эти вещи так, словно я только вчера на свет появилась. Я, к вашему сведению, «Метафизику» Аристотеля в пятнадцать лет прочитала, а труды Картезия и Спинозы – в семнадцать. – На щеках красавицы расцвел прелестный румянец. – Я прекрасно понимаю, Григорий, что Бог не может быть ни объектом, ни субъектом гнозиса, то есть познания. Более того, я даже знаю, к чему ведут эти ваши святые, Максим и Дионисий. А ведут они к тому выводу, что в Абсолютном Божестве вообще не происходит и не может происходить никакого процесса. Соответственно, нет в Абсолютном Божестве и времени, поскольку категория времени, а значит, и каждая определяемая ею последовательность, являются условностями жизненного процесса. Условностями нашего, тварного мира. Мира, который каббалисты именуют Малхудом – Царствием земным. Наиболее униженным и самым примитивным из всех существующих миров.
– Истинно так, милая Констанца. – Сковороде приходилось вновь и вновь удивляться эрудиции и гибкости ума этой удивительной женщины. – Преподобный святитель Григорий Палама, пришедший к осознанию Света дорогой Дионисия и Максима, писал, что все сущее в полноте своей всегда присутствует в Боге, и поэтому слиться с Богом, самому стать Богом, означает получение безграничного знания. Такого знания, для которого не существует ни прошлого, ни будущего. Которое само есть все и всему есть равным. Божественное естество постигается не путем ученого диспута или отвлеченного любомудрия, где каждое слово всегда соревнуется с другим словом. Познание Творца и мистическое слияние с его энергиями происходит через особенную практику священной немоты.
– И чем сия немота отличается от немоты обыденной?
– В священном безмолвии происходит поиск полноты Истины. Это вовсе не постепенный, шаг за шагом, поиск. Не путь, идущий от отдельного к общему, подобно учению Аристотеля и прочих эллинских философов. Их способ познания связан со временем, последовательностью. Поэтому он не ведет к Богу, не приближает к полноте. Священномолчальники выбрали иной путь. Они глубже, taciturnior Pythagoreis[82]. По свидетельствам античных авторов, ученики философа и математика Пифагора в первые десять лет обучения должны были соблюдать полное молчание. На их пути полнота знания постигается мгновенно, постигается в особенном состоянии. Только под надзором опытного старца можно в один день постичь через озарение (именно постичь, а не ощутить, не понять!), как войти в состояние священного молчания.
– Вы входили в него? Постигали? Пребывали в озарении?
– Нет, – признал Григорий, отведя глаза.
– Так о чем мы сейчас говорим? – В голосе Констанцы он вдруг почувствовал металлические нотки.
– Но ведь святые люди на Афоне, да и в наших монастырях тоже, постигали Предвечный свет через исихию.
– Вы лично были знакомы с такими людьми? – Металл уже не просто присутствовал в ее голосе, он звенел.
– Я знал людей, которые общались с такими людьми.
– Я верю только в то, что сама вижу. А вы, как настоящий сын Церкви, верите поповским небылицам. Я также общалась с теми, кто видел тех, которые знали кого-то, кто божился, что собственными глазами видел песиголовцев. Но это не означает, что я должна верить в то, что люди с собачьими головами существуют на самом деле. Скорее, не существуют, нежели наоборот.
– Это плохое сравнение.
– Почему? – В голосе Констанцы звенел уже не просто металл, а сабельный булат.
– Нельзя сравнивать святого отшельника с песиголовцем.
– Olla! Какие суровые ограничения на сравнения, вы только на него посмотрите! Я не сравнивала. Я просто применила известное всем образованным людям логическое правило, именуемое «лезвием Оккама». Это правило гласит: не нужно умножать сущности без необходимости. Мир одинаково хорошо обходится как без фантастических песиголовцев, так и без ваших фантастических святых, которые будто бы на горе Афон сидят, молчат и ждут озарения. И, походя, отбрасывают процесс научного познания. Что полезного делают для людей сии святые? Чем помогают в продвижении человечества к благоденствию, свободе, равенству и братству? А вот наука, к примеру, облегчает людям жизнь, борется с болезнями, освобождает мир от темных суеверий.
– Это не святые плохи, это я столь убог разумом, что не могу вам толком объяснить, – сдался Григорий.
– Как вы любите самоунижение! – Констанца смотрела на него почти с презрением.
– Сокрушенное сердце – это такое сердце, которое не заросло терниями забот жизненных, всегда готовое получить и правду, и милость Божью, – повторил он недавно сказанное Лейле.
– Какая чепуха! Если вы будете продолжать в том же духе, Григорий, я разлюблю вас! – Румянец залил не только лицо, но и лебединую шею и роскошные плечи Констанцы. Вороная грива ее волос, освобожденная от заколок и гребней, казалось, вот-вот взлетит и захлопает двумя черными крыльями.
– А разве вы меня любите? – удивился Сковорода. Про себя он заметил, что впервые видит, чтобы молодая женщина так беспредельно краснела.
– Я хочу, чтобы вы меня правильно поняли. – Констанца приблизилась к нему. Сквозь одежду он ощутил горячую дрожь ее тела. – Я не куртизанка и не безнравственная гетера, как вы себе фантазируете… Молчите!
– Но… – попытался возразить «природный человек».
– Молчите, говорю вам! – Слабое возражение было решительно пресечено. – Я соблюдаю нравственные принципы, принятые в кругах свободных людей. Я не изменяю своему мужу с мужчинами. Отдавать же почести Венере с красивыми женщинами, а равно позволять мужчинам целовать свое тело в хорошем обществе не считается ни грехом, ни изменой. Я не изменяю мужу, хотя он уже два года не разделяет со мной ложе и не возражал бы, если бы я завела себе любовника. Или даже целую стаю любовников. Ему было бы так удобнее. Но у меня имеются нравственные принципы.
– У вас, кроме принципов, есть амурная бестия.
– Да. – Крылышки калабрийского носика Констанцы затрепетали, словно паруса пиратской шлюпки перед атакой. – У меня есть Лидия. Я люблю ее прекрасное тело таким манером, каким мне захочется. Такими способами, каких никогда не подскажет и не покажет вам убогое воображение поповского воспитанника. Я люблю Лидию. Она – мое «живое серебро», мое тайное сокровище венерической мощи. Она ртуть, а я – сера. Мы сливаемся с ней в пламенную целостность, как эти два элемента сливаются в реторте алхимика, образуя Философский Меркурий. Но я могу полюбить и вас, Григорий. Могу, не смотрите на меня так! Могу! Но только не тогда, когда вы бормочете что-то ханжеское об «сокрушенном сердце» и «озарении». Вам абсолютно не идет философия червя. Я вижу в вас природный потенциал героя. Потенциал народного трибуна. Потенциал Публиколы, Брута и Демосфена[83]. Ваш лидер Orlyk сегодня нуждается в таких людях, как вы. Близится решающее время общеевропейской битвы за свободу. Все народы, от западного океана и до восточных степей вашей родины, восстанут против тиранов, мракобесов и обскурантов. Или вы безразличны к судьбе вашей Отчизны?
– Не безразличен, совсем нет. Но существует высшая Отчизна в чертогах Отца Небесного.
– Прочь с глаз моих! – прошипела Констанца, указывая рукой на дверь. – Вы меня разочаровали.
– Прошу, Бога ради, простить меня, убогого, – грустно улыбнулся Григорий. – Простите также за то, что не смогу сегодня вернуть вам сие платье…
– Во-о-он!
В этом гневном крике Сковороде вдруг послышалось что-то знакомое. «Такими же воплями гнал меня из Львова демон, обитавший в теле юноши!» – вспомнил он. Григорий отвесил разъяренной женщине низкий поклон и твердым шагом покинул апартаменты супругов Тома.
«Лидия – ртуть, а я сера!» – вспомнил он слова Констанцы. В книгах, с которых он начал свое постижение мира, сера твердо ассоциировалась с адом и его хозяином. Дьяволом.
Карта Таро с рогатой мордой и скованными рабами похоти.
Выходя из дома на улицу Отцов Тринитариев, Сковорода произнес Иисусову молитву и трижды перекрестился.
Карпаты, август, наши дни
Павел Вигилярный уже давно не путешествовал по горам и вскоре понял, что решительно не успевает за старшим братом. Ему выпало нести в рюкзаке воду, пакет с бутербродами и один из канделябров. Груз не выглядел критическим, однако на пятом километре ходьбы горными тропами его спина под рюкзаком взмокла, а в коленях и голенях поселилась навязчивая боль.
– Далеко еще? – поинтересовался Павел, когда начал отставать.
– Не близко. Устал?
– Да, есть немного.
– Давай остановимся на минутку, – вдруг предложил старший. – Вижу, у тебя уже совсем дыхалка сбилась. Отдохни.
– Ну, о'кей, – Вигилярный-младший несколько удивленно посмотрел на «карпатского эсквайра». Насколько он знал своего брата, для Александра Петровича не были характерны вспышки сочувствия к слабым и отстающим.
Они присели на гладкий ствол поваленной ели и увлажнили горло водой.
– Ты на меня обиделся? – то ли спросил, то ли констатировал старший.
– Нет, не обиделся.
– Обиделся, я же вижу.
– Да говорю ж тебе: нет.
– Обиделся, обиделся, – прищурился Александр Петрович. – Жаба тебя душит из-за сорока процентов?
– Я тебе честно сказал, Саша, что не считаю такой раздел процентов справедливым, но мы с тобой все же одна семья. Я не буду кипеш поднимать. Пускай тебе будет сорок.
– Обиделся… – вздохнул старший.
Воцарилось молчание.
– Ты, брателло, часом ничего не заметил? – вдруг спросил Александр Петрович, всматриваясь в лесную перспективу, загороженную колоннадой звонких августовских деревьев, опиравшихся на лабиринт переплетенных серых корней.
– Нет, а что? – Павлу передалось беспокойство старшего.
– Да нет, ничего. Почудилось, – махнул рукой «карпатский эсквайр». – Ну что, отдохнул?
– Сколько еще идти?
– За соседней горой. Ты хотя бы дорогу запоминаешь?
– Не очень, – признался младший. – Эти повороты – они ведь все одинаковые.
– Это только так кажется. Ничего страшного, – заверил брата Александр Петрович. – Я тебе потом по карте все покажу, детально. Ничего там мудреного нет.
– Так что все-таки тебе там почудилось?
– Звук.
– Какой?
– Когда в тихую погоду сухая ветка ломается под ногой, то слышится такой звук, как выстрел. За несколько километров слышно.
– Я не слышал.
– Я когда-то тоже не слышал. В городе уши мхом зарастают. Но даже если ветка и хрустнула… Теперь здесь туристов полно.
– Да уж.
– Вот тебе и «да уж».
– А там, куда мы с тобой направляемся, туристов тоже полно?
– Раньше редко туда захаживали.
– А теперь?
– Будем надеяться, что теперь тоже.
Венеция, 18 мая 1751 года
Григорий продал сюртук (ночи были теплыми), сорвал пряжки с туфель, зачернил жженной пробкой барское платье и без особенных заморочек стал своим в компании бродяг, обитавших в районе Дорсадуро, на берегу грязного канала, названия которого он так никогда и не узнал. Единственной вещью, совершенно не нуждавшейся в трансформации, был его школярский мешок. Превращение пристойно одетого иностранца в нищеброда прошло настолько естественно, что он и сам удивился.
«Наверное, печерские угодники дарят мне такую птичью беспечность в прощаниях с лишними вещами и призрачными удобствами мира сего», – сделал вывод Сковорода и вознес благодарную молитву к собору усопших в Бозе преподобных Печерской лавры.
Тем солнечным утром Сковорода вместе с другими оборванцами искал у порта выбракованную перекупщиками рыбу. Кто-то сильно толкнул его в спину. Он едва не упал с высокого парапета на поросшие мхом камни причальных «быков». Еще большей неожиданностью стало услышанное им после толчка.
– Бог у помич, земляче! – гаркнул над самым ухом хриплый бас. Приветствие было произнесено на чистейшем черкасском диалекте.
Григорий резко обернулся. За его спиной возвышался рыжебородый крепыш пиратского вида. На голове его ладно сидела круглая шляпа того фасона, который в Украине называли «шведским». В прореженных приключениями зубах «пират» крепко сжимал короткую, заморского черного дерева, трубку.
– И вам пан Бог у допомогу, – поздоровался Григорий, занимая удобную для драки позицию.
– Та ж ты не бойся меня, Грыць, – пророкотал пират, заметив его маневр. – Я тебя, хлопче, уже неделю как ищу. Да и не я один. Хорошо же ты замаскировался. Молодец.
– А за каким таким добром я вам понадобился? Откуда меня знаете? И кто вы такой будете?
– Поклон тебе от Папаши Прота.
– Спасибо, – пробормотал Григорий, пораженный тем, как неожиданно, из морока забвения, воскресло его шпионское назначение. – Как поживает пан Духнич?
– Лучше тебя. Гнилую рыбу не жрет, в кошуле[84] рваной не ходит, – захохотал обладатель шведской шляпы и понизил голос. – Но хватит о том пауке. Мы все в изрядном недоумении, как знатно ты обставил инквизиторов. Надо же! С виду пришелепнутый, а обвел вокруг пальца самого крысюка Кондульмеро. Знаменник[85] ты.
– Я не разумею… – начал Григорий.
– Сейчас вразумишся борзо, – пообещал пират. – Но давай, для завода, отойдем в крепкое место. А то я вижу, твои смердючие побратимы навострили уши.
Они отошли подальше от рыбного причала, к острому углу крепостных стен, опиравшихся на скалы и огромные глыбы искусственного берега. Здесь беспощадно палило солнце, но зато вокруг не шатались бродяги и пространство со всех сторон хорошо просматривалось. То, что их могут увидеть со стороны Джудекки[86], как понял Григорий, пирата особенно не заботило.
– Ты, так думаю, еще не прознал, что твою патронессу арестовали, – начал «пират», удобно устраиваясь на теплой покатой глыбе.
– Констанцу?
– Да, Грыць, фармазонку и чернокнижницу Констанцу Тома. И ее благоверного супруга тоже, но потом его выпустили. Арестовал их гранд-мессир. Так тут именуют державного профоса, сиречь исполнителя приговоров Трибунала. А знаешь, что самое интересное: все сие случилось сразу после того, как ты убег из ее логова. Чуйку имеешь или что такое?
– А за что ее?
– В Венеции фармазоны сугубо запрещены. Однако же нам ведомо, что главной причиной сей поспешности была твоя голозадая персона.
– «Нам»? А кто такие «вы»?
– Слышь, хлопец, меня збытно матлять[87]. Я ж тебя до печенки всего вижу, как облупленца. Мы – это тайная канцелярия Ее Величества императрицы Елизаветы Петровны. Или ты уже запамятовал, с кем дело имеешь?
– И много вас тут?
– Сколько надо.
– Ее нужно освободить.
– Кого?
– Я говорю вам, что Констанцу нужно освободить любой ценой. Иначе я не смогу встретиться с Орликом.
– Вот какая, значит, твоя конклюзия… – помотал рыжей бородой крепыш. – Наши думают, что Орлик уже не сунет сюда свой нос. Арест банкирши разворушил всю масонерию.
– Она устроит мне встречу с ним где угодно. В Риме, в Париже. Или вам уже не надобно, чтобы я с ним имел разговоры? Чтобы узнал о его кознях?
– Нужно. Еще бы.
– Что-то случилось?
– Да.
– Что именно?
– А оного я тебе не скажу.
– Если вам действительно нужна сия встреча, вы должны потщиться вывести Констанцу на волю.
– Сие невозможно. Она в когтях Священного трибунала. А там такие спекулаторы[88], что твои волки. Хлопче, мы же не будем ради какой-то ведьмы брать штурмом целый Дворец дожей. Сам помысли.
– Как знаете. Но без ее сакраментов и связей сам я ничего в сей диспозиции не стою. У меня еще нет ни рекомендательных писем, ни масонских паролей. Меня на мушкетный выстрел не подпустят к Орлику. Он полковник, дигнитарий, конфидент короля Людовика, а я кто? Голодранец.
– Ты был голодранцем, когда вольно школярничал, а теперь ты человек царской службы, – напомнил «пират». – Не мечи икру, ученый карась. Не с такими еще оказиями управлялись. Что-то придумаем.
– Борзо думайте.
– Борзо только кошаки из мамки вылезают. А здесь диспозиции серьезные, требующие рекогносцировки. Через седмицу[89] в сей порт прибудет турецкий корабль, а на нем наше с тобой начальство. Вот оно и будет размышлять, решать, наряды раздавать. А мы с тобой – пуза мелкие, на сей счет ты прав. Мы начальству сначала донесем обо всем, а потом их наряды выполнять будем. С примерным прилежанием и геройством. Разумеешь? У нас дисциплиния. Слыхал слово такое, земляче?
– Слыхал, слыхал… А если ее за седмицу замучают?
– Не бойся, не замучают. Здешняя инквизиция не спешит и дела свои резво не делает. Они ведь и тебя прохлопали из-за того, что писари ихние целых два дня не могли расшифровать горячего письма. В Санкт-Петербурге за подобное разгильдяйство Никита Юрьевич[90] всех приказных в Сибирь бы определил. А здесь, земляче, порядки другие. Ленивые они все здесь, балованные, сиесты себе разные позволяют, только бы поспать подольше. Одним словом – гондольщики. Беды не ведают.
– А что за письмо было?
– Из Триеста, говорят. По твою душу, земляк, сию эпистолию послали… Но вижу, что-то ты, Грыць, совсем не ровно дышишь к той ведьме знатной.
– Я о деле беспокоюсь.
– Так я тебе и поверил. Авантажная краля?
– Она масонка изрядная. Лично знается с Орликовой персоной. Когда-то она подвизалась его амантой, – неожиданно даже для себя соврал Сковорода. И сразу испугался: не выдаст ли его собственное лицо.
Однако «пират» никак не среагировал на такое сообщение. Он сказал:
– Потом об этом побалакаем. А сейчас, Грыць, пойдешь со мной. Нужно тебя крепко спрятать.
Тем же жарким майским днем на аудиенцию к инквизитору Кондульмеро напросился аббат Мартини. В Республике святого Марка этот человек полуофициально представлял интересы Верховной и священной Конгрегации Римской и Вселенской инквизиции. Инквизиции, именуемой в городе святого Марка «черной»[91]. Кроме этого факта об аббате Мартини никто ничего вразумительного сообщить не мог. Он был приветливым и ласковым, мало интересовался политическими делами Республики, нечасто навещал кардинала-патриарха и проводил свои дни в скромной двухэтажной резиденции рядом с каналом Нави. Окна резиденции держали закрытыми и днем и ночью. Вход в нее недреманно сторожил здоровенный немой монах с белым эмалированным крестом на груди. Иногда аббата видели в Публичных садах, расположенных недалеко от Арсенала. Невысокий, сгорбившийся и неспешный, он прогуливался, опираясь на лакированную трость, увенчанную маленьким серебряным черепом.
Кондульмеро искренне удивился, когда секретарь доложил ему о визите аббата Мартини.
«А этой старой вороне чего от меня нужно?»
Он поднялся и вышел из-за стола, чтобы достойно приветствовать уполномоченную духовную персону. Ожидая визитера, инквизитор поправил массивную золотую цепь, украшавшую его грудь, и расправил складки на пышной красной мантии, коей Республика удостоила его высокую должность.
– Pax vobis! Искренне рад видеть вашу светлость, – инквизитор поздоровался первым, демонстрируя почтение как к возрасту монсеньора аббата, так и к престолу Римского понтифика, который – как бы там ни было – представлял этот невзрачный попик.
– Благословенье Божье вам и этим стенам, filius meus[92], – тихо прошептал Мартини.
Он приставил свою зловещую трость к старинному черному бюро и присел на краешек стула, который секретарь предусмотрительно поставил в центре комнаты. Кондульмеро занял тронообразное кресло, декорированное в суровом ренессансном стиле. Это кресло стояло в кабинете председателя Трибунала с незапамятных времен.
– Я вас слушаю, отче, – с лица инквизитора не сходила приветливая улыбка.
– Сын мой, недобрые и печальные события привели меня к вашей милости, – начал аббат, ни на йоту не повышая голос. – Вам, несомненно, уже известно, что силы, вышедшие из глубин ада, усилили свою разрушительную деятельность во всех населенных людьми пределах. К сожалению, Республика не стала тем ковчегом спасения, в котором овцы стада Христова могут чувствовать себя в безопасности.
– Мы не дадим силам тьмы воцариться на земле святого Марка, – уверил монсеньора аббата Кондульмеро. – Для этого и существуют Совет Десяти и Священный трибунал.
– Да, конечно, – еле кивнул головой Мартини. – Но теперь мы столкнулись с подрывными действиями, ранее не известными. С такими, которых раньше вообще не существовало. Это новые формы зла, порожденные недальновидностью теперешних монархов и философскими шатаниями нашей эпохи. Соответственно, новые сильные яды, приготовленные в адских кухнях, требуют более сильных противоядий. А мы все еще действуем, согласно правилам и предписаниям эпохи Тридентского собора[93]. Дьявол является мощным двигателем форм, он постоянно переодевает свою извечную ложь в новые красивые платья. А мы с вами ищем его слуг, одетых в старинные хламиды. Мы постоянно отстаем от злых плодов его неуемной изобретательности. Об этом когда-то дальновидно предостерегал святой Атаназий в послании к епископам Египта и Ливии: «Если бы великий демон дьявол явился нам в виде змея, дракона или льва, то был бы он отринут всеми, но каждый раз он надевает новые маски, все более привлекательные и захватывающие воображение».
– Полностью согласен и с вами, и со святым Атаназием. Однако же, отче, что именно вы предлагаете?
– Объединить усилия Республики и Церкви в изучении новой угрозы. Врага нужно тщательно и всесторонне изучить. Тщательно изученный яд быстро становится побежденным ядом.
– Какого именно врага вы имеете в виду? – уточнил инквизитор, а сам подумал: «Этот запечный таракан постоянно упоминает о ядах. Возможно, у него такая специализация?»
– Вам, сын мой, хорошо известно его имя.
– Имя князя мира сего?
– Речь идет не о дьяволе, а об одной из его земных армий.
– Имеете в виду масонерию?
– Да, – это было первое слово, которое аббат произнес более-менее громко. От необходимости прислушиваться к его бормотанию у Кондульмеро разболелась голова.
– Мы присматриваемся к этому новомодному учению, – заверил инквизитор. – У нас уже есть детальные описания их ритуалов, знаков ступеней посвящения и списки лож.
– Это весьма поверхностные знания, сын мой, – покачал головой Мартини. – Неужели вы в самом деле считаете, что можно, например, постигнуть тайны Святой церкви, имея только описание святой литургии, перечень канонических отличий иерархов и списки приходов? В церкви ныне, как и в прежние эпохи, имеются десятки достойных и уважаемых архиереев, которые настолько же далеки от ее истинных тайн, как и, скажем, старенькая безграмотная прихожанка, которая молится сейчас в Сан-Джорджио Маджиоре за здравие своих детей и внуков.
– Вы, отче, привели сильный аргумент в пользу иллюзорности наших знаний о масонах, – согласился инквизитор. – Возможно, вы знаете о них больше?
– Может быть, сын мой.
– Может быть?
– До недавнего времени я опережал вас в глубине проникновения в настоящие, а не в выдуманные масонские тайны. Мои агенты еще три года назад внедрились в масонские структуры и высветили изнутри узлы и переплетения их мерзостной паутины. Но теперь Господь подарил вам возможность еще более глубокого проникновения.
– Вы, отче, имеете в виду арест Констанцы Тома?
– Да. Вы арестовали ее, поздравляю. Однако мне кажется, вы до сих пор не осознали, какая крупная и ценная рыба попалась в ваши сети.
– Зря вы так считаете, отче. Мы уже знаем, что она является секретарем-подмастерьем смешанной триестской ложи «Марк Аврелий» и что именно она отвечала в ней за секретную переписку с масонами всей Европы. Таким образом, ей известны тайные цифры, имена секретарей и ораторов всех европейских лож, а также политические приготовления масонских заговорщиков, интригующих против стран, противостоящих франко-прусскому союзу. Она не только чернокнижница, но и действующая шпионка. Меня предупредили, что ей поручили выведать число корабельных орудий в арсеналах Республики.
– Поверьте, сын мой, это только малая часть из того, на что способна эта женщина. Или лучше сказать: это адское чудовище в женском подобии. Что касается ее осведомленности в масонских делах, поверьте мне, она выше всего, что вы можете себе представить.
– Вы, отче, знаете о ней нечто такое, чего не знаю я?
– Да.
– Что именно?
– Сын мой, пока что я расскажу вам только то, что позволит вам более трезво взглянуть на пойманное вами чудовище. Констанца Тома, ведя переписку с другими масонскими логовами, подписывала письма псевдонимом «Эпонина». Вам это о чем-либо говорит?
– Если бы вы объяснили мне, отче, я был бы вам искренне благодарен.
– Это имя исторической личности, жившей во времена Веспасиана[94]. Так звали жену древнего галла Цивиллиса, которая вместе с ним – прошу заметить, на равных! – возглавляла кровавое восстание против римлян. Когда император придушил восстание, Эпонина вместе с мужем девять лет скрывались в пещере, до тех пор, пока этих супругов-инсургентов не нашли и не казнили. То, что эта женщина выбрала себе именно этот псевдоним, а не какой-нибудь другой, свидетельствует не только о ее полном осознании самой себя руководителем будущей революции, но и о готовности идти до конца, несмотря ни на какие потери и преграды.
– Я приму это к сведению. Спасибо, отче.
– Это только маленькая капля из обширного озера знаний, собранных и упорядоченных мною.
– Республика будет благодарна вам, отче, если вы поделитесь с нами своими уникальными знаниями, – Кондульмеро вложил в эти слова долю иронии, но такую крошечную, что только человек, прошедший иезуитскую дрессировку, смог бы ее ощутить.
– Думаю, здесь был бы уместен взаимовыгодный обмен. Я сообщу вам, кого вы на самом деле держите под крышей Дворца дожей, назову вам имена итальянцев, входящих в тайный ареопаг, управляющий всеми ложами, а вы, со своей стороны, назовете мне имя вашего конфидента в Триесте, благодаря которому вам удалось арестовать эту женщину. И еще одно, монсеньор инквизитор. После того как вы прекратите допрашивать Тома, вы не передадите ее комиссарам имперского суда, а отдадите чудовище мне. Может быть, на первый взгляд, такой обмен покажется вам неравноценным. Однако уверяю, сын мой, в итоге Республика не проиграет. А вам лично обещана благосклонная аудиенция у Святейшего Отца в Риме, папский орден и, в перспективе, епископский перстень.
– Кем обещано? – уточнил инквизитор, не сумевший скрыть заинтересованности. На скулах его упитанного лица проступили багровые пятна.
– Я здесь от имени секретаря Конгрегации кардинала Томмазо Руффо.
– Отче, покорнейше благодарю вас и Его Экселенцию за приятные обещания, но эта женщина – подданная императрицы Марии Терезии. Ко мне позавчера приходил австрийский посол с требованием немедленно передать Констанцу Тома представителям имперской власти. Он вел себя вызывающе, даже заставил меня оправдываться. До сих пор ситуация была контролируемой и Совет Десяти был на моей стороне. Однако если все требования будут озвучены Веной в форме официальной ноты протеста (а к этому, кажется, все идет), Республика не решится рисковать ни своим нейтралитетом, ни добрым соседством с империей. По моим данным, мужу Констанцы протежируют вице-канцлер граф Колоредо и князь Орсини. Эти министры имеют значительное влияние при венском дворе. Император Франц, кстати, также пользуется услугами банковского синдиката, в правление которого входит Генрих Тома. Я хочу подчеркнуть, отче: это совершенно секретная информация. Только из-за искреннего и глубокого уважения к вам, отче, я посвящаю вас в столь конфиденциальные вещи.
– Это пустая бюрократическая суета, – лицо аббата подернулось неким подобием ледяной улыбки. – Ведьмы и чернокнижники со времен святого Доминика находились и находятся под исключительной юрисдикцией церковного правосудия. Императрица – ревностная христианка и неизменно прислушивается к мнению Святого Престола. Мария Терезия не окажет противодействия в данном деле. Империей правит она, а не Франц и не Колоредо.
– Кажется, совсем недавно вы упоминали «недальновидных современных монархов»?
– Я не имел в виду теперешних Габсбургов.
«Он сделал ударение на слове «теперешних», – заметил инквизитор. – Ему где-то около шестидесяти, и он должен помнить войну тысяча семьсот восьмого года между императором Иосифом Габсбургом и папой Климентом Одиннадцатым. У этих черных ворон хорошая память. Но, прости меня, Господи, зачем она им, если они не умеют и не хотят учиться на собственных ошибках».
– Будем надеяться, отче, что вы правы. – Кондульмеро поднялся, давая понять, что аудиенция окончена.
Он был реальным политиком, держал руку на пульсе континентальной дипломатии и понимал, что аббат отстал в своем видении европейских дел, как минимум, на четверть века.
«Однако он может оказаться более проницательным, нежели кажется. Он политик, как и я. Мы говорим и делаем только то, что должны говорить и делать, – мысленно улыбнулся Кондульмеро. – Хорошо, что старая ворона не вспомнила, что даже дож Пьетро Гримани, человек, занимающий высшую должность в Республике, имеет хорошего приятеля (если не друга), английского резидента Джозефа Смита, известного масона. Или, может быть, он как раз и намекал на дожа, когда говорил о «недальновидности монархов»? Но дож ведь не монарх… А если ворона говорила о «монархах» в широком понимании, предполагая этим всех первых государственных персон?.. Тьфу! Сам черт ногу сломит. Надо признать: папские ищейки обучены хитрым намекам».
Когда секретарь провел Мартини к Королевским вратам и вернулся, инквизитор спросил у него:
– Тито, что там с Тома?
– Молчит, монсеньор, и отворачивается к стене, когда мы входим в ее камеру. Очень гордая и напыщенная сеньора. Можно подумать, что ее муж не ростовщик, а настоящий имперский граф. Но, по правде говоря, мы за нее еще не брались по-настоящему. Мы только вежливо спросили ее от имени государственных обвинителей, кто поручил ей собирать ведомости о военном состоянии Республики и где прячется тот преступный субъект, с которым Тома приехала в Венецию.
– Она не ответила?
– Не произнесла ни слова.
– Кто-то за это время пытался связаться с ней?
– Ее муж выразил желание передать ей еду, вино, одежду и средства для ухода за телом. Весь день сидел в карете под нашими окнами, ждал. Мы ему категорически отказали. А, забыл сказать, монсеньор: ростовщик пытался передать через своего кучера золото надзирателю Примески. Тот не взял и доложил мне.
– Вы поступили дальновидно, Тито, когда отказались передать еду и вещи. Весьма и весьма дальновидно. Я полагаю, Генрих Тома и дальше будет пытаться подкупить надзирателей. Они достаточно надежны? Устоят перед искушением? Помните ту прошлогоднюю историю?
– Они надежные, ваша милость. Но для полной уверенности младший секретарь тщательно обыскивает их каждый раз, когда они заходят к арестованной и выходят от нее. Возле камеры круглосуточно дежурят наши люди.
– Она надежно изолирована от остальных заключенных?
– Да, ваша милость. Мы отселили всех, кого держали в соседних камерах.
– Ей дают только воду и хлеб?
– Да, ваша милость.
– Пусть пока посидит на одной воде. Может, тогда у нее поуменьшится гордости. И не ослабляйте контроля за надзирателями. Что-то подсказывает мне, Тито, что ее попробуют отравить.
Милан, 21 мая 1751 года
Полковник Орлик увидел, как целая туча голубей взлетела с площади перед фасадом Дуомо[95]. В какой-то миг ему показалось, что вместе с птицами в небо поднялись и белые хоругви, развевающиеся над дверью собора. Это был плохой знак. Уже третьи сутки подряд его преследовали плохие знаки. И плохие известия.
– Тебе нельзя ехать в Венецию, брат, – будто прочитал его мысли старый приятель Жан Гилас, лейтенант инфантерии и (за пределами профанского мира) мастер масонской ложи «К трем пеликанам». – Даже конвент[96] итальянцы переносят из Равенны в Сан-Марино, подальше от Венеции.
– А почему в Сан-Марино?
– Там крепкие ложи и власти нам симпатизируют. А кроме того, санмаринцы все еще не забыли оккупации войсками кардинала Альбернони[97]. Они скрипят зубами при одном лишь упоминании имени папы Бенедикта или кого-нибудь из его курии. Иезуиты сбежали оттуда еще сто лет тому назад.
– В Венецию нельзя, здесь оставаться нельзя, ехать через Тоскану нельзя. – Орлик отошел от окна, склонился над картой, расстеленной на столе. – Еще эти проклятые австрийцы…
– Можно плыть морем. Сначала на Мальту, а потом…
– В Порту? Я, друг мой Жан, и в турках теперь неуверен. В Константинополь скоро прибудет новый московский резидент Обресков, а турки всегда рады утешить свежего московита со свежей казной. Особенно, если Дезальер[98] по-прежнему будет смотреть на все сквозь пальцы. Он становится львом только тогда, когда чувствует личную выгоду. А я ему такой выгоды ныне обеспечить не в состоянии. Все меняется к худшему, брат.
– Ты все еще считаешь, что Кауницу удастся создать эту противоестественную франко-австро-московскую коалицию? Что-то я сомневаюсь, Григорий.
– Брат, учти: все европейские монархи больше черта боятся Фридриха Прусского. Он истинный солдат. Его сила растет как на дрожжах. Он молодой и упрямый, мечтает стать новым Александром. Это раздражает Мсье[99]. Он, понятно, клянется Фридриху в вечной дружбе, но в Оленьем парке советуется с Кауницем. Жан, я печенью чувствую, что они создадут коалицию. Если не создадут, то Фридрих разобьет их всех по отдельности. Еще немного, Жан, еще немного, и галльский петух будет кукарекать вместе с габсбургским орлом. А царица побежит туда, куда посоветуют ей австрийцы.
Орлик сел на диван. Рядом с ним стоял драгоценный мраморный столик с шахматами. Несколько минут сын гетмана смотрел на двухцветную доску. Ему показалось, что шахматные фигуры представляют расклад европейской политики. Белый ферзь (Фридрих) нацелился на черного слона (Австрию), а благородный белый король (Людовик) был зажат двумя черными пешками (мелкими немецкими княжествами) и турой (Англией). А за выгнутой спиной черного коня (польского короля Августа) затаился черный ферзь (московская царица).
«И я где-то там. Среди вон тех, никем не защищенных, белых пешек», – зло улыбнулся Орлик и смахнул шахматы на пол.
Известие о смерти коронного гетмана Потоцкого застало полковника Орлика в Генуе. Мощный белый слон упал с континентальной шахматной доски. На смену старому другу Юзефу пророчили Браницкого, но это ничего не меняло: профранцузская партия в Польше осталась без головы. В Швеции монарх упокоился еще в марте, а на его трон (на радость царице Елизавете) взошел пустоголовый любитель парадов. Известия из Порты так же не радовали. Султан Махмуд с годами становился все пугливее и подозрительнее. А по правую руку от него, на вышитых золотом подушках, сидят уже не воинственные благородные визири из рода Сейидов, а продажный интриган Мехмед Дивитдыр, не любящий воевать. Зато охотно берущий царское золото и соболей, которых везет с собой Обресков. Наконец, из Крыма сообщали, что выращенные Орликом ростки взаимопонимания, которые начали было прорастать между крымчаками и Запорожской Сечью, теперь уничтожены новой волной пограничных схваток, грабежей и насилий.
Успехи при дворе Людовика австрийской ищейки Кауница могли забить последний гвоздь в гроб будущей украинской свободы. Если Париж и Петербург войдут в желанную Веной антипрусскую коалицию, то все планы разобьются вдребезги. Все те планы, что три с половиной десятилетия он взращивал сначала с отцом, гетманом Пилипом Орликом, а потом с принцем Конти в Secret du roi[100] и масонских ложах.
Еще десять лет тому, после фактического поражения России в войне с турками, все выглядело более обнадеживающим. Веяли свежие ветры, и перспектива казалась если не безоблачной, то хотя бы не штормовой. Тогда на Черном море не осталось ни одного российского военного корабля. В Марселе тайно готовили флот для поддержки крымского хана и казацкого восстания. Власть в Петербурге принадлежала слабым и бездарным брауншвейгцам, боявшимся мятежей, колдунов и собственной тени. Миниху было не до Украины: он устраивал на казенные должности своих многочисленных родственников и заказывал у ревельских портных мундир генералиссимуса. Украинские полковники, почувствовав послабление, наперебой слали к нему, гетманычу Орлику, своих поверенных. В Михайловском монастыре тайно от фискалов Малороссийской коллегии правили службы за его здоровье и победу его оружия. Если бы тогда ломбардийцы и неблагодарный Лещинский одолжили ему золото для военной экспедиции! Если бы…
– Возвращаемся в Геную и оттуда плывем к Мальте! – решил Орлик. – Пусть вершится воля Божья!
Ведьмин лаз, август, наши дни
– Вот и пришли, – констатировал Александр Петрович, останавливаясь возле серой скалы, по ребрам которой стекала ленивая подземная влага.
– Прикольное место, – осмотрелся младший. – Смотри, братан, – вон та скала – самый настоящий гоблин. С квадратной головой. Как это место называется?
– Ведьминым лазом зовут.
– А почему?
– Старые люди говорят, что в древние времена на этом месте молодым ведьмам устраивали испытания. Обмазывали с ног до головы волчьей кровью, и они с наступлением полнолуния бежали к Несамовитому озеру эту кровь смывать. А потом обратно, к этому вот камешку. – Вигилярный-старший похлопал по скале ладонью. – Голыми бегали. Кого из тех молодок не съедали хищные звери и не забирала к себе озерная нечисть, тех принимали в трудовой ведьмовский коллектив.
– И далеко до озера?
– Тебе часа три идти. А ведьмы, думаю, добегали быстрее.
– Верю, – кивнул головой Павел. – Голым в ночных горах не очень комфортно.
Его воображение нарисовало древние Карпаты: дикие, поросшие могучим пралесом, – и черноволосую колдунью, бегущую к глубокому озеру, – страшную и прекрасную, возбужденную священными напитками и смертельной опасностью. А смешанная с ее потом кровь молодой волчицы стекает по стройным бедрам, как вода по скале, обрызгивая корни дубов и буков.
– Давай бутерброды, брателло, будем обедать, – старший оборвал эротические фантазии Павла.
– Ты же говорил, что мы уже пришли.
– Пришли.
– Тогда давай сначала дело сделаем.
– Подожди, не спеши.
– Чего ждать?
– Понимаешь, – Александр Петрович прищурился, осматривая окружающие, поросшие соснами и высокими кустами, горы, – меня все еще беспокоит тот треск. Посидим, поедим. А заодно посмотрим и послушаем. Вдруг кто появится.
– Ага. Даже так… – Младший тоже прикипел взглядом к нависавшей горной гряде, с которой Ведьмин лаз можно было рассмотреть как на ладони. – Зачем же мы тогда это место спалили? Тупо как-то.
– Ничего мы не спалили, Павлуша. Пока что не спалили. Место это известное, туристы иногда сюда забредают. Бывает что и ночуют. Но здесь можно месяц ходить и тайник не найти.
– Бункер какой-то?
– Круче, брателло, круче! – рассмеялся «карпатский эсквайр», расстилая клеенку на большой плоской глыбе. – Ты пока что расслабься. Сейчас пивка попьем, перекусим. Пусть враги – если такие здесь ходят – удостоверятся, что мы отдыхаем модно и правильно.
– А кто эти «враги», как ты думаешь?
– Кто, спрашиваешь? – Старший открыл бутылку, щедро, со вкусом, отпил холодного пива. – У меня сейчас, Павлуша, две главные версии. Первая: кто-то из моих соседушек сильно заинтересовался нашим походом в горы. Так заинтересовался, что идет, бедолага, за нами от самого Яремче. Есть здесь, среди местных гуцулов, такие, прости господи, врожденные пинкертоны, что иногда убить хочется… – Он второй раз приложился к бутылке. – Вкусный пивасик! Отведай, Павлуша, восстанови свой водно-солевой баланс… Вкусно? Я же тебе говорил. Не зря на себе этот кайф тащили… Так вот, существует еще и вторая версия. Она, скажу тебе, более стремная. Не исключено, что бандиты, пришившие профессора, тебя конкретно зацинковали и приехали за тобой сюда. Если вторая версия подтвердится, то у нас с тобой, брателло, реальные проблемы.
Некоторое время они ели молча, прислушиваясь к окружающим звукам. Над нагретым взлобьем скалы жужжали тяжелые августовские насекомые, серые белки спрыгивали с кривой сосны и с безопасного расстояния наблюдали за трапезой братьев.
– Я вот что, Паша, хотел тебя спросить, – нарушил молчание старший. – Ты мне объясни все-таки, какое отношение имеют все эти цацки, – он покосился на рюкзаки, – к Сковороде. Ты знаешь, я человек далекий от истории, литературы. Возможно, чего-то не понимаю. Наверняка не понимаю. Сковороду я в школе изучал. Помню, что жил когда-то очень умный дядька, любил путешествия, ненавидел богатых и попов. Написал стих «Каждому городу нрав и права». Мы его учили на память. О том, что каждого гонит свой бес. Учительница Анна Петровна говорила нам, что Сковорода этот был сильно не от мира сего. Такой блаженный дядька. Соответственно, страдал за правду-матку от разных обидчиков. Домом и семьей так и не обзавелся, всю жизнь свою бедствовал, бомжевал по Украине. Такая вот картинка. А здесь я вижу: серебро, гравюра плюс идол деревянный, офигенно древний… Что-то тут реально не клеится, брателло. Он что, язычником был?
– Да нет, православным.
– Так объясни же мне, темному, каким боком все эти вещи со Сковородой соотносятся.
– Не знаю.
– Вот тебе на… – Вигилярный-старший аккуратно сложил мусор в пакет. – А мне казалось, ты в теме.
– Я уже думал об этом. Ну, допустим, с гравюрой более-менее ясно. Она скопирована, возможно, даже рукой самого Григория Саввича, из сборника мистических эмблем. На ней, насколько я понимаю, символически изображено одно из основных понятий алхимии – Андрогин, соединение ртути и серы, как основа для дальнейшего производства философского камня.
– Алхимия – антинаучное учение.
– Это тебе тоже Анна Петровна рассказывала?
– Нет, Валентина Сергеевна. Она нам в школе химию преподавала. Серьезная женщина была. Мне за бензольные кольца двойку поставила.
– Эта серьезная женщина преподала тебе искаженное понимание алхимии. Во времена Сковороды эта наука уже потеряла признаки учения о свойствах веществ. В восемнадцатом веке алхимия была чем-то средним между самобытной философией и символическим преподаванием метафизики. Ее переплели с каббалой, Таро и другими оккультными системами.
– Вот и получается, брателло, что Валентина Сергеевна ничего не искажала. Каббала, Таро… Антинаучный бред.
– Философия, Саша.
– Философия – предмет темный, – «карпатский эсквайр» откинулся на спину и заложил руки под голову. – Философы не проверяют свои выводы экспериментами. Соответственно, нельзя понять, кто из них прав, а кто лжет. Все запутано. Нет ясности. А там, где нет ясности, там нет практического применения.
– А как они могут экспериментально проверить свои выводы, если философия оперирует такими предметами, как «сущее», «бытие», «время», «пространство»? Как можно экспериментировать с бытием или временем?
– Тогда пускай не называют свою философию научной дисциплиной. Наука, если ты еще помнишь, предполагает обязательную проверку гипотезы экспериментом. Путь познания, не содержащий в себе стадии эксперимента, не является наукой. А я, брателло, инженер по образованию, привык верить науке и выбрасывать на помойку всякий мистический бред. Наука достигла других планет, создала телевидение, компьютеры, мобильную связь. А чего добились твои философы? Вечно гундосят: «Я знаю, что я ничего не знаю». Не уважаю.
– Телевидение и сотовые телефоны не сделали человечество счастливым.
– Так считают неудачники, – фыркнул Александр Петрович. – Почему не сделали? Облегчили жизнь, развлечений стало больше. Людям для счастья нужны не философские сомнения, а простые вещи. Комфорт, развлечения. Чтобы хорошо трудиться, нужно хорошо расслабляться. А еще четко видеть, что к чему, где какая тема. А иначе как человек сможет себя реализовать? Вот я, к примеру, счастливый человек, реализованный человек. Я опираюсь на науку, а не на какую-то там темную каббалу. Я твердо стою на ногах и ясно вижу, что главное, а что второстепенное.
– Сковорода практиковал другую разновидность реализации. Через иную ясность.
– Значит, тоже был неудачником. Лузером. Ходил, как бомж, хотя, как видим, сидел на конкретных ценностях. Кстати, а что ты там хотел добавить нового к изучению Сковороды? С научной точки зрения там и так все ясно как божий день.
– Не все ясно, далеко не все… Но это, Саша, не для этого места дискуссия. Если честно, то сначала я хотел написать сравнительные биографии Сковороды и Казановы…
– Казановы? Того, о котором фильм сняли?
– Того самого.
– С ума сошел, что ли? – искренне удивился старший. – Что общего у Сковороды с тем фраером? Над тобой долго смеялись?
– Ты ошибаешься. Между ними много общего. Родились и умерли почти в одно и то же время, всю жизнь провели в странствиях и поисках. Оба имели хороший вкус. Разбирались в искусстве, упражнялись в литературе. Обоих официальная церковь подозревала в симпатиях к еретическим учениям, и не без оснований. Не обзавелись семьями. И еще ряд общих позиций. А на счет того, что смеялись… На моей кафедре, по крайней мере, никто не смеялся. Правда, меня особо и не поддержали…
– Вот видишь!
– Нормальная была тема, – прищурился на солнце Вигилярный-младший. – Даже не нормальная, а классная, крутая, модная. Просто ты, братишка, не понимаешь. Компаративистика теперь в законе, многие занимаются сравнительными темами.
– Сомнительными темами?
– Сравнительными. Проблемы со слухом?
– Я тебе, брателло, прямо сейчас подброшу еще одну модную тему для исследования, – не меняя интонации, сообщил Александр Петрович. – Нужно исследовать, что забыли юные девушки рядом с Ведьминым лазом.
– Юные девушки? – замотал головой младший. – Где?
– Не дергайся, – посоветовал старший. – Я их уже минуты три цинкую. Идут сюда со стороны Попивана. Две молодые телки. Не маскируются. С маленькими рюкзаками. Одеты, как обыкновенные туристки. Кстати, они симпатичные.
Венеция, 23 мая 1751 года
Пятые сутки Григорий скрывался на старом капере[101], пришвартованном к молу около Местры. Корабль, хотя и потрепанный, еще не потерял былой боевой выправки. Его форштевень[102] украшали три щербатых тарана, а рангоут[103] выглядел странным гибридом бермудской и староиспанской его разновидностей[104].
Григорий приспособил один из парусов в качестве тента. Он целыми днями лежал в его тени, вытянувшись на бугшприте[105], и курил трубку. Земляк иногда составлял ему компанию. Сначала крепыш конспирировался, но вскоре выяснилось, что его зовут Семеном и что род его ведется от реестрового Ивана Макогона, которому не посчастливилось передать казацкие сословные привилегии детям и внукам.
На флот Семен попал шестнадцатилетним и побывал матросом на нескольких кораблях третьего и второго рангов. Потом получил должность купора – члена экипажа, согласно русскому морскому уставу 1720 года, отвечавшего за бочки с порохом и другие корабельные припасы. Во время данцигского похода купор Макогон проявил смекалку в секретном деле, был замечен квартирмейстером Гончаровым и назначен фискалом на «Святого Георгия». Такой блистательной карьере способствовало то, что Семен в родных Черкассах ходил в приходскую школу, разумел славянское письмо, а в походах борзо познавал иноземные наречия и латынь.
– В нашем деле главное – иметь предвидение, сиречь чуйку! – поучал Сковороду Макогон. – У тебя она есть, из тебя вышел бы проникновенный фискал. Однако я вижу, ты твердо двинешься по благочинной перспективе. Сие не менее одобрительно. Можно до чина великого, до архимандрита дослужиться.
Григорий не возражал. Макогон принадлежал к той породе людей, убеждения которых еще в молодости застывают в окончательной и неизменной форме. Кроме того, все мысли Григория вращались вокруг Констанцы, и он сам себе удивлялся.
Раньше его гибкий и жадный на новые впечатления разум никогда так долго не задерживался ни на отдельно взятой женщине, ни на женщинах вообще. Те из них, которых вожделели деревенские сверстники Сковороды, отталкивали его своей узкой практичностью и полным нежеланием познавать что-либо за гранью сельского мирка, включавшего в себя ближайшие хутора, монастыри и ярмарки. Когда он заводил с ними беседы об удивительных творениях Божьих, деревенские девушки начинали посмеиваться и перемигиваться. Некоторые из них простодушно считали Григория восторженным дурачком, другие – более проницательные – понимали, что его необоримо тянет в те духовные сферы, которые, по убеждению деревенских, полностью относились к церковному наряду.
Самые умные из крестьянок мечтали стать попадьями. Но в родном селе Григория господствовало убеждение, что настоящего попа – солидного, толстого, с громким голосом и елейно-масленым взглядом – из сына Саввы, скорее всего, не выйдет. Голос у него был красивый, сильный и с клироса звучал приятно. Сего очевидного факта никто не оспаривал. Однако перспективной поповской солидности в осанке и повадках Григория не просматривалось. Он был слишком подвижным, светским, любознательным юношей. А сугубое любопытство, как говаривал местный мудрец Начитанный, есть тропа, заросшая терниями и чертополохом. И сия тропа, учил мудрец, к любви старшин-начальников и к уважению посполитых людей ведет-ведет, да никогда не приводит.
Кроме сего недостатка, Григорий любил спорить со старшими, не имея для таких экзерсисов ни надлежащего чина, ни соответствующих заслуг. Таковая его черта послужила окончательному приговору деревенских кумушек: если уж, с Божьей помощью, сума и тюрьма обойдут сына Саввы стороной, то уже никакого сомнения нет в том, что закончит он затрапезным дьячком, пропадающим в хлопотах без старшинской протекции. И даже родственные связи с Полтавцевыми тут не помогут. Приговор окончательно отвратил от Сковороды сообразительных деревенских невест.
В Санкт-Петербурге Григорий познакомился с женщинами иного типа. Нескромными, легко идущими на грех. От них исходила темная и опасная энергия похоти. В пестром столичном водовороте они использовали свое очарование и свою хитрость для получения партикулярного превосходства. Себе в мужья и любовники они прочили в основном мужей военных – сильных, задорных, склонных к дуэльным состязаниям и гордому ношению красивых мундиров. Среди сих искательных женщин встречались обученные грамоте. Некоторые из их числа разумели в иностранных языках и полагали себя знатоками придворного политеса. Однако с Григорием они почти не общались – застенчивый придворный певчий не снискал популярности среди этих капризных, манерных и дальновидных искательниц галантного счастья. Их более простые товарки вызывали у сына Саввы разве что сочувствие. Этим было только замуж выйти. За кого-нибудь, но, желательно, умеренно пьющего, имеющего в столице каморку с немецкой кроватью и жалованного сотней целковых в год.
На фоне сего собора известных ему женских персон Констанца Тома сияла, будто Пламенеющая звезда древних мистиков на темном небе не доросшей до форм материи. Теперь, когда Констанца попала в заточение, Григорий не находил в этой женщине ни одного изъяна, кроме, естественно, оргиастической порочности, которую он причислял к неизбежным свойствам алхимического мира.
Необычайно умная, блистательно образованная, посвященная в метафизические секреты, жена Генриха Тома, ко всему прочему, получила от предков (или, возможно, от неких непостижимых Сил, рассуждал Григорий) редкостную совершенную красоту. Такое сочетание талантов и даров природы, по его разумению, не могло оказаться случайным. В персоне Констанцы несомненно проявилось тайное и властное высшее назначение. Его тянуло одновременно и к познанию этого назначения, и к ее прекрасному телу, так убедительно проявляющего себя как в женской, так и в мужской роли. Григория преследовали однообразные греховные сновидения, где Констанца оказывалась между ним и Лидией и принимала венерические приношения как от него, так и от амурной бестии.
Он помнил каждое слово Констанцы, каждое выражение ее лица. Он мучился тем, что спорил с ней и не всегда внимательно слушал ее объяснения. Теперь каждое слово триестской красавицы приобретало другое, более глубокое и разветвленное значение. В представлении Григория Констанца превратилась в живую книгу эмблем, страницы которой он едва успел перелистать, хотя имел возможность выучить и понять.
Чувство, что эту ошибку уже никогда нельзя будет исправить, было настолько жалящим, что Григорием постепенно овладела телесная боль, ноющая и неотступная. Эта боль выкручивала и плющила его плоть, жгла поясницу и сжимала стальным обручем сердце. Он не мог спать, не мог молиться, не мог слушать напутственную болтовню Макогона. Перед ним неотступно стояло вдохновенное лицо Констанцы, ее глаза, ее карминовые губы, черные волны волос. Белое солнце Юга играло резкими тенями на ее бархатной коже, а запах ее духов щекотал его ноздри. Он вспоминал ее платье из воздушной и полупрозрачной ткани цвета слоновой кости. Сквозь него солнечные лучи высвечивали ее безупречную фигуру. Платье не было тюремщиком тела. Оно вступило с телом и солнцем в амурный сговор. Он вспоминал, как наслаждался сбежавшим сквозь ткань контуром ее тела. Как лежала на мраморе балкона тень этого контура. Сие видение вынуждало его обкусывать губы до крови.
Среди прочего, вспомнил Григорий их с Констанцей прогулку берегом Гранд-канала. Он тогда заметил на ее левой руке перстень с монограммой «МА» и спросил, что обозначают сии буквы.
– Когда-то Римом правил Марк Аврелий, – ответила любимица Венеры. – Его полагают лучшим из императоров. Он дал римлянам свободы, его империя напоминала республику. Это его инициалы.
«Марк Аврелий! – тяжко вздохнул Григорий, лежа под парусом старого капера. – Благородное имя сие не впервые обозначило себя в моей жизни. Когда ж это было? Ну, конечно же, это было на именины императрицы Елизаветы Петровны, пятого сентября тысяча семьсот сорок четвертого года от Рождества Христового».
Императрица приехала в Киев паломничать. Она молилась на раках[106] Печерских святых, щедро разбрасывала медь и серебро бесчисленным бродягам и пилигримам, толпившимся под высокими стенами Лавры, со всей своей свитой вкушала гигантских осетров, мастерски зажаренных и фаршированных по секретным рецептам митрополичьей кухни.
В честь самодержицы, наследника престола Питера Ульриха и его невесты Софии-Августы,[107] силами студентов Духовной академии и местных комедиантов поставили панегирическую пьесу «Благоутробие Марка Аврелия». Написал сей панегирик многоопытный и непьющий автор прославленных «школьных действ» Михаил Козачинский, посвятивший свое произведение «Елизавете Петровне, Марку Аврелию века нашего». Сковорода не вошел в студенческую труппу и пребывал среди зрителей.
Спектакль пышно декорировали. На сцену, как и предусматривалось прологом, на позолоченной повозке выезжал толстый дядька в латах, представлявший персону Киева. Повозку тянули крылатые Пегасы. За дядькой-Киевом шествовали аллегорические фигуры: Марс с андреевскими эмблемами и пленными турками, Фортуна с венком и двуглавыми орлами, Амур с анаграммами, в которых зашифровали имена принца-наследника и его невесты, Астрея с линейкой и Гармония с серебряными шарами и циркулем.
После парада древнеримских божеств на сцену выбежали студенты, переодетые казаками и поляками, и разыграли сценки из славной виктории Хмельницкого под Корсунем. Некоторые ряженые так увлеклись баталией, что двух «поляков» и одного «казака» товарищи вынесли без сознания. Императрица одобрила сие изрядное рвение и приказала отправить актерам на лечение двадцать червонцев и бочонок анисовки. Потом произвели балет на австрийский манер, а уже после него началась сама пьеса, в которой милостивый и рассудительный Марк Аврелий противопоставлялся жестокому и высокомерному Авидию Касию. В личности Авидия зрители легко распознали карикатуру на Бирона[108]. Победу милосердия над жестокостью они приветствовали громкими криками «Виват!», а принцесса София-Августа аплодировала, что в то время было весьма свежим способом публично продемонстрировать свое расположение.
Сие пышное прославление «Марка Аврелия века нашего» несколько подпортила финальная иллюминация. Ракеты дрезденских фойермейстеров напугали и лошадей, запряженных в кареты, и гостей праздника. У пышной придворной дамы (не фрейлины ли Паниной?) от ракеты загорелось платье, начались толкотня и паника. Зрители, сбившись в толпу, побежали к сцене, кулисы не выдержали их напора и повалились. Сковорода собственноручно вытащил из-под задымленных декораций студента, игравшего Марка Аврелия.
Несмотря на сие досадное приключение, пьеса тронула Григория. После этого он прочитал «Размышления» императора-философа, книги Диона Кассия и Секста Аврелия Виктора, где описывалась жизнь «лучшего среди цезарей». Уже тогда его удивила снисходительность Марка Аврелия к распутству женщин как в собственной семье, так и римлянок в целом. Теперь он оправдывал Констанцу посредством стоической философии императора, не запрещавшего пестрой природе действовать через телесные возможности и агрегаты.
«Если всемогущий правитель мира не считал необходимым наказывать женщин за телесную избыточность, – размышлял Григорий, – то почему я, ничтожнейший в мире сем, должен обвинять Констанцу? Имею ли такое право? И не зависть ли жалкая говорит во мне, когда осуждаю прекрасное тело за дары, им приносимые?»
Чем больше он размышлял о противоречиях, найденных в персоне Констанцы, тем больше склонялся простить удивительной женщине ее склонность к неистовствам Диониса и Венеры.
Философия стоиков, которую исповедовал Марк Аврелий, размышлял Сковорода, могла бы стать основанием для его примирения с Констанцей. Ведь древний император считал, что природа есть не только всем известной данностью, окружающей людей от рождения и до смерти, но и тем внутренним образом, согласно которому усложняется и развивается все сущее. Источником телесной натуры он и его единомышленники полагали некое разумное огненное дыхание, чьим присутствием пронизана и усложнена Вселенная.
«Возможно, Констанцу с Лидией соединяет духовный огонь божества-дыхания, «святого духа» язычников-стоиков? – предположил Григорий. – Возможно, в миг, когда они сливаются телами, образуется высшее, совершенное тело, чем-то похожее на тело Андрогина? Тут, понятно, затаилась в умственной засаде ехидна противоречия. Марк Аврелий считал, что телесное находится под руководством духовного Света, а святой Августин и Отцы Церкви, наоборот, считают все телесное, все материальное темным царствием дьявола. Возможно ли, пристойно ли перебросить между этими непримиримостями золотой мост согласия? Если таковое возможно, тогда не стоит уделять телесному столь много нравственного внимания, обрекать на тяжкое и долгое искупление простые проявления телесной правды. Однако позволена ли Богом суверенная «правда тела», не подвластная библейским и нравственным предписаниям? Можно ли жить одновременно двумя самобытными правдами – правдой Духа и правдой тела? Это же ересь. Самая что ни на есть ересь…»
– Страдаешь, человече Божий? – голос фискала вызволил Григория из вязкого плена воспоминаний.
– Чего вам, дядя Семен?
– Удивляюсь тебе, Грыць. Лежишь здесь, бледный, как блейвас[109]. Я бы на твоем месте пил и пил на радостях, что все так славно обернулось. Горилки, жаль, нема, но зато имеется изрядная малмазия[110]. – Семен покосил глазом вниз, в направлении трюма. – И к малмазии что-нибудь подхарчеваться найдем… Возрадуйся, Грыць, танцуй-фурцуй! Не в каземате сидишь, казак, а под Божьим солнышком греешься. Смотри, смотри какое небо! – Фискал обвел широким взмахом руки горизонт Адриатики. – Воля вольная, окоем лазурный! Так будь же мужем, а не кислой девкой.
– Еще рано волю славить, – буркнул Григорий.
– Чего ж так?
– Псы латинские рыщут по городу.
– Это все фрашки![111] – фыркнул Макогон. – Поймали твою кралю, теперь успокоятся. Они теперь себя зауважают, ой как зауважают. Пойдут пить, хвалиться, с бабами святковать. Сколько тебе говорить: ленивые они здесь все, хирные. Нет у них шпуваного[112] понимания. Не лупил их профос[113] тройчаткой по голому заду, как нашего брата, не лупил… Ты не переживай, казаче. Прибудет начальство, разберется, и прямой наряд нам выдаст. При царском деле и жить веселее, и глупость разная из головы быстро выходит. Повезло нам, что при деле состоим и в диспозициях державных нужными человеками подвизаемся.
– Начальство… И когда же, дядя Семен, сие ваше начальство прибудет?
– Да не только мое. Твое тоже.
– Долго ждать?
– Когда надо будет, тогда и прибудет, – отрезал фискал. – Наше с тобой дело – ждать… Кнышика хочешь скушать? Вкусный кнышик, хорошим жиром мазанный.
– Давайте сюда свой кнышик, дядя Семен. – Сковорода вдруг ощутил приступ голода. – И вина хочу.
– Это уже по делу! – обрадовался Макогон. – А я уже думал: зря, Семен, ты его нашел… Смотри, ожил наш Грыць-найденыш! Казацкая натура свое берет. Не грусти, хлопец, не грусти. Не последняя такая краля на белом свете. Вон их сколько – вся Венеция. Да что там венецианки, наши черкасские девки краше. Еще и получше для тебя отыщется.
Английский консул в Венеции Джозеф Смит не знал настоящего имени человека в маске, прибывшего в его палаццо на пересечении Великого канала и Рио де Санти Апостоли в ночь на 24 мая 1751 года. Он и не пытался узнать. Человек в маске пожал ему руку в полном согласии с правилами масонского послушания и назвал общий пароль третьего градуса: «Мейхабен». Этого, в принципе, было достаточно, но гость подкрепил пароли рекомендательным письмом от Тронного мастера Досточтимой ложи «Три золотых яблока».
«Носить с собой подобный документ весьма рискованно», – мысленно отметил Смит. Также он подумал о том, что на подобный риск идут, среди прочего, и ради того, дабы выглядеть убедительнее во время сомнительной миссии. То, что ночной гость, назвав пароли, не снял маски, англичанина не удивило. Он уже привык к решительной, но лишенной последовательности и логических основ итальянской конспирации.
– Садись, брат мой, – консул указал гостю на стул. – Слушаю тебя.
– Я пришел к тебе, высокочтимый брат, по делу сестры Эпонины, – голос незнакомца из-под маски звучал глухо и неопределенно. – Она на грани смерти.
– Вот как… Я не знал об этом.
– Ее морят голодом. Но, высокочтимый брат, не это самое страшное. Известный нам аббат Мартини вступил в сговор с одним из секретарей Трибунала.
– С какой целью?
– Мартини известен как изобретатель особенного яда, который в Риме называют «ехидной», или «зельем последней исповеди». Если человеку дать этот яд, он впадет в полубессознательное состояние и выдаст все, что знает, и всех, кого знает. А потом умрет в страшных судорогах, ломающих кости. Даже люди, способные выдержать испанские пытки, не могут противостоять дьявольскому зелью аббата Мартини. Item, чем дольше человек голодает перед принятием яда, тем эффективнее действует «ехидна». У нас есть подозрения, что нашей сестре умышленно не дают еды, дабы с помощью «ехидны» вытянуть из нее имена и шифры.
– Я прошу прощения, брат мой, но твое сообщение звучит как нечто весьма маловероятное, – заметил Смит. – В полубессознательном состоянии человек еще способен назвать несколько цифр и пару имен, в это я могу поверить. Но воспроизвести в таком состоянии шифровальные таблицы…
– Наши римские братья, изучившие все, связанное с «ехидной», говорят, что яд удивительным образом обостряет память, – возразил гость. – Некоторые несчастные под его действием слово в слово пересказывали длиннейшие письма, из которых, в нормальном состоянии, за одно прочтение не запомнили бы более трех предложений. Все братские дела под угрозой. Не только в Италии. Во всей Европе.
– Для того, чтобы папскому инквизитору позволили допросить заключенного Трибунала, нужно разрешение не какого-то там секретаря, но одного из государственных обвинителей. Я не думаю, что Кондульмеро или кто-то из его коллег предадут Республику и вступят в преступный сговор с папским шпионом.
– Аббат мог подкупить кого-нибудь из обвинителей. Иезуиты никогда не жалели золота на подобные интриги.
– Сомнительно, – качнул головой консул, помолчал, словно раздумывая над чем-то, а затем резюмировал: – Вы паникуете, мои досточтимые братья. Так и передай своему Мастеру Престола.
– Сестра может не выдержать…
– Что ты предлагаешь?
– Освободить ее силой мы не сможем.
– Сие не вызывает сомнений.
– Значит, мы должны опередить Мартини.
– Отравить Эпонину?
Гость не ответил.
– Я спрашиваю тебя, брат мой: ты здесь и сейчас предлагаешь мне организовать убийство нашей сестры? – Глаза Смита встретили влажный блеск там, где в маске были прорези.
– Есть такие ситуации… Моменты крайней необходимости, – энергия голоса незнакомца погасла настолько, что консул едва разбирал слова.
«У него весьма выразительный римский акцент, – отметил англичанин. – Он действительно римлянин, как и тот чертов аббат. Интересно, благодаря какой непознанной регулярности, все сомнительное в наше время исходит от Вечного города?»
– Это за гранью моего понимания, – Смит встал, давая понять, что разговор окончен.
– Могут погибнуть и потерять свободу сотни братьев.
– Если мы будем совершать такое, то чем мы тогда отличаемся от мракобесов, брат мой? Как мы будем после такого принимать присяги, как будем обращать свои взгляды к Пламенеющей звезде?
– Тогда предложите свое решение, высокочтимый брат.
– Я подумаю над этим, – заверил англичанин, а потом спросил: – Кстати, как зовут того будто бы подкупленного аббатом секретаря?
– Николатини. Его звать Фульвио Родольфо Николатини.
Смит коротко кивнул, снова сел, откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Воцарилось молчание. Минуты шли за минутами, но англичанин не шевелился и не издавал ни звука. Гостю показалось, что он даже дышать перестал. У него сложилось впечатление, что англичанин впал в молитвенный транс.
– У нас не много времени, высокочтимый брат, – прошептали губы под маской.
– Вечность, – произнес консул, не меняя позы, и гостю показалось, что от его голоса затрепетали свечные огни.
– То есть? – переспросил римлянин.
– На самом деле мы обладаем полнотой времени, брат мой. – Джозеф Смит открыл глаза и смотрел теперь поверх головы гостя. – Полнотой вечности. И мне, поверь, очень и очень жаль, что ты, мой дорогой брат-мастер, этого до сих пор не понял.
Ведьмин лаз, август, наши дни
Девушки действительно оказались симпатичными, а еще – скорыми на знакомство. Старшая из них назвалась Лилией. Спортивный костюм подчеркивал ее атлетическую фигуру, крепкие ноги и прямые, мужского профиля, плечи. Младшая представилась Лидией. Она была ниже ростом и худее подруги, но лицом удалась больше. Ее огромные, умные, широко посаженные глаза обладали свойством притягивать взгляд. Сангвинический характер Лидии проявлялся в каждом ее движении, в каждом веселом прищуре, с которым она наблюдала за настороженными переглядываниями братьев Вигилярных.
– Вы, мальчики, какие-то испуганные. Привидение здесь встретили? – Она скорчила страшную гримасу, фыркнула, а потом, уже совсем не сдерживаясь, засмеялась. Смех у Лидии также оказался сангвиническим – переливчатым и заразительным.
– Лидочка, я для тебя уже не мальчик, а дядя, – в ответ улыбнулся Александр Петрович. – Тебе двадцатка уже стукнула?
– А вам обязательно нужно, чтобы мне было двадцать плюс?
– Мне, Лидочка, с детьми не интересно.
– Что именно вам не интересно?
– Пиво пить.
– А-а… – Лидия подмигнула Лилии. – Слышишь? Они, оказывается, по легкому алкоголю выступают.
– И детей не любят, – заметила та.
– Чем вам не нравится легкий алкоголь? – поинтересовался Вигилярный-младший.
– В городе он нам нравится, очень даже нравится, – заверила его Лидия. – Но здесь, в горах, на природе, хлестать пиво…
– Несерьезно, – поддержала подругу Лилия.
– Упс, – развел руками Павел Петрович. – Водку мы не брали.
– Мы водку тоже не брали, – во весь рот улыбнулась сангвиническая девушка. – Мы водку не пьем. Но у нас есть немного текилы.
– Совсем немного, – подтвердила ее спортивная подружка и вынула из рюкзака граненую литровую бутылку. – Но вы, дяди-мальчики, можете пить свое пиво. Мы не против.
– Мы девушки либеральные, – Лидия развернула клеенку и положила на нее пакет с буррито. – Мы никогда никого ни к чему не принуждаем. Все по согласию. Правда, Лиля?
– Мы либеральнее Обамы. Мы очень и очень продвинутые девушки, – подтвердила спортсменка.
– Вы студентки? – поинтересовался «карпатский эсквайр», раскладывая на клеенке остатки братской трапезы. – Угощайтесь.
– Спасибо, – Лидия развернула пакет. – Вам нравятся буррито?
– Сойдет, – согласился на буррито Вигилярный-старший. – И где вы учитесь?
– Мы не студентки.
– Неужели школьницы?
– Мы работаем.
– В сфере обслуживания?
– Угадали, – кивнула Лидия. – Мы с Лилей официантки.
– Что-то вы не похожи на официанток, – оценивающе глянул на девушек Александр Петрович.
– А какими, по-вашему, должны быть официантки?
– Я, Лидочка, не первый год на свете живу.
– Так вы не ответили. Какими? Овцами немытыми?
– Одежда на вас не дешевая.
– Не дешевая, – согласилась Лидия. – Мы с Лилей только фирменное носим. У нее, – она кивнула в сторону подруги, – мама из Италии бабло присылает, а у меня папа нефтяник.
– Повезло, значит, вам с родаками. А почему не учитесь? Сейчас просто: деньги заплатил и учись себе на здоровье.
– Зачем?
– Мир теперь такой. Нужно образование иметь. У меня две дочери. Обе после школы учиться пойдут. Определю их в университет. Одна пойдет по коммерческой части, а другую устрою на юридический.
– А потом будут сидеть в офисе, варить начальнику кофе и в игрушки играть? – фыркнула Лилия. – Офигенная перспектива!
– Ага, значит, лучше шастать с грязными тарелками между столиками и получать шлепки по жопе? – вмешался в разговор Павел Петрович.
– Бывает, – согласилась Лилия. – Зато чаевые, как у профессора зарплата.
– Вы даже знаете, какая зарплата у профессора?
– Она знает, – заверила Лидия. – Лиля тусит с преподавателями.
– Студенток им мало?
– Из-за студентки могут быть проблемы. А еще, – сангвиническая девушка засмеялась, – у студенток теперь свои мухи. С нами можно отдохнуть по-простому, а студентки… Вы их видели, студенток?
– Разные встречаются, – заметил Павел Петрович. В защиту современных студенток он мог бы привести немало весомых аргументов, но почувствовал: играть роль студенческого адвоката в этой компании не вполне уместно.
– Они же все пиццы жрут, кетчупы, майонезы. У них животы поверх пояса свешиваются, – не прекращала наступление Лидия. – А у Лилии тело модели… Лиля, покажи им.
– Мы верим, – младший Вигилярный бросил взгляд на старшего. Тот никак не отреагировал на перспективу увидеть стриптиз.
Лилия тем временем ловко выскользнула из спортивного костюма и осталась в одном бикини. Оба брата вынуждены были признать, что Лидия права. Ее подруга обладала телом, достойным обложки культуристского журнала, но сплетения ее тренированных мышц не разрушали его женской организации. И, вместе с тем, выразительно угадывались под сглаженным рельефом. Александр Петрович напрягся. Во-первых, ему никогда не нравились мускулистые девицы, во-вторых, он хорошо помнил рассказ младшего брата.
Гречика, со слов Павла, убила рыжая девушка спортивного типа.
«В банде все могут быть спортсменами, даже девушки», – вспомнив криминальные сериалы, предположил старший Вигилярный.
– Мы люди семейные, – произнес он.
– А это вы о чем? – возвела брови Лидия.
– О раздевании.
– Если вы семейные, то вам и смотреть нельзя? – искренне удивилась Лилия. – Я вас не соблазняю, не предлагаю ничего. Просто себе загораю, – она достала из рюкзака тюбик с кремом… – Значит, вы таки нас боитесь. Ну и странные вы ребята, первый раз таких пугливых дядечек встречаю…
– Вдвоем, Лилька, текилу пить будем, – вздохнула Лидия. – А этот престарелый детский сад будет сосать… свое пиво.
– Хамить не нужно, – заметил Александр Петрович.
– Ой, извините нас, дяденьки, – скорчила смешную гримаску Лидия. – Да и на кого обижаться? Мы же тупые официантки, с грязных тарелок доедаем, в университете не учимся. Вы уж простите, ради бога, овец голимых.
– Наливай текилу, – неожиданно протянул Лилии стакан Вигилярный-младший. – Никто вас, девочки, не боится и овцами не считает. Вы – классные и прикольные.
– Я буду пиво, – не сдался старший.
– Значит, будет у нас сегодня классическая пьянка на трех, – оценила ситуацию Лидия. – А вы, дядя, – обратилась она к Александру Петровичу, – когда захотите текилы, скажите. Мы не только либеральные, мы еще и незлопамятные. Правда, Лилька?
– Правда.
– Вы просто идеальные, – улыбнулся Лидии Павел Петрович. И незаметно проверил нижний карман охотничьего жилета, куда перед отправлением в экспедицию положил электрошокер.
Венеция, 27 мая 1751 года
Тело Николатини нашли гондольеры. Оно плавало в Большом канале, недалеко от садов Пападополи. Сначала никто не узнал в распухшем трупе чиновника государственного обвинения. Но ближе к полудню одежду и вещи утопленника осмотрели представители власти, а сразу после сиесты на место находки, в сопровождении сбиров и мелких чиновников, прибыли инквизитор Кондульмеро и член Совета Десяти Альвизо Мочениго. Кареты вельмож Республики привлекли внимание, и сбирам прибавилось работы. Когда толпу оттеснили, инквизитор и Мочениго выбрались из карет и прошли к тому месту, куда, по сведениям гондольеров, выбросило труп несчастного государственного служащего. Высоким державным чинам доложили, что при осмотре тела следов насильственной смерти обнаружить не удалось, а также сообщили о том многозначительном обстоятельстве, что в последний раз сеньора Фульвио Николатини видели недалеко от этого места сильно пьяным, что проявилось посредством многочисленных непристойных и недопустимых для государственного служащего признаков.
– Синьор секретарь изволил громко распевать похабные песни, декламировал стихи, приставал к проходящим женщинам разного звания и сословий, а также попытался испражниться прямо на мостовую, – шепотом сообщил вельможам квартальный смотритель. Он не сомневался, что причиной смерти стало случайное падение пьяного синьора в канал.
– Такое уже случалось, – подтвердил слова смотрителя сбир, охранявший одно из соседних палаццо.
Кондульмеро оставил набережную Большого канала в глубокой задумчивости. Он не вернулся в Дворец дожей, а приказал отвезти его через врата Святого Фомы на загородную виллу, расположенную на Фельтринской дороге. Там он принял водные процедуры, рекомендованные ему эскулапами как средство для успокоения возбужденных слизистых каналов, и на два часа уединился с рабыней-турчанкой. Для медицинских упражнений на вилле инквизитора обустроили точное подобие древнеримских терм с мраморными ваннами, горячими и холодными помещениями.
Уже расслабленный амурными умениями, мягкими губами и шелковистой кожей юной наложницы, Кондульмеро закрылся в библиотеке. Именно в этой, надежно защищенной от сторонних глаз и ушей, комнате инквизитор принимал доверенных агентов, чьи услуги оплачивал из секретного фонда Трибунала, иногда добавляя денег из собственного кармана. В библиотеку вел тайный ход, начинавшийся далеко за стенами виллы, среди виноградников в незаметном гроте. Там агент вверенным ему ключом открывал сложные замки двойной железной решетки, а потом, практически вслепую (факелы гасли здесь от нехватки воздуха), проходил полторы сотни шагов узким неосвещенным проходом, наступая на крыс и срывая с лица липкую паутину.
Когда агент подходил к секретной двери, ведущей в библиотеку, хитрый механизм сигнализировал о его приходе звуком крохотного звоночка. Инквизитор нажимал на спрятанный под столом рычаг, а тот, в свою очередь, включал механизм, отодвигавший один из книжных шкафов. За шкафом открывался спуск крутыми каменными ступенями, ведущими в подземелье. Там оборудовали еще одну решетку. Ее можно было открыть только со стороны библиотеки. Устройство на спуске позволяло убедиться, что секретным ходом воспользовался именно агент, а не подосланный врагами наемный убийца. Для этого отрезок коридора перед решеткой осветили сложной системой металлических зеркал, которые перебрасывали в подземелье либо солнечные лучи (если дело происходило днем), либо пропущенный через призму свечной свет из библиотеки.
Так случилось и в этот раз. Перед тем, как подойти к подземной решетке, Кондульмеро в специальный глазок рассмотрел того, кто пришел на тайную аудиенцию. Солнечный свет, последовательно отразившийся от четырех медных зеркал, высветил болезненное узкое лицо с ухоженной бородкой «под Карла Испанского» и бледными губами. Этого агента инквизитор знал как Рикардо. Хотя подозревал, что настоящее имя узколицего содержало гортанные звуки, характерные для варварского наречия алеманов[114].
Кондульмеро не спеша спустился по ступенькам, ответил на приветствие Рикардо скупым кивком и открыл решетку. Инквизитор собственноручно смазывал ее жиром, добытым из чрева нарвалов. Кроме своей непосредственной функции это вещество выявляло предателей. Если бы Рикардо пришел со злыми намерениями, кованые завесы при повороте издали бы особенный отчаянный скрип. В этом свойстве жира нарвалов инквизитор имел возможность убедиться дважды.
Закрыв решетку, он провел агента в библиотеку. Затем вернул на место шкаф и тщательно проверил, не подслушивают ли со стороны внутренних помещений виллы. Убедившись, что ищеек поблизости нет, Кондульмеро занял глубокое кресло, специально подогнанное под формы его тучного, обремененного болезнями тела.
– Ты уже слышал об утренней находке? – спросил он агента.
– Монсеньор имеет в виду убийство писаря Николатини?
– Именно это монсеньор и имел в виду. А ты уверен, что это не был несчастный случай?
– Уверен. Писарь снюхался с аббатом Мартини.
– Это проверенный факт?
– Вы платите мне, монсеньор, а я плачу́ тем, кто обладает точной информацией. За деньги в Венеции можно узнать обо всем. Даже о том, прошу прощения, что именно сказал светлейший дож своей любовнице сеньоре Леоне нынешним утром, после того как в третий раз воспользовался ночным горшком.
– Это не смешно.
– Однако же это правда, монсеньор. Продажность в Республике стала всеобщей.
– Тогда ты должен знать, кто убил Николатини. Вернее, кто приказал убить несчастного секретаря.
– Еще не знаю, но могу узнать. За ваши деньги.
– Но хоть какое-нибудь предположение есть?
– Предположение, монсеньор, всегда есть.
– Масоны?
– Вероятнее всего.
– Выходит, они как-то узнали о том, что Николатини стал агентом Рима.
– Я же говорю, монсеньор, все тайны имеют цену. А масоны далеко не бедны.
– А что касательно того дела, которое я поручил тебе на прошлой неделе?
– Я узнал. Вы были правы.
– Детальнее.
– Но, я прошу прощения, ваша милость, вы в прошлый раз…
– Рикардо, ты ужасный вымогатель. – Кондульмеро достал из тайного ящика тяжелый кошелек и бросил его на колени агенту; звякнул металл. – Может, это не мое дело, парень, но ты слишком много играешь. Мне сказали, что с Рождества ты проиграл не меньше, чем стоит пристойный особняк.
– Моя профессия того требует, монсеньор. Нигде люди так не болтают, как за игрой в боччи[115], – заметил агент. – И редко кто так легко расстается с опасными тайнами, как игроки.
– Смотри не переусердствуй.
– Все профессии имеют свои недостатки и риски, монсеньор. Врачи вынуждены ежедневно общаться с заразными и вонючими пациентами, сбиры – с отбросами общества, а исповедники – с занудными грешниками и грешницами. Моя профессия тоже не без печалей. Я должен время от времени проигрывать в боччи всяким ослам, чтобы те на радостях рассказывали о тайнах своих хозяев.
– Давай о деле, – поторопил его инквизитор.
– Я снял копии со свежих гороскопов, составленных для светлейшего дожа его личным астрологом. Тем старым лисом Пинетти, приехавшим из Рима накануне Дня святого Марка[116]. Вот они. – Рикардо положил на стол кипу бумаги. – Ничего критического, за исключением…
– Я сам посмотрю. – Инквизитор поднес к близоруким глазам гороскоп. – Гм… – он поднял глаза и встретился с равнодушным взглядом агента. – Я правильно понял?
– Вы о чем?
– О светлейшем доже.
– Я огорчен.
– Чем ты огорчен? Ты не мути воду, здесь мы вдвоем, можно без галантных предисловий.
– Светлейший дож не доживет до следующей Пасхи. Если, конечно, синьор Пинетти правильно растолковал небесную карту. Кстати, монсеньор, там есть и ваш гороскоп. Дож заказал римлянину гороскопы всех высших чиновников.
– Я смотрю.
– Под гороскопом младшего Корнаро.
– Говорю же: я смотрю, – дыхание инквизитора участилось.
– Извините, монсеньор.
– А это что? – Кондульмеро ткнул в латинскую надпись. – Какая такая «смертельная опасность со стороны Марса, который будет находиться в созвездии Девы»?
– Там растолковано.
– Ага, вижу… Какой еще к черту «звездный крест в шестом Доме»?.. Здесь написано, что мне угрожают этот крест и планета Марс, до тех пор, пока Герметическая Дева остается в заключении.
– Что-то вроде того, монсеньор.
– И тебе известно, что конкретно имеется в виду?
– Я могу только догадываться.
– Я слушаю.
– Но, монсеньор…
– Я же только что сказал тебе: не надо предисловий, Рикардо, всех этих «но». Мы с тобой, как-никак, не первый год знаем друг друга.
– Я думаю, что речь идет об арестованной масонской крале.
– О Констанце Тома?
– Да.
– Какая же она «дева»? Она замужем.
– Генрих Тома – импотент.
– Вот как? С такой очаровательной женой?
– Брак по расчету. Банкира интересуют не женщины, а овощи. Ну и деньги, конечно. Он ведь банкир.
– А что интересует банкиршу?
– А вот ее-то как раз интересуют женщины.
– Да? – оживился Кондульмеро. – Она последовательница сафических дев с Лесбоса?
– Известная последовательница, монсеньор. Говорят, что в Триесте у нее гарем юных наложниц. Кроме того, она завлекла в свои игры чуть ли не половину тамошних знатных дам. Все просто без ума от этой Констанцы. Ее сестра, кстати, тоже разделяет с ней ложе.
– Дьявол, Рикардо, очень часто метит своих слуг красотой… А среди наших аристократок у Тома есть любовницы?
– Не знаю, монсеньор. Хотите узнать?
– Я заплачу за эту информацию.
– Я поспрашиваю у знающих людей.
– Поспрашивай, обязательно поспрашивай… Значит, она еще девственница?
– Есть такое предположение.
– И тогда «Герметическая Дева» – в самую точку.
– Да, монсеньор.
– Выходит, для того, чтобы избежать опасности, я должен способствовать освобождению гнусной шпионки, революционерки и развратницы?
– Вам решать, монсеньор.
– Вот оно как… – Инквизитор застыл, наблюдая, как солнечный луч, прорвавшийся сквозь пыльное окно и не менее пыльное стекло книжного шкафа, играет узкими отблесками на золотом тиснении фолианта. Он вдруг почувствовал себя предельно незащищенным. Ощутил всеми фибрами свое сквозное сиротство на ветрах жестокого века.
«Только подумать! Николатини, государственного служащего Республики, утопили в канале, как котенка, за одну лишь связь с черным аббатом! Все вокруг продажные, все предатели. Этот узкомордый негодяй прав… Я ведь тоже дал аббату аудиенцию, говорил с ним о Тома. Масоны наверняка знают об этом. Конечно же знают. Они, аспиды, все знают. А если они вдруг решат, что именно я превратился в главную преграду на пути освобождения их ведьмы? Вот тогда и придет Марс к созвездию Девы! К созвездию, под которым я родился. С кинжалом придет, с удавкой, с медленными и быстрыми ядами. И кто его тогда остановит? Кто? Эта, до последнего винтика прогнившая, государственная машина?»
Умирать инквизитор не хотел. Его тело хотело жить, совокупляться с покорной и нежной наложницей, вкушать вкусные блюда, приготовленные специально выписанным из Неаполя поваром, и пить густое кипрское вино. Перед его внутренним взором вновь возникло раздутое мертвое лицо сегодняшнего утопленника. Он, наверное, тоже любил жизнь и ее маленькие радости.
– Пойдем, проведу тебя, – обратился инквизитор к Рикардо, нажимая ногой на рычаг под столом и тяжело поднимаясь с кресла. – Собери для меня все, что можно узнать о масонах. Все-все, что тебе удастся узнать. Не жалей денег и будь осторожным. Я буду ждать тебя в этот же время ровно через три дня.
Констанца уже в первую неделю после ареста потеряла счет дням. В конце концов от голода и отчаяния она впала в странное состояние, когда грань между реальностью и видениями из четкой разделительной линии превратилась в туманную и призрачную полосу, которая уже ничего не разграничивала и никого не останавливала. От реальности к видениям и обратно начали двигаться контрабандные фрагменты впечатлений, снов, ужасов и воспоминаний. Сначала ей казалось, что за ней вот-вот придут палачи, и она представляла себя вопящей голой и раскоряченной на спине деревянной «кобылы». Констанца физически ощущала, как острая сосновая доска медленно и неумолимо режет грешные места ее тела, впивается в распухшую плоть, как привязанные кожаными ремешками свинцовые гири растягивают ее бедра и медленно срывают с ног кожу. Как уксус, в котором палачи вымочили ремешки, разъедает обнажившееся мясо, как большие черные мухи садятся на ее раны, чтобы отложить в них свое потомство. Боль предвиденная превращалась в боль реальную, сотрясала ее плоть и в конце концов выбрасывала сознание в спасительное небытие.
Потом она просыпалась и понимала, что все это всего лишь бред. Что она ни на миг не покидала своей камеры. В ней стояла жаркая духота, но тело Констанцы не реагировало на жару ни по́том, ни жаждой. Приносили теплую невкусную воду, она ее выпивала, но легче не становилось. Все время она думала о предстоящих пытках, о том, что не выдержит их, что нарушит клятвы и раскроет инквизиторам масонские тайны. Констанца пробовала биться головой об стену, но не потеряла память, а лишь набила шишки и обвалила штукатурку.
Время от времени в ее смешанных с реальностью видениях появлялся Григорий. Он молчал, и она понимала, что это не просто молчание, а загадочная «священная немота», которую проповедовали суровые отшельники со склонов Святой горы. Она просила у него прощения за все свои обвинения и омыла свое философское покаяние половодьем слез. Как реальных, так и сотканных из астральной влаги. Но Григорий не вышел навстречу ей из ледяного панциря своего безмолвия, а только смиренно и грустно смотрел на нее. Этот взгляд она ощущала кожей, ежилась под ним, как под кнутом заплечных дел мастера. Но потом образ Григория отступал и сменялся другими видениями. К ней приходила Лидия, к которой она стремилась и которую звала каждой клеткой своего тела. Образ словенки приносил ей утешения Венеры, и Констанца не отказывалась ни от одного искушения во время тех похотливых грез, когда ее тело получало неземное наслаждение и содрогалось в бесчисленных оргазмах. Она ощущала, как эти утешения ослабляют ее и без этого ослабленное тело.
«Ну и пусть, – решила она. – Лучше сейчас умереть с голоду и изнурительных истечений любовного сока, чем потом извиваться и кричать, сидя на кровавой «кобыле», и умирать под насмешки и похотливые взгляды мракобесов. По крайней мере, тогда все тайны братства умрут вместе со мной».
Иногда видения переносили ее на заседания ложи, и она слышала голос Досточтимого мастера, который спрашивал:
– Ou se tiennent les Apprenties?
– Au Septrention, parce qu'elles ne peuvent soutenir qu'une faible lumiere[117], – отвечала она.
«Только слабый свет, нежный свет, тихий свет, свет весенний и осенний, свет последней Стадии», – шептала она, ощущая, как ей открывается новая, неожиданная сторона ритуальных формул вольных каменщиков. Ее предупреждали. Ей советовали из глубины столетий. Она должна была опасаться яркого света. Со всех ног бежать от него. Но она слишком поздно постигла истину, спрятанную мудрецами в словах древнего ритуала. Она позволила, чтобы ее поместили под яркий свет, и теперь он медленно убивал ее.
Иногда в ее воспоминаниях всплывал тот день, когда она получила посвящение в Chambre de reflexion[118], где она три года тому назад простилась со своей профанской жизнью. Там, в Пещере размышлений, Второй эксперт спросил ее:
– Si vous etiez a l'heure de la mort, dites-nous quell serait votre testament?[119]
«Я б написала, – отвечала она теперь, – всем сестрам, всем профанкам, мечтающим стать сестрами, чтобы они никогда, никогда, никогда не взваливали на себя бремя, которое не смогут вынести на слабых женских плечах!»
Во время одного из таких видений Констанца ощутила рядом с собой чье-то невозможное присутствие. Она увидела незнакомого мужчину. Сначала ей показалось, что это брат, на бедрах которого завязан запон. Но спустя минуту она осознала, что никакого запона на мужчине нет, что это враг – мелкий служащий местного Трибунала, мерзкого сборища мракобесов и фарисеев.
«Чего ты от меня хочешь, чудовище?» – мысленно вопросила Констанца, но ей не хватило сил, чтобы произнести эти слова покрытыми коркой губами.
– Не бойтесь меня, синьора, – неожиданно прошептал враг. – Меня зовут Тито. Я на вашей стороне, я ваш брат. Мы боремся за вас и не дадим вас в обиду. Дож, сочувствующий нам, категорически запретил поддавать вас пыткам. С завтрашнего дня вас начнут кормить. Но употребляйте только ту пищу и воду, которую вам будет приносить одноглазый надзиратель, и ни в коем случае не прикасайтесь к другим подношениям. И все будет хорошо. Вскоре вас, как подданную империи, выдадут австрийцам. По дороге мы вас освободим. Держитесь, синьора.
«Слава Великому Архитектору, пыток не будет!» – успела подумать она перед падением в угольно-черную пропасть забвения.
В тот же день, когда Кондульмеро узнал об опасности, грозящей ему со стороны Марса в созвездии Девы, а секретарь Тито открылся Констанце, в Венецию, под видом странствующего негоцианта, прибыл русский тайный агент Авенир Хвощов. Тот самый офицер, которого так ждал Макогон. Он приплыл из Хаджибея[120]на турецком баркасе, имея четкие инструкции канцлера Бестужева и резидента Обрескова. Едва распаковав дорожные чемоданы, Хвощов приступил к исполнению своих секретных обязанностей.
Он беседовал с каждым агентом наедине в подземелье старого склада, расположенного в районе Санта Кроче. Когда-то здесь держали пряности. Камни до сих пор хранили дразнящие запахи корицы и перца. Хвощов восседал на застеленном бархатом огромном сундуке, как на престоле, принимал отчеты и раздавал наряды. Григория он встретил приветливо, предложил присесть на скамейку, освещенную солнечными лучами, падающими из узкого окна, расположенного под потолком склада. Лицо Хвощова оставалось в полумраке. Григорию оно показалось круглым циферблатом, на котором, показывая без четверти три, застыли стрелки напомаженных гвардейских усов.
– Наслышан, наслышан о борзых твоих диспозициях, – начал посланник Санкт-Петербурга. – Вовремя сделать ноги тоже нужно уметь. Кто не сумел, тому сейчас черти пятки жарят. Что тебе известно о планах крестника Иуды?[121]
– Знаю, что собирается в эти края. Желает договориться с турками о войне.
– Это нам и раньше было известно. Мне, Гриша, нужно знать следующее: какой дорогой он будет ехать, в каком отеле остановится, с кем именно будет ехать и с кем из турков встречаться намерен. С Давтар-агою? С Черуметом? С Касимом? С кем именно?
– Об сем не ведаю, господин. Об этом он должен был написать Констанце, но ее схватили…
– У тебя есть его письма к ней или копии писем?
– Нет, господин.
– Знаешь, где они лежат?
– В секретной шкатулке банкира Тома.
– Знаешь, как ее открыть?
– Нет.
– Сможешь нарисовать чертеж банкирского дворца и указать, где эта шкатулка лежит?
– Смогу.
– Семен говорил, что банкирша открылась тебе как Орликова аманта. Это правда?
– Да.
– А где и когда он имел с ней любовь, она тебе поведала?
– Говорила, что в Париже.
– Странно, – закрутил ус Хвощов. – В Париже у Орлика есть жена, тамошняя придворная графиня. Она там его от себя далеко не отпускает, и любовь, говорят, между ними знатная. С чего бы это он повелся на какую-то итальянку?
– Вы ее не видели, господин.
– Красивая?
– Supra modum![122]
– Понятно, – кивнул Хвощов, но Григорий догадался, что ему не удалось развеять сомнений начальника. – Значит, ни о чем полезном точно не ведаешь…
– Констанцу арестовали как раз, когда…
– А с кем из фармазонов, кроме нее, ты тут знаешься? – перебил Хвощов.
– С двумя венецианцами, – соврал Григорий.
– Как их зовут?
– Росси и Пульчини, – Сковорода назвал фамилии кучера и камердинера банкира Тома.
– Кто такие?
– Местные патриции.
– Не слышал, но проверю, – заверил Хвощов, записывая придуманных патрициев в хартию. – Я вот о чем думаю, Гриша: здешние фармазоны теперь будут держаться от тебя как можно дальше. Они же могут именно тебя, карася такого, подозревать, что это ты их красавицу сдал местным властям. Скорее всего, и подозревают.
– Меня? – сделал удивленные глаза Сковорода, хотя, по правде, он давно допускал такую возможность. Ему показалось, что он уже понял, куда клонит Хвощов.
– Тебя, карасик, тебя, – подтвердил агент и чихнул: дух перца брал свое. – Исходя из сего, я придумал тебе новый наряд. Сейчас в австрийских землях начинается большое движение. Православных людей мучают, отбирают церкви и земли. Православные не хотят пребывать под католической короной и подают прошение к австрийской цесаревне, чтобы отпустила их к нам, в Малороссию, на поселение. Там всем этим движением руководит деятельный сербин Хорват. Он майор австрийской службы, а вокруг него люди разных рангов и разной преданности. Нужно внимательно присмотреться к тем людям, кто среди них истинно стремится соединить судьбу свою с православным царством, а кого собираются подослать к нам для дел злозатейных.
– Но… – начал Григорий.
– Это приказ, – голос Хвощова стал твердым. – Пока что, до того как сделаем тебе новый паспорт, посидишь на баркасе. Тихо, как мышь. Думаю, несколько дней, не дольше. За это время нарисуешь план дворца банкира и письменно, со всеми деталями, изложишь, как выглядит его секретная шкатулка… Да, чтобы я не забыл, – он снова чихнул, – еще напишешь все, что знаешь, о тех двух твоих знакомых фармазонах. Как они выглядят, в каких чинах-званиях, из каких семей вышли, где их имения, ну и все остальное, что тебе о них известно. Когда получим для тебя паспорт, поплывешь в Сплит, а оттуда поедешь в Вену. Мы должны действовать быстро. Царская служба, Гриша, не терпит промедления. Все.
Агент дал знак, что больше не задерживает Григория. Тот на миг заколебался, но потом поднялся со скамейки и медленно, слегка прихрамывая, направился к выходу. Хвощов провел его равнодушным взглядом.
Ведьмин лаз, август, наши дни
Александр Петрович так и не притронулся к текиле. Он упрямо глотал свое теплое пиво под насмешливыми взглядами девушек. А затем, когда на Ведьмин лаз надвинулись аквамариновые горные сумерки, вдруг клюнул носом в нагрудный карман куртки и захрапел.
Младший Вигилярный удивленно уставился на спящего «карпатского эсквайра».
«Вот тебе и бдящий старший брателло, – подумал он. – Это ведь он спецом не пил крепкого, чтобы, типа, контролировать ситуацию. Доконтролировался старшой, мда…»
– Устал твой Саша, – заметила Лидия.
Ее голова удобно расположилась на животе Павла Петровича. Девушка уже дважды позволила поцеловать себя в губы и совсем не сопротивлялась младшему Вигилярному, чья рука блуждала где-то между ее ослабленным ремнем и тетивами стрингов.
– Интересное здесь место, – сказала Лидия, вглядываясь в отвесную скалу. – Со всех сторон окружено горами, сразу и не найдешь.
– Говорят, здесь ведьмы испытания проходили, – вспомнил легенду Павел Петрович.
– Кто говорил? – поинтересовалась Лидия.
– Вон тот, утомленный пивом местный житель, – младший кивнул на спящего Александра Петровича. – Рассказывал, что молодых ведьм здесь намазывали волчьей кровью и голых пускали бежать к какому-то озеру.
– Волчьей кровью? – переспросила Лилия и скривилась. – Какая гадость!
– Фольклор, – фыркнула ее подруга и отхлебнула текилы. – Эти народные легенды так уже все переврут…
– А травки здесь интересные растут, – заметила Лилия, протянула руку и вырвала из скальной расщелины клок травы с подсохшими цветами, в которых еще угадывался голубой цвет. – Это ведьмовская травка.
– Как называется?
– Горечавка.
– А по-научному «гентиана», – добавила Лидия. – Был такой царь Гентий, лечил этой травкой чуму.
– А почему она «ведьмовская»?
– Из нее колдуньи зелье варят, – сказала Лилия. – Сильное зелье, целебное… Это тебе не байки про волчью кровь.
– А вы будто знаете, как было на самом деле. – Павел Петрович попытался расстегнуть молнию на джинсах синеглазой красавицы. Лидия поцеловала его в шею и томно потянулась. Ее джинсы сползли до критической линии, оголяя крутое бедро, перечеркнутое красной полоской стрингов.
Лиля заметила эти маневры и спросила:
– Тебя раздражает, что мы одеты?
– К тебе претензий никаких, а вот Лида чего-то стесняется. – Вигилярный положил руку на голое бедро Лидии. Оно показалось ему удивительно твердым.
«Накачанная девушка!» – оценил младший.
– Холодновато для стриптизов, – буркнула Лидия. – А ты, Паша, ленишься конкретно. Собрал бы сухих веток для костра. Мы с Лилей девушки гламурные, комфорт любим. Ты не обращай внимания, что она почти голая сидит. Ей тоже холодно, просто она понтуется.
– Мне не холодно, – возразила спортсменка, откинулась на одеяло и потянулась всем телом так, чтобы младший увидел и соблазнительный изгиб ее спины, и четкий рисунок мышц живота. В сумерках ее тело обрело кошачью грацию, словно вечерние тени дорисовали то, что дневные подчеркнуть поскупились.
– А я без огня не разденусь. – Лидия надула губки. – Хочу огня, хочу тепла.
– А у огня разденешься?
– Легко!
– Догола?
– Ясный перец.
– Тогда уже иду, – радостно согласился Павел Петрович, встал и толкнул старшего: – Не спи, брателло!
Александр Петрович проснулся и увидел Лилию, на которой из одежды остались только полупрозрачные трусики.
– Я что-то пропустил? – спросил он. Затем, не дождавшись ответа, констатировал:
– Лиля, котик, формы тела у тебя божественные. Как говорил один мой знакомый художник: дианическая фигура.
– Я знаю.
– Если я правильно догадался, ты занимаешься плаванием.
– И плаванием тоже.
– А ты куда собрался? – Вигилярный-старший переключил внимание на брата.
– Сушняк поищу, костер разведем.
– Не боишься оставлять этих красавиц с таким крутым мачо, как я?
Девушки переглянулись и зашлись смехом. Лиля нагнулась к уху подруги и что-то прошептала. Та кивнула.
– Я тебе помогу, – предложила Павлу Петровичу Лидия. – Когда мы сюда шли, то видели вон там, за горой, – она показала на юго-восток, – целую кучу сухих веток. Я думаю, нам их до утра хватит… Между прочим, перед топливной экспедицией нужно заправить баки. Паша, не спи, дорогой, наливай!
Павел Петрович разлил текилу. Старший брат вновь показал зна́ком, что не меняет градус. Лидия выпила, подтянула джинсы и первая двинулась в том направлении, где, по ее словам, лежало готовое топливо. Ее ноги легко бежали крутой тропой. Младший тряхнул отяжелевшей головой и последовал за девушкой.
Вдвоем они быстро обогнули холм. Как только скальный гребень спрятал их от глаз Александра Петровича и Лилии, Вигилярный-младший прижал Лидию к себе. Она ответила ему страстным поцелуем. Павел Петрович почувствовал, как рука девушки скользнула вдоль гульфика, нащупывая отвердевший корень его мужской силы. Он направил ее руку так, чтобы она не наткнулась на электрошокер. Потом принялся стягивать с девушки футболку, но Лидия ловко выскользнула из его объятий.
– Подожди… Давай не здесь, – предложила она. – Разведем костер и тогда уже, котик, дадим себе жизни.
– Дадим жизни?
– По полной программе, котик.
– Ну ты и…
– …бестия, – подсказала Лидия.
– Ага, бестия. Самая сексуальная в мире бестия.
– Да, я такая. – Темнота скрывала выражение глаз девушки. А дыхание ее оставалось на удивление ровным.
«Жесткая секси, – оценил Павел Петрович. – Тут дыхание сбить постараться надо. Ночка намечается яркая и громкая».
– Мне теперь сложно будет сушняк собирать – Он снова попытался прижать к себе девушку.
– Сам виноват. И вообще, чем дольше ожидание, тем глубже наслаждение. – Лидия снова оказалась ловчее младшего сына капитана. – Все, котик, держится на равновесии. Перед кайфом полезно пострадать.
– Ну, ты почти философ.
– Почему «почти»?
– Нельзя быть философом с такими классными бедрами.
– Неужели классные бедра мешают мыслить? – рассмеялась Лидия.
– С таким телом, как у тебя, функция мышления становится лишней.
– Ты мерзкий, отсталый половой шовинист.
– А ты слишком образованна, как для официантки.
– Хочешь меня обидеть? – сморщила носик девушка.
– Ладно, извини. Гнилой базар, проехали. Идем, лапа, ветки собирать. – Павел Петрович глубоко вдохнул вкусный горный воздух и направился в заросший кустами распадок. – Ну, и где это вы здесь сушняк видели?
Когда, нагруженные сухими ветками, они вернулись к Ведьминому лазу, там уже не было ни «карпатского эсквайра», ни спортсменки. На безмолвный вопрос Павла Петровича Лидия ответила действием. Она нашла среди камней трусики подруги и со смехом бросила их в младшего. Тот заметил, что рядом с тем местом, где Лилия оставила последний из предметов своей одежды, лежали куртка и рубашка брата. На всякий случай Вигилярный-младший проверил тот рюкзак, где братья спрятали идолы и канделябры. Все было на месте.
– Давай разводи костер, – приказала Лидия. Она сняла футболку и принялась вызывающе поглаживать грудь. – Видишь, котик, у меня не только бедра классные… Чем быстрей разведешь костер, тем быстрей попадешь в земной рай.
– И ты будешь Евой?
– Я буду бешеной райской бестией. Когда согреюсь.
Павел Петрович нагнулся, чтобы сложить основание костра – ромб из самых толстых веток; именно в этот миг кто-то ударил его по затылку. Ему показалось, что его глаза отрываются от головы и летят в глубины какого-то пестрого космоса. Он ощутил, как мякнут, подгибаются ноги и гаснет-гаснет-гаснет окружающее бытие.
Фельтринская дорога, севернее Местре, 2 июня 1751 года
Акробат Карл Дальфери, которого агенты полиции двух королевств и одной империи знали как разбойника и повстанца Гаэтано Ландриани, вторые сутки ждал в засаде на Фельтринской дороге. В засадном деле старый вагант был изрядным мастером. Он соорудил среди камней незаметное, тщательно застеленное овечьими шкурами гнездышко и щедро раздавал ценные советы другим, менее опытным, членам масонского отряда, собравшегося для освобождения Констанцы Тома.
Время от времени с юга подъезжали конные посланцы Смита, информировавшие Дальфери о том, как продвигается дело экстрадиции арестованной в Австрию. С их слов получалось, что Совет Десяти с часу на час примет окончательное решение о передаче Констанцы имперской жандармерии. Во дворе Дворца Прокураций уже ждала обитая железом карета, в которой Констанцу должны были привезти на границу владений Габсбургов. Возле кареты круглосуточно дежурили вооруженные братья. Смит боялся, что враги попытаются изнутри обрызгать карету ядом. Государственные стражники были все до одного подкуплены. Они обещали оказать лишь номинальное сопротивление. Севернее засады, в горах, Констанцу ждали верные слуги семей Тома и Анатолли во главе с Клементиной. Беглянка должна была пересечь швейцарскую границу с паспортом сестры. Сама Клементина взялась отвлекать от маршрута Констанцы возможных преследователей. Ей надлежало отправиться в свободные кантоны другим путем. На почтовых станциях невеста графа Асканио Д'Агло планировала привлекать внимание служащих к своей персоне и называться Констанцей Тома.
Наконец прискакал посланник английского консула, сообщивший, что арестованная сестра уже в железной карете, едет по Фельтринской дороге под охраной сбиров, подкупленных Смитом. Дальфери и бойцы его отряда приготовили ружья, проверили порох и надели маски. Напряжение достигло максимума. Особенно волновался молодой англичанин, добровольно согласившийся принять участие в освобождении Эпонины, ставшей за последние недели настоящей знаменитостью в мире лож и революционных клубов. Этот юноша по возрасту был лишь кандидатом в вольные каменщики. Дальфери, после долгих сомнений, согласился на его пребывание в отряде.
– Стреляем в воздух! В людей не стреляем! – напомнил бойцам акробат. – Все стражники и полицейские агенты подкуплены. Мы должны хорошенько набить этим псам морды, чтобы они достойно выглядели перед своим начальством.
– Достойно? – переспросил кто-то.
– В собачьем понимании этого слова, – уточнил Дальфери.
Все захохотали.
– А если карета поедет другой дорогой? – поинтересовался один из бойцов.
– На других дорогах их также ждут наши друзья, все предусмотрено, – заверил Дальфери. – Там меньше людей, чем у нас, но они, в случае чего, справятся. А сейчас – все по своим местам! Замаскироваться, ждать.
Минуты потянулись медленным караваном. Но вот акробат поднял в знак внимания руку. За выступом придорожной скалы дробно застучали копыта, загрохотали тяжелые колеса. Сначала на дороге появилась запряженная цугом шестерка лошадей. Она тянула за собой громоздкую карету. Конные стражники в темных плащах держались от нее на расстоянии двух конских корпусов.
Побледневший молодой англичанин вдруг начал целиться в конных.
– Идиот! – Дальфери толкнул его, а тот машинально нажал на курок. Кремень упал на полик, выбил искры, вспыхнул порох и грянул выстрел.
Остальные масоны, как и договорились, выстрелили в воздух. Стражники послушно остановились и соскочили с коней. Карета по инерции проехала еще шагов тридцать. Ее затормозили, подложив под колеса палки, сволокли с козлов кучера и полицейского агента. Те тоже не сопротивлялись.
Дальфери сорвал с пояса агента ключи и открыл дверцу тюремного рыдвана. В карете находился еще один агент, и на лице его обозначился смертельный испуг. Пистолеты агента лежали рядом с ним, на лавке.
– Это не я, это не я сделал! – завопил он, но получил от акробата мощную зуботычину и мешком повалился на пол. Вместе с Дальфери в карету взобрался пожилой масон из Ломбардии, доверенный приятель Смита.
– Дьявол! – прошептал ломбардиец, осторожно принимая на руки почти невесомую Констанцу. – Пуля сопляка не могла пробить железо!
Легендарная Эпонина была мертва. Из ее разбитого виска на шею стекала тонкая струйка крови. На бледном исхудавшем лице застыло безграничное удивление.
– Это не пуля, – определил Дальфери, осмотрев рану. – Она, скорее всего, ударилась головой о решетку, когда мы тормозили чертов катафалк. Или вот эта мразь, – кивнул он на полицейского, – ее ударила.
– Она сама ударилась… Да-да, сама! – прохрипел сквозь выбитые зубы агент, получил ногой в живот и замолк.
– На все воля Великого Архитектора! – сказал ломбардиец, снимая треугольную шляпу. – Покойся в мире, сестра! Встретимся на Вечном Востоке!
В ту несчастливую ночь, когда вольные каменщики оплакивали Эпонину, баркас с Григорием на борту покидал землю святого Марка. Сковорода наблюдал, как исчезают за горизонтом огни Венеции. Последним погас свет маяка на Мурано[123].
Ему подумалось, что жизнь посвятившего себя поискам Живого Бога напоминает такое вот ночное отплытие в морскую тьму. Веселые огни профанического мира, такие соблазнительные и заманчивые в юные годы, постепенно гаснут за горизонтом высшего знания, а ум искателя одиноко странствует в темной загадочной беспредельности, которой окружил себя Всевышний после того, как сонм неблагодарных ангелов восстал под неправедным флагом Денницы. Искатель отплывает к этой беспредельности, переполненный страхами и надеждами. Профанических огней все меньше и меньше. Последним – как этот одинокий маяк на острове стекольщиков – гаснет красный огонь Венеры. И тогда беспредельность сбрасывает все маски и обретает свой истинный вид, сущность которого темней самой темной из земных ночей. А все потому, что непостижимо горькой была та древнейшая обида Творца на восставшее свое творение.
Слезы накатились на глаза Григория.
Но резкое дуновение северного ветра их высушило.
Он вынул флейту, и грустные звуки заскользили вслед ветру. Жизнь продолжалась. Он снова странствовал, беспредельность была его домом, наилучшим из домов, не требующим ни одежды, ни охраны. Звездный купол накрыл собой все хижины, дома и дворцы мира, а стены его были там, где заканчивалась воля Единого. И никто ничего не ведал о его дверях и окнах.
В ободранном мешке жителя беспредельного дома покоились, не ссорясь между собой, следующие предметы: снаряженный всеми необходимыми подписями паспорт на имя вольного студента-теолога Владислава Жакевского из Кракова, курительная трубка, записная тетрадка в кожаной обложке (подарок Хвощова), тридцать полновесных гульденов и две кроны мелкими монетами (замотанные в тряпки, чтоб не звенели). А еще: иконки, письменные принадлежности, напечатанное латынью Четвероевангелие и сделанные Григорием в Триесте копии гностических гравюр.
Флейта жила своей жизнью, соревновалась с ветром, срывавшим с ее горла только что рожденные звуки, а на сердце Григория скреблись злые кошки. Его заветная мечта увидеть Рим разрушилась за шаг до ее свершения. О судьбе Констанцы он также не ведал, однако знал иным знанием, что уже никогда ее не увидит. Ничто не сдерживало его от погружения в беспредельность. Ничто не стояло между ним и новыми приключениями. Тело привычно перемещалось поверхностью того смущенного несовершенством мира, который географы и моряки считали исполинским шаром. Странствия приближали его к неприветливому пространству полицейской империи, где разгоралось пламя политических споров между католиками и православными. Как ему виделось, в спорах тех (мелких и преходящих пред ликом Бога Живого) ему суждено сыграть роль пылинки, сорванной с родных грунтов ветрами капризного века и несомой далеко-далеко, в неизвестное будущее.
Часть ІІI Стадия Урана. Исихия и Андрогин
Ведьмин лаз, август, наши дни
Зрелище, открывшееся глазам Павла Вигилярного после возвращения сознания в его тело, относилось к разряду невозможных. Под скалой пылал большой костер. В нем горело вдесятеро больше сухих ветвей, чем натаскали они с Лидией. Вокруг костра собралось пять молодых женщин, среди которых он узнал обеих любительниц текилы. Их волосы были распущены, ноги босы, а Лилия стояла совершенно нагая. Тела остальных прикрывали длинные полотняные балахоны, расшитые изображениями птиц и вписанными в круги крестами. Женщины протягивали руки к пламени, словно пытались согреть озябшие ладони.
Вигилярный-младший сделал попытку привстать, но не смог. Его руки и ноги крепко связали капроновыми веревками. Со своей позиции Павел Петрович мог видеть лишь малую часть площадки перед скалой. Он резко дернулся, пытаясь опереть плечи на выступающий камень и тем увеличить свои возможности обозревать окружающее. Этим движением он зацепил что-то стеклянное. Оно зазвенело. Лидия оглянулась, внимательно посмотрела на связанного историка, потом снова сосредоточила внимание на пламени, хищные языки которого тянулись к ее ладоням. Вигилярный заметил ее отстраненный холодный взгляд. В ней не было заметно и тени той веселой оторвы, с которой он кувыркался на здешних камнях.
«Это убийцы профессора, оборотни, – мелькнула в голове младшего паническая мысль. – Они нас развели, как последних лошар… Су-у-уки! А где же Саша? Убили? Или только связали, как меня? Для чего? Что эти твари собираются со мной сделать?»
– Кто вы такие? – громко крикнул он женщинам. – Где мой брат? – и еще громче: – Саша! Ты меня слышишь?
Брат не отозвался. Эхо, отраженное горами, вернулось завыванием: «Ыш-и-и-шь…»
– Лежи тихо, – приказала одна из женщин. – Если будешь вопить, мы тебе рот заклеим.
Ее голос показался знакомым.
«Мама дорогая! – за долю секунды все тело Вигилярного покрылось холодной испариной. – Это же киллерша, замочившая Гречика … Та самая спортивная девка. Мне тапки».
Он закрыл глаза, пытаясь сконцентрировать мысли. Потом напряг запястья и плечи, проверяя прочность веревок. Зря. Капрон болезненно врезался в тело. Вигилярный почувствовал, как заныли его опухшие кисти, и попытался определить, сколько времени могло пройти с того момента, когда он потерял сознание. Учитывая, что на небе вызвездило, он решил, что минуло не менее двух часов.
«Чего это гребаные ведьмы там ворожат? – он снова попытался опереться на вертикальную глыбу в изголовье. – В чем состоит их план? Зачем им понадобилось разжигать такой огромный костер? Зажарить меня хотят, как барана, на вертеле? Хм… Не смешно… А зачем эта чертова сука Лилька все время бегает голышом? Может, это у них такая извращенная лесбийская секта? Банда розовых колдуний?»
А еще его мучила мысль о том, что он сам подговорил старшего брата прийти в это гиблое место. Прийти, как оказалось, прямехонько во вражье логово. Почему так произошло? Сколько процентов случайности и сколько чужого замысла содержала в себе их экспедиция к Ведьминому лазу? И что теперь делать?
Его вопросы остались без ответов. Возле костра продолжался безмолвный ритуал, потрескивали горящие ветки, время от времени среди сосен каркал ворон.
Неожиданно одна из женщин отозвалась на крики птицы.
– Отче Ворон, сущий по невинной крови, хорошо ли слышишь меня?
– Кр-р! – резко, будто прорубая топором ночную тишь, отозвалась птица; от этого крика волосы на голове Павла Петровича зашевелились.
– Чьими устами ты желаешь поведать нам волю крови?
– Кра-кр-р!
– Благодарю тебя за совет, отец Ворон, мы будем слушать нашу сестру, как тебя самого. Мы будем спрашивать у нее советов, как спрашивали бы у тебя. Мы будем подчиняться ее воле, как подчинялись бы воле Той, на плечах Которой ты преодолел безмолвие времени и молчание смерти. Сестра, каким умением ты владеешь? Ведь тот, кто не владеет истинным ремеслом, не способен войти к Таре.
– Спроси меня, – услышал он мелодичный голос Лидии, – я ткачиха.
– Ты нам не нужна. У нас есть искуснейшая ткачиха Лина, дочь Ламы.
– Спроси меня, о, привратница, – снова пропела Лидия. – Я целительница, ученица северного ветра.
– Ты нам не нужна. У нас уже есть целительница Роксана, дочь Мокоши, могильной праматери.
– Спроси меня, о, избранная. Я певица и танцовщица.
– Ты нам не нужна. Нас тешит своим пением и танцами Глица, дочь Мары и Каймы.
– Спроси меня, суровая сестра. Я истинная воительница, разрушительница смертной плоти.
– Ты нам не нужна. Нас защищают меч и стрелы бесстрашной Сербы, дочери Карны.
– Спроси меня, Навна. Я чистая и незапятнанная предательством, я обращена лицом к звездам, я та, кто приносит подношения Таре. Я сильная и искусная во всех истинных ремеслах.
– Сестры, возрадуйтесь, к нам пришла та, которую мы ждали. – Голос привратницы налился неожиданной силой, вознесся к звездам, эхо от скал усилило его, а ночь впитала этот голос и все его горные и долинные отзвуки в свои бархатные складки, как песок впитывает воду. – Сестры, возрадуйтесь, призванная жрица пришла к Звезде-Таре, именуемой Харвад, к Третьей Таре, восставшей после Агадхи и Смилданаха. Зачем, о жрица, ты принесла пыль внешнего мира на ногах своих?
– Я обошла три святыни предков и молилась на семи могилах, – отозвалась Лидия. – Я общалась с людьми Света, вкушала хлеб в домах неистовых, слышала слова, оглашенные во враждебных храмах. Я видела зло и жестокость, несправедливость и предательство. Свет покидает наш мир, сестры, как и предупреждали нас мудрые предки.
– Как мы можем избежать этого, жрица?
– Спроси меня. Я была глазами избранных в пустынях упадка.
– Сможем ли мы уничтожить неправедных властителей и облегчить ярмо на выях человеческих?
– Не пойдет это людям на пользу. На смену сегодняшним деспотам придут новые, худшие. Среди людей власти уже нет людей Света.
– Способны ли мы вселить праведность в человеческие сердца?
– Сердца людей ныне закрыты для слов истины. Они видят и не понимают, слышат, но не разбираются, знают, но не верят даже в плоды собственных знаний. Если мы пойдем этим путем, то только потеряем время и силы.
– Найдем ли нового пастыря для малого стада?
– Час пастырей еще не пробил. Если зерно проснется посреди зимы, принимая за весну преходящую оттепель, оно зря прорастет и быстро погибнет.
– Должны ли мы впасть в отчаяние, надеть траурные одежды и оплакивать гибель мира?
– Нет, не должны, ибо зерна праведности тихо спят в земле, ожидая своего часа. Им нужны не плакальщицы, а те, кто будет хранить их священное ожидание, они нуждаются в стражах их долгого сна. Готовы ли вы, сестры, охранять спящие зерна праведности? Не отступите ли в темную годину опасности?
– Мы готовы стать стражами и хранителями колыбелей зерен праведности. Мы не отступим ни перед угрозами, ни перед оружием. Мы не впадем в сомнение, не испытаем жалости, не послушаем профанов. Но с древних времен повелось, что все радости и горести сего служения разделяют с нами наши братья.
– У вас уже есть такой брат, тщательно избранный и обученный. Он получил посвящение Круга Ворона, он прозорливый и прошел все надлежащие испытания.
– Да, у нас есть такой брат, но время его служения исчерпалось, и сила его подвержена упадку, как и все, что отмечено изначальным проклятием вещества. Мы просим Тару усилить нас новым прозорливым братом и благословить его на надлежащие испытания.
– Тара услышала вашу просьбу и найден тот, кто способен получить Свет.
– Выдержит ли он испытания?
– Этого не знает даже Та, имя Которой мы не произносим. Никто не может предвидеть победителя в изменчивых играх Света и Тьмы. Он или пройдет испытания, или покинет поля этого мира. Пусть же вершится неисповедимая воля Сил!
– Да будет по слову твоему, избранная! – хором ответили Лидии ее «сестры».
Скит на скалах Ополья, в Рогатинском старостве, 6 ноября 1752 года
Григорий стоял на берегу Гнилой Липы. В это утро он уже четырежды спускался к реке по воду. Ночью то ли мелкие бесенята, то ли звери повредили бочку с водой, где скитские иноки хранили воду для себя и для коровы, недавно купленной за сребреники, присланные из Манявы[124]. Брат Силуан вспомнил мирскую профессию, заделал дыру, а послушнику Сковороде выпало наполнить опустевшую емкость.
На половине подъема он присел отдохнуть и, неожиданно для себя, перешел в измененное состояние. Окружающее потускнело, из-за декораций мира выдвинулось нечто необъятное и настоящее. Удивление разбежалось мурашками по телу, а под черепом надулся ощутимый пузырь пустоты. Григорий долго стоял, восхищенный столь внезапным и полным исчерпанием вселенских пределов. Так долго, что перестал ощущать окоченевшие пальцы и губы. Ему вдруг захотелось вырваться из собственной плоти и решительно шагнуть за окоем мира, туда, где он только что почувствовал чье-то грандиозное и праведное присутствие. Как будто некто бесконечно благой и сочувствующий ему, бедному послушнику, шепнул: «Иди ко мне, сын мой, согрейся моим теплом, обрети пристанище в моем глубочайшем покое». Этот шепот потряс его естество сильнее грома. Он бы так и ушел из своего голодного, изморенного, замерзающего тела, если бы не внезапное мирское явление. От порога бесконечности его отвлекло появление местного подростка. Скуластого, круглоголового, с водянистыми невыразительными глазами. Видение благой беспредельности погасло, пузырь пустоты в голове Григория сдулся.
Мальчик остановился в пяти шагах от Сковороды, несколько минут наблюдал за его лицом, а потом произнес:
– Ты – дурило!
Григорий не ответил.
– Ты – дурило! – вызывающе прокричал отрок.
Григорий не отвечал, жалея об утерянном видении. С этим нахальным и поразительно упрямым парнем, которого в селе звали Нырком, он познакомился, как только прибился к местной киновии[125].
Тогда Нырок занял удобную позицию на скале, нависавшей над скитом, и бросался оттуда камнями. Один из камней больно ударил Григория по хребту. Старший по киновии иеромонах Авксентий посоветовал ему тогда не обращать на Нырка внимания.
«В уши безумнаго ничтоже не глаголити, егда похулит мудрыя твоя словеса», – напомнил старинную школярскую формулу иеромонах.
– Ты – дурило, дурило, дурило! – не умолкал Нырок. Его бессмысленные крики опошлили утреннюю благодать, разрушили прелесть осеннего опольского утра, отразились от холодной воды Гнилой Липы и поскакали куда-то на запад, к Рогатину.
«Господи, всюду одно и то же!» – думал Григорий, вспоминая венских и пресбургских подростков, чьи кукиши и непристойности за спинами странствующих монахов стали для него неотъемлемыми атрибутами городских прогулок. Добрые прихожане во всех христианских странах натравливали своих детей на иноков. Говорили им, что бродячие монахи – бездельники, живущие за счет других, что набожность их фарисейская, а на самом деле они проходимцы: тайком пьянствуют, не имеют страха Божьего и приносят несчастье.
«А разве плохо быть настоящим проходимцем? – спросил себя Сковорода. – То есть во имя Божье идти и идти этим миром, собирать с его жестких стеблей золотые зерна духовного постижения?»
Григорий взгромоздил на плечи коромысло с двумя всклень наполненными ведрами, натужно выпрямился и, не спеша, двинулся скользкой тропой к скиту.
«Бросит или не бросит?» – гадал он, представляя, как Нырок выводит из-за спины свою грязную руку с булыжником. Он вспомнил старинную византийскую притчу о мальчиках, смеявшихся над священником. В притче рассказывалось, как из моря вышло чудище и безжалостно сожрало насмешников. Григорий представил, как из Гнилой Липы выбегает нечто вроде здоровенного сома с ногами, борзо догоняет и проглатывает Нырка. Как ни пытался Григорий отогнать от себя людоедскую фантазию, она упрямо обрастала деталями. Пока он дошел до ворот скита, у воображаемого сома кроме ног появились зубы и чешуйчатый хвост, а перепуганный до загаженных штанов Нырок перед смертью падал на колени, просил прощения и напрасно молил небо о милости.
С этой фантазией в голове Сковорода добрел до иеромонаха, стоявшего у ворот, словно серое изваяние. Авксентий смотрел на послушника. Густые брови нависали над глубоко посаженными глазами, как дощатые навесы над верхними окнами владыческой резиденции в Переяславе. Под этими бровями-навесами нельзя было разглядеть выражение его глаз. Лицо отца Авксентия грозно-розово пылало сквозь бороду и седые пряди, торчащие из-под потертой скуфейки. Ряса не скрывала монументального телосложения иеромонаха, мощных плеч и природной осанки воина. Поговаривали, что до пострига он успешно грабил купеческие возы и барские кареты, а за наименьшее сопротивление карал повешением. В одну из грешных ночей на душегуба сошло Божье озарение. Он навсегда отрекся и от разбойнического прошлого, и от мира. Сие чудо случилось еще во времена Яворского[126]. Уже много лет раскаявшийся тать умертвлял свою грешную плоть по малым тихим скитам, разбросанным меж Белым морем и землями волохов. Однако, вопреки многолетнему суровому посту, сила в теле монаха осталась. Она проявлялась неожиданно, иногда и без мышечных усилий. Казалось, монах себе как монах – ничего особенного. Однако же, когда Авксентий перед шляхтичем или сельским старостой отстаивал скитские привилегии, тело его, незримое под широкой рясой, вдруг проявляло властное свое присутствие, и мир становился теснее, у́же. Еще несколько минут, и родовитый собеседник Авксентия незаметно для себя терял гордую уверенность, прикипал глазами к темным провалам под густыми бровями, мялся, соглашался и отступал.
Когда Григорий достиг ворот, Авксентий экономным движением руки остановил послушника, пробежал глазами по его лицу и взглядом приказал ставить ведра на землю. Григорий выполнил безмолвную волю наставника, припал к его большой, поросшей жестким седым волосом, руке.
– Ты неспокоен, – заметил иеромонах.
– Да, отче.
– Отчего же?
– Плохое мерещится.
– Что именно?
– Только что имел видение, отче. Зрел злозатейное чудище, пожиравшее недоросля Нырка, яко кит праведного Иону. Держу в сердце, отче, зло на сего отрока. Вот оно, сие зло, и возникает перед моими глазами грешными мысленными парсунами. Отныне поклоны бить буду вдвое против обычного. Благословите, отче, на сугубое послушание.
– Велико ли оно было?
–..?
– О чудище вопрошаю.
– Крупнее старого сомища.
– А цвета какого?
– Черное, аки нощь, а пасть червленая, озорная.
– «Чередник» Германа читал?
– Нет, отче. Простите убогого.
– Тот Герм жил на Западе во времена апостолов и, как пишут, был рукоположен в пресвитеры. Однажды узрел он страшное чудище, надвигающееся на него, словно сухопутный кит, имевшее пасть огромную, способную поглотить целые народы. Герм был добрым христианином, надеялся на Господа и не испугался. Пошел с молитвой и знаком Христовым на чудище, и оно ослабело. Потом оказалось, что сие приключение Герма было зна́ком Господним. Вскоре начались гонения христиан[127]. Вполне возможно, сын мой, что твое видение суть не о безбожном отроке неразумном, мечущим в иноков диколиты, а пророчество грядущих гонений христиан от еретических правителей.
– Примем, отче, смерть достойно, по примеру древних мучеников.
– Что ты знаешь о смерти? – голос Авксентия оставался ровным, но что-то неуловимое пробежало по его лицу и скрылось в концентрических морщинах, окружавших темные кратеры глаз.
– Известно мне, что ею путь не заканчивается.
– О каком пути глаголишь?
– О тайной тропе избранных, отче, приближающей нас к Богу единому.
– Начитанный ты, сын мой, искусный в словах и языках. Но ведаешь ли ты о разумном делании молитвы?
– Читал дивные творения преподобных мучеников Дионисия Ареопагита, Максима Исповедника и Григория Паламы, – бодро перечислил авторитеты Сковорода, душа и разум которого пели радостные гимны: долго, очень долго ожидал он этого разговора.
– Что ведаешь о преподобном Максиме?[128]
– Преподобный боролся с монофелитами во времена неправедного императора Константина, сына Ираклиевого, отстаивал наличие у Христа двух несоединенных и неразделенных воль. За таковую твердость в православии его, вместе с папой Мартином и всеми их учениками, поддали гонениям. Ему отрубили правую руку и сослали на далекую окраину Римской державы. Там он и почил в Бозе, продолжая исповедовать правдивое толкование «Символа веры».
– А известно тебе, что говорил преподобный о соборности Церкви?
– Известно, отче. Он сказал царским судьям, что даже если в мире останется всего один-единственный исповедник истинного православия, то этот один вместе с Господом составят полную соборность Церкви, против коей даже вселенские сборища еретических епископов не имеют законности.
– А скажи мне, сын мой, что было бы, если бы смерть, о которой ты так книжно глаголишь, постигла и этого, умозрительного последнего христианина?
– Соборность прекратилась бы, – сказал Сковорода, покраснел и попытался добавить: – Но ведь…
– Я знаю, что ты мне сейчас скажешь, – едва заметно кивнул головой бывший душегуб. – Ты скажешь, что я упражняюсь в софистике. Возможно. Но когда ты говоришь о том пути, который не заканчивается смертью, то напоминаешь мне несмышленого мальчика, размахивающего деревянной саблей и называющего себя казаком. Он бьет своей деревяшкой по крапиве и твердо знает, что уже готов сражаться с сотней турок.
– Отче, простите мне книжность мою, – Григорий упал на колени перед наставником, – научите меня разумной молитве, каковую возносят афонские молчальники, Христом-Богом молю вас. Не отвергайте от себя убогого. Ради этого пришел я в сей спасенный скит, преодолев искушения и отбросив, как дырявое вретище, грозную волю державных мужей и вельможных дигнитариев.
– Когда простишь Нырка, приходи. Расскажешь мне о своих искушениях и отринутых тобой державных мужах, – все тем же ровным голосом продолжил Авксентий, дотронулся правой рукой до горячего лба послушника, отвернулся и легкими шагами направился к монастырской храмине.
Ведьмин лаз, август, наши дни
«Сестры» с двух сторон подошли к Павлу Петровичу. Их лица были сосредоточены, зрачки расширены. Одна из них держала в руке нож с длинным и тонким лезвием.
«Сейчас эти гребаные наркоманки меня зарежут», – догадался Вигилярный-младший и впал в ступор. Ему стало безразлично. С того проклятого похмельного утра, когда он сбежал через канализацию из дома профессора, Павел Петрович подсознательно чувствовал, что рано или поздно, но убийцы Гречика его разыщут. Правда, он не ожидал, что это произойдет так быстро.
Уже несколько недель в нем ширилась и разветвлялась невидимая трещина, отделяющая его мироощущение от того обычного и относительно безопасного пространства, в котором младший сын капитана прожил всю свою сознательную жизнь. А теперь вселенские координаты сдвинулись окончательно. Суровая правда жизни с языческой свистопляской ворвалась в его уютный мирок, трещина превратилась в пропасть, куда рухнула его воля к сопротивлению.
«Сестры» помогли ему встать и удержать равновесие, а жрица с кинжалом одним молниеносным движением разрезала капроновые веревки на руках. Боль в запястьях частично возвратила его в реальность.
– Мочите уже быстрее, хватит измываться, – попросил он своих мучительниц сквозь боль и равнодушие.
– Дайте ему омей, – услышал он за спиной мужской голос. – И освободите ноги.
«Здесь эти суки не одни!» – Вигилярный оглянулся, ища источник голоса. Но никого не увидел. От резкого движения он почувствовал головокружение. Руки женщин, его державших, стали более жестокими, твердые пальцы глубже вонзились в тело Павла Петровича. Он не стал сопротивляться, подсознательно смирившись с безнадежностью своего положения. В этот миг он встретился с глазами одной из державших его «сестер». В них не было ни кровожадного предвкушения, ни сострадания. Эти глаза напомнили ему рыбьи и прибавили чувству безысходности некую чеканную определенность. Но в то же время где-то рядом с отчаянием запыхтел-заработал вулканчик протеста. Маленький, но живой.
«Лучше умереть, не теряя достоинства, – забулькал вулканчик, – чем стать игрушечной жертвой на этом клоунском ритуале!»
– Пей! – услышал он голос Лилии и ощутил, что веревки больше не ограничивают движений ног.
Словно завороженный ледяным взглядом жрицы, Вигилярный не заметил, как нагая спортсменка оказалась перед ним и поднесла к его губам флакон с ароматной жидкостью.
– Пей, это омей, напиток Силы. Тебе понадобится Сила.
– А не легче просто убить?
– Ты прикоснулся к запрещенным вещам, пытался достичь закрытого для профанов и теперь должен пройти испытания. Пройдешь – будешь жить, не пройдешь – умрешь.
– Чего «закрытого»? – услышав слова «будешь жить», Вигилярный словно проснулся.
– Пей!
– Не буду. Оно воняет.
– Тебе надоело жить?
– Меня же стошнит, – сказал он, хотя еще за минуту до этого планировал гордо заявить ведьмам, что готов принять смерть. Протестный вулканчик в голове капитанского сына обиженно фыркнул и заснул.
– Пей! – Лилия провела по его губам теплым краем флакона.
Вигилярный приоткрыл рот и позволил спортсменке влить в себя полглотка омей. На вкус «напиток Силы» напоминал горячий грибной бульон, смешанный с подсолнечным маслом и еще чем-то жгучим. Павел Петрович уже решительнее проглотил жидкость, которая сразу окутала горло приятным теплом. Как только он жадными глотками опорожнил флакон, «сестры» отошли и остановились в двух шагах от него.
– Сними одежду, – приказала Лилия.
– Что?
– Сними с себя всю одежду.
– Я…
– Иначе ее разрежут на тебе, – спортсменка кивнула в сторону жрицы с кинжалом.
Вигилярный выругался и принялся стягивать с себя куртку. За несколько минут он оказался совершенно голым. То ли в августовской ночи потеплело, то ли подействовал жгучий напиток, но холода он не ощутил.
Кто-то прикоснулся к его спине. Он не решился оглянуться (пусть делают что хотят!), а затем ощутил, как чьи-то руки размазывают по его коже теплое масло. Он вспомнил рассказ старшего брата о молодых ведьмах, которых под этой скалой намазывали волчьей кровью. В том рассказе Александра Петровича возникало слово «испытание».
«Это меня будут испытывать, как тех ведьм? Выходит, Саша меня о чем-то предупреждал? Он знал о чем-то? О чем? Может, он вступил в заговор с этими ведьмами?» – промчалась быстрая дикая стая вопросительных мыслей. Он на миг закрыл глаза, решился и спросил Лилию:
– Вы заставите меня голого бежать к озеру?
– Не все сказки лгут, – подтвердила та. – Людям тяжело испытывать людей. Люди могут ошибиться, поддаться чувствам, но духи не ошибаются. Духи озера древние и капризные. Если они позволят тебе выжить, значит, все не зря.
– Что? Что не зря? – он судорожно дернулся, ощутив, как чья-то рука скользнула по его ягодицам и прикоснулась к гениталиям. Эта рука нанесла на его кожу какую-то жирную и теплую мазь.
– Выживешь – узнаешь, – услышал он за спиной. Теперь это был голос Лидии.
«Значит, это она натирает мой зад», – догадался Вигилярный.
– Куда вы Сашу дели? – спросил он.
– Молчи, – отрезала Лилия. – Мы все в воле богов. Все до единого.
– Ты должен молчать, иначе все может пойти неправильно, – поддержала ее Лидия. – Тогда тебе не спастись… Сестра, помоги мне.
Лилия присоединилась к процессу. Вигилярный наконец-то увидел, какое именно вещество втирают в его кожу. Ведьмовская мазь менее всего походила на волчью кровь. Она была полупрозрачной, цвета желтка и едва ощутимо пахла дегтем. Женщины горстями черпали мазь из деревянной миски и размазывали круговыми движениями посолонь – слева направо.
Вдруг Лилия остановилась и словно к чему-то прислушалась.
Ни один новый звук не усложнил ночную тишину. Трещал костер, ночные существа грызли, скреблись и щелкали в сосновом лесу.
А потом где-то далеко, очень-очень далеко, завыл пес.
Теперь «сестры» все до единой оборотились в ту сторону, откуда донесся собачий вой. Их лица ни на йоту не изменили своего отчужденного выражения, но в движениях наметилось свежее напряжение. Державшая кинжал машинально сменила захват оружия, покрепче обхватив рукоятку и положив большой палец в углубление гарды.
Что-то произошло, понял Павел Петрович.
– Начинаем, – приказал мужской голос.
Вигилярный снова попытался рассмотреть невидимого мужчину. И вновь потерпел фиаско. Зато под скалой возобновилось коллективное движение. Четыре женские фигуры окружили притухший костер. В него положили свежие ветки, огонь вспыхнул вдвойне, разбрасывая по сторонам красивые искры.
– На повреждение келет, – произнес мужской голос то ли начальную фразу ритуала, то ли его название. Теперь капитанскому сыну показалось, что голос доносится откуда-то издалека, откуда-то из-за темных скальных масс, окружающих каменную площадку Ведьминого лаза.
– Зажигают они огонь и смотрят на Восток, туда, откуда приходит Свет, – пропел звонкий и юный девичий голос; затем он же продолжил:
Они, восемь дочерей Берлада и Славуни, Они, восемь светлых лучей звезды, Они, восемь смелых сестер Ворона: Первая из них – Ламия Галица с острым умом, Вторая – Ламия Сана с твердыми руками, Третья – Ламия Линна с могущественным голосом, Четвертая – Ламия Ярина с неутомимым лоном, Пятая – Ламия Турица с быстрыми глазами, Шестая – Ламия Эрця с ее красной бодливой коровой, Седьмая – Ламия Хольва с ее волшебным котлом омей и Восьмая – Ламия Навна с благословенным знанием Баа. Выходят они все вместе против демонов келет, Выходят они все вместе против духов страха, Духов небесных болот, духов предрассветных. Выходят они на рассвете и идут они дружно, Идут-шагают, вознося гимн Аведе, И гимн Аше-истине и славень Саошианту. Славень громкий, славень светлый, призывающий утро, Так что демонам келет сил не хватает И времени не хватает до восхода Солнца.Скит на скалах Ополья, в Рогатинском старостве, в ночь на 8 ноября 1752 года
Скупой свет масляной лампадки освещал иконы старинного подольского письма. Келья иеромонаха – крохотная землянка, согретая потрескавшейся печкой, – обрела от этого света вид места особенного, освобожденного от страдных законов мира. Здесь царил дух строгий и взыскующий. Беседа Сковороды с Авксентием по всем правилам должна была превратиться в исповедь Григория. Однако не превратилась. Позднее он и сам не мог себе объяснить, почему не рассказал иеромонаху о Констанце и оргии в Триесте. Как бы там ни было, а все, что касалось масонов, эмблем, амурных бестий и венерических испытаний, Григорий в повествовании о своих европейских скитаниях опустил. В то же время он не утаил практически ничего из шпионских приключений, детально описав и венские дела, и ексодус[129] православных сербов из владений Габсбургов, и сопротивление австрийской императрицы сему народному движению. Не утаил он от старца своего увлечения картами Таро, поведал ему и о фиаско своем на экзорцизме, и о заклятии убийственной молнии, преследующем его с младых ногтей.
Иеромонах слушал внимательно, не прерывая рассказа. Когда же тот исчерпался, долго молчал, а потом спросил:
– Как давно был под грозой?
– Этим летом, отче, на Спаса.
– Прятался?
– Залез в погреб, молился там. Огница дважды хлестнула землю рядом с моим укрытием. Охотится она на меня, отче. Мое заклятие – зеркало грехов моих неискупимых.
– Не заклятие, Григорий, а бремя судьбы преходящее. Желаешь от него избавиться?
– Знамо, отче.
– Бывает, сын мой, что от подобного бремени не следует избавляться.
–..?
– Господь ничего не совершает без цели. Если он возложил на тебя сие бремя, значит, в нем сокрыта цель. Знак на тебя наложен, избран ты среди человеков, отмечен свыше. Радуйся, веселись, тварь Божья! Харизму, сиречь дар небесный, получил ты в дни отрочьи. Святые мужи истово благодарили Господа за хори и увечья. Видели в них знамение указующее и метили ими прямой путь к Царствию Божьему.
– Сие за грехи мои.
– Каков упрямец… – помотал головой Авксентий. – Воззри, Григорий, на вещи мира сего не яко мышь из норы, а яко сокол, ширяющий свободно под облаками. То, что для мыши – предел мира, для сокола – холм или овраг с высоты ничтожный. Не от греха оно исходит, наоборот. Воистину, бремя сие защищает тебя от грехов, сын мой. Пока не найдешь себе другого защитника, оно будет защищать тебя. Благодари Бога за такое знатное знамение. И не бойся его. Бойся больше огниц и грома тихих демонов нрава своего.
– Буду считать так, как вы скажете, отец, – отступил Сковорода, и словно отпустили его сердце холодные щупальца давнего внутреннего упрямства. – Буду благодарить Бога истинного до смертного часа прекращения негодящего живота моего. Буду благодарить за бремя полезное, за знамение защищающее.
– Всевременно, вижу я, и усердно благодаришь Творца, Григорий, не устаешь. Сие похвально. А вот Богородице ни разу благодарности не огласил, – заметил проницательный собеседник. – Духа Святого не помянул также. Может, в странствиях своих впал ты в ересь ветхозаветников иудействующих и не признаешь Святой Троицы и всеблагой Заступницы нашей, Царицы Небесной?
– Верую во единого Бога, Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимого же всего и невидимого… – Сковорода начал оглашать «Символ веры». Авксентий остановил его после «и паки грядущего»:
– Вижу, что уберег тебя Господь милостивый от апостазии[130]. Однако же вижу твое гордое тяготение к Завету Ветхому. Если сентимент сей не в унижение Завета Нового, то греха в сем, по усмотрению моему, нет. На это надеюсь и в печаль великую войду, если ошибусь в тебе. Налагаю, сын мой, на тебя урок: от сегодняшнего повечерья и до дня Михайлового будешь читать братии Евангелие и Деяния. Во время трапезы и во время трудов ежедневных… – Он сделал паузу, позволяя Григорию приложиться к перстам, а потом переспросил:
– Ты сказал, что желаешь научиться разумной молитве, по примеру святителя Григория Паламы и праведных молитвенников Ватопедских?[131]
– Желаю, отче, всем сокрушенным сердцем желаю! – вспыхнули глаза Сковороды.
– Тяжкий и тернистый сей путь, сын мой. И для опытных монахов тяжел он, а для послушников и подавно. Для сего молитвенного делания нужно не только сердечное рвение, но и тщательное приготовление. Многие желали, да мало кто достичь сподобился.
– Благословите, отче!
– Не скачи так, не утомляй старика… Ныне не фискалом удостоен.
– Простите, отче.
– Ты, говорят, хвастался среди братии, что раньше пел в Петербурге, на соборном крылосе? Что до чинов превеликих придворного уставщика и канонарха дослужился?
– Истинно так, святой отец. Но чины сии ничтожные.
– Зачем же хвалился?
– Говорил без умысла вознестись над братией.
– Правда ли, что без умысла?
– Вот крест, – сполз на колени и перекрестился Григорий.
– В глаза мне смотри. – Авксентий взял послушника за подбородок и повернул его лицом к свету. Сковорода почувствовал силу его костлявых пальцев.
– Вижу, что не лжешь.
– Не стыжусь убогости своей.
– Это ты правильно делаешь… Ведаешь ли, сын мой, на чье прославление составлены были Антифоны святого праведного Игнатия Богоносца?
– Знамо, отче, – ответил Григорий.
«Не нужно быть канонархом или придворным уставщиком, чтобы сие знать», – мысленно хмыкнул он.
– Поведай мне.
– На прославление предвечной несотворенной Святой Троицы.
– А степенные Антифоны?
– По мнению эллинского книжника Никифора Каллиста, их написал Феодор, нарекаемый Студитом. Написал в память о древнейших Антифонах святого Игнатия. Каждый Антифон имеет три ступени, коих в каждом тоносе, то есть гласе, есть девять по видению Богоносца, который зрел, яко девять светлых чинов ангельских симфонично славили Святую Троицу. Сии воскресные Антифоны являются частью эллинского Октоиха[132] и представляют собой образ духовной лествицы добродетельной.
– А в чем ее смысл?
– Лествица Антифонов знаменует духовное вознесение. Антифоны были выращены Студитом из золотых зерен степенных псалмов. Святой Феодорит говорит, что к кипарисовой двери Соломонова храма вели двадцать пять мраморных ступеней. Когда священники колена Левиевого празднично шествовали к святилищу, то на каждой ступени останавливались и пели, меняя друг друга, по одному из псалмов. Святой Феодорит изрекает, что цари Давид и Соломон пророчески предвидели: народ иудейский впадет в грехи и окажется в плену Вавилонском, а потом из плена, под руководством десницы Божьей, с радостным пением вернется к развалинам стен Иерусалимских. Поэтому цари решили петь степенные псалмы на ступенях храма. А святой Августин…
– Любишь притчи ветхозаветные? – оборвал сей бурный поток эрудиции Авксентий.
– Ищу в них, отче, зерна правды для века нашего.
– Итак, – подытожил иеромонах, – в Антифонах можем наблюдать нескорбное восхождение от образа, сиречь от знамения девятки яко трехчисленной тройки, к вселенскому знамению предвечной Троицы.
– Воистину, отче.
– Вот от раздумий над сим дивным восхождением и начнешь, сын мой, подготовку к странствиям, ведущим к фаворскому свету. Углубишься в таинства девятки, числа знаменитого и в Библии щедро расписанного. Именно в девятом псалме дается нам надежда: «Не навсегда забыт будет бедный, не пропадет вовек надежда убогих». От девяти начнешь идти, последовательно отсекая число за числом, к простому и от простого к простейшему. Познаешь глубины Единого через отрицание признаков его. Так учил нас святой Дионисий в своем дивном послании к Тимофею. Святой, отрицая мир, знамения и признаки мира, сходил от познания низших качеств Господа к познанию самых первичных. Отказывался от всего сущего ради познания скрытого не-сущего, ради созерцания Божественного мрака, спрятанного за картинами видимого мира. Того Мрака, который, по словам псалмопевца, Творец сделал покровом своим[133]. Сия лествица ведет вниз, но не к адской тьме зла, сын мой, не к ней. Ведет она к тем темным энергиям, от коих зародилась Вселенная. Именно за ними спрятал Господь тот невечерний свет, который зрели избранные среди апостолов на горе Фавор.
– Все буду делать по словам вашим, отче, – прошептал Григорий.
– Начнешь познание девятки с упражнения. Закрой большим пальцем правую ноздрю.
Сковорода исполнил установку Авксентия.
– Теперь медленно девять раз вдохни и девять раз выдохни через левую ноздрю. Попытайся осознать свое дыхание. Нужно, чтобы выдох продолжался втрое дольше вдоха. Когда вдыхаешь, то посчитай до трех, а выдыхая, посчитай до девяти. И между окончанием вдоха и началом выдоха читай молитву Иисусову.
– Простите убогого, отче, а как осознать дыхание?
– Сначала представь, как воздух входит в тебя, как выходит. Представь, что это дышишь не ты, а дышит Вселенная. Что в миг, когда ты вдыхаешь, вместе с тобой вдыхают планеты и недвижные звезды на хрустальном своде последнего неба. Что каждая тварь Божья вдыхает в этот миг, от ничтожного насекомого под листиком до слонов, бегемотов, левиафанов и китов морских. И горы вдыхают, и долины, и озера, и океаны. А когда выдыхаешь, то вместе с тобой все сущее освобождается от лишнего воздуха и от эфира, которым наполнена вселенская бесконечность. И становится легким и не наполненным, яко в первый миг творения.
– Трудно, отче, такое представить.
– Я же сказал тебе, что путь к Божественному Мраку тернист и труден. Если бы было легко, все топтали бы эту дорогу. А так, только малому избранному стаду Божьему открыта она и посредством великих трудов познается… Следуем далее: когда ты вдохнул и выдохнул через левую ноздрю, заткни ее пальцем и так же делай девять дыханий через правую. И таких уроков днесь исполняй девятьсот девяносто девять. Изо дня в день все теснее будет соитие твое с Вселенной Божьей в осознанном дыхании. До того времени, пока не утвердится совершенное слияние, когда ты есть всем, а все есть тобой и нету между тобой и всем ни одной схизмы-трещины. Затем уже сможешь идти дорогой священномолчания, путем Дионисия и Паламы, зачеркивая каждым долгим выдохом ненужную часть мира. Уразумел?
– Буду идти по начертанному пути, отче, – заверил Григорий. Разговор растрогал его до слез, но он пытался показать свою твердость.
– И не забудь: от повечерия будешь читать братии! – сурово напомнил Авксентий и дал знак, что беседа себя исчерпала.
Озеро Несамовитое и его окрестности, август, наши дни
Лилия бежала впереди, а Вигилярный за ней. Его ноги покрылись мелкими порезами и ссадинами от колючек и камней, дыхание ежеминутно сбивалось, а сердце колотилось в ритме африканских барабанов.
«Гребаное приключение, все, спекся! – после очередного болезненного спотыкания решил Павел Петрович. – Кажется, ноготь сорвал, да и черт с ним…»
Они бежали пустынными местами, каменистыми тропами и пастбищами в седловинах гор, укрытыми лесом и высокими травами. Они огибали огромные валуны, оставленные в Карпатах ледниками, пересекали ледяные потоки, перепрыгивали через поваленные ели и разрушенные кордоны овечьих загонов. Однажды на их пути встала пастушья хижина-колыба, но сыроделов уже сморил сон и некому было удивиться зрелищу их колдовского бега. Полная луна щедро лила на землю пепельно-серебряный свет, от которого, казалось, фосфоресцировал горный воздух. Тропинки терялись среди деревьев и разнотравья, а потом возникали вновь, будто по воле незримого квест-оператора выбегая из-под земли. Если бы не Лилия, Вигилярный ни за что не нашел бы дороги среди густого ельника, зарослей можжевельника, душицы и чабреца.
Самым тяжелым оказался подъем на конусовидную лысоватую гору. У ее подножья, будто огромные черные овцы, клубились невысокие кривые деревья. На ее вершине Павла Петровича остановила резкая боль в затылке. Перед глазами вспыхнула и погасла звездная россыпь. Сначала боль напоминала волны, растекшиеся от раскаленного стержня, воткнутого в основание его черепа. Спустя несколько секунд стержень рассосался, а боль переместилась в узелки ледяной паутины, которая окутала затылок от шеи к темени и ушным аркам.
«Гребло ведьмовское! – мысленно выругался он. – Вы же, сестрички хреновы, мне почти что голову проломили».
– Здесь нельзя останавливаться, – услышал он голос Лилии.
– Не могу больше… Сейчас упаду… – Вигилярный обхватил голову ладонями; боль начала проходить, «паутина» расползлась на отдельные ноющие куски. Краем глаза Павел Петрович увидел, что Лилия подошла и смотрит на него. В свете луны ее натертое мазью тело блестело, как металлическая статуя.
– Дальше полегче будет, – заверила спортсменка. – Перейдем через эту долину, – она кивнула на темный и неровный, словно перекопаный исполинами дол, – потом лес, еще один холм, и там уже будет озеро. Надо двигаться, бежать. Иначе – беда.
– Темные силы? – скривился то ли от боли, то ли от слов Лилии Вигилярный.
– Тебе лучше знать.
– Я не хочу… Под хвост собачий все эти ваши знания… Ух, мать моя, женщина, как болит… Сейчас… – он покрутил головой, словно пытаясь сбросить с нее остатки «паутины». – Фу-у-у! Вроде бы отпустило.
Женщина кивнула и быстро сбежала по склону. Он на миг залюбовался ее экономной грацией, игрой мышц на спине и ягодицах. Дикое пространство странно соответствовало атлетической фигуре Лилии. Сила ее, казалось, раскрылась среди горных склонов, посеребренных лунным сиянием. На глазах у Вигилярного случилось чудо. Столетия стали прозрачными, из морока забвения восстали формы времен незапамятных. Юная богиня, как и тысячи лет назад, бежала к Несамовитому, рассекая крепкими коленями травы, а черная грива ее волос неистово металась меж плеч. Казалось, тело ее притягивало серебристое мерцание воздуха и с каждой минутой наливалось волшебным светом. Свободная и властная, словно истинная повелительница горного края, Лилия обрела мистическую власть над пространством. Она выпала из него в некий отдельный мир, где уже не было ничего невозможного для ее дикого светящегося тела. Если бы она в этот миг взлетела над горами, он бы не удивился. На какое-то мгновение Вигилярный пожалел, что не умеет рисовать и может разве что в памяти запечатлеть это зрелище.
Он ускорил свой бег, прислушиваясь к пульсации крови. Сердце продолжало бешено колотиться, но затылочная боль, к счастью, не возвращалась.
Они поднялись из ложбины на очередную вершину, поросшую редкими горными соснами и стелющимся кустарником. Здесь начиналось высокогорье. Окружающий пейзаж заметно изменился. Ночной горизонт распахнулся, открывая каменные пустоши, стекающие в расселины щебневыми языками. Луна на небе налилась пурпуром, а воздух стал прозрачнее и холоднее. Тишина приобрела странные свойства. Ни один цельный звук не разрывал ее гнетущего массива, но в воздухе, казалось, носились мелкие неуловимые отрывки звуков – полувой, четвертькрики, восьмые и шестнадцатые части звериных рычаний, – колебания которых человеческое ухо не улавливало. Однако эти куски и тени звуков все же воспринимались сыном капитана на каком-то подсознательном уровне и прорастали в нем тревогой.
Озеро он почувствовал раньше, чем увидел. Впереди разверзлась какая-то предельная бездна, граница мира. Ощущение было такое, что перед ним не крохотное горное озеро, а берег необъятного океана. С этого берега в лицо Вигилярному бил холодный штормовой ветер. Он мог бы поклясться, что чувствует йодистый запах, что у ветра соленый морской привкус.
«Что за бред!» – удивился бездне Павел Петрович, мотнул головой. Спустя мгновение он увидел темное пятно озера, лежавшего на дне почти круглого, словно метеоритный кратер, горного цирка. Над центром озера повисли космы тумана.
Лилия побежала прямо к воде. Рядом с ней возникла человеческая фигура, облаченная в темный балахон, полностью скрывающий тело. На голове человека была закреплена шаманская маска ворона – «голова» птицы с блестящими круглыми глазами и огромным саблевидным клювом. В правой руке человек-ворон держал длинный жезл с раздвоенной, как рогатка, верхушкой, а в левой – каменную чашу.
Поначалу Вигилярный никак не мог вспомнить, где именно он видел картинку с таким вот шаманским прикидом, но вскоре подсказка выплыла из хранилища образов. Похожую одежду в средневековье носили эскулапы, лечившие чуму.
Лилия тем временем опустилась на колени перед человеком-вороном.
– Отче Ворон, призванный преодолел путь.
– Ты полагаешь, что он готов к испытаниям? – Вигилярный слышал каждое слово человека-ворона, хотя тот не повышал голоса, а расстояние между ними было не менее тридцати шагов. Этот эффект Павел Петрович отнес на счет той странной акустической ситуации, которая образовалась в окрестностях Несамовитого.
– Силы мест, чьи владения затронул наш путь, не остановили его. На Лысой горе он ощутил прикосновение Жайвы, но смог продолжить странствие. Пусть духи Несамовитого сами вынесут ему приговор и решат его судьбу.
– Да будет так! – Ворон поднял свой жезл, словно салютуя упомянутым духам. В ответ по поверхности озера пробежало круговое вервие волн. Космы тумана выросли, загустели и превратились в облако, быстро покрывшее почти треть озера. – Призванный, подойди ко мне!
Вигилярному не хотелось подходить к шаману. Он оглянулся, ища альтернативы приозерному мистическому театру, и вдруг почувствовал, что ноги сами несут его к берегу Несамовитого.
«Вот тебе и карпатская магия», – сказал он себе и оказался прямо перед черным клювом шаманской маски.
– Зайдешь по пояс в воду, – услышал он глухой голос из-под маски, – и скажешь: «Пришел к вам взять не силой, а по согласию». Больше ничего не говори, стой там до того времени, когда тебе позволят возвратиться.
Вигилярного передернуло от одной только мысли, что придется лезть в воду. В том, что озерная вода ледяная, он ни на секунду не сомневался. Но принуждающая сила продолжала действовать. Мягкая и непрямая, эта сила теперь не подталкивала и не направляла. Она только делала мерзкими и противоестественными все возможности, за исключением одной. Вигилярный не хотел приближаться к воде, но при мысли о том, что он не войдет в эту тревожную воду, его выворачивало. Доводы разума не брались телом во внимание, их блокировало что-то сильное, снисходительное и в то же время неумолимое. Какая-то хитрая программа, стоявшая в иерархии разумов выше человеческого сознания. Поэтому Павел Петрович осторожно, слегка подсмеиваясь сам над собой, подошел к воде и пощупал ее пальцами. Холода он не почувствовал. Собственно говоря, он не почувствовал ничего, кроме смены среды на более плотную.
«Обыкновенная вода», – доброжелательно шепнула ему высшая программа. Уже смелее он сделал шаг, второй, третий и вдруг ощутил, что под ногами уже нет дна, что под ним разверзается подводная пропасть. Ноги скользнули по гладким камням, Вигилярный беспомощно махнул руками, куда-то рванулся, упал, и вода поглотила его. Высшая программа оставила случившееся без комментария.
«Вот и все…» – мелькнула мысль. Но она была не последней. Он еще успел подумать, что ни при каких обстоятельствах нельзя открывать рот и выпускать из легких атмосферный запас.
«Может, еще удастся выплыть».
Скит на скалах Ополья в Рогатинском старостве, 12 ноября 1752 года
Женщина в золотой одежде и смарагдовой короне присела около сенника, на котором Григорий забылся коротким сном. Коронованная ласково смотрела на него, и в темных ее глазах плескалось неисчерпаемое.
«Ты царица?» – спросил послушник.
«Я – Библия, сефира сфирот, книга книг и основа основ».
«Ты подобна мученице Софии, нарисованной в Михайловском соборе. Только на ней не было короны».
«Я также София Плерома, вечная мудрость мира. Я София Шехина, сопровождавшая пророков и судей во время блужданий по пустыням и скалам Эдома. Я София Хогма, вершительница милосердия. Я сокровище, которому не отдали должного. Я плоть и дух, буйство и мудрость. Я хартия исполнения времен. Я море и гавань, потоп и ковчег. Я Алеф, которого самочинные грамотеи положили после Кофа. Я Золотой Лев в железной клетке невежества и фарисейства. Я новый мир и новое человечество, земля живых, государство и царство любви, высокий Иерусалим. Я собрание фигур небесных, земных и подземных животных, чтобы явились они монументами, ведущими мысль нашу к пониманию вечной Природы. Через меня переступили, но я не держу обиды на невежд. Ты вернешься под сень моих колонн, когда устанешь идти не своими путями».
«Разве я иду не своим путем?»
«Придет время, и ты соберешь камни для своего Дома мудрости, и сикоморовые доски для крыши его найдешь, и гадов тех потопчешь, которые в погребе твоего Дома гнездо себе свили», – уверила его коронованная и растворилась в белом сиянии.
Григорий проснулся. Братию звали к заутрене. Сквозь слипшиеся, будто смазанные клейстером, веки он увидел спины послушников. Они уже встали и направились вон из задымленной землянки. За дверью царила ночь. Сковорода присел на сеннике, закрыл правую ноздрю, исполнил первую часть дыхательного упражнения, помолился, закрыл левую и закончил упражнение, пытаясь осознать свое дыхание и слиться со Вселенной в едином дыхательном ритме. Но смрадный спертый воздух не способствовал осознанию. Григорий зарекся, что в последний раз исполняет урок старца в землянке и сим опошляет заповеди великих молитвенников. Он выбежал на улицу, догоняя братию, которая как раз входила в храмину.
Уже не первое утро он, словно пришибленный, лишь плотью присутствовал на молитве. Разум блуждал где-то далеко, пробавляясь отрывками воспоминаний о Констанце, Венеции и Триесте. Сегодня ему также не удалось сосредоточиться на благовести от Матвея и Марка. Губы механически произносили слова, не превращая их в благодатный бальзам Евангелия, льющийся на израненные души и сокрушенные сердца.
Заутреня прошла мимо Григория. Щурясь на алтарный свет храмины, он вспомнил вчерашний разговор послушников об антихристе и конце света. Один из них, Онисим, пришедший в скит с юга, рассказывал, что тамошний прозорливый старец Иона Волох имел видение. Оно, утверждал Онисим, подтверждало пророчество святого Андрея Критского о рождении на Востоке, среди потомков затерянного в веках израильского колена Данового, апокалипсического супостата. К пророчествам святых мужей Онисим от себя добавлял устрашающие детали. Почти все понимали нарочитость его сказочных гипербол, но никто не смеялся над ними. Все доказательства близости Армагеддона в киновии воспринимали с потаенной радостью. Послушники мечтали, как пострадают при исполнении времен ныне счастливые и гордые владыки мира и богачи. Представляя их муки, они тайно тешились своей убогостью. Хотя, даже на исповеди, ни один из них не открыл бы этих потаенных завистливых закромов своих мелких душ, где удобно устроились грехи теплые и родные. А потому прощаемые.
«Родился антихрист под Черной горой, стоящей за стеной железной в китайских землях, – гундосил Онисим и таращил на собеседников глазища. – Вышел он из утробы косоглазой чертородицы уже с лицом старца, с рыжей бородой до пят и волосатым телом. И смрад чумной при рождении его разнесся китайскими землями так, что множество невинных детей из-за смрада того заболело и отошло к Господу. Еще не отрезали ему пуповину, как супостат тот отверз зубастый рот и трижды проклял Христа на трех адских наречиях».
«Во Львове, в латинских церквях, слышали голос, – подхватил тему золотушный Богдан, беглый холоп князей Чарторыйских. – И голос сей предвещал конец света этой зимой и нашествие Магога из севера. Говорят, что Магог ведет к нам миллионную орду и московские власти уже собирают против орды огромнейшее войско. Гонят на войну и малого и старого. Но ничего у них не получится, и за грехи свои сгорит Москва еще до Рождества, и пепел того пожарища развеется лесами-долами. А после нее Магог спалит Киев, уничтожит Софию, вырежет сердце митрополита и отдаст чертородице на съедение. А вои его будут топить печи иконами, саккосами и мощами Печерскими».
«Вот-вот, – вел свою арию Онисим. – Истинные, истинные эти знамения. Видел ясновидящий Иона Волох, что Магог треклятый соединится с чертородицей и антихристом и пойдут они совместно на Рим ветхий, и не останется в Риме ветхом ни человека, ни скота, ни малой твари дышащей. Всех погубят они, только Святая гора устоит перед антихристом, отмолят ее схимники, спрячут. Как подойдет к Афону антихрист, Богородица накроет покровом своим Святую гору, и не увидят ее антихристовы генералы и архидемоны».
Все послушники после таких сообщений согласились, что по всем признакам наступили последние времена. А Григорий и полслова не вставил в ту премудрую беседу, а только закрывал поочередно правую и левую ноздри и шептал что-то, не расслышанное братией. Но теперь, в годину тревожных предрассветных энергий, все страшилки онисимов и богданов восстали в его душе грозными призраками. Казалось, зрел он зарево над куполами киевских храмов и волосатое чудовище с факелом в когтистой лапе. Ему было жалко этот мир, такой прекрасный и гармоничный в натуральных его основаниях. Поэтому он тихо плакал, и слезы мешали ему слиться с братией в молитвенном единении.
После заутрени Авксентий подозвал Григория к себе.
– Говори мне без лукавства, – приказал иеромонах, – что гложет тебя, сын мой, что тревожит?
– Не выходит, не складывается у меня, отче, определенный вами урок, не способен я найти в себе столько силы подвижнической.
– И только-то?
– Я не могу осознать дыхания.
– Это потому, сын мой, что до сих пор ты не сподобился прекратить порабощающей работы своего разума. Когда разум не спит, лоза познавательной тьмы прячется и не дает плодов.
– Не спит, не спит разум мой, отче… Как усыпить разум? Как остановить труд его, труд скорбный?
– Смирением, сын мой. Одним лишь смирением. Не забывай: блаженны убогие духом.
– Я смиряюсь, отче.
– Смиряешься, сын мой, смиряешься, но не тем смирением, которое завещали нам великие старцы. Не тем… – В голосе иеромонаха появилась какая-то трещина, лед суровости треснул и выпустил на поверхность усталость. – Твое смирение должно быть глубже уничтожения всего того, что составляет сущность твоей персоны. Ты, сын мой, должен смириться таким образом, чтобы ощутить себя за пределом первой усложненности, должен исполеровать[134] в себе самую изначальную простоту мира сего. Должен стать проще червяка, меньше пылинки. И в своей последней малости, уничтожив самость свою и прекратив пытливую работу разума своего, ты должен будешь непрерывно и искренне прославлять Творца.
На глаза Григория, неожиданно для него самого, навернулись слезы.
– Это не слезы смирения, ты себя жалеешь, себя вередишь, – определил иеромонах; усталость в его голосе сменило раздражение. – Ты все еще хочешь быть царьком своего грязного внутреннего мирка. Нет никакого твоего мира, рабе Божий! Нет и быть не может. Это призрак дьявольский, призрак, призрак! Есть только Божий мир. Уничтожь, сотри в пыль свой ничтожный мирок, растопчи его ногами, сожги его! Растворись благодатно и сокрушенно в творении Божьем! Растворись без остатка, без надежды и ожидания на что-либо, кроме Господа Бога нашего!
– Я попытаюсь, отче. Я искренне попытаюсь. Я уничтожу, растопчу, растворюсь, отрекусь… – шептал Григорий, и слезы текли, текли по его лицу, и не видно было тем слезам исчерпания.
Озеро Несамовитое, август, наши дни
Та же беседка на черно-белом «шахматном» поле. Существо в серебряной маске смотрит на Вигилярного металлическими глазами.
«Ты уже понял?»
«Меня хотят использовать. Вот и все, что я понял».
«Тебе дают право на твое истинное назначение».
«У меня уже есть назначение».
«Какое?»
«Я историк, я напишу книгу о Григории Сковороде».
«О Сковороде уже написаны сотни книг. Ты хочешь потрудиться во имя приумножения привычного?»
«А какое тогда мое “истинное назначение”?»
«Стать продолжением Сковороды, стать Сковородой».
«Неужели «Сковорода» – это не фамилия, а титул?»
«И фамилия, и титул, и чин, и звание, и знак, и убежище посреди пустыни. Так повелось на этой земле, что только Сковорода через Библию создал свой отдельный мир, замкнул на себя суверенные смыслы и навеки остался самым выдающимся Хранителем Навны, завещанной этой земле предками».
«Простые люди не знают об этом».
«Простым людям и не надо об этом знать. Им такое не подобает. Как не подобает босым глазам смотреть на Солнце. Ослепнут от Солнца босые глаза. Простые люди пребывают в мировоззренческих блужданиях и будут пребывать там до исполнения времен. А для того чтобы они свободно могли предаваться своим заблуждениям, рожать детей, сеять хлеб и строить дома, кто-то должен предстоять за них перед Вечностью. Кто-то должен видеть и знать, скрывать и являть, заглядывать в бездны…»
«…и смотреть на Солнце?»
«Если тебе понравился этот образ, мысли свой долг через него. Кто-то должен смотреть на Солнце и не слепнуть».
«У вас есть очки для таких добровольцев?»
«Очки не нужны. Прогони Ехидну с лица своего».
«Каким образом?»
«Ощути, как Вечность побеждает смерть».
«..?»
«Сейчас ты одинок, очень одинок. И смерть приготовилась встретить тебя. Но вокруг тебя не пустота, а вода. Первейшая субстанция и основа основ жизни. Она может убить тебя, а может стать опорой для воскресения. Побеждая смерть, ты найдешь знание, которое нельзя вычитать в книжках и услышать на лекциях. Если ты воскреснешь для мира, значит, воскреснешь уже иным».
Беседка исчезла.
«Открой глаза!» – приказал голос Маски.
Он медленно, очень медленно – будто в фильме с замедленной съемкой – падал в холодную озерную бездну. Из рта его вырывались пузыри, а вода заливала уши, упрямо просачиваясь сквозь стиснутые губы.
«Не могу пошевелить ногами, – сказал он себе, будто смотря на свое тело со стороны. – Не чувствую ног… Это судороги… Все, звездец!»
«Говори! – велела невидимая Маска. – Говори слова!»
«Какие к хренам собачьим слова?!» – не понял он.
А потом вспомнил.
И мысленно их произнес:
ПРИШЕЛ К ВАМ ВЗЯТЬ НЕ СИЛОЙ, А ПО СОГЛАСИЮ
Словно электрический ток сотряс его тело. Жалящая энергия зародилась в чреслах, двумя потоками ушла в ноги и еще одним – в грудь. Вигилярный снова ощутил свои нижние конечности. Возрожденные ощущения отрапортовали Павлу Петровичу, что на самом деле никуда он не падает, а стоит под водой на четвереньках, на скользких плоских камнях. Он оттолкнулся обеими руками от донных камней, встал на ноги, и голова его вынырнула из воды. Глубина здесь была в три четверти роста. Правда, равновесие изменило ему, и он снова упал. Впрочем, это падение, в отличие от первого, было вполне контролируемым. Вигилярный быстро справился, вынырнул и несколькими рывками добрался до берега.
Там никого не было.
Горный цирк окутал густой туман. Озеро выглядело уже не границей бесконечности, а небольшим овальным водоемом, не длиннее ста метров.
Вигилярный беспомощно оглянулся вокруг. Его мокрое тело охватила дрожь, зубы клацали. Сила, оберегавшая его с момента намазывания, исчезла.
«Так и воспаление легких подхватить можно», – подумал он и сразу понял, что думает неправильно. Это ощущение было конкретным и неожиданным. Вигилярный впал в растерянность, но длилось это не долго.
«К чертовой матери! Мне не холодно!» – сказал он себе, и озноб прекратился. Взамен сын капитана почувствовал подтверждение правильности адресованной самому себе установки. Будто кто-то незримый одобряюще похлопал его по плечу.
«Что-то я таки взял из проклятого озера», – решил он и заметил желтый отблеск, пробившийся сквозь туманные космы. Где-то в направлении Пожижевской[135] зажгли костер.
Вигилярный направился к свету.
Возле костра его ждали Лидия и Лилия. На высоком, составленном из диких камней постаменте стоял знакомый идол в новой расшитой рубашке. В его руках-чашках горели короткие медовые свечи. Вигилярный ощутил странный горьковатый запах.
«Наверное, набросали в огонь каких-то ведьмовских травок», – догадался он.
– Где мой брат? – спросил он «сестер».
– Спит под Испытательной скалой и видит приятные сны, – заверила Лилия.
– Под Испытательной скалой?
– Он называет это место Ведьминым лазом.
– Неправильно, значит, называет?
– Все вещи мира имеют несколько имен. Пусть называет, как хочет. Но ты теперь имеешь право знать внутренние имена вещей.
– Ему с тобой понравилось?
– Не знаю, – пожала плечами спортсменка. – Я не спрашивала. Если тебе интересно, он меня не впечатлил. Гонора на червонец, дел на копейку. Искренне сочувствую его супруге.
– Я тоже, – улыбнулся получивший право, присел возле костра, всем телом впитывая его живительный жар. – Что-то мне подсказывает, что я сподобился некоего посвящения.
– Этой ночью ты стал на путь Хранителя, – подтвердила Лидия. – Нижнее твое утонуло в озере, а верхнее вынырнуло. Теперь ты свободен в своем выборе. Можешь идти по Кругу познания в обе стороны. Можешь идти направо, а можешь налево. Можешь прийти к нам и согреться живым огнем. Иди к нам, Паша, теперь втроем можем утешить Богиню.
– Какую из богинь? Иштар? Морану? Афродиту?
– Имеющую много имен. – Лидия бросила взгляд на идола, словно адресуя Павла Петровича.
– Эх вы, официантки хреновы. Чуть не утопили меня… И что же, вы мне скажите, все это значит? – Он поудобнее устроился между женщинами, уже догадываясь, как те собираются утешать божество.
«Все-таки как парадоксально устроен этот мир, – подумалось Вигилярному. – Еще каких-то двадцать минут назад я тупо загибался в холодной воде, а теперь вот займусь любовью с двумя красивыми ведьмочками. А могло бы быть иначе… Хорошо то, что хорошо кончается».
– Врата служения Силам земли открываются посредством мистерий Богини, – медовым голосом зашептала Лилия, прижимаясь к нему всем телом и целуя его шею. – Богиня радуется и возрождается в силах своих, когда мы сливаем нашу плоть во имя освобождения энергии нижней чакры. Она добра и снисходительна к своим детям. Она не требует от нас слов и заверений. Она требует действия, мощи, неутомимости. Она истинная изначальная владычица любви и плодородия.
– Теперь ты будешь стражем ее сокровища, ее магицы, – поддержала «сестру» Лидия, поглаживая его тело. – А мы тебе будем помогать. Тебе же нравятся такие помощницы, правда?
– Правда, правда… А при чем здесь Сковорода? И этот дядька в носатой маске? Кстати, куда он делся? – Павел Петрович твердо решил прояснить некоторые моменты, прежде чем многоименная Богиня начнет радоваться, а некие загадочные врата открываться.
– Скоро ты обо всем узнаешь, – заверила Вигилярного Лилия и ловко запрыгнула на него. – Обо всем-всем. Поверь мне, ты никогда не пожалеешь о том, что потерял этой ночью.
Подолье, 25 ноября 1752 года
Дорога без конца. Он снова бредет неизвестно куда. Он проснулся ночью и ощутил зов дороги. Кто-то звал его, звал к восстановлению странствующего чина. Это был не простой зов, он был царем, императором, папой призывов, и Григорий не смог ему сопротивляться. В ночь первого снега он тихо выскользнул из киновии и направился припорошенной дорогой на север, туда, где, по его расчетам, пролегал Волошский тракт. Побег сей в его собственных глазах выглядел жалко и малодушно. Он признал свое поражение. Пронзительная наука афонских подвижников так и осталась для него недоступной тайной.
Обидный для Григория парадокс заключался в том, что именно разум, самый могущественный из его инструментов постижения Божьего мира, оказался непреодолимым препятствием на пути к истинному, отрицательному богопознанию. Разум упрямо не желал засыпать (а на самом деле умирать!), и Григорий не мог не сочувствовать сопротивлению собственного разума. Живого и жаждущего знаний. Теперь он знал, что для того, чтобы оспорить мир позитивный, нужно сначала потушить в душе изначальное пламя творения, опуститься на уровень Онисима и Богдана, отдаться бесу меланхолии, убедить себя в наступлении скорого исполнения времен и тогда уже, перед лицом скорой и неминуемой вселенской гибели, отчаянно и бесповоротно нырнуть в Божественный Мрак исихастов.
«Это не мой путь», – мысленно повторял и повторял он, и сразу спрашивал свой спасенный разум:
«А каков же мой?»
И не получал ответа.
Даже намека на ответ.
Даже тени намека.
Он шел пустынной дорогой: одинокий, бездомный, беспутный. Снег мгновенно припорашивал его следы.
«Вот так и пройду этим миром, не сродный с учениями и системами. Не признанный авторитетами, не получивший посвящений и вещих паролей. И сразу же после смерти на следы мои сойдет снег забвения. Ни революционер, ни святой не получится из меня. Буду петь в церквях, учить школяров в бурсе. Кто знает, может быть, в тех непутевых чинах найду тропу, ведущую к истинному смирению? Наверное, еще рано мне приступать к отрицающим упражнениям афонских молитвенников. Дождусь, когда волосы поседеют, разум устанет познавать, а телесные страсти утихнут. Тогда вернусь к Авксентию или к его досточтимым ученикам. Они люди святые, милосердные. Не отвергнут убогого, примут».
Он прошел село, на миг остановился возле дома, где жила семья Нырка. Воспоминание о досадном недоросле дало толчок новым отчаянным мыслям Григория. Как, не выходя из смиренной и странствующей формы своей, найти путь к простым сердцам, к разумам убогих духом и судьбой? И нужно ли тот путь искать?
Он двинулся дальше, окруженный отчаянием, и рассвет не принес ему обычного облегчения. Серым и тусклым был тогдашний восход солнца, тяжелые тучи цепляли верхушки тополей, и снег сыпался из них, как перхоть с бород немытых иноков.
Он шел, шел и впервые за последние недели не исчислял девяток и троек при вдохах и выдохах. Странно, но это принесло ему великое облегчение.
«Это меня Авксентий так испытывал, – размышлял Григорий. – Запутал глупого и восторженного профана числами и затыканием ноздрей. Во враках, яко в пустой шелухе, спрятал старец премудрый зерно Истины. Посмеялся надо мной, представив учение афонских отцов в обличье бессмысленных уроков и правил. Отрыгнул меня, яко блевотину. Если бы я сразу уразумел иронию, заметил сей капкан, то надлежаще подготовил бы себя к испытаниям и сподобился бы допуска к правдивым тайнам. А я, как мальчишка, кинулся сопеть через левую, через правую. Впал в детское мудрствование. Опозорился. Потерял, по простоте неправильной, уважение старца. Даже не потерял, так как не было у святого человека ко мне и малой доли уважения… – Он набрал полную горсть снега и приложил его к раскаленному злыми мыслями лбу. – Жалкий школяр, отставной пиворез, сектярский нищий, фигуральное посмешище, сухая мотыль – вот мои истинные чины и титулы перед Сущим…»
Где-то позади него зацокали копыта, загрохотали железные обода колес. Накрытый кожаным пологом резвый возок догонял Григория. Он сошел на обочину, там споткнулся и едва не упал в припорошенную снегом яму.
Когда возок сравнялся с ним, Григорий выбивал из своих барваков снежную пыль.
– Ehi, guagliol'o![136] – услышал он знакомый голос. – Куда ведет эта чертовая дорога?
– Дальфери, старый пес, неужели ты до сих пор не знаешь, что все чертовы дороги ведут в пекло? – итальянские слова сами выпрыгнули из памяти Сковороды.
– Olla! Черти б меня взяли! – закричал акробат, спрыгивая с козлов. – Это же наш маленький Григо! Лейла! Лидия! Просто невероятно! Мы его все-таки отыскали!
– Полегче, Карл, полегче… Ты сломаешь мне ребра. – Григорий уже понимал, что таких случайностей не бывает, что высшие силы послали ему знак. Ясный приказ отчалить от берега отчаяния.
– Однако, парень, у тебя жар, – Дальфери приложил ладонь ко лбу Григория. – Плохи дела… – он вынул из-под овечьего кожуха флягу. – Пей!
– Что это? – скривился Сковорода, сделав глоток. Жидкость обожгла ему горло.
– Лечебная настойка моей бабушки, – объяснил акробат, оглядываясь на возок. – Где вы там, ленивые женщины?! Неужели вы не хотите поприветствовать Григо?
– Хотим, хотим. – Цыганка выглянула из выложенных мехами недр кожаного купе. – Но Лидия боится обморозить лицо.
– Ты посмотри на нее! И это крестьянская дочь… – сокрушенно покачал головой старый вагант. – Видишь, Григо, как быстро эти ленивые женщины привыкают к роскоши и удобствам… Давай быстрей забирайся в нашу повозку. Она, конечно, не такая просторная, как наш старый добрый фургон, но там под мехами женщины. А где женщины, там натуральное тепло. Мы должны привезти тебя в замок живым.
– В какой еще замок?
– Я забыл его чертово название. Оно слишком варварское для моего отощавшего мозга. Знаю только, что замок принадлежит какому-то принцу Чаторскому.
– Чарторыйскому, – догадался Сковорода. – А зачем нам тот замок?
– Там тебя ждет-дожидается новая владелица «Олимпуса».
– Новая владелица? Пан Федеш продал цирк?
– Продал, – подтвердил Дальферо и широко улыбнулся. – А куда бы он делся. За такие деньги я бы продал три таких гребаных вертепа, как наш.
– И кто же эта счастливая собственница?
– Ты не догадываешься?
– Не мучай парня на морозе! – крикнула Лейла. – Пусть залезает к нам.
– Вот ведь старая потаскуха! – сплюнул акробат. – Видишь, не терпится ей поджарить твою колбаску на цыганской сковороде… А новая собственница тебе хорошо известна. Это ее светлость графиня Клементина д'Агло, сестра покойной Констанцы.
«Покойной? Констанца погибла?» – В его голове взорвалась небольшая дрезденская петарда.
То ли от бабушкиной наливки, то ли от жара мир в голове Григория проделал акробатическое сальто, на миг стал неестественно ярким, пискнул и канул во тьму.
– Вот тебе и на… – проворчал Дальфери, держа на руках потерявшего сознание Сковороду. – Кто бы мог подумать, что он до сих пор любит несчастную Эпонину!
Руины Чернелицкого замка, август, наши дни
– Здесь, в этом замке, он встретился с Хранителями, здесь он получил свое третье посвящение, – произнесла жрица по имени Лидия, садясь на край полуразрушенной стены. – Так гласит предание.
– Он перешел в язычество?
– Нет.
– Но ведь…
– Ты еще поймешь, что для служения родной земле не нужно никуда ниоткуда переходить. Земля не требует отречения от неба. Небо само по себе, а земля сама по себе. Они самодостаточны. Но между ними сидит Ехидна, которая пытается поссорить землю с небом. Убей в себе Ехидну и прими в сердце равнозначно и образ земли, и образ неба.
– А они там не поссорятся?
– Где? – не поняла жрица.
– В сердце.
– Если оно бьется ровно, тогда нет. – Лидия смотрела куда-то далеко, вдаль, мимо деревенских домов, окружавших руины, мимо летнего марева за домами, в подсвеченный солнечными лучами горизонт. – Сковорода примирил два мира третьим. Он нашел все ответы в Библии. В его мире Библия заняла то место, на котором у возлюбивших себя профанов сидит Ехидна. Но Библия не ссорила, а соединяла миры. Сковорода понимал Ехидну как Антибиблию. А Библию, наоборот, как Антиехидну. Как универсальный ключ всемирной гармонии. Он самостоятельно пришел к такому самобытному видению истока гармонии. Ты ведь, наверное, читал трактат, спрятанный в подсвечнике.
– Читал.
– Ну а о трех мирах в философии Сковороды вообще везде написано.
– Я в курсе.
– Есть еще вопросы?
– Еще два.
– Задавай.
– Первый: кто еще из известных людей был Хранителем, кроме Сковороды.
– Из известных? – Лидия растерянно наморщила носик. – Я всех не помню. Но из тех, о ком пишут в учебниках по истории, – никого. Были масоны из друзей писателя Котляревского, потом ученые. Было два библиотекаря, провинциальный врач, археолог и даже один анархист, сподвижник Махно. Он, кстати, предок Лилии… Второй вопрос?
– Зачем вы убили профессора?
– Сколько говорить тебе: об этом поговорим позже.
– Когда?
– Придет время.
– Он был моим предшественником? – Вигилярный попытался поймать взгляд Лидии, не сумел и спросил: – Мне вы тоже когда-нибудь кишки выпустите?
– Существует такое правило: знание растет постепенно, день за днем, шаг за шагом. – Лидия подставила свои темные глаза под его взгляд и смотрела не мигая. – Следующий шаг невозможен без предыдущего. Каждый шаг требует времени. Иногда месяцев и лет. Чего-то даже я не знаю. Хотя прошла путь, намного длиннее и сложнее твоего. Кстати, во времена Сковороды здесь, среди Хранителей, также была девушка по имени Лидия. Она была из Словении, очень красивая. С тех пор это имя стало чем-то вроде титула. Я восьмая «Лидия», если считать от той словенки.
– Она твоя прапрапрабабушка?
– Нет, – покачала головой жрица. – У посвященных редко рождаются дети. Есть, Паша, такой изначальный закон: если ты вовлечен в магические ритуалы, значит, должен отказаться от продолжения рода.
– Почему так?
– Потому что в жреческих семьях накапливается… Скажем так: со временем там нарастает так называемый упрощающий потенциал. Это условное название. Я постараюсь объяснить.
– Постарайся.
– Когда-то, в древние времена, жрецы были в основном наследственными. Были могущественные роды, вековые династии. Однако именно с этим обстоятельством связано множество кровавых историй войн, убийств и вырождения. У наследственных жрецов, как правило, тяжелая судьба. Они слишком заметны, на них концентрируется ненависть профанов.
– Простых людей, – уточнил Павел Петрович.
– Профанов, – не согласилась Лидия Восьмая.
– Нехорошее слово.
– Правильное.
– Ну-ну, я слушаю.
– Так вот, я и говорю, дети магов заметны и становятся жертвами всеобщей ненависти к избранным и особенным людям. А еще наследственные жрецы несут особую «печать за все», печать крови, и поэтому уязвимы к различным проявлениям хаоса. Если современные жрецы или жрицы решаются продолжить свой род, они берут на себя страшную ответственность. Лучше не брать. Или, в крайнем случае, успеть родить детей до посвящения.
– Если бы жреческое служение было добрым делом, тогда подобных ограничений не возникало бы.
– Ты снова мыслишь как непосвященный. Как профан. Служение не имеет никакого отношения к противоположности «добро-зло». Метафизика не предусматривает морального измерения. В метафизике действуют другие противопоставления: «порядок-хаос», «упрощение-усложнение». Жреческое служение содержит в себе, в частности, обращение к силам хаоса, а за такое обращение хочешь не хочешь, но нужно чем-то расплачиваться. Если такое обращение обусловлено личным сознательным выбором мистика, тогда он сам несет за это ответственность. Если жрица или жрец наследственные, тогда формула обращения к силам хаоса от самого рождения «вмонтирована» в их ментальные навыки. Дарована им без их согласия. Хаос также обладает волей, он хочет платы за свою помощь. Силы хаоса любят, чтобы с ними расплачивались новой жизнью. Посвящали им первородных. Восточные мистики называют это «правилом первенца». Не зря в сказках, пришедших к нам с Востока, колдуны требуют за свою помощь первородного сына.
– Почему первенца?
– Такому, как ты, светскому человеку это сложно объяснить. Новая жизнь, так сказать, метафизически неравноценна. В ней живут различные энергии. Одна из необычайно редкостных разновидностей витальной силы присуща исключительно первенцам.
– Не везет мне. Саша и в этом меня обогнал.
– Это не совсем то, – возразила Лидия. – Ты меня не понял… В этом нет никакого преимущества. Совсем никакого. Эта специфическая витальная сила интересует только владык хаоса. Только их и никого больше. Она им нужна для чего-то, нам совершенно непонятного. Для всех других существ она не имеет никакого значения. Никакого.
– Мне почему-то кажется, – улыбнулся Вигилярный-младший, – что если бы вместо «владык хаоса» ты говорила «владыки ада», разница была бы минимальной. Или не было бы никакой разницы.
– Перестань фантазировать, – жрица едва сдерживала раздражение. – Какой еще ад? Вспомни еще о рогатых чертях, котлах и сковородках… Понятно, что носителям испорченной кармы уготовано пребывание в кошмарных упрощенных измерениях, где сознание ограничено, а воля подчинена… Но там нет никаких жаждущих владык. Там даже нет обычного для нашего мира деления на порядок и хаос.
– Тем не менее, – Павел Петрович решил не углубляться в измерения и деления. – Ты только скажи: мне теперь тоже нельзя иметь детей?
– Ты не жрец, ты – краеугольный Хранитель. Краеугольных Хранителей никогда не посвящают в жрецы. Их оберегают от опасностей Тьмы. Их служение заключается в распространении Света. Они как «гражданские» на войне и освобождены от алтарных клятв. Ночные войны магов их не касаются.
– Однако у Григория Саввича, как известно, детей не было.
– Этот факт никак не связан с его служением.
– А с чем он связан?
– Ты историк, Паша, тебе и выяснять. Наше предание молчит об этом. – Лидия поднялась, надела темные очки. – Идем.
– Куда?
– Есть здесь одно местечко. Интересное для любопытных историков.
– Если оно действительно интересное, тогда идем. Но ты не рассказала о Хранителях, с которыми Сковорода встретился в этом замке. Ты сказала, что одну из жриц звали Лидией. Неужели другую звали Лилией?
– Лейлой. По преданию, она была цыганкой.
– Лидия… Лилия… Имена-титулы. Традиция, да?
– Уважение к предшественникам требует надлежащих символов. Если такое уважение тебе хочется называть традицией… – Лидия пожала плечами. – Я не против, пусть оно так называется.
– Хотя бы в чем-то ты со мной согласна… Будем считать, что с Лидией и Лилией мы, в общем и целом, разобрались. И кого еще встретил философ в этой глуши двести шестьдесят лет тому назад?
– Согласно преданию, среди Хранителей, которых встретил Сковорода, был еще один человек. Или не совсем человек. Но он является загадкой для всех нас.
– Даже для вас! – делано улыбнулся Вигилярный, утомленный неисчерпаемым потоком загадок и недоговоренностей.
Они как раз выходили за ворота замка, на которых сохранился каменный герб князей Чарторыйских. Лидия сняла очки, прищурилась на гербовую тагму, затем оглянулась на Вигилярного и произнесла, копируя его интонацию:
– Даже для нас, – и, после паузы: – Сковорода встретил тут Андрогина.
Чернелицкий замок, 2–4 декабря 1752 года
Григорий долго вспоминал, как оказался в роскошной кровати под высоким замковым потолком. Он помнил свой побег из монастыря, но все последующие события покрыл непроницаемый туман. Единственное, что сохранила память – весть о том, что Констанца мертва. Когда Лейла навестила больного, он попытался расспросить цыганку об обстоятельствах ее гибели.
– Лучше тебе у Карла спросить, – посоветовала та. – Он там был, когда все случилось, а я ждала их в другом месте, рядом с синьорой Клементиной. Карл тогда приехал, сказал, что синьора Тома умерла и что произошло это из-за нелепой случайности. Что такова воля высших сил, и некого винить. Карл и его друзья сделали все возможное, чтобы спасти синьору Тома. Они потратили на ее освобождение столько золота, что хватило бы снарядить целую армию. Они подкупили всех вельмож и всю стражу. Но у высших сил, Григо, свои расчеты. Больше я ничего не знаю… Спросишь моего мужа. Но Карла сейчас нет в замке. И это хорошо, – подытожила она. – Тебе нельзя волноваться.
– Силы возвращаются ко мне, – заверил Григорий.
– Ты чуть не умер, – оглянулась в дверях Лейла. – Мы все решили, что враги держали тебя в тюрьме, такой ты был исхудалый, замученный.
– Это называется аскезой.
– Я впервые слышу это название, оно похоже на имя паука. – Лейла исчезла за дверью, оставив в комнате мускатный аромат и ощущение мимолетного праздника.
Следующей посетительницей оказалась Клементина. Она появилась рядом с ложем Григория в сопровождении симпатичных молодых служанок, которые торжественно внесли супницу с ароматным бульоном, полотенца, чашки, черпаки и тарелки.
– Как ты себя чувствуешь, Григо? – поинтересовалась аристократка. Графиня д'Агло сияла юной красотой, драгоценное колье из рубинов и бриллиантов сверкало в вырезе ее платья. Осанка Климентины стала уверенней, а во взгляде появилась незнакомая Григорию властность. Эта повзрослевшая, расцветшая Манти напомнила ему Констанцу и под сердцем заворочалась боль.
– Спасибо, ваша светлость, мне значительно лучше. – Григорий хотел подняться навстречу даме и ее свите, но сил ему хватило только на то, чтобы удобнее опереть голову на подушку. Он искренне застеснялся и покраснел, за что получил благосклонные взгляды аристократки и ее служанок. Клементина присела на кровать, захватив значительную ее часть своим розовым шелковым платьем. Облако изысканных ароматов окутало Григория.
– С этого дня тебя ежедневно будут кормить крепким говяжьим бульоном, – сообщила Клементина. – Такой лечебный бульон применял доктор Брабзон, когда восстанавливал силы неаполитанских повстанцев. Тюремщики по приказу Карла Испанского морили их голодом. Когда повстанцев освободили, они выглядели, как живые скелеты, обтянутые серой кожей. Но благодаря бульону ни один из них не отдал Богу душу, а один из этих страдальцев затем прославился среди итальянок как незаурядный любовник.
Под пристальным присмотром графини Григорий был вынужден ложку за ложкой глотать брабзоновский бульон. Служанки кормили его так искусно, что ни одной капли не попало на роскошные виссоновые наперники. Пока шла лечебная процедура, Клементина сообщила Григорию интересные сведения.
Оказалось, что они с амурной бестией и цирком «Олимпус» отправились на восток, среди всего прочего и ради того, чтобы найти своего «сердечного скифского друга». Для чего именно это понадобилось, Клементина д'Агло не обмолвилась ни словом, но намекнула, что без неких загадочных навыков Лидии и таротической ловкости Лейлы им не удалось бы найти «мастера Григо» в этой ужасающей холодной пустыни, где население запугано и неприветливо, мосты разрушены, карты безжалостно врут, а постоялые дворы напоминают разбойничьи притоны. Графиня яркими красками рисовала тот щедро политый женскими слезами торжественный и трагический миг, когда преданный Дальферо принес Сковороду в покои замка. Она рассказала, как почти неделю Григорий бредил в горячке и зачем-то просил закрывать то правую, то левую его ноздрю, что конечно же исполнялось. А еще Клементина сообщила «сердечному скифскому другу», что именно его застольный рассказ побудил ее купить «Олимпус» со всеми его вагантами.
– Помнишь, как ты нам со Станцей рассказывал о цирковых близнецах? Об Амалии и Амадео? – напомнила она Григорию приснопамятный вечер в Триесте. – Они прекрасны, они превзошли все мои ожидания! (Григорий похлебнулся очередной порцией бульона, представив, как именно юные жонглеры превосходили ожидания Клементины.) Лидия также восхищается ими и уже посвятила близнецов в глубочайшие таинства Венеры. Теперь они телесно и духовно приблизились к титулярному естеству Андрогина. Именно посредством близнецов загадка этого алхимического существа вот-вот будет раскрыта. Я теперь переписываюсь с известным розенкрейцером T.R.R., с кавалером Рамсеем, эсквайром Андерсеном и графом Сан-Мериано, которые очень заинтересованы (эти слова Клементина произнесла значимым шепотом) в быстрой разгадке формулы Андрогина. А знаешь, почему эти великие люди так заинтересованы, мастер Григо? – Губы красавицы изогнулись в загадочной полуулыбке. – Потому что эта универсальная формула непосредственно связана с тайной алхимического золота. А для всемирной победы свободы нам нужно много золота. Целые горы золота! Без алхимического делания мы его нигде не найдем. Поэтому сейчас вся просвещенная Европа с надеждой смотрит на Амалию и Амадео. На этих детей природы, которые составляют собой Андрогина непринужденно и органично. Я привезла их сюда, в охотничий замок любезного князя Чарторыйского. Он наш посвященный брат и тоже ненавидит тиранию. Мы с князем собрали здесь совет выдающихся алхимиков во главе с Абрамом Панакососом. Их в свое время привез в Станиславов коронный гетман Потоцкий. Они остались без протектора, и я взяла на себя все расходы по здешней алхимической лаборатории. Мы уже близки к успеху. Именно отсюда, мастер Григо, с диких, заснеженных берегов Днестра, начнется освобождение Европы от тиранов, мракобесов и обскурантов.
Очертив сии незаурядные планы, Клементина выпорхнула из комнаты, а за ней двинулись служанки с остатками бульона. На этом первый день сознательного пребывания Сковороды в Чернелицком замке закончился. Он вспомнил, что забыл расспросить графиню о погибшей сестре, и уснул без сновидений.
И сон сей возродил его силы, отогнал скорбь от духа и укрепил плоть.
На следующий день, кроме Лейлы и замкового печника, никто в комнату больного не наведывался. Цыганка взяла на себя осуществление брабзоновской терапии и добилась успеха. То ли от ее забот, то ли от лечебного бульона, но к Григорию быстро возвращалось обычное его любознательное состояние. После обеда он принялся читать Библию, и Лейла видела, как слезы текут по его бледным щекам. Вечером, в сопровождении цыганки, он совершил свою первую прогулку замковыми коридорами, рассматривая темную массивную мебель, сделанную во вкусе славной эпохи Яна Собеского[137], рога, копья, щиты, сабли, щедро развешанные на стенах покоев. На пол владельцы замка бросили около полусотни медвежьих шкур, и только в Рыцарском зале, где несли стражу железные доспехи, навощенный до зеркального блеска паркет покрывал яркий персидский ковер. В Охотничьем зале внимание Сковороды привлекло чучело исполинского вепря, убитого основателем замка Николаем Чарторыйским.
Лейла рассказала ему, что именно с этим воинственным и суровым князем связана знаменитая легенда Чернелицкого замка. Местные поговаривали, что князь Николай приказал замуровать в замковой башне свою неверную жену. Перед возвращением князя из похода, боясь его гнева, она отослала на дальний хутор слугу-любовника, а сама бросилась с высокой стены. Но Господь, не одобряющий самоубийц, не позволил ей умереть подобным образом. Неверная княгиня только сломала себе ноги. Так, искалеченной, ее и замуровали. С того времени, свидетельствовали слуги, по замку блуждало белое приведение несчастной изменщицы.
Они завершили прогулку в Каминном зале, где слуги накрыли стол. Цыганка разрешила Григорию выпить бокал легкого вина. Ему понравилась закуска: белый хлеб, рассыпчатая брынза и тонко нарезанный мясной балык. От вина слегка закружилась голова. Уже выходя из зала, он краем глаза заметил светлую тень, мелькнувшую на верхней галерее.
«Неужели привидение пришло познакомиться?» – мысленно поежился он и посмотрел на Лейлу. Та, казалось, ничего не заметила.
По окончании экскурсии Григорий вернулся в свою комнату. Лейла отправилась спать в другое крыло замка, и сон уже подкрадывался к утомленному школяру, когда почти неслышно открылась дверь и в комнату вошла замечательная процессия. Впереди, в длинной расшитой рубашке, с зажженным трисвечником, медленно выступала Клементина. Увидев ее, Сковорода вспомнил о белом привидении. За графиней д'Агло шли двое в закрытых мантиях с капюшонами. Григорий сразу догадался, что видит близнецов.
– Андрогин пришел поприветствовать воскресшего из мертвых мастера Григо! – с пафосным напряжением провозгласила аристократка. Ее прекрасное лицо покрывала легкая бледность, а глаза пылали предчувствием уранического наслаждения, предельного для потомков Евы.
Амадео и Амалия синхронно освободились от мантий. Они театрально обнялись, не отрывая своих взглядов от лица Сковороды, как будто ища в нем знаки одобрения. Григория удивило их заметно возросшее сходство. Одинаковые прически и щедро нанесенная на тела косметика превратила их в зеркальные подобия, а отличия в строении половых органов лишь подчеркивали поразительное тождество всего прочего. Сковороде стало ясно, что сестра Констанцы не тратила время зря.
– Ты еще слишком слаб, мастер, чтобы принять полноценное участие в чествовании Венеры, в котором Андрогин достиг совершенства, – вела дальше Клементина. – Но мы можем вершить мистерию в твоем присутствии, возобновляя природные энергии твоей плоти. Этой ночью Андрогин отдаст ослабленной материи твоего тела свою первичную и неисчерпаемую силу. Она понадобится тебе в будущих сражениях за свободу, поэтому мы решили передать тебе на хранение древнюю святыню земель гиперборейских. Этой ночью я буду третьей стороной Треугольника. Однако, надеюсь, вскоре ты займешь надлежащее тебе место. ВСЕ УГЛЫ ТРЕУГОЛЬНИКА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫРАВНЕНЫ! Эти прекрасные и страстные дети Венеры также выразили желание усложнить Андрогина теми теллурическими[138]силами, которые проходят сквозь скифскую плоть.
Сестра покойной Констанцы поставила трисвечник на комод и одним движением ослабила бретельки своей рубашки. Та упала, открывая все алтари Венеры, которыми природа снабдила тело Клементины. Близнецы приблизились к ней, из пламенного соединения их тел восстал Андрогин.
Григорий увидел его, сияющего и совершенного, составленного из нескольких и единого в плоти своей.
И зрелище сие было обременительным для глаз смертного существа.
«Вот он, тот теплый и шаткий мир, к которому ты вернулся, раб Божий Сковорода, оставив штурм неприступного порога морока и немоты, – закрыв глаза, улыбнулся себе Григорий. – Воспринимай его таким, какой он есть, поскольку он и комедия, и трагедия одновременно. Так понимал его премудрый и опытнейший Марк Аврелий. Так понимала его прекрасная Констанца. Воистину, не осуждай, подобно мракобесам и обскурантам, не смейся и не обижайся. Только тогда мир не сможет тебя поймать. Все пути существенны в опыте. Попытайся найти в них зерна истины и отсеять полову».
Раскрыв глаза, он, погибший, добавил:
«Прости меня, Господи!»
До телесной смерти ему оставалось сорок два года.
Ополье, церковь Святого Николая (Вознесения) в селе Чесники Рогатинского района, август, наши дни
Небольшая приземистая храмина, построенная в темную пору, наступившую на землях Украины после нашествия Батыя, возвышалась над цилиндрической площадкой. В ее сложенных из камней берегах угадывались остатки массивной оборонительной стены. Вечернее зарево гасло за причудливо переплетенными ветками деревьев. Вокруг деревянного храма собрались тени и складки лиловых сумерек, только старинные каменные кресты возле храмины сохранили свою серую суровость. Несмотря на военное прошлое, настроение этого места было благим и мирным.
– Здесь бывал Сковорода? – поинтересовался Вигилярный-младший, щурясь на апельсиновый диск угасающего светила.
– Я об этом ничего не знаю, – сказала Лидия.
– А я думал, что мы на экскурсии. Так сказать, памятными местами предшественников.
– Угадал. Нечто в этом роде. Мы часто приходим сюда.
– Памятное место?
– Место Силы.
– Но это же христианская церковь.
– Она стоит на древней платформе алтаря Хорса. Видишь это круглое возвышение? Это только его верхняя часть, больше половины в землю ушло. Капитальное сооружение, как для гето-фракийского периода на Прикарпатье. Предки молились здесь Хорсу-Солнцу и родственным ему силам земли. Приносили жертвы бескровные и крайние. А в наше время молятся здесь Троице, Богородице и святым заступникам. И в этом нет никакого противоречия. Каждый выбирает себе образ Силы согласно своим представлениям и умениям, согласно веяниям эпохи и косности мышления. С этим нельзя воевать, это следует принимать как должное. Давай помолимся.
– Какому из богов?
– Единому. Тому, который безыменно Сущий под всеми именами.
– Молиться обязательно?
– Сейчас ты пребываешь в сомнениях. С одной стороны, ты уже прошел посвящение и ощутил на себе подлинность и силу древней мистики. С другой – твой многолетний жизненный – а я бы еще добавила профанический – опыт вынуждает тебя скептически смотреть на мир и иронически воспринимать новые знания. Ты словно на мосту между своей прошлой жизнью, построенной на критическом императиве Канта, и жизнью будущей, в которой научные критерии не имеют никакой ценности. Мост шаткий, твои старые знания отчаянно сопротивляются знаниям новым. В этой ситуации мудрые люди советуют молиться как можно чаще.
– Ну, пускай. – Павел Петрович вдруг поймал себя на том, что не умеет молиться. Семья капитана Петра Вигилярного была неверующей. Сначала он попытался вспомнить «Отче наш», но запутался в церковнославянских «иже еси». Поэтому решил, что тот Единый, о котором все время талдычила Лидия, не обидится и на самодельную молитву.
«Главное, чтобы от чистого сердца», – примирился он со своим литургическим невежеством и попросил Сущего:
«Пусть будет так, Господи, чтобы не все врата на путях наших были закрыты и не все силы зла были неспящими. Чтобы был нам выход и вход, если мы очень сильно этого захотим…»
Занятый придумыванием слов молитвы, он не сразу заметил старика, одетого в нечто на манер рясы. Старик вышел из храмины и неспешно проследовал мимо него и Лидии. Павел Петрович принял его за местного священника. Старик уже сошел с древней платформы и миновал ограждение кладбища, когда зачем-то остановился и оглянулся на Вигилярного. Тот оторопел.
– Лидия, это же Гречик!
– Не мешай, – отмахнулась от него жрица, застывшая в медитативной позе.
Павел Петрович бросился догонять старика, но возле ограждения уже никого не было. Он спустился к канаве, которая в древние времена служила оборонительным рвом, добежал по ней до кособокой хозяйственной постройки, сложенной из неровных пористых камней, заглянул в нее. Никого. Человек в рясе, казалось, растворился в медово-лилово-синих августовских сумерках. Вигилярный вдруг понял, что его суетная беготня оскверняет мирное спокойствие этого святого места. Он тихим шагом возвратился к храмине и терпеливо дождался, когда жрица выйдет из молитвенного транса.
– Вы меня обманули, – сказал он Лидии. – Профессор жив.
– Никто никого не обманывал. Люди сами себя обманывают.
– Я идиот, да?
– Если бы ты был идиотом, то лежал бы сейчас на дне Несамовитого. И был бы там далеко не первым. Я же говорила тебе, что невозможно получить все знания сразу. Тебе, краеугольный Хранитель, необходимо расти. Усложняться. Шаг за шагом. Стадия за стадией.
Часть IV За пределами всех стадий
Почтовая станция в землях Черниговского наместничества, 12 ноября 1794 года
Досточтимый мастер ▲Т ожидал брата масона под тополями, высаженными вокруг станции. Ночь выдалась ветреной и непроглядно темной. Казалось, сама природа решила поупражняться в конспирации вольных каменщиков. Наконец послышались шаги. Крепко сбитый, одетый в темное гражданское платье, брат без видимого напряжения нес обитый железными полосами сундук. Увидев ▲Т, крепыш направился к нему. Лицо его, словно вытесанное из твердой древесины, казалось сосредоточенным на высокой и скорбной мысли. Подойдя к ▲Т, он поставил сундук на землю.
– Значит, это правда. Григорий Саввич умер, – сказал ▲Т, получив от брата надлежащее рукопожатие.
– Да, Magister Venerable[139], – подтвердил прибывший на французском. – Хранитель третьего дня отошел на Вечный Восток. Брат Мишель, по обстоятельствам взявший на себя выполнение воли покойного, поручил мне доставить этот ковчег тебе. Он сказал, что такой была последняя воля мэтра Григория.
– Что в ней? – перешел на французский ▲Т.
– Судьба содержимого сего ковчега отдана на твое усмотрение. Соответственно, это ты должен знать, что в нем находится. Я только посредник. Вот ключ. – Крепыш положил на крышку сундука причудливо выгнутый металлический стержень.
– Я понял тебя, любезный брат, разберемся. Но, правду говоря, я ожидал не тебя. Из какой ты ложи? Ты офицер? Какого полка?
– Какое это имеет значение, Magister Venerable? – прищурил глаза крепыш. – Так же, как и ты, я человек свободный и доброй славы. Надеюсь, этого достаточно. Имею честь откланяться, – сказал он и будто растворился во тьме, из которой вынырнул несколькими минутами раньше.
▲Т на минуту задумался, потом проверил пистолет и двинулся в ту сторону, где исчез тайный посредник. Он миновал разлинованный мелом ротный плац и вышел на площадь перед станцией. Там царило безлюдье. Только крытая скрипучая повозка, минуя шлагбаум, выезжала с площади на Лохвицкую дорогу. ▲Т подошел к полосатой караульной будке.
– Спишь, тетеря?
– Никак нет, ваше благородие! – Перетянутый лентами солдат выскочил из будки и вытянулся во фрунт перед ротным офицером.
– Что это там за телега? – ▲Т указал на повозку.
– Вертеп, ваше благородие!
– Какой еще вертеп?
– Рекомый «Алимбус», ваше благородие! Странствующие комедианты. С ярмарки едут.
– С какой ярмарки?
– Не могу знать!
– Дурак.
– Так точно, ваше благородие! Дурак!
▲Т всматривался во тьму. Туда, куда уехал цирковой фургон. Всматривался до тех пор, пока не стих скрип колес фургона и он не растворился навсегда в кромешной перспективе.
2011 годПеревод с украинского Надежды Дутчак осуществлен в соответствии с авторской версией романа.Примечания
1
В конце сентября 1780 года в Харькове с большой помпой праздновали основание наместничества.
(обратно)2
Один из распространенных стилей современного спрей-арта.
(обратно)3
Дворец Джустиниано в Риме является официальной резиденцией Великой ложи «Великого Востока Италии».
(обратно)4
«Ризома», «гипертекстуальность» – краеугольные понятия теории постмодернизма.
(обратно)5
Ночь даст совет! (Лат.)
(обратно)6
Дидаскалы, даскалы – наставники, учителя.
(обратно)7
Масоны называют «вдовой» свою организацию, которая считается «осиротевшей» после гибели легендарного Мастера Хирама, строителя Соломонова храма.
(обратно)8
Глейт – пропуск, дорожная грамота.
(обратно)9
Бачмажник – тот, кто носит ботинки.
(обратно)10
Пресбург – теперь Братислава.
(обратно)11
Шнава (шнява) – небольшое парусное торговое или военное двухмачтовое судно.
(обратно)12
Упоминание об этом событии и об участие в нем мальтийского кавалера Загромозы содержится в материалах к биографии М. В. Ломоносова, собранных П. С. Билярским.
(обратно)13
Сковорода цитирует популярную в середине XVIII века застольную песню немецких студентов.
(обратно)14
От латинского «conclusio» – окончательное решение, решительное заключение.
(обратно)15
Колькотар – триокись железа, служил полуфабрикатом для производства алхимического золота.
(обратно)16
Вертеп – тут в значении «пещера».
(обратно)17
Барваки – штаны.
(обратно)18
Параклит – утешитель (греч.).
(обратно)19
Либертины – условное обозначение тех, кто выступал за идеалы свободы, против господства клерикалов.
(обратно)20
Пробатор – выражающий одобрение, одобряющий.
(обратно)21
Август II – король Польши и Литвы (1734–1763) из династии Веттинов, курфюрст Саксонии (как Фридрих Август II).
Людовик XV – король Франции (1715–1774).
(обратно)22
Суккурс – помощь.
(обратно)23
Цорки – девушки.
(обратно)24
Нужник – нищий.
(обратно)25
Пиворезы – странствующие дьячки.
(обратно)26
В католическом и в униатском (после Замойского синода 1720 г. – греко-католическом) вариантах «Символа веры» (молитвы «Верую»), в отличие от православного, закреплено, что Дух Святой исходит как от Бога Отца, так и от Сына (лат. «филиокве»).
(обратно)27
Пролонгация – продолжение срока действия глейта, паспорта или другого свидетельства.
(обратно)28
Занятия отражаются в характере (лат.).
(обратно)29
Шандары – жандармы (венг.).
(обратно)30
Волошской землей в Украине называли Италию.
(обратно)31
Великий коронный гетман – магнат Юзеф Потоцкий, титульный воевода киевский; лидер профранцузской польской шляхетской партии. Умер после длительной болезни в мае 1751 года.
(обратно)32
Григорий Орлик (1702–1759) – сын гетмана Пилипа Орлика, крестник Ивана Мазепы, граф де Лазиски Дентвиль, генерал-поручик французской армии (1759), регулярный масон.
(обратно)33
М.И. Леонтьев – киевский военный генерал-губернатор (1743–1752).
(обратно)34
Полковник Гаврила Федорович Вишневский – начальник Токайской экспедиции (1750), в составе которой Сковорода выехал в Европу.
(обратно)35
Игнатий Кириллович Полтавцев – родной дядя Г. С. Сковороды, крупный петербургский вельможа. В царствование Елизаветы (1741–1761) Игнатий Полтавцев исполнял должность императорского камер-фурьера. Его дом был всегда открыт для детей Саввы Сковороды.
(обратно)36
Шамайник – дударь, флейтист.
(обратно)37
Аффиляция – символическое «усыновление», то есть законное принятие в надлежащем градусе в масонскую ложу.
(обратно)38
Регулы – правила.
(обратно)39
Фарные площади – рыночные майданы, где торговали зерном и фуражем.
(обратно)40
От французского venerable – досточтимый. Титул Тронного Мастера масонской ложи.
(обратно)41
Регулярность (орденская легитимность) масонских лож определяется соответствием их Статутов общемасонской Конституции Андерсена и так называемым ландмаркам. Достопочтенная ложа «Марк Аврелий», недолго работавшая в Триесте в середине XVIII века, была смешанной (допускала к ритуалам женщин), что противоречило ландмаркам ордена вольных каменщиков.
(обратно)42
Масонская иерархия имеет тридцать три ступени, называемые градусами. Подмастерье (компаньон) является 2-м градусом.
(обратно)43
В масонских ложах ученики сидят на северной стороне, возле колонны «В».
(обратно)44
Ослепительная красота, красота в стиле художника времен Возрождения Гвидо Рено (итал.).
(обратно)45
Шенбрунн – загородный дворец возле Вены, любимая резиденция императрицы Марии Терезии.
(обратно)46
Кауниц Венцель-Антон, граф Ритберг (1711–1794) – государственный конференц-министр Австрийской империи, выдающийся дипломат и администратор. В 1751 году был послом при дворе Людовика XV.
(обратно)47
Тогдашнее название Львова в немецкоязычных странах.
(обратно)48
Смиренный парень (юж. – итал.).
(обратно)49
Комиком (итал.).
(обратно)50
Аманта – любовница.
(обратно)51
Свадебный банкет Иоганна-Юлиуса и Страды фон Кезлеров (состоялся в 1732 году) цитировал масонский ритуал 14-го градуса. «Кетер» – десятый, самый высший из миров (сфир) каббалы. Во время масонского ритуала этот мир представляет обнаженная дева в лавровом венке с ветвями оливы и пальмы в руках.
(обратно)52
Это настоящий лев! (Итал.)
(обратно)53
«Анх» – гадательный расклад в «Таро». Назван в честь древнеегипетского крестообразного «знака жизни».
(обратно)54
Имею честь откланяться (итал.).
(обратно)55
Святейших аудиторов (лат.).
(обратно)56
Большой беды (итал.)
(обратно)57
«Башня» – 16-я карта Великого Аркана Таро.
(обратно)58
Бельэтаж – второй снизу этаж здания (франц.).
(обратно)59
Мир вам (лат.).
(обратно)60
Благодать и мир вам! (Лат.)
(обратно)61
На благо! (Лат.)
(обратно)62
С Богом! (Лат.)
(обратно)63
В данном случае речь идет о византийских сборниках извлечений из популярных книг.
(обратно)64
Также (лат.).
(обратно)65
Отчизна (лат.).
(обратно)66
Я прибыл из Космополиса (лат.).
(обратно)67
Констанца имела в виду, что Триест тогда находился недалеко от владений Османской Порты.
(обратно)68
Головорез (итал.).
(обратно)69
Карл Бурбон (1716–1788) – выдающийся полководец, король Неаполитанский. Будущий король Испании Карл ІІІ.
(обратно)70
Праздник резни (итал.).
(обратно)71
Граф имел в виду монаха Джироламо Савонаролу (1452–1498), который благодаря проповедничеству и призывам к аскетической жизни стал народным вождем и диктатором Флоренции (1494).
(обратно)72
Персонаж итальянской комедии ателланы.
(обратно)73
Священная Исихия – согласно представлениями восточных христианских мистиков-исихастов, сверхчувственное состояние мира и внутреннего равновесия, глубокого молчаливого спокойствия, в котором человек способен целостно познавать Творца и созданное им сущее.
(обратно)74
Усерднее, энергичнее! (Лат.)
(обратно)75
Голем – персонаж еврейской мифологии; человек, созданный из мертвого вещества (глины) с помощью каббалистического заклятия. В более широком значении – искусственный человек, полностью подчиненный своему создателю.
(обратно)76
Гало – оптический феномен, светящееся кольцо вокруг объекта – источника света.
(обратно)77
Приветствую! Тебе и огню! (лат.) – обычная для масонских писем XVIII века рекомендация адресату сжечь письмо после прочтения или даже до этого, если тайна подвергается опасности.
(обратно)78
Двойная вещь (лат.)
(обратно)79
К (вашему) сведению (лат.)
(обратно)80
Мессер гранде – чиновник исполнительной службы Венецианской республики.
(обратно)81
Сковорода и Констанца ведут речь о так называемом апофати́ческом богосло́вии (от греч. αποφατικος – «отрицающий»), или о «негативной теологии» – богословском методе познания Бога, предполагающем выражение сущности Божественного путем последовательного отрицания всех возможных Его определений, как заранее несоизмеримых Ему.
(обратно)82
Молчаливее пифагорейцев (лат.).
(обратно)83
Констанца перечисляет поборников античной демократии.
(обратно)84
Кошула – рубашка.
(обратно)85
Знаменник – аферист.
(обратно)86
Канал, отделяющий центральный остров Венеции от острова Ла Джудекка.
(обратно)87
Збытно матлять – себе дороже обманывать.
(обратно)88
Спекулаторы – тюремщики.
(обратно)89
Седмица – неделя.
(обратно)90
Н.Ю. Трубецкой – генерал-прокурор, руководитель Тайной розыскных дел канцелярии.
(обратно)91
В отличие от инквизиции Республики, которую именовали «красной» по цвету мантий государственных обвинителей.
(обратно)92
Сын мой! (Лат.)
(обратно)93
Вселенский собор в Триденте проходил в 1546–1564 гг.
(обратно)94
Флавий Веспасиан – римский император в 69–79 гг.
(обратно)95
Кафедральный собор Милана.
(обратно)96
Конвент (или Ассамблея) – в XVIII веке так именовалось ежегодное собрание лож вольных каменщиков определенной масонской провинции.
(обратно)97
Это произошло в 1739 году.
(обратно)98
Дезальер – резидент Франции при дворе турецкого султана.
(обратно)99
Мсье – полуофициальная форма обращения к персоне короля.
(обратно)100
«Королевский секрет» – тайная служба Французского королевства, в которую входили доверенные люди Людовика XV, среди которых был и Григорий Орлик.
(обратно)101
Капер – легкий пиратский корабль.
(обратно)102
Форштевень – мощный брус на заострении носового контура корабля, которым замыкается внешняя обшивка.
(обратно)103
Рангоут – оснащение надпалубной части корабля.
(обратно)104
Бермудский тип рангоута – одномачтовый с косыми парусами; староиспанский – многомачтовый с прямыми и косыми парусами.
(обратно)105
Бугшприт – горизонтальный или косой брус, выступающий перед форштевнем.
(обратно)106
Рака – ковчег с мощами святых в виде гроба.
(обратно)107
Питер Ульрих – будущий император Петр III, София-Августа – будущая императрица Екатерина II.
(обратно)108
Бирон – отправленный Елизаветой в ссылку фаворит императрицы Анны и фактический правитель России в 1730–1741 гг.
(обратно)109
Блейвас – белило.
(обратно)110
Малмазия (мальвазия) – мускатное вино.
(обратно)111
Здесь – глупости.
(обратно)112
Шпуваный – упорный.
(обратно)113
Профос – согласно русскому Морскому статуту 1720 г. – корабельный надзиратель и палач.
(обратно)114
Алеман – житель Германии.
(обратно)115
Боччи – азартная игра, популярная в XVIII веке.
(обратно)116
День св. Марка (государственный праздник в тогдашней Венецианской республике) – 25 апреля.
(обратно)117
Где находятся Ученицы? – На Севере, так как они могут выдержать только слабый свет (франц.).
(обратно)118
Пещера размышлений (франц.).
(обратно)119
Если бы вы оказались на пороге смерти, что бы вы написали в своем завещании? (Франц.)
(обратно)120
Современная Одесса.
(обратно)121
Ивана Мазепу в Российской империи считали нарушителем церковной клятвы императору и, соответственно, официально именовали Иудой.
(обратно)122
Сверх меры! (Лат.)
(обратно)123
Остров Мурано прикрывает вход в лагуну, в которой расположена Венеция. Со времен средневековья жители Мурано изготовляли зеркала, известные как «венецианские».
(обратно)124
Вблизи села Манява (теперь – в Богородчанском районе Ивано-Франковской области) в середине XVIII века находился Великоскитский Манявский прот – первенствующий православный монастырь Карпатского края.
(обратно)125
Киновия – монашеское общежитие, иноческая община (греч.).
(обратно)126
Стефан Яворский – митрополит, местоблюститель Московского Патриаршего престола (1700–1721).
(обратно)127
В четвертом издании «Чередника» Герм рассказывает следующее:
«(1) Через 20 дней после прошлого видения, видел я, братья, образ гонения, которое должно наступить. Шел я полем у Кампанского тракта, от большой дороги до поля почти десять стадий; этими местами ходят редко. Странствуя в одиночестве, я молил Господа, чтобы он подтвердил те откровения, которые явил мне через святую Свою Церковь, поддержал меня и дал покаяние всем рабам своим, соблазнившимся ради прославления великого и добродетельного имени Его. Во время, когда я славил Его и благодарил Его, казалось, голос ответил мне: «Оставь сомнения, Герм!» Начал я думать и говорить себе: «Что мне сомневаться, когда я так укреплен Господом и видел предивные Его исполнения?» Прошел я немного, братья, и увидел пыль, что стеной поднималась в небо. И спросил я себя: «Неужели это идет скот и поднимает такую пыль?» Расстояние между нами было равно стадии. Между тем, пыль поднималась все гуще и не вкладывалось сие в пределы обычного. Пробилось солнце, и я увидел исполинского зверя, подобного киту. Из пасти его выходила огненная саранча. Существо сие в длину достигало около 100 футов, а голова его напоминала глиняный горшок. Окутанный верой в Бога, смело выступил я навстречу зверю. Зверь, в ответ, рыча, проявлял такое могущество, что при нападении мог бы уничтожить город. Я приблизился к нему, и таковая огромная тварь растянулась по земле и ничего, кроме языка, не показывала. Она даже не двигалась, когда я проходил мимо. Этот зверь имел на голове четыре цвета: черный, потом красный, или кровавый, золотистый и белый».
(обратно)128
Святой Максим (580–662 гг.) не поддержал указ (типос) императора Константа II (правил в 643–668 годах), запрещавший подданным Византийской империи спорить по поводу наличия в личности Христа одной (монофелитство) или двух воль: божественной и человеческой. В своих богословских произведениях пытался синтезировать два главных направления христианской мистики – морально-практическое и гностическое.
(обратно)129
Ексодус – выход (лат.).
(обратно)130
Апостазия – вероотступничество (греч.).
(обратно)131
Ватопед – знаменитый монастырь на святой горе Афон (Атос).
(обратно)132
Октоих Великий, или Параклитик – основная песенная церковная книга, состоит из песен, разделенных на восемь гласов, или отделов. Основу Октоиха составляют гласы, написанные св. Иоанном Дамаскиным.
(обратно)133
Пс. 17.12.
(обратно)134
Исполеровать – отшлифовать, прояснить.
(обратно)135
Пожижевская – гора близ Говерлы.
(обратно)136
Эй, парень! (Итал.)
(обратно)137
Король Речи Посполитой Ян III Собеский занимал трон с 1674 по 1696 г.
(обратно)138
Теллурический – находящийся под знаками Земли.
(обратно)139
Досточтимый Мастер (лат.).
(обратно)

![Блакітны зніч [Лірычнае]](https://www.4italka.su/images/articles/504217/primary-medium.jpg)
![Героиновые дневники. Год из жизни павшей рок-звезды[The Heroin Diaries: A Year in the Life of a Shattered Rock Star]](https://www.4italka.su/images/articles/519917/primary-medium.jpg)

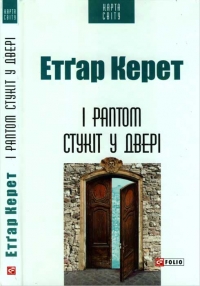

![Жывы покліч [Выбранае]](https://www.4italka.su/images/articles/510095/primary-medium.jpg)
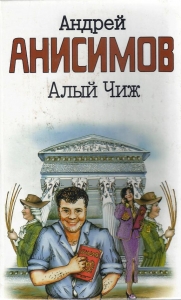
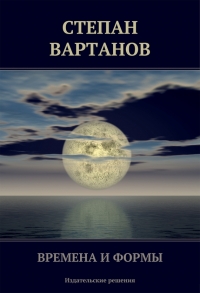
Комментарии к книге «Андрогин», Владимир Львович Ешкилев
Всего 0 комментариев