Сергей Саканский Солнечный мальчик
Только ты и я
Goo goo goo g'joob
Lennon — 'I Am The Walrus' — 1967
Джон Леннон медленно шел по тиковой аллее, тихо падали листья с огромных деревьев, желтый карлик, недавно восставший из тьмы, был неожиданно ярок, горизонтальными лучами бросая под ноги тени стволов, словно на некой ученической картине: художник, только что вылупившись из яйца, прикололся на перспективе древесного туннеля, веера теней, слишком явно имитирующего пространство…
Это был ничем не примечательный день, 8 декабря 1980 года, понедельник.
В то утро он впервые за много месяцев пристально подумал о всех остальных… Пришла странная мысль, вернее, аналогия, еще точнее — метафора. Он представил Битлов как единое тело, как некоего обобщенного битлочеловека, чьи легкие и сердце принадлежали Полу, Джордж отвечал за печень, желчный пузырь и прочее, Ринго — за пищеварительный тракт, Брайан — в той мере, конечно, насколько его можно было считать битлом — за селезенку, Мартин — с той же оговоркой — за кровоток… Сам же он был мозгом и нервной системой, всем тем, что отличало битлочеловека от битложивотного, тем, без чего битлочеловек мог стать, в крайнем случае, куклой, ломающейся на сцене, невразумительно орущей, скрипящей, словно Железный Дровосек…
Ринго был обыкновенным барабанщиком, хорошим, мастеровитым, не более. В наше время за него мог бы сыграть компьютер — твердый металлический Ринго, и тогда Джону не пришлось бы отрывать от сердца и дарить ему, создавая имидж творящей четверки, свои собственные песни… Джон всегда ненавидел Ринго. Причину этого инстинктивного чувства он осознал не сразу. Причина была не в Ринго, а в Бесте, чье место он занял. Джон чувствовал свою вину перед Бестом, никак теперь уже не мог загладить ее, поэтому он ненавидел Беста и ненавидел Ринго, который сел в Битлз вместо него.
Джордж был из них самый младший, он смотрел на Леннона как на Бога. Джон и вправду создал его, научив всему, что умел делать сам. Полюбив марихуану, Джордж, естественно, полюбил и Индию. Джон Леннон едва терпел его скрипучие… Их и песнями-то назвать нельзя. Эта музыка портила пластинки одну за другой, пока Джон не прекратил это одним волевым решением.
О Поле и говорить нечего. Он всего лишь зеркало с его левой гитарой, мутное кривое зеркало. Все, что он сделал, было во вчерашнем дне, но даже и там он не сделал ничего, потому что каждую его песню приходилось исправлять. Он приносил сырые интуитивные материалы, и только Джон Леннон мог превратить их в настоящую музыку — несколькими точными ударами пера…
Они вообще не были музыкантами в том смысле слова, когда его пишут с большой буквы… Пределом мечтаний Джорджа был огромный автобус, розовый и голубой — для шофера-отца. Ринго хотел открыть в Ливерпуле парочку парикмахерских. Поль любил красиво одеваться и нравиться девушкам, только и всего…
Джон Леннон собрал их всех, как мальчишка собирает на свалке детали, чтобы сконструировать радиоприемник. Джон создал квартет, равного которому никогда не было и не будет в мире. Казалось совершенно не важным, кто играет, главное, они играли так, как хотел он. Битлы существовали только в голове Джона Леннона и больше нигде.
И вот теперь, когда все уже было позади, кто-то пытается переписать историю, подменить факты, отводя Леннону вторую, чуть ли даже не третью роль… Но самым удивительным было то, что именно сейчас, когда Джон нашел в себе силы снова встать на ноги, едва записал новый альбом, откуда ни возьмись, то есть, неизвестно откуда и как — появился этот маньяк…
Альбом был бесспорной удачей. Друзья превозносили его, но он не верил друзьям — они могли просто жалеть старину Джона — он сам хорошо слышал: альбом был лучшим из всего, что он написал в своей жизни, и здесь, в глубине этих черных виниловых борозд, тонули прежние Битлы — маленькие кукольные человечки, созданные в рисунке обоев его собственным воображением.
Джон Леннон в который раз выдвинул пластинку из пакета и провел ногтем по ее микроскопическим волнам, услышав характерный скрип, который всегда приводил его в эротическое возбуждение… Последние дни он всюду носил под мышкой свой альбом, словно некий зонтик, не расставаясь с его черной и белой, глянцевой и ребристой, спасительной новизной.
На обложке был запечатлен соленый поцелуй Йоко, их смешно скрещенные носы… Джон вспомнил момент, когда был сделан снимок, и до судороги захотел Йоко, но Йоко осталась в Гонолулу, а он прилетел в Нью-Йорк один — с единственной целью: взглянуть в глаза маньяка.
Вот и дом его за последним поворотом тиковой аллеи — вычурный, псевдо-готический, а вон и толпа «фанатов» — чуть дальше, в сквере через авеню… Джон поднял голову: никаких тиковых деревьев с их гладкими, ввысь уходящими стволами… Обычный перекресток.
Странное обстоятельство, будто он находился в пространстве сна, но Джон был абсолютно уверен, что не спит, следовательно, тики… Он отмахнулся от мысли о них, так вообще устал о чем-либо думать вообще…
Этот маньяк появился недавно. Его безумие было слишком изящно, чересчур современно. Он объявил себя ни Бонапартом, ни Франклином Рузвельтом, а именно Джоном Ленноном.
Богачам, похоже, позволено все. Маньяк поселился в Нью-Йорке, в престижном доме, где жили такие же как он богачи, стал давать интервью продажной прессе, нанял два десятка бродяг, и они, имитируя фанатов, толпились неподалеку — в сквере, который нарочно назвали Земляничной Поляной, хе-хе… Как легко сделать что-то такое, если у тебя есть хороший счет в банке…
Джон пересек авеню и оказался в этом сквере, странном каком-то месте, типа альпийского сада, с крупными уродливыми камнями… Джон глянул вверх с левого, затем — с правого плеча и тихо рассмеялся: тики росли здесь повсюду.
Сидевшие на камнях с любопытством посмотрели в его сторону, закрывшись ладошками от слепящих лучей желтого карлика. У каждого из них под мышкой был конверт с альбомом, и они якобы мечтали оторвать автограф. Никто не узнал подошедшего Леннона: вероятно, маньяк проинструктировал их, что делать в случае, если он появится. Странно… Откуда ему было известно, что Джон непременно будет здесь?
Впрочем, ничего удивительного… Начиная свою игру, маньяк не мог не предполагать, что рано или поздно столкнется со своим героем лицом к лицу, прямо лбом — в гладкое и безжалостное зеркало… Но это могло значить только одно: маньяк не сумасшедший!
Но если маньяк не сумасшедший, тогда зачем он все это затеял — и роскошный дом, и «фанатов», и журналюг? Посадил аллею тиковых деревьев, которые, кстати, в Нью-Йорке вообще не растут…
Джон присел на камень и обратился к ближайшему парню.
— Сколько он платит? — кивнул он в сторону дома.
— Когда как, — осторожно ответили ему.
— Как тебя зовут?
— Холдин Колфилд.
— Хай, Хол! А меня — Джон Леннон.
Слышавшие засмеялись. Кто-то приблизился, наркотически перебирая ногами по траве. Образовался кружок.
— Хочешь затянуться, Джон? — предложила совсем юная девица с грязными волосами.
— Я тебя хочу, — подумал Джон Леннон, вяло протягивая руку за косяком.
И в этот момент что-то изменилось, будто лица присутствующих зашелестели от ветра… Джон поднял голову и увидел маньяка — маньяк появился на ступенях дома, и люди с визгом бросились к нему, прямо через авеню, падая, чуть не попадая под автомобили…
Джон впервые увидел самозванца. Тот был довольно худым, с крупным еврейским носом, на людях одевался подчеркнуто просто, и смахивал на настоящего Леннона лишь круглыми темными очками на переносице. Он даже не умел толком носить их, эти очки…
Неожиданным оказалось то, что за ним, семеня и по-утиному переваливаясь, шла… японка. Маленькая, слишком кривоногая, чтобы быть подлинной, лишь отдаленно, единственно расовыми признаками напоминающая его Иоку… Оба шли медленно по короткому живому коридору наемников. Маньяк раздавал автографы. Джону пришла в голову игривая мысль. Он протиснулся меж потных торсов и заступил ногой на полосу прохождения. Дойдя до этого места, маньяк удивленно вскинул на него глаза.
— Будьте добры, мистер Леннон, — сказал Джон Леннон.
Маньяк определенно узнал его, но быстро овладел собой. Он расписался на протянутом альбоме, больше не глядя Джону в глаза. Джон мог бы сразу, на месте разоблачить его: настоящий музыкант не стал бы расписываться на конверте, когда внутри пластинка, по крайне мере, не столь сильно нажимал на перо…
Машина отъехала, оставив в толпе волновой след, переходящий в легкую рябь.
— Он был так близко, что я слышала запах его подмышек!
— Глупости. Он только что принял душ, дура! Это был запах кого-то другого, может быть — вон того?
Девицы посмотрели в сторону Джона, занятого подписью на конверте. Подпись выглядела действительно похоже. Девицы были в коротких юбках, с полными сексуальными ляжками. Джон ненавидел и боялся таких, несмотря на то, что имел их сотнями. Он действительно мог сейчас пахнуть, поскольку не стал купаться с дороги: так торопился сюда…
— Говорят, он будет только вечером, — произнес кто-то.
Гостиница находилась в нескольких автобусных остановках от логова маньяка. Джон с трудом отыскал ее и, отыскав, с трудом сориентировался внутри.
Он съел несколько сэндвичей в автоматическом баре внизу и с удовольствием залил их целой пинтой молока. Чтобы проглотить невыразительную еду этих простых смертных, ему приходилось вызывать из памяти роскошные обеды, какими они в изобилии угощались во время оно.
Как те парни, которые до того жадно онанировали в детстве, что так и не смогли переключиться на живых женщин…
В номер, поспешно занятый сегодня утром, Джон вернулся совершенно разбитым. Нечего было и думать о горячем душе. Он снял ботинки и, потеснив свой распахнутый чемодан, бросился ничком на кровать, в надежде взять реванш за тяжелую ночь в самолете… Но что-то не склеилось: усталость осталась на месте, но только сон не соблаговолил сойти.
Лучи пробивались сквозь решетчатые жалюзи, печатая на полу отраженный портрет карлика. Джон ненавидел эту заурядную звезду, усилиями наивных поэтов вознесенную на пьедестал. Вселенная насчитывала мириады подобных солнц, средней величины и температуры, и не было ни малейшего повода выделять среди прочих именно его…
Последние годы Джон ненавидел все, что видели его глаза. Ненавистью были полны его новые песни, так же как старые — любовью. Плюс поменялся на минус, тела на антитела, углерод на кремний…
Мы все были обмануты с нашей любовью, цветами и песнями шестидесятых. Новые люди неожиданно выросли, незаметно захватили землю. Они возлюбили то, что мы ненавидели, и возненавидели то, что мы любили.
Нашу рассеянность к предметному миру они заменили его восторженным культом, и храм теперь биржа, и фетиш теперь денежный знак. Путь в высоту духа есть путь к высоте тела, и все многообразие наслаждений сводится к наслаждению сексом и едой… Впрочем, секс они теперь называют любовью, а еду… Не имеет значения. Даже сами слова изменили свой смысл за последние десять лет.
Неужели зря приходили в мир мои золотоголосые Битлы? Неужели напрасно включили мы эту круглую Землю, и стала смертельной для нее даже столь легкая доза счастья и добра?
Внезапно, как был — с руками, заложенными за голову — Джон Леннон вскочил с кровати и замер посередине комнаты, будто кто-то невидимый направил на него, прямо в морду ему направил — черное дуло.
Есть выход один…
Мир до битлопришествия был тяжел и грязен — жестокий и грубый послевоенный мир. Они пришли и врубили его, преобразив и засыпав цветами, и именно он, Джон Леннон, сделал это. Он создал оркестр клуба одиноких сердец по своему образу и подобию, и не надо оваций…
Бог единственно чем отличается от человека, что умеет творить миры. Это свойство Его недоступно человеку, как недоступно и удивительно умение композировать мелодию…
Ничто не мешает Мне повторить Мое творение.
Я соберу их снова, наивных, напористых парней — в Ливерпуле, Токио или в какой-нибудь Москве, я обучу их искусству творить миры, и мы вновь пройдем дорогой, усыпанной цветами. Только…
Джон, наконец, заметил, что стоит, сцепив руки в замок за головой, будто свежеарестованный. Он бросил руки на бедра в жесте бессилия. Мысль, несколько месяцев мучившая его в Гонолулу, когда он лежал, свернувшись в бессоннице под мышкой у Йоко, встала перед ним обнаженная во весь рост.
Да, ты должен это сделать, наконец. Ты должен уничтожить маньяка, вставшего на твоем пути. Своими вот этими руками.
Джон долго блуждал в районе сороковых улиц, пытаясь найти магазинчик, рекламу которого вырезал из газеты с месяц назад. Он был совершенно не приспособлен к реальному бытию, этот Леннон. Всю свою жизнь он провел в глубокой задумчивости, сочиняя песни и стихи. Он никогда не отдыхал, не развлекался, наблюдая мир из окон лимузинов, отелей, через экран телевизора. Он, в сущности, и не жил вовсе, как жили все те люди, для которых он выворачивался наизнанку. Теперь, попав в эту тяжелую, необъяснимую нищету, словно на другую планету, он видел проблемы в самых элементарных вещах: поиски улицы, дешевого ресторана, туалета, наконец…
Хозяин оружейного магазинчика был жирным и мрачным типом, он не узнал в молодом взволнованном человеке некогда великого битла. Джон выбрал револьвер «Смит и Вессон» 38-го калибра за 169 долларов, очень похожий на зажигалку, которая была у него в юности. Хозяин смотрел тускло, понимающе: он давно работал в этом бизнесе и знал, зачем покупает оружие тот или иной человек… Эх, взять бы вас всех, кто сделал свое состояние на наших костях, взять бы и собрать вместе, всех вместе на одном стадионе — а во всем мире вас, алчных, жирных, кровососущих — вряд ли наберется больше, чем один хороший стадион — собрать бы вас, и всем сразу, всем одновременно… Гуу Гуу Гуу Джуб — снова спеть вам всем.
Я плачу, я плачу, я плачу…
— Смотрите, Леннон! — услышал он высокое контральто.
— Какой еще в жопу Леннон! — отозвался прокуренный баритон.
— Верно, Рокки, — подтвердил кто-то негритянским басом. — Такие люди не ходят по улицам без охраны.
Джон оглянулся. Он стоял в небольшом садике, вовсе не помня, как оказался здесь. Пахло рыбой. Неподалеку на лавочке сидела рыжая девица в окружении трех цветных. Двое залезли ей клешнями в штаны, а третий стоял сзади, занимаясь ее силиконовой грудью.
— Ты что, правда что ль, Леннон? — спросил бас.
Джон неприятно улыбнулся, хлопнув себя по бедрам. Он вспомнил ту ливерпульскую драку в шестидесятом, когда рабочие, будущие законопослушные битломаны, чуть его не убили, изменив небрежно весь ход человеческой истории.
— Ну, а если и да, то что?
— Тогда вали отсюда, пока я тебе рога не поотшибал! — приказал баритон.
— Давай-давай, — подмахнула девица. — Иди, откуда пришел, Джон, иди домой.
— Вот-вот. А то еще найдется какой-нибудь кретин и всадит тебе пулю в лоб.
— А то и все пять…
— Ведь ты славный малый, Джон, шлепнуть тебя — значит примазаться к твоей славе.
Джон внимательно посмотрел на этих фантастических существ. Один был предельно похож на глубоководного краба: его глаза-шарики крупно дрожали на эрегированных стебельках. У другого была голова: круглая, бритая, крупная, как яйцо динозавра. Третий был ничем не примечателен, но имел в заднем кармане рыбу, и нестерпимо этой рыбой вонял. Четвертый был женщиной, но это только так казалось: Джон дал бы руку на отсечение, что это транс.
Ладонью Джон ощущал в кармане силуэт своего новенького револьвера. Он медленно достал его на свет и посмотрел с поддельным удивлением на вороненую сталь, затем заговорщически подмигнул обидчикам. Негры замерли и побледнели, словно став ненадолго белыми. Девица взвизгнула, обморочно валясь навзничь.
— Нет-нет, Джон! — крикнул бас. — Не надо, Джон. Мы пошутили.
— Я тоже, — сказал Джон и начал стрелять: Гуу! Гуу! Гуу! Джуб!
Смотри, как они убегают, словно кабаны под ружьем, смотри, как они летят. О глупый кровавый понедельник, тики снаружи, тики внутри, тики под глазами, желтый гнойный заварной крем, вытекающий из ноздрей дохлого пса…
Гуу Гуу Гуу Джуб.
Это была галлюцинация. Мгновенная и яркая, как звездная вспышка. Джон обнаружил себя статуей с руками на бедрах, а четверо подонков мирно смеялись над ним с пяти ярдов пространства, живые и невредимые — крабалокер, рыботорговец, яйцечеловек и порнографическая жрица… Он медленно повернулся и пошел.
В гостинице снова, как утром, бросился на кровать рядом с чемоданом, только на сей раз сразу же удалось умереть.
Снился крабалокер, рыботорговец, яйцечеловек и порнографическая жрица… И вдруг оказалось, что все они вместе есть ничто иное как на четыре части поделенный маньяк… Снился человек в «Кадиллаке» — другой человек, не маньяк — он отправился в какое-то странное, таинственное путешествие, но на первом же перекрестке, задумавшись, не заметил, что переключили свет, и расшиб себе в той же машине голову, а толпа глазела на него, и всем было знакомо его лицо, и вдруг все сразу поняли, что это и есть он — маньяк… Снился Гуу Гуу Джуб, он был желтый. Снился доктор из Гонолулу…
Это был сон-воспоминание, это на самом деле было… Джон пришел к нему, когда стало совсем невмоготу. Он рассказал все: о бессоннице и постельных проблемах с Йоко, о Битлах и мучивших его сомнениях, о том, как тяжело жить в этой нищете и безызвестности, в то время как маньяк, присвоивший его славу и деньги, вкусно ест, сладко спит, ловко трахается, не имея на все это никакого права…
Док молчал, тревожно поглядывая на руки пациента, потом сказал:
— А теперь выслушай меня внимательно и постарайся понять. Ты тяжело болен, парень, и все вокруг кажется тебе не таким, как есть на самом деле. Да и не только вокруг, но и внутри. Ты никакой не Джон Леннон, ты… — док произнес тогда какое-то имя, сразу вылетевшее из головы… Теперь, в своем мучительном сне, он, казалось, вспомнил имя, но звук ускользал, влажный и мягкий меж пальцев — как такие длинные рыбы на базаре в Гонолулу, угри или как их… Почему-то все завертелось вокруг этого рыбного рынка, маркета, как водоворот, вокруг какой-то мишени, тайного знака, маркера, и все это было как-то связано с именем, этот крест, который ставят неграмотные под письмом, плюс учитель в круглых очках, который ставит тяжелую, как штамп, метку в табеле, знак, оценку, марку…
Марка!
Чап-чап-чап, — кто-то прошлепал босыми ногами по полу, и оказалось, что это он сам и бежит, Джон — ну, конечно же! — он вспомнил свое имя: Джон — Джон Уинстон Леннон!
— Именно так, док, именно так…
Чап-чап-чап, — Джон прошлепал босыми ногами по полу, маленький, поскольку спинки скамеек доходили ему аж до плеч, ну да, католическая церквушка, здесь где-то спрятана канистра с бензином, и надо разлить его по углам…
— Именно, именно так!
Док был заодно с маньяком, это очевидно… Джон пришел в ярость, рука непроизвольно сжала в кармане револьвер, видя, как смертельная бледность заливает лицо дока, но — о, ужас! — револьвер был какой-то мягкий, выскальзывающий из пальцев… Он вновь обнаружил себя в гостиничной постели, в одежде, в позе спящей Венеры… Вечерело. Желтый карлик, налившись томатным цветом, медленно клонился долу. Возможно, он и вправду лопается каждую ночь за горизонтом, как у Гераклита, брызжа во все стороны гигантскими протуберанцами семян.
Джон закрыл глаза и тихо, старчески засмеялся… Не зажигая света, питаясь лишь отблеском улицы, он сидел, сгорбившись, на постели, нянчил свой «Смит и Вессон», вслепую разбирал и собирал его, и последующие несколько часов, в сумерках, ни одна живая мысль не шевельнулась в его голове.
— Смотрите, это опять он, вонючка!
— Ты снова забыл принять душ, приятель.
— Дайте ему травки, он нам сейчас споет.
Обе шлюхи были на месте, и еще парочка знакомых утренних лиц. Впрочем, толпа наемников изрядно поредела: всего человек семь-восемь оккупировали теперь сквер напротив «Дакоты».
Джон отошел в сторону, заняв позицию между штрейкбрехерами и подъездом здания. Он действительно не успел сполоснуться, спохватившись в сумерках свой души, когда часы внизу пробили восемь. Он и сам чувствовал собственный запах — застарелый запах дороги, голода, тоски и смерти…
В десять пятьдесят, с большим опозданием, к дому подъехал «Кадиллак» маньяка. Шофер проворно выскочил, обогнул машину и распахнул дверь. Самозванец грациозно вышел, вытягивая за собой японку с большим, но легким пакетом в руках. Толпа «фанатов» удовлетворенно заурчала, будто насыщаясь этим вкусным зрелищем.
Джон сделал несколько шагов и остановился. Рука не сразу попала в карман, а попав, намертво сжала теперь уж окончательно затвердевший револьвер.
— Мистер Леннон! — громко сказал Леннон.
Маньяк обернулся. Джон выстрелил один раз стоя, затем, присев на колено, еще четыре раза. Маньяк дергался в такт выстрелам, словно исполняя дьявольский аккомпанемент.
— Я убит! — громко прошептал он, сделал несколько шагов и упал.
Все замерло в виде жареной фотографии для первой полосы: Джон Леннон с револьвером в руке, женщина с пакетом, застывшим на полпути до земли, шофер, с обвалом форменной фуражки… Это был момент истинного величия, самый звездный момент его жизни, по сравнению с которым меркла вся прежняя слава Битлов. И здесь Фауст, который жил в Джоне Ленноне, как и в каждом из нас, бодро вышел из него на воздух и торжественно произнес:
— Остановись, мгновенье!
Первым ожил шофер. Он подошел к Джону, опасливо обогнув кучу тряпья на земле, и прошипел, часто тыча пальцем в эту самую кучу:
— Да понимаешь ли ты, что натворил?
— Я только что убил Джона Леннона, — сказал Джон Леннон и горько улыбнулся собственной шутке. Он действительно убил себя, застрелив маньяка: убил именно себя — не сейчас, так в самом обозримом будущем…
Джон резко мотнул головой, зажмурив глаза. Картина убийства, представшая перед глазами столь ясно, что, казалось, будто ее видят и окружающие, разлетелась на тысячи сверкающих осколков, словно он выстрелил в зеркало…
— Все в порядке, Джон, — сказал Джон. — Это зажигалка, — он сделал вид, что прикуривает, и поспешно спрятал револьвер.
Человек у машины изрядно перетрусил, но держался молодцом. Люди, сделавшие себе такое состояние, наверняка уж умеют владеть своим лицом.
— Чего тебе надо? — недружелюбно спросил он.
— Выслушай меня хорошенько и постарайся понять. Ты никакой не Джон, ты… Впрочем, это не важно. Совсем не важно, как тебя там зовут. Но если ты действительно считаешь себя Джоном Ленноном, то ты должен понять и сделать одну простую вещь.
Маньяк брезгливо посмотрел на Джона и вяло от него отмахнулся. «Смит и Вессон», уже теплый, вновь мгновенно образовался в его руке. Шофер, повернувшийся было спиной, замер, словно кто-то утроил здесь локальный стоп-кадр.
— Слушай, парень, дай-ка мне эту… — произнес он как бы устало, растягивая слова…
— Я сказал: это зажигалка. Впрочем, возможно, она может стрелять.
— Что тебе надо? — повторил маньяк.
— Выслушай, — сказал Джон. — И обещай, что сделаешь то, что я скажу.
Сигарета потухла в его руке, и он с грустью глянул на нее, подумав, что теперь как-то неловко доставать настоящую зажигалку. Маньяк, его желтолицая жена и шофер, — все трое молчали, напряженно глядя на него. Джон сказал:
— Ты должен вернуть Битлов. Мы сделаем это вместе, ты и я. Нужны будут твои деньги и моя душа. Я снова найду троих послушных мальчишек. Я опять сделаю то, что уже делал однажды. И ты мне в этом поможешь, иначе какой из тебя Джон? Ты понял?
— Да, — поспешно согласился маньяк. — Я понял. Только ты и я, правда?
Джон пристально посмотрел в его глаза, старые за этими круглыми темными очками… Жалкое подобие истины.
— Я еще приду, — сказал он.
Тут он опять заметил в своих пальцах потухшую сигарету.
— Это зажигалка, — сказал он и засмеялся.
Джон взял сигарету за самый кончик и, отведя как можно дальше в сторону, в упор выстрелил за полдюйма. Пальцы обожгло, но он стерпел. Теперь в его руке был очень короткий, но живой окурок. Он сделал глубокую затяжку, бросил «Смит и Вессон» под ноги и, не оборачиваясь, пошел по тиковой аллее прочь, в глубокую восточную тьму, туда, где через несколько часов ожидался прибытием новый желтый карлик декабря.
Солнечный мальчик Расставание
Сообразно с законом, Цинциннату Ц. объявили смертный приговор шепотом. Все встали, обменялись улыбками.
Владимир Набоков, «Приглашение на казнь»
Гаррик прайс проснулся на крыше и — поскольку лишь во сне мы сильны и способны действовать — сразу по пробуждению отпустил черепичный гребень и медленно поехал вниз. (Сползая по гремящей поверхности, постепенно набирая скорость, он вспомнил, что ему снилось — и это была жареная курица, потому что он уже две недели не ел горячего. Курица была вкусным, но подлым существом. Она пищала, что ей больно, когда прайс, путаясь в волокнах сухожилий, отрывал ей ногу, но он безжалостно съел ее, облизал пальцы, с тоской поглядел на очищенные, начинающие уже желтеть под солнцем кости, и…) Сначала ноги прайса, а потом и весь остальной прайс (последними, побелев, уцепились за край крыши пальцы) повисли в воздухе, и он, будто некий буратино, вихляя конечностями, опустился на землю. Он ударился хребтом о частокол, повредив седьмой позвонок, голова его безвольно стукнулась об асфальт. Прайс услышал крик, принял его сперва за свой собственный, но, приподнявшись на четвереньки, увидел, что кричит не он.
— А-а! — кричал какой-то человек, который только что вышел из кустов, с брезгливым любопытством обнюхивая пальцы шуйцы.
— А-а-а! — кричал он, оцепенев от страха и глядя на прайса глазами, полными смертной тоски.
— А-а-а! — кричал он, уже ныряя в ближайший куст, и долго еще слышался по склону его мышиный шелест.
— Дурак, — презрительно оборонил прайс и сразу забыл о нем.
Он пошел по безлюдным улицам, вслушиваясь в гул собственных шагов. За тонкими дощатыми стенами кто-то храпел и возился. Окна были темными, как ржавое железо. То был тот утренний час, когда счастливые влюбленные, полупроснувшись, слепо тянутся друг к другу, переполняясь нетерпением и силой.
На веранде сидела кошка и злобно смотрела на прайса горящими глазами, явно намереваясь испепелить его. Прайс взял ее с перил (она взялась не сразу, словно срываемый с дерева плод) и приласкал. Кошка сделалась мягкой и по-женски замурлыкала. Невидимая в темноте птица пролетела низко над землей, всколыхнув крыльями воздух. Кошка навострила уши, и тонкие коготки впились прайсу в плечо.
Он посмотрел вверх. Неподвижные, словно вырезанные из камня, пальмовые листья застыли в ожидании солнца. Мир был нарисован прозрачной акварелью. (Моне, — заметил кто-то внутри прайса, Мунк! — возразил кто-то другой). Над крышами таяло розовое марево сновидений, обнажая погибшие желания спящих. Только одна Венера теплилась на светлеющем небе, печатая под ногами прайса его уродливую тень с кошачьими ушами.
Вчерашний день, по отношению к которому прайс благополучно умер, все же чем-то напоминал о себе, смутно, словно давно просмотренный фильм. Память обрывалась приходом полиции, но последним вечерним лучом выявляла лайву, которую он любил вчера. Прайс даже пожалел о безвозвратно ушедших мгновениях, что противопоказано каждому, кто хочет быть свободным и счастливым.
Он выгреб из кармана мелочь и, взвесив ее на ладони, убедился, что сегодняшнее утро обеспечено. В левом нагрудном кармане куртки, в непосредственной близости от сердца, обнаружилась записка, нацарапанная косметическим карандашом. Вот что разобрал прайс при таинственном свете Венеры:
ЗАВТРА ТРЕТЬЕГО АВГУСТА ТЫСЯЧА
ДЕВЯТЬСОТ ВОСЕМЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТОГО
ГОДА (В ЧЕТВЕРГ) ЖДИ МЕНЯ НА АЛЛЕЕ
В ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ (В ПОЛДЕНЬ) ПИШУ
И СУЮ ТЕБЕ В КАРМАН ПОСКОЛЬКУ БОЮСЬ
ТЫ ЗАБУДЕШЬ
(ЛЮБЛЮ ТЕБЯ)
МАРIЯПрайс перевернул бумажку. На обороте было то же, только обращенное зеркально.
Что-то мелькнуло в голове и сразу пролетело; воспоминание было неуловимым, как сон — нечто от Италии — виноградная веранда в солнечном контражуре и тонкий женский профиль… Предчувствие нового приключения переполнило прайса. Он приблизился к пальме, обнял и поцеловал ее. Кошка выскользнула из рук и невесомо опустилась на землю. Пальма не отвечала, словно неопытная девчонка…
Что-то зашумело над головой. Заспанный ай, листом прошелестев по крыше, выпал из небытия прямо к его ногам. Ай ударился копчиком об асфальт и несколько минут не мог встать, корчась от боли.
— Ты как? — спросил прайс, — сначала просыпаешься, а потом отпускаешь руки, или наоборот?
— Наоборот, — сказал ай, протирая детскими кулачками глаза.
— А я все не могу научиться, — вздохнул прайс.
Ай был инопланетянином и не скрывал этого. За пазухой он всегда носил летающую тарелку, которая днем нагревалась от его живота.
Они зашагали вниз, к морю, меж игрушечных домиков. Черная кошка вприпрыжку (совсем по-собачьи) бежала за ними. То был тот утренний час, когда природа готовится к восходу солнца, когда торжественен и безмолвен мир, когда замирает не только движение соков в древе, но и колебания атомов внутри материи, а наши, созревая, падают с крыш.
С невысокого дома на Виноградной улице свалилась грета, осыпав прайса и ая брызгами росы. Грета наткнулась зрачком на бамбуковый росток и попросила ая дунуть ей в глаз.
С крыши ресторана слетели фул и смайл. Оба они были немного шутами, поэтому, увидев наших, по-птичьи замахали руками и закудахтали, давясь от хохота, несмотря на ушибы и сломанные ребра. Редкие прохожие, в основном, местные жители, спешившие на раннюю работу, испуганно жались к стенам улиц, стараясь незаметно прошмыгнуть мимо.
Наши шумной ватагой вывалили на набережную, и вовремя — до восхода светила оставалось несколько минут.
В том месте, где должно было появится солнце, края неба и моря сплавились, лишний раз доказывая, что горизонт — такое же абстрактное понятие, что и, скажем, эллипс.
Прайс увидел птицу, летящую над морем на юго-восток. Часто работая крыльями, она набирала высоту, и был в ее полете какой-то непостижимый смысл, будто в небе, в этой лазурной пустоте, ждет ее некая цель. И вдруг вспыхнула птица желтым огнем и расправила крылья, паря в горячих лучах, и прайс ощутил всей кожей солнечный жар, словно сам был этой счастливой птицей. Высокие деревья наполнились внезапным светом с вершин до корней, все пришло в движение, зашевелилась листва, пальмы расправили пальцы, из-за горизонта выплеснуло солнце, перед глазами распахнулась ослепительная бездна, и в этой бездне повисли черные скалы Адалар… Здравствуй!
C утра на аллеях собирались наши, расстилая свои разноцветные одеяла в тени великолепной тропической растительности.
— Где спалось? — спросил у прайса леннон, устраиваясь на японском коврике и, не дожидаясь ответа, повернулся к грете, чтобы поцеловать ее руку.
Грета сняла свою розовую рубашку, затем, немного поколебавшись, расстегнула и сняла б… Ее округлые, тронутые оливковым загаром паоа свободно стекли на живот. Сразу, как чувствуя, появился полис и мягко попросил грету одеться.
— Волосы же прикрывают! — возмутилась она, быстрым движением головы перекинув свою гнедую гриву вперед. Полицейский повторил свою реплику, как попугай. Грета подчинилась, и он исчез, будто лопнул.
— На нашей планете, — напомнил ай, — совсем нет полиции. А вы, человеки, даже отдохнуть по-людски, не можете.
— К черту, — сказал прайс. — Разве к нам кто-нибудь подходил?
Все отрицательно замотали головами.
— Эй! — крикнул прайс сидящей невдалеке команде из Литвы. — Кто-нибудь сейчас выходил из кустов киммериска?
— Из кустов киммериска, — ответили с легким акцентом, скорее манерным, чем естественным, — сейчас никто не выходил.
Прайс давно видел в этой команде лайву. Она возбуждала в нем любопытство, потому что ее облик был связан с чем-то очень хорошим и дорогим… Но он никак не мог вспомнить, сколько ни разглядывал далекое дно своей памяти, откуда знает ее чудесное имя.
— А я думаю, — сказала грета, — что за моей спиной вообще ничего нет. Разве здесь есть какое-нибудь море, если я его не вижу?
— Тут его и быть не может, — согласился леннон, который также сидел спиной к морю.
Прайс оглянулся и увидел море среди листвы. Сегодня оно могло ему понадобится, чтобы купаться вместе с новой возлюбленной, и он не хотел, чтобы его не было. Но надо еще дожить до полудня…
Ай достал из-за пазухи летающую тарелку и подбросил ее.
— Сыграем?
Грета, поджав ноги, откинулась на спину и ловким кувырком вперед встала на ноги, тряхнув волосами. Прайс подумал, что если бы не таинственная МАРIЯ, он полюбил бы сегодня именно грету…
Ай и грета встали в десяти шагах друг от друга, и тарелка, почти сливаясь в сплошную алую полосу, заметалась от руки к руке. Веселая пошла игра!
В это время вдоль аллеи быстро прошагали двое полицейских, разгоняя воздух полами халатов. Они дружелюбно посмотрели на сидящих, и один что-то с улыбкой сказал другому.
Леннон и смайл завели долгий разговор о Моцарте. Прайс рассеянно слушал, взглядом путешествуя по гребню гор. Сосны росли на крутом склоне, и вершины перепутались с корнями. Среди сплошного лесного массива светились обнаженные скалы. По кронам прыгали белки. Косуля с неизменным виноватым выражением глаз нежно терлась о кору. Прайс протянул руку и почесал ее шелковое горло.
Грета и ай вернулись на место, и разогретая кровь кипела у них под кожей.
— Это чудесно! — сказала грета. — Нет высшего удовольствия на свете, чем какая-нибудь игра. Как удивительно, что мы можем свободно управлять своими мускулами, правда? Представь, прайс, как твоя рука хватает этот упругий предмет, как ты уверенно посылаешь его партнеру, и он срывается с твоих пальцев и летит, а ты взглядом управляешь им, чтобы он попал, куда тебе хочется… А партнер! — грета обратилась к аю. — Ты любуешься его движениями, ты чувствуешь, ты… любишь его!
Если она так страстно отдается игре, подумал прайс, так тонко чувствует физическую радость, то как же она тогда… Прайс не мог вспомнить, насколько близко он знал ее, но какое-то чувство ее ласки присутствовало в нем — или это было во сне? Прайс не хотел и не мог различить эту грань…
— Грета! — радостно воскликнул ай. — Сегодня ты будешь моей!
— Нет, — быстро ответила грета, — я больше никогда ничьей не буду.
Она потянулась, широко раскинув руки, словно снимала с веревки белье, и прайс испугался, подумав, что она снимет и свернет голубое полотно неба.
— А я и забыл, — сказал ай сердито, — мы дети солнца, вообще не имеем женщин.
— Да? — подала голос лайва. — А как же вы размножаетесь?
— Мы не размножаемся. Мы просто — живем. А вы, земляне, — повысил он голос, и прайс понял, что ай завелся, — вы жалкие существа, у которых весь смысл жизни в этом разделение на два пола (впрочем, не два, а больше — у вас еще и всякие нетрадиционные есть). Все ваши произведения созданы из похоти, все ваши религии — жалкие попытки победить похоть. Только ради нее вы и живете.
— А для чего еще жить? — издали спросила лайва. — Ты, ай, просто не можешь, поэтому и ругаешься…
Ай нахмурился.
— Я могу хоть сейчас доказать тебе, что могу, — от волнения он не совсем чисто построил фразу. Лайва встала и легко, как балерина, подбежала к нему.
— Я к твоим услугам, — насмешливо сказала она.
Ай нахохлился и отошел в сторону. Он сорвал смертельно ядовитый цветок тиса ягодного и съел его, даже не поморщившись.
— Вот вам!
На вершине Аю-дага появился мрачный силуэт дельтаплана. Прайс поглядел на солнце, на тень от своей руки и определил: без семи девять. Аппарат легко отделился от горы и стал медленно падать, увеличиваясь в размерах. Ровно через семь минут, прямо к открытию пивного павильона, дельтапланерист яша шлепнулся на аллею, неловко задев верхушку араукарии.
Волны восторга всколыхнули разноцветную толпу. Яша оказался в центре внимания, впрочем — ненадолго: едва он успел наполнить свою серебряную кружку, холодным, как темная арктическая вода, пивом, едва успел отодвинуть губами снежную пену, как…
— Летать нельзя! — мягко предупредил подошедший полис, и два других полиса, мелко семеня ногами, подкатили сверкающую металлическими трубами и белоснежными простынями — кровать.
— Но я не хочу! — сопротивлялся яша, порываясь оседлать дельтаплан и взлететь. Извивающегося, его положили в кровать, и он сразу затих.
— Поехали! — скомандовал полис, и они весело покатили кровать по набережной. Прохожие с ненавистью и отвращением смотрели на яшу-дельтапланериста.
— Все там будем, — грустно заметил смайл, и наступило неловкое молчание. С тихим шипением допивала опрокинутую кружку пива сухая земля.
— Почему мы такие идиоты! — воскликнул ай.
— Что же, нам драться лезть? — сказал леннон.
— Конечно! Нас же больше.
— Разве на вашей планете существа бьют себе подобных?
— Нет, — сказал ай, — но мы пока на вашей… А у вас положено не только бить и убивать друг друга, но и наказывать лишением свободы. С волками жить…
— Слушайте, — перебил прайс. — Я знаю, где растут персики.
— Да, да! — захлопала в ладоши грета, — я голодна, как… — нового она придумать не могла, а сравнение с волком прозвучало бы банально.
Они выступили — прайс, грета, фул и ай — шагая по набережной, дерзко глядя в глаза прохожим, которые гадливо оглядывались по сторонам — нет ли поблизости полиции.
Они прошли с километр вдоль пляжа, потом поднялись наверх, где было менее людно, пока не достигли самой окраины, где не было не одного человека.
Кажется, поели персиков, — сказал прайс. Все остановились. То, что они увидели впереди, повергло их в изумление и ужас.
— Клянусь, ее вчера здесь не было! — дрожащим голосом воскликнул фул.
— Я прожила почти сотню жизней, — сказала грета, — но такое вижу впервые.
— Я посетил много миров, — прошептал ай, — но такой ужас…
В нескольких шагах от них (как они издали не увидели ее!) стояла, черная, гладкая, словно крышка рояля, не имеющая ни начала, ни конца…
Прайс шагнул вперед. Грета попыталась удержать его.
— Это надо проверить, — сказал прайс. — Персики уже совсем близко, я даже слышу их запах.
Он протянул руку. Ладонь и ее отражение соединились, словно в рукопожатии. Прайс ощутил черный жгучий холод смерти и пустоты.
— Пойдем обратно, — попросил ай. — Я боюсь ее.
— Я тоже, — холодно ответил прайс. — Но разве можно спокойно сидеть на аллеях, зная, что она тут?
— Верно, — согласился фул. — Вдруг она приближается?
— Давайте так, — предложила грета, — мы с прайсом пойдем налево, а вы направо. Ведь все в этом мире имеет конец.
С полчаса они шли, держась от нее на почтительном расстоянии. Она была однородна — черная и гладкая. Дома и ветки деревьев утопали в ней, как в воде. Она разрезала город, будто сплошная стена.
Им надоело ее разглядывать, и они шли, словно гуляя, позабыв об ужасе, который недавно овладел ими.
— Странно, что я еще не потеряла способности удивляться, — говорила грета. — Казалось бы, мне давно пора остыть, словно красной звезде, но прелесть в том, что все, что бы я ни делала, я делаю как впервые — иначе я не вынесла бы даже одной жизни.
— Я тебе завидую, — сказал прайс. — Почему же я не помню даже вот этой, единственной?
— Ты слишком переживаешь то, что есть. А я помню даже то время, когда была рыбой. Какое горячее было море… Ой! — грета споткнулась о кочку и сжала руку прайса. — Веди меня за руку, как маленькую!
Прайс внимательно посмотрел в ее глаза, влажно блестящие, как ягоды зрелого винограда, и увидел свое собственное перевернутое отражение.
— Всегда мечтал, чтобы у меня была сестра, — сказал он.
— Нет, — грета выдернула руку, — этого еще не хватало!
И несколько шагов они шли молча.
— Почему ты все время смотришь на часы? У тебя свидание?
— Нет, — зачем-то соврал прайс.
— У тебя свидание в двенадцать, в полдень, — строго сказала грета. — Ты сейчас идешь со мною, а думаешь о ней, а это неприлично.
Они прошли еще немного и увидели впереди две смутных фигуры. Что-то знакомое было в их походке. Прайс и грета остановились. Те, кто шел им навстречу, также замерли.
— По-моему, тут зеркало, — проговорил прайс, не теряя самообладания.
— Да, — отозвалась грета, — это мы сами.
— Давай подойдем.
Они двинулись дальше, и странные фигуры тоже пошли. Через несколько минут все четверо соединились.
— Немыслимо! — воскликнул ай.
— Мы приняли вас за свое отражение, — сообщил фул.
— Просто мы обошли мир по периметру! — радостно рассмеялась грета.
— Придется забыть о персиках, — сказал прайс и тотчас забыл о них.
— Правильно! — заметил ай. — Хоть один день вы можете не есть себе подобных?
— Можно подумать, что сам ты не ешь, — сказал фул. — Вчера на моих глазах слопал четыре порции блинов.
— Да, — раздраженно ответил ай. — Я вочеловечился, и поэтому должен бросать топливо в этот котел. Дома я питаюсь прямо от своей звезды. Вообще, вы удивительно подло устроены. Вы должны есть, пить и наоборот. Вы должны спать, совокупляться, читать книги и делать кучу низких вещей… Мне стыдно, что я попал на эту планету.
Они вышли на пятачок, главную площадь Гурзуфа. Она была полна народу и сверху походила на жаровню, полную еды. Прайс вспомнил ночную курицу. Он посмотрел на солнце: шел двенадцатый час.
— Мне пора, — сказал он и быстро зашагал на запад, в сторону пьяных аллей.
По пути он встретил целый отряд полицейских с кроватями. Видимо, они шли за теми, кто остался на пятачке. Ветер трепал их белые халаты. Они пели что-то веселое. Прохожие с умилением поглядывали на них.
На аллеях пахло йодом — очевидно, полиция уже изрядно поработала тут. Многие места уже пустовали, а те из наших, кто еще не был изъят, вели вялую беседу о науках и искусствах.
Лайва и леннон сосредоточенно наслаждались друг другом под кустом олеандра, виртуозно принимая самые немыслимые позы. Кое-кто восторженно следил за работой лайвы. Она была неотразима. Никто не заметил, как подкрался полис и обоих, все еще продолжавших наслаждаться, уложили в постель.
— Как вы смеете! — подскочил смайл. — В такой-то момент…
Полис с размаху всадил ему шприц в мягкие ткани. Смайл обмяк и замертво упал на подставленную кровать. Полицейские покатили всех троих по набережной, возбуждая в толпе гуляющих омерзение и досаду.
— Фенита! — сказал кто-то. — И до полудня не дотянем.
Прайс вздохнул. Единственное, что он хотел от жизни — это дотянуть до полудня! Но вдали опять появилась очередная кровать, и он понял, что это за ним.
Что-то не ладилось — кровать застряла на ступеньке тротуара. Полиса деловито хлопотали вокруг нее. Время было без трех минут полдень.
Прайс вдохнул свежий морской воздух, набрав в легкие пьяный запах еще живого мира — с шорохом раковин и криками чаек. Он провел взглядом по зубчатому гребню гор, чтобы навсегда запомнить эту последнюю декорацию…
И тут он увидел ее… С последним ударом часов она появилась в конце аллеи. Солнце, отраженное морем, светило сверху и снизу, почти уничтожая платье МАРIИ, но ветер возвращал платью вещественность; так оно едва существовало на грани двух стихий, и казалось, что МАРIЯ одета в текучие струи воды.
Скользкая, как сало, рука легла на его плечо.
— Еще минутку, — попросил прайс.
— Не положено, — вздохнул полис, и мощная лапа схватила прайса поперек туловища.
Извиваясь, он отчаянно орал, но, словно в ночном кошмаре, не слышал собственного голоса, и в то же время видел себя сверху, как он открывает рот все шире и шире — с жалким беззвучием пойманной стрекозы…
Кожей спины он ощутил холодные снежные простыни, и с их прикосновением почти потерял способность видеть и двигаться. Полиса быстро покатили кровать (все быстрее и быстрее, как под горку) и, наконец, въехали в гулкий жестяной туннель, полный стеклисто-радужных вееров, словно внутренность подзорной трубы.
И в это время (то, чего прайс уже не мог видеть, но видел живьем еще минуту назад) солнце, как это ни удивительно, продолжало светить неподвижному морю, и вода возвращала излишки света, и уже два световых потока — сверху и снизу — обрушивались на безлюдный мир, раскаляя брошенную людьми одежду и обувь, забытые детские игрушки, — всю эту солнечную свалку, медленно тлеющую в зловещем огне.
Солнечный мальчик Встреча
И в лабиринте древних аллей ленивыми стадами бродят толпы людей, а также жадных детей и по-хозяйски озирают бесконечный простор, и расширяют свой кругозор…
Песня, неразборчивая запись с микрофона
Гаррик прайс очнулся в постели и — пока неизбежная курица сновидений таяла прямо перед его носом — с опаской ощупал свое горячее и влажное тело, убедившись, что все члены на месте.
Бледный свет с трудом проникал в комнату через толстые бутылочные стекла. Зеркальный пол тускло отражал оконный переплет. Казалось, что пространство за окном было озарено свечой.
Справа на такой же кровати просыпался ай, сжимая в кулачки темный воздух. Из уголка его глаза выползла серебристая слеза. Наши просыпались, тяжело выпадая из небытия.
— Вот так все обычно кончается, — сказал фул.
— Возмутительно, — сказал леннон. — Мы с детства привыкли, что из любого положения есть выход, так нас обманывали в сказках, и понять, что есть безвыходные положения, мы никогда не сможем.
Наверху раздался стук, будто там кто-то плясал. Прайс прислушался. Стук повторился.
— Мы живем неправильно, ужасно! — отчаянно воскликнул фул. — Так не должны жить живые люди (при этих словах ай мучительно застонал).
— А что ты хочешь! — возразил смайл. — Если бы можно было существовать как-нибудь иначе, кроме как жить, ну, скажем, лить, я бы тогда мог выбирать между жизнью и лизнью. А так — извольте жить, коль ничего другого не умеете.
— Есть, есть лизнь! — крикнул ай, натягивая одеяло на лицо. — Невыносимо! — приглушенно донеслось из-под одеяла. И еще:
— Сумасшедший дом какой-то… Да! — ай завелся, не показываясь из-под одеяла:
— Земля — это место, куда ссылают сумасшедших со всей вселенной. Едва лишь кому вздумается родиться идиотом, так делают так, что он рождается на Земле… Мы сюда втроем прилетели — я, ой, и ух. Целую неделю с орбиты мы изучали ваши радио— и телепередачи. У нас создалось впечатление, что это пригодная для жизни (равно как и для лизни) планета. И что же? Ой попал в руки цереу. Уха сгубили француженки, а я… Сами видите! Вы говорите, что во всем виновато государство… Милые вы мои! Если уж оно есть, то оно будет всегда. Его просто не надо было придумывать! Нигде во Вселенной такого нет — чтобы один был королем, а другой сутенером. Вы с самого начала ошиблись, разделив друг друга по профессиям. Вы никогда не искупите этого первородного греха… (поскольку все это — глухим голосом — говорило одеяло, никто не принимал его ценные мысли всерьез)… Вы еще дети, вам всего десять тысяч лет, и вас надо учить, что такое хорошо и что такое плохо. Я живу на планете, которую вы называете Солнцем (с большой буквы!) У нас никогда не бывает ночи, у нас столько света, что его хватает еще на десять планет, в том числе и вашу. Это свет нашего разума… Ты говоришь лизнь… У нас бесконечное число способов существования — от мизни до пизни — каждый выбирает по вкусу, а пресловутая «жизнь» уже давно вышла из употребления как примитив… Я хочу домой… Я очень, очень хочу домой, — ай всхлипнул. — Когда я был маленьким, меня отвезли в пионерлагерь, и я тоже очень хотел домой… — постель содрогнулась и заплакала голосом годовалого ребенка. Неестественно красный нос ая высунулся наружу, жадно втянув воздух. Вдруг что-то опять подозрительно застучало наверху. Все подняли головы, словно надеясь увидеть через потолок, кто подает сигнал.
Прайс спрыгнул с кровати и, хорошо понимая, что делает глупость, подергал запертую дверь.
— Кто-нибудь читал графа Монтекристо? — спросил он.
— Терпеть не могу Дюма, — томно промычал леннон, который успел заснуть во время длинной речи ая.
Прайс ощупал стену и нашел ее довольно крепкой. Он шагнул к окну, царапнул ногтем стекло, убедившись, что оно бронировано. Из окна был виден небольшой дворик, завершавшийся кирпичной стеной до самого неба…
Вдруг что-то по-мышиному прошелестело в дымоходе.
Прайс открыл дверцу. То, что он увидел в шахте, заставило его вздрогнуть. На бечевке, связанной из носовых платков, бантов и веревочек, болталась развернутая пачка из-под сигарет. Вот что было написано на ней косметическим карандашом.
МЫ ЗДЕСЬ НАД ВАМИ (И ВСЕ НАШИ ТОЖЕ)
ГРЕТАВчерашний день — мертвый — неподвижно стоял в утренней памяти прайса, как вода в омуте, но что-то важное, самое главное — какая-то тонкая блестка — терялось в этой темной глубине… Он прочел записку вслух.
— Боже мой! — воскликнул леннон. — Там наши девочки!
— Нас всех забьют на мясо! — простонал ай. — Меня-то, меня! А я не гожусь для землян… — и он заплакал навзрыд.
Если и есть хоть один против ста, что можно спастись, подумал прайс, то я готов поставить на кон не только свою жизнь.
— Ведь я никакой не инопланетянин, — продолжал ай сквозь слезы. — Я просто им… — он начал икать, как перед казнью. — Я просто имп… О-о-о! — заревел он, содрогаясь от боли.
Выходка ая всех развеселила. Когда ему было плохо, он всегда врал, что он человек.
— Успокойся, — сказал фул. — Мы верим, что ты местный.
— Да! — вскричал ай. — Я местный… Я-то местный, а ты… Это вы все инопланетяне, вы — пришельцы. Прочь с моей планеты!
Лязгнул замок, и луч мрака отпечатался на полу. Полис вошел.
— Ну что, мальчики? Что, солнечные мои? — ласково заговорил он и вдруг встрепенулся:
— А где номер седьмой?!
Прайс, который в это время стоял у дымохода и не был виден, прайс, повинуясь скорее инстинкту, чем разуму, подпрыгнул, перевернулся через голову и плотно сжатыми пятками обрушился на затылок сатрапа.
— Нельзя! — успел крикнуть тот, распластавшись на полу, как поломанная кукла.
Прайс перевернулся в воздухе и обеими ногами поразил полиса в лоб, в смертельный центр нервных окончаний. Все произошло так быстро, что никто не успел и вздохнуть.
— Теперь-то мы их сделаем! — сказал прайс, крупно дрожа от возбуждения.
Он подошел к двери и осторожно заглянул в щель. Коридор был темен и пуст.
Прайс отделился от стены и, полный желания превратится в тень, двинулся по коридору — туда, где могла быть лестница. В самом конце этого колодца, бросаясь мутными брызгами света, бледной сильфидой трепетала лампа. За спиной уже тлели сожженные мосты.
Ключом, найденным в кармане полицейского халата (таким квадратным с косой бородкой, универсальным ключом) прайс отпирал двери, за которыми томились наши. Он даже не заглядывал внутрь, а лишь подергивал ручку, давая понять, что путь свободен.
Пахло йодом, как после шторма. Лестница привела прайса в такой же коридор, расположенный над первым, и там он тоже отпирал двери, приближаясь к комнате, где, по расчетам, была грета.
В конце коридора показалась человеческая тень. Прайс отпрянул за угол и понял, что его увидели: по полу забарабанили торопливые шаги. Прайс бросился обратно к лестнице. Двумя пролетами ниже кто-то поднимался, простужено кашляя и матерясь. Прайс кинулся вверх по ступенькам и, пробежав два этажа, попал в узкий неосвещенный проход под самой крышей. Быстро продвигаясь наощупь, он слышал множащийся шум погони: из-за угла метнулся сетчатый свет фонаря; они были уже близко; они настигали его…
Прайс нащупал металлическую скобу и надавил на нее. Дверь поддалась, и он очутился в небольшом помещении, в центре которого на цементном постаменте работал электромотор. В шахте лифта слышались приглушенные шорохи, будто кто-то переворачивал огромные листы бумаги. Прайс прыгнул на крышу лифта, и его сразу понесло вниз.
Оставаться в лифте было безумием, и он сразу нажал на первую попавшуюся кнопку. Лифт остановился, двери открылись, прайс вышел и — оказался посередине большого светлого зала, полного народу в халатах, грязно-белых и ядовито-зеленых…
Несколько полицейских кинулись к нему. Прайс выбросил вперед руку, и чья-то металлически твердая челюсть наткнулась на его кулак. Прайс прыгнул вперед, упал на руки и растопыренными ногами сшиб сразу двух полисов. Цепкие руки схватили его сзади поперек живота, невысокий крепкий полис заходил спереди. Прайс сделал па-де-де и обоими ногами поразил его в желудок, но тут какой-то коршун налетел сверху, и прайс, не успев сделать па-де-труа, упал навзничь, почувствовав острую боль в позвоночнике. Проворно подбежала маленькая испуганная женщина и, не целясь, всадила ему шприц прямо в левый глаз. Руки и ноги похолодели, голова сделалась легкой, за плечами как бы возникла тяжесть крыльев, прайс энергично взмахнул ими и — полетел, все же смутно сознавая, что его кантуют, куда-то волокут и натягивают балахон с длинными, как у Пьеро, рукавами, заматывая их вокруг торса, и прочно завязывая сзади.
— Маслица захотел, маслица! — приговаривал чей-то тонкий голос.
— А ты ему мизинчик, мизинчик! — поддразнивал другой, еще более тонкий.
— Узнает, как таблеточки в унитаз! — свистнул кто-то уже на последней ультразвуковой волне…
Прайс очнулся на кушетке, в ярко освещенной комнате, в позе сидящего эмбриона. Онемели руки, плотно стянутые полотном, и он почти не чувствовал их, будто был безруким, как настоящая птица. Перед ним прохаживался невысокий крепенький полис; увидев, что прайс открыл глаза, он оживился и подскочил к столу.
— Ну вот, — зловеще сказал он, садясь, — вот мы и проснулись! Хорошо спали-с? Ну, давайте начнем… Не волнуйтесь — всё у вас в порядке. Только ножками в животик не очень-то! Хе-хе-хе… Ну-с, что вас побудило, так сказать восстать?
Прайс молчал. Он готов был заплакать, как ай — от злобы и отчаянья. Допрос предполагал поединок с провокацией, с рабской покорностью — фальшь с обеих сторон, и каждое слово прайса автоматически увеличивало его грех, как и размер его наказания.
Где-то далеко раздался быстрый топот ног, и полис на секунду отвлекся, подняв глаза к потолку. Что-то происходило в доме…
— Разве вас плохо кормят? — продолжал он. — Плохо за вами ухаживают? Если есть какие-нибудь жалобы — пишите… Вот бумага. Ах, да! У вас нет рук… Ну, ничего. Зачем же бежать? Куда? И санитарчика ножками по головушке…
— Кукареку, — серьезно сказал прайс. — Разве вы не видите, что перед вами птица?
— Конечно вижу, — поспешно согласился полис. — Я не слепой и не сумасшедший, как некоторые. Хе-хе… А позвольте спросить, вы, так сказать, родились птицей или, в некотором роде, стали ею с годами?
— Из пепла, — ответил прайс, вовлекаясь в игру и радуясь, что морочит врагу голову. Он никогда не разговаривал с ними серьезно.
— Ну, хорошо, — сказал полис, кажется, раздражаясь, — вы птица, но птица наша, отечественная. И зовут эту птицу (он подглядел в шпаргалку) — Прасолов Игорь. И «грета» ваша — даже близко не «грета», а Чикунова Маша. Зачем же подписываться на англицкий манер, да еще с двумя «р», как тот актер, да еще с маленькой буквы, будто «прайс» — это не имя, а какая-то профессия, или даже — порода животных, и существуют еще какие-то греты да прайсы?
— Вам этого никогда… — сказал прайс, оскорбленный дурацким тоном (все-таки потерял самообладание), — Не буду же я разъяснять вам, что в начале было слово и так далее! Вам надо вернуться в восьмой класс средней школы и прилично учиться, потом окончить университет, и читать каждый день книги, а не смотреть телевизор, — только тогда я смогу разговаривать с вами… Вы даже не гомо-сапиенс, а гомо — невесть что! (Каждый может потерять чувство юмора в самый неподходящий момент…)
Вдруг дверь распахнулась, и два полиса ввели женщину, так же, как и прайс, спеленатую черной материей. Он не сразу узнал грету. Она весело улыбнулась ему навстречу, даже уродливое одеяние не могло извратить ее великолепной фигуры. Грета была похожа на Венеру Милосскую.
Полиса пошептались и вышли, чем-то встревоженные, оставив их вдвоем. Грета, у которой кровь засветилась под кожей от нетерпения, сразу бросилась к прайсу.
— Ты не представляешь, что творится у наших! Все разбежались. Полиса в глубоком дауне. Свинтили одну меня, — от волнения она перешла на жаргон, — остальные расползлись, как… Весь дом гудит — слышишь?
Действительно, где-то в глубине здания, далеко за звукоизоляционными перегородками, слышался невнятный гул — хлопали двери, работали моторы лифтов…
— И все это натворил гаррик прайс!
— Ну и что, — сказал прайс, зевнув. — Снова задавят, как мух.
— Не узнаю тебя! Ведь для тебя никогда не существовало времени, муха ты эдакая! Понимаешь, сегодняшняя ночь наша, а там… Зачем же ты шел?
— Не знаю. Так… По твоей записке.
Грета нахмурилась, что-то соображая.
— Так ты шел ко мне?
Прайс молчал. Он не задумывался о причинах своих поступков. Утреннее приключение было, скорее, следствием его стихийного чувства свободы, нежели направленным подрывным действием.
— Знаешь, — сказала грета, — у меня уже было так однажды, лет четыреста назад… Нас бросили в подвал, не разделяя мужчин, женщин. Я была ведьмой… Мы сидели, не могли шелохнутся — так они нас крепко связали, как сегодня. И рядом был известный в ту пору маг, чернокнижник — забыла его имя… Он говорил (по-испански, разумеется) что все кончено, что жизнь его прошла в пустую, и он так и не нашел, чего искал, запираясь по ночам в своей башне. А у нас оставалась одна ночь, понимаешь? Я перегрызла у него веревки, а он развязал меня и мы… На утро нас сожгли. Я много раз умирала, но такая смерть… Знаешь, я вспоминаю каждую свою жизнь, и кажется, будто каждая была прекрасной… Мне так нравится жить!
Прайс молчал. Ему хотелось ласково погладить ее по руке, и он захотел этого еще крепче, вспомнив, что оба они спеленаты, как младенцы. То была самая ужасная пытка для живых мышц — неподвижность, подобно тому, как молчание — самая ужасная пытка для языка.
Дверь распахнулась, и полиса вошли снова. Их лица были красны: они либо делали какую-то физическую работу, либо уже нажрались.
— Вот он всё начал, — указывал на прайса крепенький полис, переменив свой обычный тон. Палец его дрожал. — Я тебе покажу птицу! Я вам покажу, какие вы птеродактили, инопланетяне, марии стюарт! Вы все у меня в армию загремите… Хе-хе… Посмотри! — обратился он к товарищу, доставая из ящика стола какие-то предметы и раскладывая их. Прайс узнал свою расческу, зажигалку, универсальный ключ и — черт подери! — записку от МАРIИ. Он впервые вспомнил о ней с тех пор, как проснулся.
— Мария! — прочел полис. — Грета! — прочитал он на пачке Мальборо. — На аллеях… А почерк-то один. Так-то!
Прайс удивленно глянул на грету. Она закусила губу и отвернулась.
— Люблю! — сказал полис. — А любить-то вам нельзя…
— А где у них эти аллеи? — поинтересовался его коллега.
— Да в холле на первом этаже, у приемного покоя… Ух, зла моего на вас не хватает! Действительно, давно бы следовало их усыплять, как в ветлечебнице. Это и был бы высший гуманизм, коллега… Ну чего вам еще надо?! — вдруг закричал он срывающимся голосом. — Вы имеете почти то же, что и мы. Вы ничем не лучше нас! Вы так же, как мы, одинаково сыты, счастливы и свободны. Свободны, как никто, если разобраться. Ведь сказано: свобода есть осознанная необходимость.
— Эти два слова, — сказал прайс, поморщившись, будто ему наступили на мозоль, — только тогда имеют смысл, когда говорят, что свобода — это и есть необходимость.
— Замолчи, — одернула грета. — Не обращай на него внимания.
Ее слова вызвали вспышку ярости, и неизвестно, чем бы все кончилось, если бы в дверь не ворвался новый полис без халата.
В руках он держал собственный галстук, перепачканный чем-то коричневым. Остро запахло дерьмом.
— В милицию! — закричал он с порога. — Немедленно! — и что-то взахлеб зашептал, покосившись на наших. Крепенький схватил телефонную трубку.
— Что за черт! — он забарабанил пальцами по рычагу. Все трое переглянулись и опрометью выскочили в коридор, даже забыв запереть дверь. Где-то за переборками в глубине здания послышался слабый крик, переходящий в хохот.
— Грета, — слабо позвал прайс.
Она отвернула лицо. Прайс видел розовую родинку на ушной раковине и седую прядь волос на виске.
— Грета, это — ты?
— Да! Да! Да! — она резко обернулась, посмотрев почти со злобой. — Когда — то я была МАРIЕЙ… Самое ужасное, что и после Него я не потеряла способность любить.
Прайс взглянул в ее возбужденно блестящие глаза и вдруг в них, словно на самом дне своей памяти, увидел море, темную листву лаврового дерева и женщину, идущую навстречу по самому краю солнечного луча.
Дверь распахнулась, и в комнату ворвался фул. Рубашка на нем была изодрана, и полосы материи болтались на поясе.
— Победа! — загремел он, сглатывая кровь, сочащуюся из губ.
— Свобода! — закричал ай позади него. — Я снова инопланетянин!
— Скорее! — крикнул прайс, притоптывая от нетерпения.
— Мы их всех перебили, — торопливо рассказывал ай, борясь с узлами (прайс нетерпеливо извивался, чувствуя, как мускулы освобождаются от плена, фул развязывал грету). — Мы заперли их в наших палатах!
— Леннон перегрыз телефонный кабель, — перебил фул, впиваясь ногтями в узел. — Они метались, как крысы.
(Прайс яростно двигал плечами, освобождаясь, вывинчиваясь из дурацкого балахона. Вот уже свободны руки, и можно растопырить пальцы, чувствуя их цепкость и силу, вот уже свободна грета — сбросила проклятый балахон и, ни секунды не медля, раздевается дальше, так разрывая собственную одежду, что с нее брызжут искры, вот уже…)
Они бросились друг к другу, не замечая ничего вокруг.
Фул и ай покачали головами и вышли, погасив свет.
Гаррик нежно взял МАРIЮ за паэи и опрокинул навзничь, так, что ее паоа коснулись влажного пола; он протянул свои паышки сквозь ее нагие паы, дрожащей от радости рукой ввел своего поэта в пауду, и веселая многоногая ГАРРИКОМАРIЯ, распластавшись на полу, насладилась пизнью.
Они стояли на крыше здания. Прямо под ними распахивалась глубокая долина ночи. Верхний купол был переполнен разноцветными звездами, нижний зиял бесконечной пустотой. Космос начинался прямо у губ, которые возбужденно шептали:
— Наше… наше…
— Наше! — говорила грета. — Теперь весь этот дом — наш.
— Наш! — повторял прайс. — Теперь весь этот мир — наш.
Он протянул руку и сорвал альфу Кассиопеи. Звезда обожгла его пальцы, словно кусочек углекислого льда.
— Положи на место, — попросила грета, и он покорно (теперь ему нравилось слушаться ее, как никогда ни одну женщину в мире) прилепил альфу на грудь богини, посмотрел и чуть-чуть поправил, чтобы не нарушать гармонию далекой звездной буквы.
Под ногами, в глубине здания переливались звуки триумфального веселья, смешиваясь с таинственной музыкой сфер, льющейся из бездны небес. Грета сжимала руку прайса, и он не думал о том, что сейчас где-то внизу, в темноте, шагают, шаркают по сухому асфальту, молча про себя напевают что-то уныло-веселое, толкают перед собой роликовые кровати, придерживая полы халатов, как бы стыдясь…
Звездное небо сияло всеми цветами радуги, и где-то в разрывах голубого и алого, среди ослепительно золотых спиралей пробивались ростки неведомого восьмого цвета, который не каждому дано увидеть, но тот, в чьих зрачках он блеснул хотя бы однажды, никогда уже не забудет этого свободного полета, этого ветра, легко проходящего сквозь плоть, полного отрешения от всего, что есть, которое сравнимо только с бессмертием… Здравствуй!

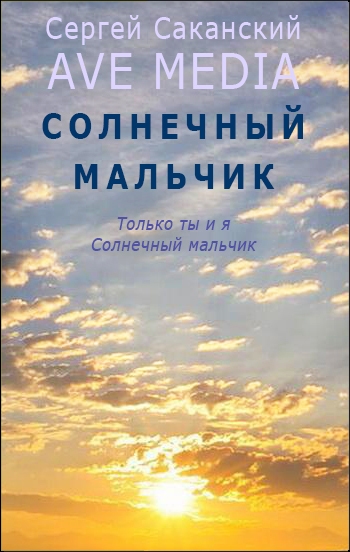










Комментарии к книге «Солнечный мальчик», Сергей Юрьевич Саканский
Всего 0 комментариев