Жан Эшноз Равель
1
Как же иногда досадуешь на самого себя, покинув ванну! Во-первых, жаль вылезать из этой теплой мыльной воды, где выпавшие волоски плавают, обвиваясь вокруг пузырьков пены, среди стертых с тела чешуек кожи, ибо вас тут же пронизывает безжалостно холодный воздух скверно натопленного дома. Затем, если вы малого роста, а бортик ванны, стоящей на лапах грифона, довольно высок, целое дело перенести через него ногу, чтобы боязливо нащупать большим пальцем скользкий плиточный пол ванной комнаты. Приходится действовать крайне осторожно, чтобы не повредить промежность и вместе с тем избежать риска поскользнуться и неудачно упасть. Конечно, наилучшим решением проблемы было бы изготовление ванны под рост хозяина, но это потребует расходов и, наверное, будет стоить еще дороже, чем центральное отопление, совершенно неэффективное, хотя и недавно установленное. Нет, лучше уж оставаться в ванне, сидеть по шею в воде, если не всегда, то часами напролет, изредка подкручивая пальцами правой ноги кран, добавлять горячей воды и, регулируя таким образом термостат, сохранять приятную амниотическую атмосферу.
Но вечно так продолжаться не может: время, как обычно, поджимает, меньше чем через час Элен Журдан-Моранж будет здесь. Делать нечего, Равель вытаскивает себя из ванны, обтирается и натягивает халат редкостного жемчужно-серого цвета, в котором приступает к следующим процедурам: чистит зубы щеткой с гибкой ручкой, бреется, не оставляя щетине ни единого шанса, причесывается, не упуская ни единой прядки, а под конец выдергивает из брови самовольно выросший за ночь, торчащий наподобие антенны волосок. Потом, взяв со столика трюмо роскошный маникюрный набор в футляре из кожи ягненка «под ящерицу», с атласной подкладкой, лежащий среди щеток для волос, гребешков слоновой кости и флаконов духов, он пользуется тем, что горячая вода размягчила его ногти и можно безболезненно подстричь их до нужной длины. Подойдя к окну своей «артистической» ванной, он бросает взгляд на черно-белый сад с голыми деревьями, поникшей мертвой травой и фонтаном, парализованным стужей. Сегодня один из последних дней 1927 года, ранний утренний час. Равель, как и каждую ночь, спал мало и плохо и теперь, как и каждое утро, пребывает в скверном расположении духа, не зная даже, во что ему одеться, каковое обстоятельство лишь усугубляет его дурное настроение.
Он взбирается по лестнице своего маленького домика причудливой конфигурации: со стороны сада здание имеет три этажа, зато на улицу выходит лишь один. Добравшись до третьего, который, стало быть, находится вровень с мостовой, он оглядывает ее из коридорного окошка, дабы определить степень закутанности прохожих и таким образом решить, во что следует облачиться самому. Но для Монфор-л’Амори еще слишком рано, на улице нет ни души, и только маленький Peugeot-201, весь серый и не очень молодой, уже стоит перед домом, с Элен внутри. А больше на всем свете и глядеть не на что; в сером небе слабо мерцает бледный кружок солнца.
Да и слушать тоже нечего: на улице тихо, и в кухне царит безмолвие, поскольку Равель перед отъездом отпустил мадам Ревло. Как обычно, он опаздывает, чертыхается, закуривая сигарету и одновременно торопливо натягивая на себя первую попавшуюся под руку одежду. Затем нужно еще собрать вещи, что его ужасно раздражает, хотя осталось всего лишь сложить маленький чемоданчик: основной багаж вот уже два дня как отправлен в Париж. Покончив со сборами, Равель осматривает дом, убеждается, что все окна затворены, дверь в сад заперта, газ в кухне перекрыт, а электрический счетчик у входа выключен. Жилище и впрямь невелико: его можно обойти в два счета, но лишняя проверка никогда не помешает. Равель последний раз заглядывает в котельную — погасил ли он котел? — и выходит из дома, снова чертыхнувшись вполголоса, ибо ледяной ветер тут же набрасывается на его седые волосы, еще влажные и аккуратно зачесанные назад.
Внизу, у подножия лестницы в восемь узеньких ступенек, ожидает, как уже было сказано, «201-й», поставленный на тормоз, ибо улица идет горбом; за рулем сидит Элен, вздрагивая от холода и постукивая по баранке оголенными кончиками пальцев, выступающими из вязаных митенок золотистого цвета. Элен — вполне красивая женщина, которая могла бы претендовать на сходство с Ораной Демази — в глазах людей, которые о ней помнят, хотя в те годы немало женщин в чем-то походили на Орану Демази. Под скунсовым манто, воротник которого Элен подняла повыше, на ней платье с глубоким вырезом и сильно заниженной талией, верх с напуском создает впечатление блузы, на стыке с юбкой платье украшено лентой-пояском, и все это, не считая роговой пряжки, сшито из крепа нежного персикового оттенка с растительным узором. Прелестный туалет. Она терпеливо ждет. Прошло уже довольно много времени, но она терпеливо ждет.
Вот уже целых полчаса этим студеным утром между двумя праздниками Элен ожидает Равеля, который наконец появляется с чемоданчиком в руке, одетый в костюм цвета мокрого асфальта и короткое пальто шоколадного тона. Тоже неплохо выглядит. Хотя старомодно и довольно легко для зимнего сезона. Свисающая с локтя тросточка и перчатки с отворотами на запястьях придают ему вид элегантного игрока на скачках или даже владельца конюшни, из тех, что сидят на почетных трибунах во время розыгрыша приза Дианы или в Энгене и заботятся не столько о своем фаворите-однолетке, сколько о том, как щегольнуть перед публикой серым пиджаком классического покроя или льняным блейзером. Он медленно забирается в машину, усаживается с тяжким вздохом, резко поддергивает, защипнув складку, брюки, чтобы эта часть его одеяния не пузырилась на коленях. «Ну что ж, — говорит он, расстегивая верхнюю пуговицу пальто, — я полагаю, мы можем ехать». Повернувшись к нему, Элен быстро и зорко оглядывает его с головы до ног: бумажные носки и шелковый платочек в нагрудном кармане, как всегда, удачно подобраны в цвет галстука.
«Думаю, вы могли бы позволить мне ожидать вас в доме, а не в машине, — осмеливается она заметить, заводя машину, — по такому-то холоду!» С любезно-сухой улыбкой Равель разъясняет, что перед отъездом ему нужно было навести порядок в доме, а это дело долгое, пришлось обойти все углы. К тому же он, как всегда, не сомкнул глаз этой ночью и вдобавок встал ни свет ни заря, а он ненавидит ранние вставания — ей хорошо известно, как он их ненавидит. Кроме того, ей известно, насколько тесно его жилище, так что они наверняка мешали бы друг другу. «И все равно, — упорствует Элен, — вы меня заморозили до смерти!» «Ну-ну, успокойтесь, Элен, — отвечает он, закуривая „Голуаз“. — Ничего страшного. А в котором часу он, собственно, отходит, мой поезд?»
«В одиннадцать часов двенадцать минут», — говорит она, включая сцепление, вслед за чем Peugeot пересекает Монфор л’Амори, безлюдный и застылый в холодном тускло-сером свете, как какая-нибудь арктическая льдина в это же время года. Перед самым выездом из Монфора они минуют просторный, буржуазного вида дом возле церкви; на втором этаже мерцает желтый четырехугольник окна, и Равель отмечает вслух, что его друг Зогеб, видно, уже проснулся; затем они добираются до Версаля и едут по авеню де Пари. У очередного перекрестка Элен с минуту мешкает в нерешительности, не зная, куда свернуть, и Равель начинает сердиться. «Ну до чего же вы скверно водите! — восклицает он, — мой брат Эдуар справляется с этим куда лучше вас. Боюсь, вы никогда не доедете до места». У въезда в Севр Элен снова резко тормозит, заметив на тротуаре человека в фетровой шляпе, держащего под мышкой сверток, похожий на большую картину, завернутую в газеты и перевязанную веревочкой. Поскольку человек явно ждет, когда можно будет перейти улицу, она останавливается, чтобы пропустить его, но, главным образом, чтобы взглянуть на Равеля, чье лицо в этот момент выглядит осунувшимся, бледным и изможденным больше, чем прежде: когда он на минуту закрывает глаза, оно уподобляется посмертной маске. «Вам нехорошо?»
Он отвечает: нет, все в порядке, все должно быть в порядке, просто он еще чувствует себя очень усталым. Врач, подвергший его куче разных обследований, решил прописать ему стимуляторы, дабы подготовить к этому путешествию: он был глубоко уязвлен тем, что Равель пренебрег его советом провести целый год в полном покое. В результате ему пришлось претерпеть массированную атаку инъекций экстрактов гипофиза и надпочечников, цитосыворотки и какодилата, укол за уколом, а кому такое понравится?! Тем более что, несмотря на все эти процедуры, улучшения пока не видно. Элен советует ему сменить лечение, и он отвечает, что такого же мнения придерживается один из его коллег, который недавно написал ему, склоняя к гомеопатии, некоторые от нее без ума, от гомеопатии. Впрочем, бог с ней, об этом он подумает по возвращении. И он замолкает, глядя в окно на мелькающие улицы Севра, хотя, по правде говоря, ничего интересного в Севре этим утром не наблюдается: серые здания с запертыми дверями, темные, застегнутые доверху пальто, темные, нахлобученные до бровей шляпы, черные, герметически закрытые автомобили. Теперь он вовсе не уверен, что ему хочется уезжать. Вот так всегда, не правда ли? Сперва он необдуманно принимает предложение, а в последний момент впадает в отчаяние. И потом, сигареты… Сумела ли Элен устроить так, чтобы в течение всего путешествия ему присылали его сигареты? Элен отвечает, что все устроено. А билеты? Где они, у нее? Да-да, все здесь, говорит Элен, указывая на свою сумку.
Автомобиль въезжает в Париж через Ворота Сен-Клу, мчится по набережным вдоль Сены до площади Согласия, а там углубляется в северную часть города, направляясь к вокзалу Сен-Лазар. Где явно царит большее оживление, чем в западном предместье, хотя, в общем-то, не такое уж и большое. Люди на велосипедах, афиши на стенах, простоволосые женщины, немало автомобилей, среди которых встречаются и роскошные, типа Panhard-Levasseur или Rosengart. В самом конце улицы Пепиньер они видят даже длинный Salmson VAL3, который сворачивает на Римскую улицу; двухцветная машина с ее затейливым силуэтом напоминает лаковую туфлю сутенера.
Незадолго до десяти часов Элен паркует свой скромный Peugeot перед отелем «Терминус», откуда они перебираются в «Критерион» — бар на Курдю-Гавр, к которому Равель давно привык и где уже сидят в ожидании перед горячими напитками Марсель Жерар и Мадлен Грей, певицы, исполнительницы репертуара, называемого в те времена «интеллигентным». Равель, ничуть не торопясь, заказывает чашку кофе, потом вторую, эту он выпивает особенно медленно; тем временем три молодые женщины все чаще косятся на часы, висящие над стойкой, и обмениваются вопрошающими взглядами. Они обеспокоены и в конце концов начинают торопить события, решив отконвоировать Равеля на вокзал, который находится как раз напротив «Критериона», чтобы доставить его туда за полчаса до отхода спецпоезда. Однако тот еще даже не подан, когда все они выходят на перрон — Равель во главе процессии, за ним на некотором расстоянии, его приятельницы, которые помогают как могут двум носильщикам из «Терминуса» тащить четыре гигантских чемодана плюс ручная кладь. Чемоданы совершенно неподъемны, но эти юные женщины так любят музыку.
Наклонясь к рельсам, Равель закуривает «Голуаз», вслед за чем вынимает из кармана пальто газету «Энтранзижан», только что купленную в киоске, за отсутствием «Попюлэр», его любимого печатного органа. В эти последние дни года газета посвящает свои статьи традиционному итогу прошедших месяцев, напоминая читателям, что за истекший период были восстановлены выборы по округам, спущен на воду пакетбот «Кап Аркона», казнены на электрическом стуле Сакко и Ванцетти, снят первый звуковой фильм и изобретено телевидение. Разумеется, «Энтранзижан» не может написать обо всем, что произошло за год в мире музыки — например, о рождении Джерри Миллигана, — тем не менее в ней упоминается о недавнем открытии нового концертного зала «Плейель», и Равель внимательно просматривает эту заметку, отыскивая в ней свое имя, а найдя, пожимает плечами. Тут его нагоняют запыхавшиеся молодые женщины, которые оставили служащих «Терминуса» складывать чемоданы в пирамиду на краю перрона; Элен указывает на газету и робко осведомляется о новостях. «Ничего важного, — отвечает он, — ровно ничего. Да и газетка-то правая, что с нее взять!»
В конце концов спецпоезд все же появляется; его тащит локомотив смешанного типа (120-го и скоростного 111-го Buddicom). Служащие «Терминуса» начинают загружать багаж в специально предназначенные для этого отсеки; тем временем Равель прощается с дамами, демонстрируя всю изысканность своих манер, как-то: комплименты, поцелуи ручек, благодарности и дружеские протесты. Затем он входит в вагон первого класса и, легко отыскав свое место, забронированное возле окна, опускает стекло. Следует обмен новыми шутливыми репликами, которые идут по нисходящей вплоть до момента отправления, когда дамы вынимают из сумочек платочки и принимаются ими махать. Сам Равель ничем не машет, он ограничивается последней небрежной улыбкой и коротким взмахом руки, после чего закрывает окно и снова разворачивает газету.
Он едет по направлению к Гавру, к морскому вокзалу Гавра, чтобы плыть в Северную Америку. Это его первое путешествие туда, оно же и последнее. Если считать с сегодняшнего дня, жить ему остается ровно десять лет.
2
Что же касается пакетбота «Франция», второго носящего это имя, на борту которого Равель поплывет в Америку, то он прослужит еще девять лет перед тем, как его продадут на слом японцам. Этот флагманский корабль флота, осуществляющий трансатлантические рейсы, представляет собой огромное сооружение из клепаной стали, увенчанное четырьмя трубами, из коих одна чисто декоративная, длиной двести двадцать метров и шириной двадцать три, построенное двадцать пять лет назад на верфях Сен-Назер-Паноэ. В своих четырех классах судно может перевезти около двух тысяч пассажиров плюс пятьсот человек экипажа и командного состава. Имея двадцать две тысячи пятьсот тонн водоизмещения, развивая среднюю скорость в двадцать три узла, благодаря четырем группам турбин фирмы Parsons, которые питаются от тридцати двух котлов фирмы Prudhon-Capus, и достигая мощности в сорок тысяч лошадиных сил, оно способно не напрягаясь пересечь Атлантику за шесть дней, тогда как более скромные корабли французского флота, пыхтя, на пределе сил совершают тот же переход за девять.
«Франция», этот плавучий «Ритц» или «Карлтон», может похвастаться не только высокой скоростью, но и своим главным козырем — комфортом: не успел Равель подняться на борт, как целый взвод безупречно вымуштрованных юнг в новеньких, с иголочки, ярко-красных ливреях грумов сопроводил его по трапам и переходам к забронированной им каюте люкс. Вернее сказать, это люкс-апартаменты, отделанные деревянными панелями из драгоценных древесных пород — сикомора и венгерского дуба, клена амарантового и серого пятнистого, с обивкой из вощеного ситца, с мебелью из лимонного дерева и палисандра; стены двойной ванной облицованы мрамором-брокателем с серебряными позолоченными украшениями. Произведя быстрый осмотр помещения, Равель выглядывает в один из иллюминаторов, которые пока еще смотрят на причал, и видит толпу родственников и знакомых, что теснятся там внизу, размахивая платками, точь-в-точь как на вокзале Сен-Лазар, но вдобавок еще и шляпами, цветами и прочими предметами. Равель не пытается опознать кого бы то ни было в этой людской мешанине: он позволил проводить себя до вокзала, но взойти на палубу судна предпочел в одиночестве. Сняв пальто, вынув кое-что из одежды и разложив туалетные принадлежности рядом с двумя раковинами в ванной, Равель отправляется в ресторан, к метрдотелю, чтобы зарезервировать себе столик, а затем к палубному офицеру, чтобы оставить за собой определенное место для шезлонга. В ожидании отхода судна он проводит некоторое время в ближайшей курительной, отделанной красным деревом с перламутровой инкрустацией. Там он выкуривает еще одну или две «Голуаз» и по некоторым взглядам, которые люди останавливают на нем или, наоборот, быстро отводят, догадывается, что его, видимо, узнают.
Что ж, это вполне объяснимо и естественно: в свои пятьдесят два года он достиг вершины славы, он разделяет со Стравинским репутацию самого почитаемого музыканта в мире, его портрет можно часто видеть в газетах. Кроме того, это вполне естественно при его неординарной внешности: острое, гладко выбритое лицо с длинным тонким носом напоминает два треугольника, поставленные перпендикулярно один на другой. Темный, живой, беспокойный взгляд, густые брови, зачесанные назад волосы, открывающие высокий лоб, тонкие губы, торчащие уши без мочек, матовая кожа. Элегантная отстраненность, учтивая простота, ледяная вежливость, крайне редкая, если нет особой нужды, разговорчивость — в общем, сплав сухого характера и внешнего шика, сохраняемого двадцать четыре часа в сутки.
Впрочем, его лицо не всегда было так безупречно выбрито; в молодости он испробовал все подряд: в двадцать пять лет — бакенбарды, дополненные моноклем и перстнем, в тридцать — эспаньолку, которую сменил на бороду «лопатой», а затем на усы. Но в тридцать пять он начисто сбрил всю эту растительность и заодно сделал максимально короткую стрижку, так что его пышная шевелюра навсегда стала плоской, прилизанной, а вскоре и совершенно седой. Однако главной отличительной чертой, причиняющей ему страдания, является малый рост, из-за которого голова кажется чересчур крупной для такого тела. Метр шестьдесят один, сорок пять килограммов и семьдесят шесть сантиметров окружности грудной клетки — в общем, Равель обладает параметрами жокея — или же Уильяма Фолкнера, который в это самое время делит свою жизнь между двумя городами — Оксфордом, штат Миссисипи, и Новым Орлеаном, двумя книгами — «Москиты» и «Сарторис» — и двумя виски — «Джеком Дениэлсом» и «Джеком Дениэлсом».
Пасмурное небо едва пропускает тусклый солнечный свет; Равель, вспугнутый сиренами, которые зычно возвещают снятие с якоря, поднимается на верхнюю палубу судна, чтобы проследить через окна кают-компании за его отплытием. Давящую усталость, на которую он жаловался этим утром в «201-м», как будто разогнало трехголосое пение пароходных гудков, и он вдруг ощущает такую легкость, такой прилив энергии и жизненной силы, что его тянет выйти на свежий воздух. Но длится этот подъем недолго: очень скоро он замерзает без пальто, стягивает на груди полы пиджака и дрожит. Внезапно поднявшийся ветер буквально приваривает одежду к его коже, словно отрицая ее существование, ее назначение. Этот вихрь так яростно обдувает тело, что он чувствует себя голым, и ему удается закурить сигарету лишь после нескольких безуспешных попыток, так как спички гаснут одна за другой. Наконец дело сделано, но теперь и сама «Голуаз», точно в горах, — мимолетное воспоминание о санатории, — теряет привычный вкус: ветер коварно проникает вместе с дымом в легкие Равеля, охлаждая тело уже изнутри, атакуя его со всех сторон, препятствуя дыханию, взлохмачивая волосы, осыпая одежду и запорашивая глаза пеплом сигареты; в общем, бой слишком неравен, и лучше вовремя отступить. Равель возвращается, как и все другие пассажиры, в застекленное помещение и оттуда спокойно наблюдает за маневрами судна, которое грузно разворачивается в Гаврском порту, пересекает, под мычание гудков, гавань и наконец идет во всей своей красе мимо Сент-Адресса и мыса Эв.
Поскольку корабль вскоре оказывается в открытом море, пассажирам быстро надоедает смотреть на воду. Один за другим они сбегают из застекленного помещения, предпочитая любоваться роскошным убранством «Франции», ее бронзой и розовым деревом, дамастом и позолотой, канделябрами и коврами. Равель же остается на месте, желая как можно дольше созерцать серо-зеленую поверхность, изборожденную эфемерными белыми всплесками, и надеясь — а почему бы и нет? — почерпнуть в этом зрелище мелодическую линию, ритм, лейтмотив. Он прекрасно знает, что так никогда не бывает, что подобным образом ничего не удается создать, что вдохновения не существует, что музыку сочиняют, сидя перед клавиатурой. Но что из того, коли уж ему впервые довелось увидеть океанский простор, отчего бы не попробовать? Увы, ему почти сразу становится ясно, что этот простор не сулит никаких мелодий, и Равеля тоже настигает утомление; тень скуки обостряет его черты, взяв в союзницы вернувшуюся бумерангом усталость, и эти невнятные метафоры также доказывают, что ему невредно было бы немного отдохнуть. Равель ныряет в недра корабля, пускаясь на поиски своего «сьюта»; его почти забавляет сознание, что он может заблудиться в этом ковчеге посреди океана. Наконец он отыскивает каюту и ложится на койку, ожидая захода в Саутгемптон, предусмотренного где-то во второй половине дня, после чего судно снова снимется с якоря и отправится дальше. Вот тогда-то, собственно, и начнется настоящий трансатлантический рейс.
На него снова нападает слабость: ведь он сегодня, можно сказать, не обедал, если не считать крутого яйца, съеденного на пристани; кроме того, ядреный морской воздух перенасытил его тщедушную грудь. Растянувшись на постели, он пытается вздремнуть хоть минутку, но его нервозность борется с изнеможением, и эта схватка лишь усугубляет то и другое, выливаясь в нечто третье — физическое и моральное недомогание, превосходящее по силе сумму его составляющих. Поэтому волей-неволей ему приходится встать; он принимается шагать взад-вперед по каюте, изучая ее подробно, но безрезультатно, и в конце концов решает просмотреть свой багаж и убедиться, что он ничего не забыл. Нет, все на месте. Если не считать маленького синего чемоданчика, набитого под завязку сигаретами «Голуаз», в остальных сложены, например, шестьдесят рубашек, двадцать пар обуви, семьдесят пять галстуков и двадцать пять пижам, что с учетом принципа соотношения частей гардероба дает более или менее ясное представление о целом.
Он неизменно заботился о своей одежде, о ее содержании и обновлении. И если ему не удавалось предвосхитить новейшие тенденции в мире моды, то он по крайней мере скрупулезно следовал им; так, он был первым во Франции, кто начал носить сорочки пастельных тонов, первым, кто стал одеваться во все белое — трикотажную рубашку, брюки, носки, туфли; ему нравилось выглядеть как денди, и он всегда крайне внимательно и трепетно относился к этой стороне жизни. Его видели в молодые годы в черном фраке и сногсшибательном жилете, в шапокляке и желтых лайковых перчатках. Его видели в обществе Сати, в пальто-реглане, с тросточкой, висящей на локте, и в котелке, — это было еще до того, как Сати начал рассказывать о нем гадости. Его видели во время перерыва на конкурсе кандидатов на премию Рима: взгляд, устремленный в никуда, рука за бортом редингота и на сей раз «Кронштадт» на голове; это было до того, как Равеля отвергли пять раз кряду: он разрешил себе слишком много вольностей в обязательных кантатах, и члены жюри, разумеется, провалили его, объявив, что, хотя и не могут запретить ему сочинять «музыку для пожарных», но, уж конечно, не допустят, чтобы он безнаказанно считал их идиотами. Его видели в черно-белом костюме, черно-белых полосатых носках и белых туфлях, и канотье и с неизменной тросточкой в руке — ведь тросточка украшает руку, как улыбка — губы. Его также видели в облачении из блестящей тафты у Альмы Малер — и это опять-таки было еще до того, как Альма стала распускать на его счет двусмысленные слухи. Кроме всего перечисленного он владеет черным халатом с золотым шитьем и двумя смокингами, одним в Париже, другим в Монфоре.
Когда сирены снова взвывают, возвещая близость Саутгемптона, Равель заново надевает пальто, чтобы выйти и понаблюдать за прибытием. С верхней палубы в резко наступившей темноте мерцают ажурные цепочки желтых фонарей, обозначающих берега канала, который ведет к порту; этот последний освещен гораздо лучше, и Равель начинает различать скелеты высоченных портовых кранов, нависших над причалами, «Мавританию» в сухом доке, бронзового ангела над мемориалом «Титаника» и зеленый поезд Саутгемптонской железной дороги, стоящий близ пристани, где еще до подхода их судна скопилась небольшая группа людей. Один из них, с папкой в руке, отделяется от остальных, когда судно подходит к берегу, и, едва матросы устанавливают сходни, проворно взбегает на палубу.
Умное лицо, строгий костюм и мягкий голос, монокль и крахмальный отложной воротничок — Жорж Жан-Обри выглядит не то преподавателем, не то врачом, не то правоведом, а то и профессором судебной медицины. Равель познакомился с ним более тридцати лет назад в зале «Эрар», в день первого исполнения своих «Отражений» Рикардо Виньесом. Жан-Обри, проживающий в Лондоне, совершил поездку в Саутгемптон, желая увидеться с Равелем во время этой короткой остановки и вручить ему копию своего перевода «Золотой стрелы» Джозефа Конрада; он недавно закончил его и собирается в следующем году издать у Галлимара. Это чтение, как он полагает, развлечет Равеля по время плаванья. Что касается Конрада, тот умер три года назад.
3
За три года до того, как он умер, Равель и Жан-Обри посетили его, и этот визит никому из них не доставил удовольствия. Конрад оказался более корпулентным, чем Равель, но, как и он, низкорослым, узколицым и крайне неразговорчивым человеком. Он был совершенно не расположен к дружеским излияниям, тем более что скверно себя чувствовал, страдал неврастенией, вызывавшей резкие перемены настроения, маялся люмбаго и подагрическими болями в запястьях и пальцах рук. Когда он все же открывал рот, то говорил с заметным марсельским акцентом, результатом своего первого пребывания во Франции, вернее, трех лет, проведенных на борту разных кораблей компании «Делестан и сын», сначала в качестве пассажира, затем учеником лоцмана и далее стюардом, после чего пытался покончить с собой, выстрелив, но не попав себе в сердце, как раз после рождения Равеля.
Поскольку Равель, как и Конрад, нечасто бывал словоохотлив, их диалог больше походил на бесплодную пустыню с редкими оазисами, когда гость сдержанно высказывал свое восхищение литературой хозяина, а хозяин пытался тактично замаскировать свое полное незнание музыки гостя. В этой пустыне Жан-Обри играл роль врача «скорой помощи», который мечется между двумя страдальцами, пытаясь сделать и тому, и другому хоть какое-то искусственное дыхание, иными словами, подбрасывая немотствующим собеседникам темы разговора. Стоя на палубе «Франции», они перебирают еще два-три воспоминания о той встрече; Жан-Обри обещает Равелю прислать экземпляр другой переведенной им книги Конрада — «Брат с берега», которая должна выйти одновременно с «Золотой стрелой», но тут снова ревут гудки и — прощай, Саутгемптон!
Вернувшись в свою двойную каюту, Равель констатирует, что у него нет никакого желания переодеваться к ужину. Поразмыслив, он решает, что слишком устал для того, чтобы выходить на люди, в ресторан. Заказав себе рюмку «перно», он уведомляет персонал о своем решении и предпочитает сам составить меню ужина, с удовольствием включая в эту трапезу посреди моря все, что обычно ест на земле, в Монфор-л’Амори, а именно: макрель в уксусе, толстый бифштекс с кровью, кусок грюйера и сезонные фрукты, плюс графин белого.
Однако, съев все это, он обнаруживает, что еще слишком рано, всего половина десятого. Обычно после ужина в Монфоре ночь, когда о сне и мечтать нечего, только начинается. Теснота его жилища конденсирует бесконечное множество различных действий, даже если таковые занимают всего минуту или ограничиваются намерениями. Переходя из кухни в гостиную, минуя библиотеку и рояль, совершая короткую прогулку по саду, Равель может сделать массу вещей, при том что чаще всего ничего не делает; в конечном счете ему поневоле приходится идти спать. Но здесь у него нет никаких развлечений, никаких обязанностей, никаких знакомств и, уж конечно, никакого желания убивать время в барах «Франции» или в ее игорных залах. И, хотя его каюта уж точно теснее монфорского дома, она производит вдвойне обратное впечатление: слишком просторная для корабельного жилья, она одновременно ограничивает своего обитателя теми жесткими параметрами, которыми отличается, например, больничная палата — основное, но отчужденное помещение, где не за что зацепиться, кроме как за себя самого; словом, тут чувствуешь себя будто в санатории, только в плавучем. Равель раскрывает перевод Конрада, врученный ему Жан-Обри, и прочитывает первую фразу: «Следующие страницы, выбранные из толстой рукописи, посвященной, по всей видимости, некой женщине…» — что ж, для начала недурно, но нынче вечером — нет, читать почему-то не тянет. Один раз не в счет: может, все-таки попробовать заснуть?
И вот он раздевается, затем долго, нерешительно разглядывает стопку зеленых пижам, наконец останавливает свой выбор на изумрудной, отринув другую, цвета «веронезе», и разворачивает это ночное одеяние, одно из двадцати пяти. После чего зевает и чувствует себя разбитым, что укрепляет его решимость лечь в постель. Он тушит все лампы, кроме ночника, собираясь все же немного почитать перед тем, как попытаться уснуть. Ложится, вновь открывает перевод, одолевает вторую фразу, а за ней несколько следующих: «Похоже, оно была подругой детства того, кто это написал. Они потеряли друг друга из вида еще в те времена, когда были детьми, отнюдь не достигшими возраста юности. Пролетели годы…» Но в конце четвертой фразы у него начинают слипаться глаза, и он уже ничего не понимает: ладно, продолжим завтра. Уверенным жестом, как будто эта лампочка в изголовье всегда находилась рядом, Равель гасит свет, вслед за чем он, который всегда ждал прихода сна до самой зари и в конечном счете урывал себе лишь его мелкие подачки, жалкие крохи, краткие мгновения дремоты, не говоря уж о полной бессоннице, теперь, когда едва пробило десять часов, проваливается в сон, точно камень в бездонный колодец.
Он спит, а назавтра, как и всякий день, как и всегда на всех пакетботах мира, в одиннадцать часов вам подают чашку бульона. Вы раскинулись в шезлонге, укрывшись пушистым пледом, блаженствуя в тепле, несмотря на холодные брызги, и, созерцая океан, попиваете горячий бульон — это замечательно. Шезлонги этой модели, которые вскоре можно будет видеть всюду, в садах и на пляжах, на балконах и террасах, пока еще встречаются только на палубах трансатлантических лайнеров, чье название они, перебравшись на сушу, закрепят за собой[1].
Шезлонг Равеля из полосатой бело-голубой парусины, а пол прогулочной палубы сделан из наборной канарской сосны, желтой с красноватыми прожилками. Итак, Равель созерцает океан наряду с другими пассажирами, воздерживаясь, однако, от быстрого знакомства с ними, — это не в его характере. Он, конечно, давно отказался от надменной неприступности молодых лет, но при этом отнюдь не готов броситься на шею первому встречному. Справа от него расположилась супружеская пара: муж выглядит крупным промышленником; слева — одинокая дама лет тридцати пяти, ее взгляд блуждает между океанской гладью и книгой в руках, чье название Равель тщетно пытается расшифровать, едва не вывернув себе шею.
Что же касается его самого, то он держит на коленях рукопись, подаренную Жан-Обри и представленную автором как род дневника. Равель покончил с чтением первой записи: «Красноречивый пример предка, чья сильная индивидуальность может воздействовать на молодого человека», затем, допив свой бульон и слегка озябнув на ветру, покидает палубу и идет в библиотеку, задержавшись по пути, чтобы полюбоваться великолепной широкой лестницей из желтого мрамора и серого люнельского камня — точной копией лестницы особняка графа Тулузского в Рамбуйе. Пока другие пассажиры разбредаются кто куда: в гимнастический зал, на площадку игры в сквош, в бассейн, в электрические турецкие бани, на мини-гольф, на шлюпочную палубу, чтобы сразиться там в shuffleboard[2], в курительную, чтобы дать ощипать себя профессиональным шулерам, — он предпочитает продолжить чтение в ожидании обеда. Однако по наступлении урочного часа отказывается от мысли сесть за стол, где для него уже отведено место: ему хочется отодвинуть время еды и попозже пойти в ресторан, где ее заказывают порционно. Там он будет чувствовать себя свободнее, туда можно прийти в любое время и есть что душе угодно. Поскольку сегодня последний день года, у него возникает опасение, что ужин будет долгим, обильным, оживленным и шумным; предвидя это, Равель не хочет наедаться досыта.
Дневное время проходит сперва в кинозале, где показывают «Наполеона», который вкупе с «Метрополисом» поет отходную немому кино; Равель смотрит его вторично, не без удовольствия, хотя нынешний легкий настрой и желание развлечься любыми пустяками предрасполагали его к более новым и менее серьезным фильмам, таким, как «Мадонна спальных вагонов», который немало позабавил его в прошлом году, или даже «Патуйяр и его корова», а то и «Кровельщик-олух». Потом он возвращается в каюту и, полежав немного, начинает примерять свой смокинг номер один, собираясь на сей раз ужинать в ресторане первого класса. Этого уже не избежать, его наверняка посадят за стол капитана с традиционной седой бородой, в традиционном парадном белом кителе. И уж конечно, их ужин не обойдется, ввиду предстоящей десятой годовщины перемирия, без разговоров о первом конфликте мирового масштаба, а каждый из присутствующих поделится своим личным воспоминанием об этом событии. Равель сидит рядом с «промышленной» парой, своими соседями по палубе; им-то он и рассказывает о своей собственной войне.
В 14 году он действительно решил идти воевать, хотя его освободили от службы в армии вчистую, бесцеремонно указав на слишком уж тщедушное сложение. Он вернулся домой в полном унынии, но тут ему пришла в голову замечательная мысль: стремясь во что бы то ни стало бог знает зачем идти на войну, он решил бомбить врага с воздуха, а потому вернулся на сборный пункт и заявил, что именно в силу своего малого веса должен служить в авиации. И, хотя его доводы звучали вполне убедительно, военные не пожелали им внять, твердя, что он, мол, чересчур легок, слишком легок, ему бы еще хоть пару кило веса. Но он продолжал настаивать, и после восьми месяцев упорной осады они наконец сдались и мобилизовали этого зануду, воздев глаза к небу и пожав плечами, однако не нашли ничего лучшего, как зачислить его, на полном серьезе, в автомобильный взвод, водителем — естественно, грузовика. Таким образом в один прекрасный день по Елисейским Полям проследовал мощный военный грузовик с крохотной фигуркой, затерявшейся в слишком просторной голубой шинели и судорожно вцепившейся в слишком большой руль, — ни дать ни взять мышка на слоне.
Сначала его прикрепили к гаражу на улице Вожирар, затем, 16 марта, командировали на фронт, в район Вердена, все с тем же заданием — водить тяжелые грузовики. Там он стал настоящим «пуалю»[3] — в каске, в противогазе, в лохматом козьем тулупе, и ему довелось множество раз водить свою машину под бомбежкой, такой ожесточенной, словно вся вражеская артиллерия ненавидела музыку и метила специально в него, а может, наоборот, в каком-то смысле привязалась к нему. Похоже, ни одна автомобильная служба, в том числе и санитарные машины, не подвергалась такой опасности, как он в своем взводе-75, занимавшемся перевозкой пушек 75-миллиметрового калибра на бронированных грузовиках. Однажды его «тяжеловоз» сломался в дороге, и он провел целую неделю среди полей, в полном одиночестве, как Робинзон. Зато ему представился случай записать несколько птичьих песен: пернатые, которым надоела эта война, в конечном счете решили ее не замечать и щебетали вовсю, не умолкая более при взрывах и не пугаясь непрерывного грохота перестрелок.
Этот рассказ снискал шумный успех у слушателей, а теперь можно на минутку отвлечься и описать меню праздничного ужина, с его весьма банальной роскошью: икра, омары, египетские куропатки, чибисовые яйца, оранжерейный виноград, в сопровождении любых, какие только можно вообразить, напитков. Затем, когда с едой покончено и на столе появляются ликеры, капитан обращает к Равелю загадочную улыбку и поднимает два пальца. По этому знаку является пара музыкантов: черные фраки, белоснежные пластроны, один держит в руке скрипку, второй садится за рояль, и при виде их в зале воцаряется тишина.
Обменявшись короткими взглядами и кивками, музыканты начинают играть первую часть сонаты, которую Равель закончил в этом году, посвятил Элен и сам впервые исполнил вместе со скрипачом Энеско все в том же зале «Эрар», в мае-месяце. Мало сказать, что Равель смущен, — он почти раздосадован. Обычно на таких концертах, когда наступает черед какой-нибудь из его вещей, он выходит, чтобы покурить. Он не любит слушать, как исполняют его сочинения.
Но сейчас избежать этого невозможно; ему от чистого сердца решили сделать приятный сюрприз, и он изображает на лице радость, чертыхаясь про себя. К тому же он находит, что музыканты играют эту новую сонату не так уж хорошо. И, когда через четверть часа они заканчивают последнюю часть, Perpetuum mobile[4], перед ним встает другая проблема: аплодировать собственному сочинению так же неприлично, как не аплодировать исполнителям. Раздираемый сомнениями, он все же встает и хлопает, подчеркнуто адресуя свои аплодисменты обоим музыкантам, затем горячо пожимает им руки и только после этого кланяется вместе с ними публике, под восторженные возгласы всего первого класса «Франции».
После ужина, после проведения традиционного сбора средств в пользу жертв моря и после того, как Равель внес свою лепту, что он всегда делает, праздник может продолжаться. Это грандиозное торжество по случаю наступления нового года разворачивается на всех уровнях, во всех уголках пакетбота и длится до полуночи и после полуночи, а для некоторых и поутру, ибо, с учетом разнообразного географического происхождения пассажиров, смены часовых поясов и степеней алкогольного воодушевления, ликование возобновляется каждый час, все более и более энергично, и так до первых сполохов зари следующего дня. Салоны, курительные, кафе, веранды и палубы пестреют воздушными шарами, конфетти, гирляндами и серпантином; всюду куда ни глянь играют всевозможные оркестры, готовые удовлетворять любые прихоти пассажиров. Камерный ансамбль предусмотрительно расположился на почтительном расстоянии от танцевального, французская певица братается с русским квартетом, а сам Равель, который устроился неподалеку от джаз-банда, с интересом изучает этот новый, несомненно, преходящий вид искусства и проведет большую часть ночи среди пьяных американцев.
4
На следующее утро он долго нежится в постели и встает так поздно, что пропускает одиннадцатичасовой бульон; затем, надев легкий костюм из жатой чесучи, выходит на прогулочную палубу, почти безлюдную, только двое юнг собирают на подносы бульонные чашки, брошенные у ножек шезлонгов; зеленое море налилось угрожающей чернотой.
В плаванье время очень скоро начинает тянуться томительно медленно. Более того, даже дни — и это ощущение тоже приходит очень скоро — не только кажутся длиннее, чем на земле, но и вправду становятся таковыми: если добавить время, продленное благодаря пересечению нескольких часовых поясов, к длительности морского перехода, получится, что каждый день насчитывает не менее двадцати пяти часов. Но, главное, сама ограниченность предлагаемых на судне развлечений способствует желанию растянуть их елико возможно. Так что, по правде говоря, пассажиры первого класса в основном тратят свой досуг на переодевания три раза в день, и это их наипервейшее развлечение. Кроме того, слабый пол проводит массу времени в шезлонгах под стеклянным козырьком прогулочной палубы, тогда как сильный увлеченно сражается в карты — вист, бридж, покер, — а попутно в шашки, шахматы и домино. Организуются также некоторые светские забавы, среди коих скачки на деревянных лошадках, позволяющие устроить тотализатор; а еще пассажиры каждый вечер — кроме воскресенья, когда это возбраняется, заключают пари о точном местонахождении корабля, притом на довольно крупные суммы. Ну а Равелю, который хорошо плавает, повезло, что на борту есть бассейн, и он регулярно посещает его, переходя затем в парикмахерскую, где прочитывает от первой до последней страницы «Атлантику» — ежедневную газету, выпускаемую корабельной типографией и публикующую новости, переданные на судно по радио с береговых станций.
Еще можно заняться обследованием пакетбота. Хотя пассажиры первого класса не имеют возможности входить в контакт с представителями низших слоев общества, где царят более свободные нравы, корабельное пространство достаточно велико, чтобы на его осмотр ушел целый день. И Равель не лишает себя этого удовольствия; он обходит палубы, задерживается на мостике, возле старших офицеров, проводит минуту в каюте радиста, наведывается в вахтенное помещение, где просит объяснить ему, как управляют разными аппаратами, спускается, чтобы полюбоваться турбинами, в машинный зал — это чудовищное корабельное чрево, которое удушливая жара и грохот уподобляют аду, но ему всегда нравились механизмы и заводы, доменные цеха и раскаленная багровая сталь: зубчатые колеса способны зародить в нем новые ритмические идеи гораздо скорее, чем морские волны. Затем он может снова подняться наверх, в уютные помещения суперкласса, продолжить чтение в кафе на открытом воздухе, прогуляться возле гимнастического зала или бросить взгляд на теннисный корт на верхней палубе. Один-единственный раз, будучи мало приверженным религии, он посещает часовню, которую по традиции, и это общеизвестно, оборудуют на строящемся корабле в первую очередь, хотя в случае несчастья вспоминают о ней в последнюю.
Однако и это скоро приедается, а, поскольку все дни похожи как две капли воды, не стоит задерживать на них внимание, лучше обратимся ко второй половине путешествия. За два дня до прибытия «Франции» в Нью-Йорк Равель, по просьбе публики, дал вечером маленький концерт. Для исполнения своих коротких пьес он воздержался от парадного фрака, этой униформы пианистов, предпочтя ей более демократическое облачение — можно даже сказать, с легким оттенком издевки. Он выходит в полосатой рубашке, клетчатом костюме, красном галстуке и в таком наряде играет свою «Прелюдию», написанную пятнадцать лет назад, а затем исполняет вместе с корабельным скрипачом Первую сонату для скрипки, сочинение тридцатилетней давности. Его голова находится чуть ли не на уровне клавиатуры, и ладони, вытянутые вперед как при прыжке в воду, не нависают над клавишами, а дотягиваются до них снизу. Его пальцы, слишком короткие, слишком узловатые и довольно толстые, с трудом берут октаву, но зато числят в своих рядах необыкновенно сильные большие — мощные, как у душителя, легко сгибающиеся в любую сторону, посаженные высоко и наотлет, а по длине почти равные указательным. Честно говоря, это далеко не идеальные руки для пианиста; впрочем, он и не блистает техникой — сразу видно, что давно не упражнялся, играет скованно и все время сбивается.
Тот факт, что он столь неуклюже управляется с роялем, можно объяснить также его леностью, которую он с детства так и не преодолел: будучи легковесным, он совершенно не желал утомлять себя игрой на таком тяжелом инструменте. Ему хорошо известно, что исполнение короткого произведения, особенно медленного, требует больших физических усилий, а он предпочитает избавлять себя от этой тягости. Лучше уж что-нибудь необременительное; в этом стремлении он недавно дошел до того, что написал аккомпанемент к сонету «Ронсар своей душе» для одной только левой руки: это позволяло ему играть и одновременно курить, держа сигарету в правой. Короче, играет он плохо, но сойдет и так — спасибо, что вообще играет. Он сознает, что до виртуоза ему далеко, но ведь публика все равно ничего не смыслит, все обходится благополучно.
Накануне прибытия, незадолго до чая, капитан стучит к нему в каюту. Равель, одетый в домашнюю куртку с разводами, открывает, и офицер, отдав легкий поклон, входит, держа под мышкой толстую книгу в темно-красном кожаном переплете с золотым тиснением на корешке. Равель тотчас понимает, в чем дело: это «золотая книга» пакетбота, и капитан в церемонных выражениях просит его написать в ней несколько слов. Он отвечает: ну разумеется, с удовольствием.
Капитан выкладывает книгу на столик, бережно раскрывает ее, почтительно листает и наконец добирается до первой незаполненной страницы, на которую и указывает Равелю. Тот медлит, не в состоянии с ходу сочинить подходящую формулировку, и для начала просматривает предыдущие записи: поскольку «Франция» плавает с апреля 1912 года, даты ее спуска на воду, книга заполнена сотнями хвалебных отзывов, подписанных именами более или менее известными Равелю и принадлежащими представителям высших сфер французского общества: политики, промышленности, финансов, церкви, — а также деятелям искусств, литературы, государственного управления и судопроизводства. Он изучает их якобы из любопытства, на самом же деле, не имея понятия, что ему следует написать самому, торопливо выискивает там подходящие обороты, которые могли бы подстегнуть его вдохновение.
Кроме того, в таких документах всегда поражает разнообразие подписей. Будь у Равеля больше времени, он бы занялся, интереса ради, изучением этих почерков и стилей, дабы определить по ним личности авторов — следуя старинному методу, изобретенному Бальди, а позже усовершенствованному аббатом Мишоном, Крепье-Жаменом и другими. Некоторые, к примеру, пишут свое имя и фамилию вполне просто и разборчиво, подчеркивая их или нет — иногда такой росчерк проходит под фамилией, не касаясь ее, иногда являет собой продолжение последней ее буквы. Бывает, что в порыве скромности и тяги к простоте (если только это не проявление гордыни) инициалы написаны строчными, а не заглавными буквами. Этот тип подписей расшифровать легко, но их все же меньшинство. Зато почти все другие отличаются более или менее удачной стилизацией и дополнены патронимом: их владельцы явно предавались этому занятию с большим удовольствием, словно им наконец представился единственный в жизни шанс заняться искусством каллиграфии. Разобрать подобные автографы, как правило, совершенно невозможно, поскольку они состоят из бесчисленных завитушек, закорючек, арабесок, спиралей, загогулин и росчерков, устремленных во все стороны, напоминающих следы мертвецки пьяного конькобежца на льду, украшенных таинственными черточками и точками и до такой степени хитроумных, что написанные имена не только нельзя установить, но иногда трудно даже понять, в каком направлении автор водил пером, с какого места его рука начала создавать сей маленький шедевр и где завершила свое творение. Под теми подписями, которые решительно не поддаются расшифровке, кто-то другой предусмотрительно обозначил карандашом имена их создателей.
Но главное, Равелю абсолютно ясно: каково бы ни было графическое решение подписи, ее исполнение должно было занять черт знает сколько времени. Поэтому сам он ограничивается скупым похвальным отзывом, который пишет своим крупным нервным почерком с остроконечными буквами, идеально разборчиво начертав внизу свое имя и фамилию, даже не сопроводив их росчерком, а всего лишь украсив заглавные буквы удлиненными вертикальными штрихами.
После ухода капитана Равель пользуется тем, что у него в руке перо, и пишет своим друзьям несколько коротких писем вполне банального содержания, не слишком утомляя себя изысками. В одном из них, адресованном супругам Делаж, он сообщает, что отнюдь не перетрудился, путешествуя в своей каюте люкс. В другом, предназначенном Ролану-Манюэлю, высказывает мысль, что нет ничего приятнее морского путешествия в такое время года. Далее маленькое письмецо к Элен и последнее — брату Эдуару; ну вот, с корреспонденцией, слава богу, покончено. Он еще раз переодевается, затем раскладывает свои послания по конвертам и относит их в справочную службу, где всю почту собирают и доставляют на берег гидросамолетом, взлетающим с кормовой палубы судна. Затем, поскольку путешествие близится к концу, следует озаботиться укладкой багажа и заполнением таможенных деклараций.
Ну а вечером, за ужином, начинается обычная в таких случаях церемония: обмен адресами, обещания дальнейших встреч, однообразные тосты. После чего пассажиры отправятся спать, и только некоторые из них предпочтут допоздна засидеться в баре, а на рассвете выйти на палубу, вдохнуть первые запахи американского континента и дождаться прибытия лоцмана в Эмброуз Лайт, вслед за чем им откроется вид на статую Свободы и судно пойдет вверх по Гудзону. Тем временем Равель, застигнутый бессонницей, только что закрыл перевод «Золотой стрелы», дважды или трижды перечитав последнюю фразу: «Но мог ли он, в самом деле, поступить иначе?!»
5
Утро 4 января, Нью-Йорк; комитет по встрече Равеля ждет его на пристани. В чистом небе висит ледяное солнце. Комитет составлен из делегатов различных музыкальных обществ, президентов ассоциаций, двух представителей муниципалитета, тучи фоторепортеров, размахивающих огромными вспышками, журналистов с блокнотами и засунутыми за шляпную ленту карточками аккредитации, карикатуристов и кинооператоров. Поначалу Равелю не удается с высоты мостика разглядеть знакомых в гуще толпы, но вскоре он замечает Шмитца, который исполнил десять лет назад его «Трио» — именно тогда его и познакомили с Элен, — замечательного Шмитца, главного организатора всего этого американского турне. А вон там, недалеко от Шмитца, стоит Болетт Натансон; он приветствует их обоих широкой улыбкой и взмахом руки, потом, не вытерпев, перегибается через борт и кричит: «Вот увидите, какие шикарные галстуки я с собой привез!»
Не успевает Равель сойти с трапа «Франции», как его окружает плотная толпа под завистливыми взглядами других пассажиров первого класса, которых в лучшем случае встречают родные. Ему пожимают руки — по его мнению, чуть слишком фамильярно, его приветствуют тремя короткими речами, в которых он не разбирает ни слова, поскольку напрочь обделен способностями к иностранным языкам, за исключением баскского. Если он и может кое-как спросить дорогу по-английски, то все равно никогда не понимает ответа; впрочем, здесь подобная ситуация немыслима, так как его не оставляют ни на минуту и не оставят в течение следующих четырех месяцев, даже тогда, когда можно было бы и дать покой. Теперь его торжественно ведут к длинной черной Pierce-Arrow с открытым верхом, каких он и в кино не видывал; она уносит его в Лэнгдон-отель, где для него забронирован «сьют» на девятом этаже.
Под неусыпным надзором своего менеджера и первой скрипки Бостонского симфонического оркестра, служащего ему переводчиком, он проводит этот день за различными интервью и встречами; тем временем в «Лэнгдон» идет непрерывный поток корзин с цветами и фруктами; в конце концов букетов скапливается так много, что для них не хватает ваз. И следующие четыре дня Равель проводит главным образом в такси, доставляющих его на всевозможные встречи, репетиции, званые вечера и приемы, в числе которых один — у жены изобретателя Эдисона — особенно утомителен: три сотни приглашенных по очереди подходят к нему, чтобы поговорить по-английски. Концерт в Нью-Йорке выливается в настоящий триумф: три с половиной тысячи зрителей стоя аплодируют ему более получаса, забрасывая охапками все новых и новых цветов, посылая воздушные поцелуи, оглушительно крича и свистя — так принято в этой стране выражать свой восторг, — и вынуждая раз за разом выходить на сцену, что ему, в принципе, не очень-то нравится. А с наступлением вечера, в поздний час, Равеля тащат в какие-то дансинги, гигантские кинотеатры, на негритянские шоу, откуда он возвращается в «Лэнгдон» вконец измотанным.
Затем начинается турне по всей Америке. В Кембридже после концерта, за которым следует прием, он вынужден прямо в смокинге мчаться на вокзал, чтобы не упустить поезд на Бостон, где живет в отеле «Коупли-Плаза» и где концерт снова завершается бурным триумфом; и снова ему нужно пожимать три сотни рук и выслушивать уверения в любви и в том, что он выглядит как настоящий англичанин, вслед за чем его опять тащат в очередное ночное заведение или в какой-нибудь театр теней. Тот же шквал ожидает его по возвращении в Нью-Йорк, в Карнеги-Холле, и те же светские мероприятия устраиваются в его честь: с Бартоком, Варезом, Гершвином, у богачей с Мэдисон-авеню, которые, разумеется, опять-таки просят: сыграйте нам что-нибудь! И он играет, он должен играть и играть, не переставая, в концертных залах и на частных вечеринках, где ему иногда приходится также, не без легкой робости, дирижировать оркестром, и похоже, что всему этому уже никогда не наступит конец.
Такой же прием ждет его в заснеженном Чикаго, с той лишь разницей, что в последний момент Равель отказывается играть. Не найдя в номере свой кофр с лакированными туфлями, он заявляет, что не выйдет на сцену: даже речи быть не может, чтобы он появился на публике в уличных башмаках и дирижерском фраке, и тогда одна из певиц хватает такси, мчится на вокзал, находит чемодан в камере хранения, и концерт все же начинается — с получасовым опозданием, но с тем же результатом: новая бурная овация, а следом торжественные фанфары оркестра, когда он еще раз выходит кланяться по окончании концерта. И такой же прием в Кливленде, и снова духовые оглушительно приветствуют его, а три с половиной тысячи слушателей встают в едином порыве; в общем, повсюду только триумф, только восторг, и гастроли проходят на славу. С одной только маленькой оговоркой — скверная еда. Настолько скверная, что в Чикаго Равель, приглашенный на ужин к одной миллиардерше, вынужден сбежать от нее пораньше и вернуться, в трескучий мороз, под неизбежным ледяным ветром, к себе в отель с единственной целью — заказать в номер хороший бифштекс. Другая проблема заключается в том, что он не спит. При той жизни, на которую его здесь обрекли, ему удается чуточку вздремнуть разве что в поезде, да и то не всегда.
К счастью, в поездах недостатка нет, и, опять же к счастью, он путешествует лишь в роскошных составах, пересекающих североамериканский континент во всех направлениях, ибо составленный для него маршрут более чем причудлив. Непостижимый, как метания мухи в воздухе, он ведет его через все двадцать пять запланированных городов, от северных льдов к тропикам и обратно, какими-то дикими зигзагами, с неожиданными остановками, с бестолковыми отклонениями.
Эти поезда с их пышными названиями: «Зефир», «Гайавата», «Эмпайр Стейт Экспресс», «Сансет Лимитед» или «Санта-Фе де Люкс» — на свой лад повторяют роскошный сервис «Франции». Не менее изысканные, чем этот круизный пароход, они представляют собой великолепные отели на колесах, состоящие из пятнадцати вагонов по восемьдесят тонн каждый, во главе с паровозом обтекаемого профиля, с кабиной машиниста в форме ракеты и центральной фарой, похожей на глаз циклопа. Здесь пассажирам предоставляют все мыслимые виды услуг: рабочие кабинеты для бизнесменов, дансинг и кинотеатр, маникюрные и парикмахерские салоны, консультации визажисток, концертный зал с фисгармонией для воскресных служб, библиотеку и множество баров. Что касается купе, то это настоящие апартаменты, отделанные ценными породами дерева, устланные коврами, украшенные витражами и драпировками; над каждой кроватью висит балдахин, а в ванны подается, на выбор клиента, пресная или морская вода. В хвостовом вагоне устроена открытая площадка с панорамным обзором, подобная террасе или балкону и увенчанная куполообразной крышей.
На одном из таких поездов — «Сан-Франциско Оверленд Лимитед» — Равель и прибывает к концу января в Калифорнию. В данный момент он получил короткую передышку, его программа менее насыщенна и позволяет слегка расслабиться: он проводит время либо под своим балдахином, пытаясь заснуть, либо в клубном вагоне поезда. Из Сан-Франциско он едет в Лос-Анджелес; тамошний теплый воздух позволяет ему сидеть на задней обзорной площадке, наслаждаясь созерцанием окружающего пейзажа. Состав мчится в тени высоких деревьев, похожих на дубы, хотя на самом деле это падубы, пересекает эвкалиптовые рощи, огибает по затейливой кривой горы всевозможных видов, то тускло-желтые, то ярко-зеленые. Приближаясь к Лос-Анджелесу, он минует разбросанные там и сям дома предместья: что ни особняк, то история, и иногда это история с бассейном, таящая в себе больше секретов, чем кажется на первый взгляд, а немногочисленные магазинчики между ними похожи на пестрые игрушки того вида, который особенно нравится Равелю.
В Лос-Анджелесе он дает концерт в бальном зале гостиницы «Балтимор», откуда посылает своему брату Эдуару открытку с фотографией этого небоскреба, проколотую булавкой: на лицевой стороне изображен сам отель, а на оборотной Равель уточняет, что обозначил этой дырочкой окно своего номера. Да, в Лос-Анджелесе живется гораздо лучше, чем в Чикаго; здесь в разгар зимы сияет солнце, огромный город буквально наводнен цветами, которые у нас растут только в оранжереях, при ста градусах по Фаренгейту, а высоченные пальмы чувствуют себя как дома. И, раз уж Равель заехал в эти благословенные края, он может меньше чем за час добраться в Stutz Bearcat — тоже открытом, но на сей раз цвета граната и лаванды, с белобокими колесами — до Голливуда, где во время экскурсии встречает нескольких звезд, например Дугласа Фербенкса, который говорит по-французски, или Чарли Чаплина, который не говорит. Все это его очень развлекает и помогает сохранять доброе расположение духа, на удивление постоянное, даром что триумф утомителен, а еда как была, так и остается скверной.
Поезд компании «Саутерн Пасифик» доставляет его из Перта в Сиэтл, минуя Портленд и Ванкувер; следующий поезд, «Юнион Пасифик Систем», везет его из Денвера (золотые и серебряные прииски, солнце, чистый высокогорный воздух) в направлении Миннеаполиса, через Канзас-Сити. Но здесь небо уже мрачнеет, и он со страхом думает о том, что на следующей неделе ему предстоит Нью-Йорк с его ледяным воздухом.
Однако в конечном счете погода оказывается не такой уж студеной и позволяет ему отпраздновать 17 марта свое пятидесятитрехлетие при большом стечении гостей; среди них находится и Гершвин, которого он хотел повидать еще раз, чтобы услышать в его исполнении The man I love[5]. Гершвин, разумеется, играет с величайшим энтузиазмом, имея в виду после ужина попросить Равеля давать ему уроки композиции, на что тот отвечает решительным отказом, объяснив, что Гершвин рискует таким образом утратить свою мелодическую самобытность, а чего ради, скажите, пожалуйста, — чтобы сделаться плохим Равелем? Кроме того, он не любит брать учеников, и вообще, неужели Гершвину мало его мировой славы? Если он метит выше, не имея при этом соответствующих данных, то стоит ли помогать ему с риском попросту сломать?! В общем, Равель уклоняется, он и без того достаточно раздражен. Ибо, хотя организаторы вечера вознамерились приготовить ужин на его вкус (они уже начали понимать, что ему нравится, например, говядина с кровью), мясо, как всегда в этой стране, пережарено до безобразия.
Два дня спустя, добравшись до юга на «Кресчент Лимитед», Равель попадает в весну, жаркую, как середина лета, так что ему приходится сидеть в своем купе без пиджака, в одной рубашке, распахнув все окна и включив вентилятор на полную мощность. Правда, на задней террасе чуточку прохладнее, и Равель дремлет там весь день, а затем, после ужина, располагается в клубном вагоне, собираясь написать несколько писем, в которых рассказывает о своем сложном маршруте: для начала он осмотрит Новый Орлеан, попробует рыбу, запеченную в бумажном пакете, и французское вино, подаваемое в нарушение сухого закона, — знать бы еще, что это за зверь такой, сухой закон. Ближе к одиннадцати вечера, когда клуб начинает пустеть, он возвращается в свое купе, расположенное в другом конце поезда.
Если в Нью-Йорке уже заметно потеплело, то растительности там было куда меньше, чем в Новом Орлеане, где он провел всего один день, тем же вечером уехав в Хьюстон, чтобы дать в этом городе два концерта. Во время репетиций он производит сильное впечатление на оркестрантов, ежедневно меняя цвет своих рубашек и подтяжек: сегодня розовый, завтра — голубой. Все пока идет превосходно, по крайней мере, так ему кажется, хотя он не спрашивает себя, соответствует ли прием, который ему оказывают, ощущению триумфа, которое переполняет его на протяжении четырех месяцев. Это ощущение настолько сильно, что под его влиянием он слегка расслабляется, становясь все более и более небрежным в манере, и без того не очень-то уверенной, играть на фортепиано. Он думает, что публика этого не замечает, а впрочем, он вообще об этом не думает. А это, тем не менее, заметно. Он об этом не знает. Да если бы и знал, ему на это наплевать.
Перед вторым концертом он дает пресс-конференцию в церкви шотландского обряда, где объясняет, что ему требуется долгий период вызревания, чтобы сочинить музыку. Что в течение этого периода ему удается мало-помалу, но чем дальше, тем яснее, увидеть форму и архитектонику будущего произведения в целом. Что он может размышлять о нем годами, не записывая ни единой ноты. И что потом делает эту запись довольно быстро, хотя, конечно, остается еще масса работы: нужно устранить все лишнее и добиться, насколько возможно, предельной ясности и простоты.
Высказав это, Равель садится в машину и едет осматривать Мексиканский залив, затем совершает бросок к Большому Каньону, где проводит неделю, поселившись в «Фениксе», после чего «Калифорния Лимитед» везет его в Буффало, на другой край континента. Не вдаваясь в подробности, сообщим, что оттуда он возвращается в Нью-Йорк и в Монреаль, опять дает концерты: в Торонто, Милуоки и Детройте. Далее следуют: последний визит в Бостон, последний приезд в Нью-Йорк и наконец посадка в полночь на пакетбот «Париж».
Он прибывает в Гавр 27 апреля. Чувствует себя в отличной форме, а самое приятное то, что его маленький голубой чемоданчик, опроставшись от «Голуаз», содержит теперь двадцать семь тысяч долларов. На пристани путешественника поджидает целая группа близких: Эдуар с четой Делаж и, конечно, Элен в сопровождении все тех же Марсель Жерар и Мадлен Грей, которые бросаются к его ногам и преподносят круглый букет в фестончатой обертке. Ликующий Равель находит вполне нормальным, что они приехали встретить его в Гавре, и ему даже в голову не приходит их благодарить. Он только небрежно бросает: «Ну вот еще, зачем вы явились, лишнее беспокойство».
6
По возвращении в Монфор-л’Амори его встречает французская весна — классическая, хорошо темперированная весна, далекая от эксцентричных выходок американского климата. Равель еще не успевает отпереть дверь своего дома, как целое скопище птиц над его головой приветствует новоприбывшего оглушительным концертом. Вся эта пернатая мелочь, от горихвостки до синицы-черноголовки, голосит в древесной листве, под бдительным надзором двух его сиамских кошек, исполняя свои арии, которые Равель знает от первой до последней нотки.
Что же касается самого дома, то он, конечно, чрезвычайно гордо высится над долиной, но вид у него все равно дурацкий. Построенный в форме четвертушки сыра бри, он выглядит со стороны улицы совсем не так, как со стороны сада; его пять или шесть комнаток, соединенных узеньким коридорчиком, тесны, как птичьи гнезда, а на лестнице не разойтись и двоим. Поскольку Равель и сам невеличка, можно было бы посмеяться над тем, что ему вздумалось найти жилище под свои габариты, однако это не соответствует истине. В первую очередь, он искал дом по средствам, в ту пору весьма ограниченным: не будучи богатым, считая каждый грош, он не смог бы купить его, если бы не маленькое наследство, полученное от швейцарского дядюшки. Вдобавок его очаровал пейзаж, открывавшийся с балкона: широкий обзор долины, почти прямая линия горизонта под изменчивыми небесами и долгая волнистая череда низких холмов, перемежаемых лугами, аккуратными рощицами и остатками каменных изгородей.
Но правда и то, что это маленькое жилище битком набито маленькими вещицами, миниатюрами всех видов, статуэтками и безделками, музыкальными шкатулочками и механическими игрушками: здесь деревянный китаец высовывает язык, если дернуть за нитку; там заводной соловей размером с орех взмахивает крылышками и поет, стоит повернуть ключик у него в боку; а вот парусник — только качни — пляшет на картонных волнах. Да тут полно и других совершенно бесполезных изделий: тюльпан из позолоченного стекла, роза со съемными лепестками, коробочки из австрийского цветного хрусталя, крошечная копия турецкой оттоманки из кружевного фарфора. Впрочем, дом оборудован и всевозможной современной техникой: пылесосом и фонографом, телефоном и радиоприемником.
После того как он осматривает комнаты, раздвигает занавеси из тафты в гостиной и зеленые шелковые шторы в столовой, распаковывает вещи и развешивает в шкафах одежду, радость возвращения быстро улетучивается. Ходишь как неприкаянный, не знаешь, куда себя девать. Он слишком утомлен путешествием, чтобы лечь отдохнуть: нервы у него на взводе, а кроме того, сейчас только половина шестого, и заснуть ему все равно не удастся, а если удастся, ночью будет хуже. Открыть книгу или рояль — нет, и речи быть не может, очень трудно сосредоточиться. Прибрать в доме, сходить за покупками — и того не требуется: предвидя возвращение хозяина, мадам Ревло всюду старательно навела чистоту, затопила котел и приготовила еду в кухне. Постойте-ка, он же привез целую кучу вырезок из американских газет: это посвященные ему статьи, которые он сохранил, не очень-то понимая, что в них написано; итак, он засовывает их без разбора в альбом и снова остается не у дел. Можно, конечно, пойти прогуляться в саду — треугольном пространстве, поросшем травкой и чуточку выпуклом, как девичье лоно. Но сегодня Равелю не удается проявить внимание к саду, он сейчас едва видит окружающее, едва интересуется работами, проделанными в его отсутствие садовником. Похоже, он начинает скучать.
А Равелю хорошо знакомо это чувство — скука: сливаясь с ленью, скука может вынудить его часами играть в диаболо[6], следить за ростом своих ногтей, складывать бумажных голубей, лепить уточек из хлебного мякиша, составлять список пластинок, то есть пытаться навести порядок в своей коллекции, от Альбениса до Вебера, минуя Бетховена, но не исключая Венсана Скотто, Ноэль-Ноэля или Жана Траншана (в любом случае, он слушает их, эти пластинки, крайне редко). Сочетаясь с отсутствием планов, скука часто берет себе в союзники приступы хандры, пессимизма и уныния, которые заставляют его горько упрекать родителей: зачем они не сделали его простым лавочником?! Однако нынешняя скука, при совсем уж полном отсутствии видов на будущее, переносится намного тяжелее, чем когда-либо, давит на него почти физически, приводя в лихорадочное, беспокойное состояние, обостряя чувство одиночества, которое сжимает ему горло больнее тугого узла галстука в горошек. Остается единственный выход: звонить Зогебу, Монфор, 56, лишь бы застать его дома.
Слава богу, Зогеб дома, он подходит к телефону. Оба довольны, оба радостно беседуют, понимают друг друга с полуслова и, конечно, хотят увидеться, а почему бы, собственно, не прямо сейчас? Не проходит и пяти минут, как они встречаются на террасе кафе возле церкви, и Равель за рюмкой вермута с кассисом рассказывает об Америке Зогебу, которому только этого и надо. Непонятно, чем занимается Жак де Зогеб. Вроде бы пишет, но никто не знает, что именно. Это господин с черными лоснящимися волосами и матовой кожей, чуть повыше Равеля, чуть менее тщедушный, но, как и тот, трепетно относящийся к подбору одежды. У него есть одна прекрасная черта: он ровно ничего не смыслит в музыке, и поэтому с ним можно беседовать на посторонние темы. Но, поскольку он очень хочет приобщиться к музыке, Равель может говорить с ним об этом как бог на душу положит. Например, Зогеб спрашивает: послушайте, а Шопен — это кто? Да очень просто, отвечает Равель, раздавливая сигарету в пепельнице, это величайший из итальянцев. Ввиду того что вермута с кассисом, даже повторенного дважды или трижды, явно не хватает, чтобы исчерпать американскую тему, Зогеб приглашает Равеля на ужин, после которого на того нападает такая дикая усталость, вызванная разницей во времени, — феномен, доселе им не испытанный, — что он уже к одиннадцати вечера возвращается домой.
А вернувшись, в нарушение обычая сразу же идет в спальню, вместо того чтобы бродить по дому чуть ли не до утра; он буквально засыпает на ходу. Но засыпать на ходу не значит заснуть на самом деле: чрезмерное утомление гонит сон прочь. Он все же гасит свет, однако четверть часа спустя опять зажигает его, хватает книгу, безуспешно пытается читать, снова гасит, долго вертится в постели — ну всем известно, как это бывает, — и множество раз то включает, то выключает лампу. Он и всегда-то плохо спал, ложась, как правило, очень поздно и тщетно ожидая прихода сна, а, дождавшись, почти сразу же просыпался. Так что это уже давняя напасть, и для борьбы с ней он выработал несколько методов.
Метод № 1: придумать какую-нибудь историю, детально разработать сюжет и как можно тщательнее «поставить на сцене», соблюдая все обязательные каноны развития действия. Вообразить персонажей этого спектакля, не забыв при этом себя в роли главного героя, выстроить декорации, расположить свет, подготовить звуковые эффекты. Так, хорошо. Теперь войдите в этот сценарий и развивайте его, методично следя за исполнением до тех пор, пока ситуация не превратится в свою противоположность, а именно не обретет самостоятельную жизнь и не завладеет вами, вплоть до того, что начнет формировать вас, как прежде формировали ее вы. Таким образом, если вам очень повезет, эта история использует возможности, которые вы ей предложили, станет независимой и будет развиваться по своим собственным законам, чтобы в конечном счете полностью обернуться грезой, а где греза, там и сон, вот и готово дело.
Возражение: все это прекрасно, но вы плохо знаете, что такое сон, если надеетесь увидеть его приход. В крайнем случае можно почувствовать, как он завладевает вами, но увидеть его воочию не дано, как нельзя смотреть прямо на солнце. Нет, сон застанет вас только врасплох, как разбойник, напав сзади или в глухом углу. Его не встретишь, подстерегая, словно часовой на посту, вглядываясь во тьму, следя за возникновением видений, его предшественников — танцующих квадратиков, спиралей, созвездий, которые обычно возвещают его близость. Только не старайтесь сами искать их, эти фантомы, стоит их спугнуть, как они улетучиваются, исчезают и, затаившись, ждут, когда вы откажетесь от своего замысла, чтобы смело вернуться и атаковать. Или не атаковать. Короче…
Короче, проходят три недели, и небо грозит пролиться дождем, когда в одно из воскресений на Монфор сваливается около полусотни гостей, дабы торжественно преподнести Равелю его бюст, изваянный Леоном Лейрицем. Сначала они разбредаются по дому, где царит беспорядок и только в кабинете Равеля, как обычно, все лежит на своих местах: он считает делом чести не оставлять после себя никаких следов работы. На столе ни карандашей, ни резинки, ни одного листка нотной бумаги, нет их и под портретом его матери, и на рояле «Эрар», всегда закрытом, когда в доме посторонние; ничего нет в руках или в карманах хозяина. Затем, невзирая на мрачную погоду, все решают расположиться в саду, чтобы выпить. Этот сад вполне соответствует дому, то есть он не очень-то велик, но зато разбит в полуяпонском стиле: лужайки идут уступами, всюду прихотливо вьются дорожки, аллеи, обсаженные экзотическими цветами и карликовыми деревцами, ведут к бассейну, где пляшет скупая струйка воды.
Кроме неизбежной Элен и Лейрица, вполне приятного юноши с мягким голосом и чуточку манерными ужимками, здесь собралось немало других людей, вряд ли вам знакомых, например: Рене Кердик, Сьюзан Уэлти или Пьер-Октав Ферру, хотя есть и такие, о которых вы могли слышать, а именно Артюр Онеггер, Леон-Поль Фарг или Жак Ибер — словом, давние друзья, в том числе и молодой Розенталь, коему по традиции вменяется в обязанность целыми часами крутить ручку специальной машины для изготовления льда, чтобы освежать напитки. Сам Равель, объявивший себя специалистом по коктейлям, проводит массу времени в подвале, где изобретает любопытнейшие смеси, чей состав держит в строгом секрете, присваивая им такие названия, как «Андалу», «Фи-Фи», «Валенсия». Гостям приходится осушить немало бокалов, прежде чем их соберут в группу, чтобы сфотографировать: Равель, всегда тщательно одетый, редко показывается на люди вот так, без пиджака, в рубашке с закатанными рукавами, в одной руке неизменная «Голуаз», другая, как всегда, засунута в карман, а вокруг него пять красивых, счастливо улыбающихся женщин. Не смеется лишь он один, остальные же гости, похоже, веселятся от души: после обеда, щедро орошенного вином, играют в жмурки, потом Равель в превосходном настроении, взяв шляпу у Элен и пальто у мадам Жиль-Марше, исполняет под восторженные крики зрителей несколько танцевальных па. Вслед за чем вся компания, кажется, принимает решение завершить столь приятное воскресенье походом в ночное кабаре.
Или нет — если принять во внимание отзывы соседей (ох, вечно эти соседи!): два дня спустя Зогеб приходит к Равелю на ужин и застает его в кухне в обществе мадам Ревло, маленькой женщины, одетой в черное; она с каменным лицом орудует у плиты, стоя спиной к хозяину, ссутулившись и всем своим видом выказывая осуждение. Поскольку ее хозяин смотрит так же мрачно, Зогеб спрашивает, что случилось. «Скажите-ка, — резко осведомляется Равель, — о вас когда-нибудь распускали грязные сплетни?» Зогеб отвечает, что он ничего такого не знает, да, впрочем, ему это безразлично. «Ну а на мой счет? — настаивает Равель. — Обо мне вы ничего не слыхали?» «Честно говоря, боюсь, что да, — признается Зогеб, — кое-что до меня дошло». «И что же именно?» — вопрошает его собеседник. — «Ну… говорят, вы позавчера принимали у себя человек пятьдесят гостей в честь инаугурации вашего бюста, во что я сначала не хотел верить, ввиду размеров этого дома». «Верно», — соглашается Равель. «Но это еще не все, — продолжает Зогеб, — говорят, потом, в конце вечера, вся эта распрекрасная компания разделась догола, чтобы… ну вы понимаете, что я имею в виду… вы это хотели узнать?» «Именно это! — восклицает Равель, — именно эти россказни моя домоправительница слышала сегодня на рынке. Ну не позор ли это?!» «Позор состоит вовсе не в том!» — объявляет Зогеб. «А в чем же? — удивляется Равель. — В чем же он состоит?» «А в том, — строго говорит Зогеб, — что вы всегда приглашали меня на пристойные вечера, где можно умереть со скуки, и забыли обо мне в тот единственный раз, когда решили хоть немного поразвлечься!» Равель на миг съеживается, затем обращает свой гнев на мадам Ревло, которая еще ниже склонилась над плитой: «Вот, слышите, в чем меня упрекают из-за ваших сплетен!» И тут же разражается диким хохотом, Зогеб смеется ему в тон, мы промолчим.
Время идет, а Равель все еще не надумал, чем ему заняться: ничто его не привлекает всерьез, все кажется никчемным. Это уже начинает его сильно тревожить, как вдруг Ида Рубинштейн подбрасывает ему идею: оркестровать несколько пьес из «Иберии» Альбениса, чтобы поставить на эту музыку балет, который она сама и станцует. А Ида Рубинштейн великолепна, она из тех женщин, что способны, когда им скучно, отправиться в Африку охотиться на львов, или позвонить вам среди ночи из Амстердама, чтобы рассказать, как элегантно вставало нынче утром солнце над Акрополем, увиденное в иллюминаторе самолета, летевшего с острова Бали, или уплыть на яхте на край света в компании со своими обезьянками и ручной пантерой, не забыв взять с собой пижамы из золотой парчи, тюрбаны со страусовыми перьями и болеро, усеянные драгоценными камнями. Ида Рубинштейн очень высока ростом, очень стройна, очень красива, очень богата — в общем, сплошные превосходные степени. Да и проект ее весьма заманчив. Как и все ее проекты.
И Равель берется за работу; похоже, она ему нравится, и он сидит над ней до тех пор, пока лето не вступает в свои права и ему не пора уезжать, как всегда надолго, в Страну басков, в Сен-Жан-де-Люз, возле Сибура, где он родился, где он встречается со своими друзьями Гюставом Самазейлем и Мари Годен и где его ждут быки, баскская пелота и морские купания, специи Эспелетты и вино Ирулеги; Хоакин Нин отвезет его туда в своем автомобиле Hotchkiss. Они делают остановку в Аркашоне, и там с наступлением вечера на городской пристани Нин предупреждает Равеля, что проект, связанный с Альбенисом, может поставить его перед проблемой авторских прав, так как некий Арбос уже оркестровал эти пьесы. «Наплевать, — сухо отвечает Равель, — да кто он такой, этот Арбос?» Однако в действительности ему на это отнюдь не наплевать. Видя, что он беспокоится, Нин наводит справки у издателя. И выясняет, что «Иберия» защищена абсолютно непробиваемой системой договоров, контрактов, подписей и копирайтов, предоставляющих исключительное право заниматься Альбенисом одному только Арбосу и никому другому.
Равель приходит в бешенство, он кипит, он рвет и мечет: мы тут сидим в Сен-Жан-де-Люзе, а мой отдых пошел к черту; пропади они пропадом, эти идиотские законы, я ведь должен работать, мне так нравилась эта идея оркестровать Альбениса, и вообще, что я скажу Иде? Она будет в ярости. Словом, я завтра же возвращаюсь в Париж, не хочу пропускать праздник 14 июля. Нин не верит ни одному его слову, он убежден, что Равель скорее бросится к издателю и к Иде, чтобы попробовать уладить это дело. Нин ошибается. Всякий раз как грядет 14 июля, Равель приходит в лихорадочное возбуждение: можно ли упустить хоть частичку этого празднества?! Он прочесывает все парижские кварталы, засиживается на всех террасах кафе, откуда с удовольствием наблюдает, как танцуют тесно обнявшиеся парочки, любуется разноцветной иллюминацией и слушает уличные оркестрики, пусть даже состоящие из одного-единственного аккордеона.
Однако на следующее утро, когда Нин приходит в отель, чтобы отвезти гостя на вокзал, он застает Равеля в панике, среди полного хаоса: тот понятия не имеет, с чего начать сборы. На его кровати грудой свалены подтяжки и туфли, щетки и галстуки, туалетные принадлежности и пачки сигарет, а поезд отправляется через пятнадцать минут. Уже почти одевшись, Равель желает во что бы то ни стало пригладить волосы, но Нин решительно тащит его к машине вместе с чемоданом, в который успел бросить кое-что из вещей. Приехав на вокзал в последнюю минуту, он заталкивает Равеля в уже тронувшийся поезд и, едва поспевая за вагоном, сует ему в окно купе чемодан, к счастью, не слишком тяжелый.
В результате, весь этот переполох оказывается ложной тревогой: старик Арбос, узнав, в чем дело, великодушно объявляет, что почтет за честь уступить своему младшему собрату все права, на которые тот претендует. Но как бы не так: после американского триумфа слава ударила «младшему» в голову, и он, этот капризный «младший», неожиданно отказывается от проекта. Между тем время не терпит; издатель, с которым заключен договор, требует партитуру к октябрю-месяцу. Ладно, думает Равель, в конце концов, я и один справлюсь. Возьму да напишу что-нибудь сам; мне легче оркестровать собственную музыку, чем чужую. Это ведь всего лишь балет, и тут не требуется какая-то особая форма или развитие темы, да и модулировать практически не нужно, всего лишь задать ритм и оркестровать. Музыка в данном случае не имеет большого значения. Осталось сесть и написать ее.
Он едет назад в Сен-Жан-де-Люз и рано поутру готовится идти на пляж в компании Самазейля. Накинув золотисто-желтый халат на черный купальный костюм с бретельками, натянув на голову пунцовую резиновую шапочку, он ненадолго задерживается у рояля, наигрывая одним пальцем одну и ту же музыкальную фразу. «Вам не кажется, что в этой теме есть какая-то настойчивость?» — спрашивает он у Самазейля. Вслед за чем идет купаться. Выйдя из воды и сев на песок под июльским солнцем, он снова заводит речь об этой новой мелодии. Хорошо бы сделать из нее что-нибудь путное. Например, можно попробовать повторить ее много раз, не развивая, а только усиливая звучание оркестра, наращивая его громкость до максимума. Или нет? «Ну ладно, — говорит он, вставая, чтобы снова идти плавать, — может, и получится что-нибудь вроде „Ля Мадлон“[7]». — «Да что вы, Морис, это будет в тысячу раз лучше „Ля Мадлон“!»
Но вот отдыху конец. Он сидит у себя дома за роялем один, перед ним ноты, в зубах «Голуаз», волосы, как всегда, безукоризненно приглажены. На нем халат со светлыми отворотами и платочком в тон в нагрудном кармане, а под халатом рубашка в серую полоску и галстук бронзового цвета. Его левая рука лежит на клавишах в позиции аккорда, тогда как правая сжимает большим и указательным пальцами металлическую вставочку с грифелем, занося в партитуру то, что наиграла левая. Как обычно, он запаздывает с выполнением договора, и вот уже звонит телефон, и издатель снова напоминает, что время не терпит. Он должен как можно скорее назначить даты репетиций своего нового сочинения, о котором уже объявлено, но которого еще никто не слышал. Равель усмехается, но этого издатель не видит. Значит, они хотят начать репетиции, они настаивают на том, чтобы репетиции состоялись, — ладно, пускай состоятся. Они их получат, свои репетиции.
Затем он, как всегда, когда бывает один, обедает на складном столике, лицом к стене. Он так жадно поедает свой бифштекс, что его вставная челюсть производит звуки, подобные щелканью кастаньет или пулеметной дроби, отдающиеся эхом в узкой комнате. Он ест, размышляя о том, что сочиняет. Ему всегда нравились всякие автоматы и машины, нравилось посещать заводы, разглядывать индустриальные пейзажи — он видел такие двадцать лет назад в Бельгии и прирейнских областях, когда плыл по реке на яхте, и ясно помнит города, ощетинившиеся фабричными трубами, домны, извергающие пламя и рыжевато-синие клубы дыма, сталелитейные замки, огнедышащие соборы, симфонии приводов, свистков и ударов молота под багровым небом.
Вполне возможно, что ему было от кого унаследовать эту тягу к механике: его отец пожертвовал игрой на трубе и флейте ради карьеры инженера, увенчавшейся, помимо всего прочего, изобретением парогенератора для двигателей, работающих на минеральном топливе, затем двухтактного мотора с пересжатием, пулемета, автомата для изготовления бумажных пакетов и машины для исполнения придуманного им же акробатического номера под названием «Вихрь Смерти». Во всяком случае, есть фабрика, на которую Равелю очень приятно смотреть; она стоит на дороге в Везине, сразу за Рюэльским мостом, и вызывает у него множество ассоциаций. Например, с вещью, которую он сейчас пишет: в ней тоже есть что-то от работы конвейера.
А где конвейер, там повтор… Сочинение закончено в октябре, после месяца работы, прерванной только один раз — грандиозной простудой, подхваченной во время гастролей в Испании, под пальмами Малаги. Он хорошо понимает, что создал: в этой вещи нет ни строгой формы, ни развития, ни модуляции, всего лишь ритм и аранжировка. Произведение, разрушающее самое себя, партитура без музыки, оркестровая пьеса без сюжета, самоубийство в чистом виде, чье единственное оружие — нарастание звука. Настойчивое повторение фразы, которое не сулит надежды, от которого нечего ждать; по крайней мере, уж этот опус, думает он, воскресные оркестры не осмелятся включать в свои программы. Ну и бог с ним, ведь он писал его только для балета. А хореография, свет, декорации помогут слушателям перетерпеть одержимое прокручивание одной и той же темы. Завершив работу, он проводит день со своим братом возле фабрики в Везине: «Смотри, — говорит ему Равель, — это она и есть, фабрика „Болеро“».
Ситуация, однако, развивается совсем не так, как предполагалось. В первый раз, когда эта музыка звучит в балете, она вызывает легкую оторопь, но в общем все идет своим чередом. Зато позже, на концерте, начинается сущий кошмар. Вернее, сущая фантасмагория. Эта вещь — эта безнадежная вещь — удостаивается триумфа, который приводит в изумление всех подряд, начиная с самого автора. Правда, в конце одного из первых исполнений некая старая дама в зале воскликнула: «Чистое безумие!», и Равель, кивнув, шепнул брату так, чтобы никто не слышал: «Ну вот, хоть одна поняла». Этот бешеный успех начинает его беспокоить всерьез. Возможно ли, чтобы столь пессимистический проект удостоился всеобщего восторженного приема, всеобщей и при том прочной известности, став одним из самых популярных мотивов в мире, — тут есть над чем задуматься, а главное, есть на что опереться. Тем, кто отваживается спросить, какую вещь он считает своим шедевром, он с ходу отвечает: «Ну разумеется, „Болеро“!» — к несчастью, в данный момент ему больше нечего предъявить.
Но если даже он и смотрит на «Болеро» с некоторым пренебрежением, это вовсе не значит, что другим разрешается не принимать его всерьез. Кроме того, все должны помнить, что вольничать с темпом запрещено, — в таких случаях с автором шутки плохи. Когда Тосканини позволяет себе продирижировать эту вещь на свой манер, в два раза быстрее и при этом accelerando[8], Равель весьма холодно разговаривает с ним после концерта. «Это не мой темп», — заявляет он. Тосканини наклоняется к нему, его и без того длинное лицо вытягивается еще больше, высокий лицевой фронтон, служащий ему лбом, сморщен. «Когда я исполняю это сочинение в вашем темпе, — говорит он, — оно не производит должного эффекта». «Прекрасно, — парирует Равель, — тогда не исполняйте его вовсе». У Тосканини нервно вздрагивают усы. «Да вы просто ничего не понимаете в собственной музыке, ведь это единственный способ подать ее слушателям!» Вернувшись домой, Равель отправляет Тосканини письмо; он ни с кем не говорит об этом, и никто не знает, что он ему написал.
Итак, он едва завершил эту небольшую вещицу в до-мажоре, не подозревая, какую славу она ему принесет, а его уже приглашают в Оксфорд. И вот он выходит из Шелдонианского амфитеатра во двор Бодлианской библиотеки, в рединготе и полосатых брюках, в лакированных туфлях, без которых он — ничто, в галстуке и крахмальном отложном воротничке, в черной четырехугольной шапке с кисточкой, посмеиваясь и стараясь держаться елико возможно прямо. Однако эта поза, с опущенными вдоль коротенького тела руками и сжатыми кулаками, придает ему на фотографии довольно нелепый вид. Восемь лет назад он устроил целый переполох, отказавшись от ордена Почетного легиона, но от присуждения степени доктора honoris causa[9] Оксфордского университета, с хвалебной речью, произнесенной на латыни в финале церемонии, так просто не отмахнешься; кроме того, теперь он имеет полное право совершить небольшое путешествие по Испании, чтобы прийти в себя.
Как-то вечером в Сарагосе, где ему живется вполне приятно, он сидит один в гостиничном номере перед растворенным окном, удобно откинувшись на спинку кресла. Немного погодя он разувается, кладет босые ноги на подоконник и оглядывает свои ступни, увенчанные десятью пальцами, которые шевелятся сами по себе, сжимаются и разжимаются, словно подают ему знак, выражая солидарность с хозяином. Мы пальцы твоих ног, мы все здесь, с тобой, и надеемся на тебя; знай, что ты можешь положиться на нас так же, как на пальцы своих рук.
Верно, думает он, на них можно положиться, однако через два дня, собравшись играть свою «Сонатину» в мадридском посольстве, начинает исполнение прямо с коды финала, пропустив предыдущую часть, «Менуэт». Это происшествие можно расценивать как угодно. Можно объяснить его провалом в памяти. Можно предположить, что его утомило непрерывное исполнение вещи, сочиненной двадцать лет тому назад. Можно также заподозрить, что, оказавшись перед столь невзыскательной аудиторией, он предпочел поскорее разделаться со своим выступлением. Но можно констатировать еще одно: впервые у него что-то не клеится на публике.
7
Метод № 2: провертевшись полночи волчком в постели, изыскать для организма по имени Равель самую удобную позу, идеально соответствующую предмету обстановки по имени «кровать Равеля», наладив при этом максимально ровное дыхание и максимально комфортно умостив голову на подушке; такое состояние позволяет организму расслабиться, а затем безраздельно слиться со своим ложем, каковое слияние может открыть один из путей к сну. После чего Равелю остается только ждать, когда тот завладеет им, подстерегая приближение сна, как приход желанного гостя.
Возражение: с одной стороны, именно это ожидание, эта поза наблюдателя и внимание, которое она обостряет, — даже если он и силится их игнорировать, — рискуют помешать ему заснуть. С другой стороны, стоит найти искомую позу и погрузиться в приятное забытье, которое следует за этим этапом и сулит наступление сна, как вдруг все летит к черту, словно где-то произошло короткое замыкание или нарушился контакт, и нужно начинать процедуру сначала. Хуже того, даже не с самого начала, а задолго до отправной точки, и от этого впору свихнуться. Равель включает лампу у изголовья, закуривает сигарету, кашляет, сминает сигарету, тут же хватает следующую, и так до бесконечности.
Конечно, он мог бы попытаться спать не один, а с кем-нибудь. Если ты не совсем одинок в постели, иногда и сон приходит скорее. Вполне можно было бы попробовать. Но, увы, это не в его силах. Мы не знаем, был ли он влюблен в кого-нибудь, в мужчину или в женщину. Известно только, что однажды он расхрабрился и сделал предложение одной своей знакомой, но та громко расхохоталась и во всеуслышанье объявила, что он сошел с ума. Известно также, что он сделал еще одну попытку, с Элен, в завуалированной форме, то есть спросив, не хочется ли ей пожить за городом, но и она отклонила это предложение, хотя гораздо более мягко. Известно, однако, что третья его подруга, настолько же рослая и внушительная, насколько он был мал и тщедушен, сама задала ему такой же вопрос, но тут уж он, в свою очередь, рассмеялся до слез.
Известно, что молодой Розенталь, застав его однажды в пивной возле Порт-Шамперре, увидел, что Равель, судя по всему, находится в прекрасных или, во всяком случае, весьма вольных отношениях с местным контингентом шлюх, сделавших это заведение своей штаб-квартирой. Известно, что тот же Розенталь нечаянно услышал телефонный разговор Равеля с одной из них, которая была явно рассержена тем, что он предпочитает дать очередной урок Розенталю, нежели уступить ей краешек своей постели. Известно, что однажды, прощаясь с Лейрицем, Равель как бы невзначай обмолвился, что идет в бордель, — вполне возможно, что он его просто дурачил. Словом, нам известно крайне мало, хотя даже из этого малого можно сделать некоторые выводы, например, по поводу тяги, скорее всего, вынужденной, к мимолетным встречам с женщинами. Короче, мы не знаем ничего, практически ничего, за исключением одного факта: однажды в беседе с Маргаритой Лонг, которая уговаривала его жениться, он раз и навсегда сформулировал свой взгляд на любовь: это чувство, по его мнению, никогда не поднимается выше пояса.
Ну и довольно об этом. Прошлогодняя церемония в Оксфорде, когда он стал доктором honoris causa, прошла настолько успешно, что его снова пригласили в Англию. И Равель отправляется туда почти одновременно с Витгенштейном, который едет из Австрии, чтобы в свой черед получить докторскую степень, правда, в Кембридже и по философии. И если Равель вряд ли когда-нибудь встретит самого Людвига Витгенштейна, то их пути, можно сказать, скрестятся три недели спустя именно в Вене, где он познакомится с его старшим братом. Пауль Витгенштейн, пианист, потерял на фронте правую руку, попал в плен к русским, был сослан в Сибирь, а теперь вернулся на родину. Стойко перенеся свою потерю, он, вполне естественно, посвятил себя исполнению музыки, написанной для левой руки. Поскольку этот репертуар ограничен: Регер, Сен-Санс, Шуберт в обработке Листа и Бах в обработке Брамса, — ему пришло в голову обратиться с заказами для своей левой руки к некоторым современным композиторам. И Равель встречается с ним на том концерте, где Пауль Витгенштейн играет какую-то вещь Рихарда Штрауса для левой руки, написанную специально для него. Пауль Витгенштейн вполне хороший пианист; у него широкое привлекательное лицо пожилого юноши, он выглядит чуточку замкнутым, но все же недурен собой, хотя ему далеко до своего красивого брата. Они говорят друг другу: здравствуйте, очень приятно познакомиться, но на этом разговор и окончен.
По возвращении во Францию дела идут далеко не блестяще. Равель по-прежнему курит не переставая, по-прежнему томится скукой, по-прежнему скверно спит, но теперь — и это уже что-то новое! — его постоянно мучат усталость, хроническое воспаление желез и прочие мелкие пакости. А главное, после странного триумфа «Болеро» он опять-таки не знает, чем себя занять. Носятся, конечно, в воздухе некие смутные идеи — давнее намерение сочинить концерт (но это слишком традиционно), слабые поползновения написать «Жанну д’Арк» (но это слишком утомительно), попытки оркестровки (но это ничего не дает), черновик «Короля вопреки себе» — нет, это все не то. Лучше уж вернуться в места отдыха, провести в Стране басков целое лето и думать о чем-нибудь другом.
В конце лета, когда он читает на своем балконе невеселые новости в «Попюлэр», приходит из Австрии письмецо от Витгенштейна, в котором тот заказывает ему концерт для своей уцелевшей руки. И вот тут-то с Равелем происходит нечто странное: он не ограничивается выполнением этого заказа и вместо того, чтобы сочинить один концерт, тайком пишет два одновременно — один ре-мажорный, для левой руки, и второй соль-мажорный, где воплощает одну из своих старых задумок. Первый он отдаст Витгенштейну, другой оставит себе, только себе, более того, думает он, я его сам же и исполню. До сих пор он создавал свои вещи только поочередно и в одном-единственном ключе, впервые в жизни ему захотелось произвести на свет такую пару близнецов.
Однако это будут разнояйцевые близнецы — с общей датой рождения, но без малейшего сходства. Он начинает с того, что набрасывает тему Concerto en sol[10], потом откладывает его, чтобы выполнить заказ. Уладив эту проблему с левой рукой довольно быстро, то есть за девять месяцев (вполне традиционный срок), он возвращается к первому сочинению, однако на сей раз дело идет туго. Он тянет с написанием, он переживает муки ада, не в силах придумать финал. Ведь это, поверьте, очень сложно, ситуация весьма деликатная, если учесть, что концерт пишется не для фортепиано, а против него. «Ладно, — говорит он Зогебу, — поскольку мне никак не удается закончить эту вещь для обеих рук, я решил больше не спать ни секунды, вот так-то. Когда напишу финал, тогда и буду отдыхать, а на этом свете или на том, уже неважно».
Но наконец сочинение доведено до конца, и Маргарита Лонг, тотчас оповещенная об этом, принимается его разбирать — не без трудностей, так как автор либо торчит у нее за спиной, непрестанно дергая поправками, либо терзает ее по телефону. Маргариту мучат сомнения, она делится с Равелем своей тревогой по поводу второй части, крайне трудной для исполнителя из-за очень протяженного темпа этой, по ее выражению, нескончаемо текучей фразы. Равель разражается криком: «Какой текучей фразы? Что еще за текучая фраза! Да я еле выжимал из себя по два такта в день, я чуть не сдох, пока не сделал все как надо!» Очень может быть, но, честно говоря, он поторопился, затратив всего год с небольшим на осуществление своего двойного замысла.
Сочтя «Концерт для левой руки» оконченным, Равель приглашает в Монфор заказчика, чтобы предъявить ему свою работу. Пауль Витгенштейн по-прежнему выглядит замкнутым; маленькие очочки, подбритые виски, костлявая скованная фигура, пустой правый рукав пиджака засунут в карман. Слава богу, он не остается обедать: Равель уже представлял себе, как возьмется нарезать ему мясо и как его остановит сверкнувший взгляд гостя. Встреча ограничивается обсуждением результата этого заказа. Описав состав оркестра и главные установки каждой части, Равель исполняет сольную партию обеими руками, не сказать чтобы очень уж искусно. Витгенштейн первым делом находит, что он скверный пианист, зато о самом сочинении говорит (гордясь тем, что его так и не научили притворяться): что ж, получилось недурственно. Пытаясь скрыть разочарование, Равель берет сигарету, долго разминает ее перед тем, как поднести ко рту, потом так же долго курит, не произнося ни слова, вслед за чем Витгенштейн невозмутимо сует ноты в левый карман и холодно прощается.
Но эта рана — не рана, а всего лишь мелкая царапинка на самолюбии. Ведь в то же самое время он постоянно убеждается, что слава его крепнет, что его играют повсюду, что в газетах только и речи, что о нем. Похоже, до него ни один композитор не удостаивался такого успеха, — взять хоть восторженный пассаж репортера из «Пари-Суар», посвященный автору «Благородных и сентиментальных вальсов», который, как пишет журналист, может по праву гордиться тем, что на его концертах заняты даже откидные сиденья. Он достиг таких вершин популярности, что молодые композиторы начинают нервничать и строить ему козни, — мало того, охаивают в прессе, но, похоже, ему это в высшей степени безразлично. Однажды вечером он сидит с молодым Розенталем на балете Дариюса Мийо и аплодирует до боли в ладонях, крича при этом: «Прекрасно! Потрясающе! Великолепно! Замечательно! Блестяще! Браво!» «Но послушайте, — говорит ему сосед, — разве вы не знаете, как Мийо отзывается о вас? Он же обливает вас грязью на каждом углу». «И правильно делает, — одобрительно бросает Равель, — именно так и должны вести себя молодые». В другой вечер он смотрит, уже в обществе Элен, другой балет, на музыку Жоржа Орика, и находит его не менее великолепным, таким прекрасным, что рвется за кулисы — высказать автору свое восхищение. «Как, — удивляется Элен, — неужели вы хотите поздравлять Орика после всего, что он про вас понаписал?!» «А что тут такого? — говорит тот. — Он нападает на Равеля? Ну так он правильно делает, что нападает на Равеля. Если бы он не нападал на Равеля, то сам был бы Равелем, а публике вполне хватит и одного Равеля, верно?»
Чествованиям не видно конца: вот уже и в Сен-Жан-де-Люзе в самом разгаре августа организован фестиваль в его честь, где его имя будет присвоено набережной, на которой он родился. Он вновь обретает там свое пианино, свой купальный костюм и свои привычки; затем начинается церемония, которая проходит весьма успешно, несмотря на то что Клод Фаррер, с его трубным голосом, седой бородой и классическим профилем офицера торгового флота, скомкал свою речь; впрочем, Равель этого не слышит, поскольку он тихонько сбегает еще до начала выступления. «Пойдемте-ка лучше выпьем вишневого ликера, — говорит он Роберу Казадезюсу, взяв его под локоток, — я не желаю выставлять себя на посмешище, присутствуя на открытии собственной мемориальной доски». Но зато он увлеченно следит за соревнованиями по баскской пелоте, которое завершает фестиваль; по окончании игры он позирует для фотографов, стоя в своем костюме, с непокрытой головой и неизменной «Голуаз» в руке среди четверых игроков в мяч — великанов бандитского вида, одетых в белое, в баскских беретах. На этом снимке улыбается лишь он один, великаны же стоят с каменными лицами. Ну а в заключение празднества будет дан концерт из его сочинений в пользу благотворительных обществ, и он, как обычно, опаздывает к началу, его нет и нет, публика терпеливо ждет, и он наконец появляется, но тут же с ужасом обнаруживает, что забыл вложить платочек в нагрудный карман, и снова начинается переполох. Тщетно Казадезюс предлагает ему свой, Равель объявляет, что это невозможно. И, разумеется, это невозможно, поскольку на платочке другие инициалы. В конце концов дело кое-как улаживают, и назавтра все они отправляются в Hispano Эдмона Годена, отца Мари, в Сан-Себастьян, на корриду, посмотреть на знаменитых тореро — Марсиаля Лаланду (бычье ухо и раскол зрителей), Энрике Торреса (овация и свист) и Никанора Вильяльту (тишина и снова тишина).
Он возвращается в Париж, и слава подстегивает его, заставляя удвоить активность. Устав от бесконечных поездок из Монфора в Париж и обратно, он обустраивает себе маленькую студию в доме брата, в Леваллуа. Лейриц создает дизайн квартирки, нечто среднее между пароходной каютой и кабинетом дантиста: никелированная мебель, стулья из трубок, круглые коврики, выдвижной бар с высокими табуретами, шейкером, бокалами для коктейлей и бутылками всех цветов радуги. Никаких картин на стенах, даже копий, как в Монфоре, — только несколько японских гравюр и фотографий Ман Рэя, да и это не важно, поскольку Равель будет заглядывать сюда не часто.
Похоже, что громкая слава слегка вскружила ему голову: прежде ироничный и невозмутимый, он теперь несколько опьянен ею. И в самом разгаре работы последних месяцев, еще даже не закончив два своих концерта, строит планы поехать в кругосветное турне, взяв с собой тот, что написан для обеих рук — для его собственных рук. Он твердо намерен сыграть его на всех континентах, во всех пяти частях света, подчеркивает он в разговоре с теми, кто соглашается его выслушать, — именно в пяти. Однако его организм сильно ослаблен и уже не подчиняется воле; в дело вмешиваются врачи. Их очень беспокоит его состояние, они категорически против этого проекта. Сначала давайте немножко успокоимся. Угрозы и прогнозы, предупреждения и предписания. Курс лечения: инъекции сыворотки и полный покой.
Но надолго его не хватает: презрев мнение эскулапов, он упорствует в решении объехать мир со своим концертом, взяв в попутчицы к ним обоим Маргариту Лонг. И в конечном счете именно она исполнит этот концерт, а не сам Равель, как он об этом мечтал. А ведь он часами исступленно играл на фортепиано, истязая себя пальцеломными «Этюдами» Листа и Шопена, лишь бы вернуть былое владение инструментом. Но все напрасно: ему приходится признать, что на сей раз музыка превышает его возможности, слишком уж она сложна для его рук, которым остается лишь дирижировать ею. И, значит, нужно ехать вместе с Маргаритой, что не так уж плохо с точки зрения исполнительского мастерства, но гораздо более печально с точки зрения совместного существования: в обычной жизни она абсолютно невыносима — властная, заносчивая, эдакая гувернантка, надзирающая за вами круглые сутки, как за ребенком на каникулах, в общем, противная дальше некуда. Кроме того, речь уже идет не о пяти частях света, а всего лишь о Европе, пусть даже с посещением двадцати городов. И все же гастроли проходят, как всегда, великолепно: от Лондона до Будапешта, от Праги до Гааги он за дирижерским пультом, Маргарита за роялем, и повсюду триумфальный успех.
В поезде, идущем в Вену, он устраивает такой же скандал, как в Чикаго, обнаружив, что опять забыл свои лакированные туфли: пусть не надеются, что он будет выступать без них. Да ничего страшного, вы наверняка купите там похожие, увещевает его Маргарита: ей невдомек, что его крошечный размер обуви не во всякой стране и найдешь. На сей раз положение спасает не преданная певица, а машинист следующего поезда, который забирает туфли Равеля в Париже (куда уже позвонили) и привозит ему. В Вене его и Маргариту приглашают на торжественный вечер с ужином, устроенный в их честь у Пауля Витгенштейна: тот собирается исполнить собственной рукой концерт, написанный и посвященный ему Равелем. Ужин проходит так же, как и все ужины подобного рода, иными словами, как тягостная обязанность: сначала она вас пугает, но потом вы все же одеваетесь и едете туда, а там вас знакомят с кучей людей, чьи имена вы, едва расслышав, тотчас забываете, затем вы умираете со скуки, затем, разогрев себя алкоголем, свыкаетесь с ней, оживляетесь, начинаете даже слегка развлекаться, и, глядишь, мало-помалу, через часок-другой, все становится так здорово, что вы уже ни с кем и ни за что не поменяетесь местами.
Короче, все идет по накатанной колее, с одним лишь исключением: Витгенштейн, посадивший справа от себя Маргариту Лонг, признается ей, что внес некоторые изменения в этот, еще не известный ей концерт. Думая, что пианист вынужден был пойти на частичное упрощение партитуры из-за своей инвалидности, она все же советует ему сообщить Равелю об этих переменах, но он ее не слушает. Гости встают из-за стола и переходят в зал, где должен состояться концерт. С первой же прозвучавшей ноты Маргарита, которая следит за исполнением по партитуре, сидя на сей раз рядом с автором концерта, замечает, как искажается его лицо, и предвидит плачевные последствия самовольной инициативы калеки-пианиста. Ибо Витгенштейн вовсе не упростил концерт, дабы облегчить себе его исполнение, — напротив, он решил воспользоваться случаем и показать публике всё, на что он, при своей однорукости, способен. Вместо того чтобы уважать замысел композитора и как можно точнее придерживаться партитуры, он лезет из кожи вон, приукрашивая ее, добавляя то арпеджио, то лишние такты, расцвечивая трелями, ритмическими оттяжками, форшлагами, группетто и прочими исполнительскими излишествами, которых от него никто не требовал, то и дело лихо проносясь по клавиатуре от басов до верхних нот, чтобы продемонстрировать, как он дьявольски искусен и ловок, как по-прежнему виртуозен, «и плевать мне на всех вас!» Равель сидит с побелевшим лицом.
По окончании концерта Маргарита, предчувствуя скандал, пытается вовлечь его в светскую беседу с послом, но ничего не помогает: Равель медленно надвигается на Витгенштейна с таким разъяренным видом, какого у него не наблюдалось со времен инцидента с Тосканини. «Но это же никуда не годится, — отчеканивает он с холодной яростью. — Это совсем никуда не годится. Это ни на что не похоже». «Послушайте, — оправдывается Витгенштейн, — я опытный пианист, и, поверьте, иначе это бы не звучало». «А я опытный оркестратор, — говорит Равель еще более ледяным тоном, — и, смею вас заверить, у меня всегда все звучит как надо!» Тишина, воцарившаяся в зале после этих слов, звучит еще оглушительней музыки. Испуг и оторопь под пышной лепниной, под гипсовыми гирляндами. Бледнеют пластроны смокингов, съеживаются оборки длинных платьев, официанты упорно смотрят в пол. Равель молча натягивает пальто и, не дождавшись конца вечера, покидает дом, таща за собой испуганную Маргариту. Вокруг Вена, январская ночь, мерзкая погода, но ему все безразлично, он отсылает автомобиль, предоставленный в его распоряжение посольством, и, надеясь успокоить себя недолгой прогулкой по снегу, они возвращаются в гостиницу пешком.
Однако назавтра он все так же нервничает в ожидании обратного поезда, сидя с неизменной «Голуаз» в правой руке; тем временем левая, затянутая в перчатку, машинально комкает перчатку с правой. В момент отправления, уже стоя на перроне, Маргарита начинает с возрастающей паникой, бледнея, рыться в сумочке. «Боже, как глупо, — лепечет она, судорожно перебирая вещи на дне сумки, — я не могу их найти!» Равель резко спрашивает: ну что, что вы там потеряли? «Билеты, — шепчет Маргарита, — они не могли пропасть, они наверняка должны быть тут… Но их нет, куда же я могла их подевать?!» «Нет, вы действительно дура, Маргарита», — с холодным раздражением говорит Равель. «Вернее, идиотка», — злорадно уточняет он, складывая вчетверо свою газету. Маргарита растерянно хлопает глазами, потрясенная этим приступом грубости, к которой она не привыкла, но Равель продолжает в том же духе. «Она, видите ли, потеряла билеты, эта подлая баба, — бормочет он себе под нос, — вечно она что-нибудь да забудет». «Ой, вот же они! — восклицает наконец Маргарита, извлекая документы на проезд из своей муфты, — я их сюда сунула для большей безопасности». Равель тотчас обретает прежнее бесстрастие и относительное спокойствие и погружается в чтение газеты, полностью игнорируя свой почетный эскорт, который обменивается пустяковыми банальными репликами, опасливо постреливая глазами в его сторону. Не удостаивает он взглядом даже запыхавшегося Артура Рубинштейна, с опозданием уведомленного о прибытии Равеля в Вену и примчавшегося на вокзал в надежде пожать руку маэстро хотя бы перед отъездом, однако маэстро поднимается в вагон, как будто никакого Рубинштейна и на свете нет.
Тем не менее билетами все же лучше заниматься Маргарите, потому что сам он забывает всё: назначенные встречи, лакированные туфли, чемоданы, часы, ключи, паспорт, письма у себя в карманах. И это создает немало проблем: восторженно встречаемый и превозносимый всеми и повсюду, желанный гость сильных мира сего, Равель склонен оставлять втуне официальные приглашения и не являться на приемы, где его тщетно ждут. Король Румынии относится к этому снисходительно, зато премьер-министр Польши устраивает настоящий скандал. Дипломатические инциденты, паника среди консулов Франции, извинения послов. Равель всегда все забывал, всегда был рассеян, всегда страдал провалами памяти, особенно когда речь шла об именах, частенько прибегая к образным описаниям для определения места или человека, прекрасно ему знакомого, как, например, мадам Ревло: ну, знаете, та дама, что ведет мое хозяйство и у которой такой мерзкий характер. Это не минует даже саму Маргариту: та, что весьма посредственно играет на фортепиано, ну, вы понимаете, кого я имею в виду, у нее еще муж погиб на войне. И хотя Маргарита давно знает все это, ей кажется, что со временем память у него все слабеет и слабеет. Да и Элен еще в прошлом году заметила, что теперь Равель время от времени становится в тупик даже перед собственной музыкой.
И, однако, он не забывает того, что имеет для него особую значимость, а именно: со дня возвращения во Францию он категорически восстает против приезда Витгенштейна, который выказывает намерение выступить в Париже. В коротком письме Равель обвиняет исполнителя своего концерта в том, что он позволил себе исказить его, и решительно требует обязательства играть отныне его произведение так и только так, как оно написано. Когда уязвленный Витгенштейн пишет на это, что исполнитель — не раб композитора, Равель отвечает ему всего тремя словами: нет, именно раб.
И точка. Ему уже пятьдесят семь лет. Прошло тринадцать лет с тех пор, как он прекратил сочинять фортепьянную музыку, завершив эту часть своего творчества «Фронтисписом», пьесой, которая насчитывает не более пятнадцати тактов, длится не более двух минут, но по-прежнему требует исполнения не менее чем в пять рук. Покончил он также и с сонатными и квартетными формами. Отточив до полного совершенства (но едва не сломав игрушку) свое искусство оркестровки на «Болеро», он вслед за тем разрешил проблему с концертом — единственным жанром, к которому долго не решался приступить. Чем же теперь заняться? Впрочем, и сейчас у него в запасе целых два проекта. Один — музыка к фильму о Дон Кихоте, который должен снимать Пабст, по сценарию Поля Морана с Шаляпиным в главной роли. Второй пока носит кодовое название «Дедал-39»; о нем известно лишь то, что Равель однажды сам пожелал сообщить Мануэлю де Фалье: это должен быть самолет en ut[11].
8
Париж, октябрь месяц, час ночи. У выхода из Театра на Елисейских Полях шофер Жан Дельфини с пунцовым лицом и в бледной каскетке только что посадил пассажира в свою машину Delahaye-109. Клиент указывает адрес: Отель д’Атэн, дом 21 по Афинской улице, и такси отъезжает; расстояние не очень велико. Сидя на заднем сиденье, клиент глядит на мелькающие в окне улицы, бросает взгляд на шофера, отделенного от него стеклянной перегородкой, потом, погрузившись в размышления, перестает видеть окружающий пейзаж. Они уже почти прибыли, машина проезжает по Амстердамской улице, сейчас она свернет влево, на Афинскую, как вдруг из-за перекрестка на полной скорости мчится другое такси, на сей раз модели Renault Celtaquatre, за рулем которого сидит шофер Анри Ласеп, с желтоватым лицом и в клетчатой каскетке.
Боковое столкновение так сильно, что внутреннее стекло такси разбивается от удара, превратившись в двойное лезвие, и это лезвие грозит рассечь пассажира Равеля пополам. Что ему удается лишь частично: оно вонзается в бок, смяв три ребра, отчего у Равеля возникает жуткое ощущение чего-то постороннего в груди, какого-то горба, обращенного внутрь тела; кроме того, стекло выбивает ему три зуба, а более мелкие осколки безжалостно раздирают лицо; особенно достается носу, надбровным дугам и подбородку. Поднимают с постели ближайшего аптекаря, и раненому делают временную перевязку, чтобы затем доставить в больницу Божона, где ему зашивают порезы и отвозят в отель. Однако на следующий день выясняется, что он страдает и от внутренних повреждений, и его врач предпочитает направить своего пациента для более квалифицированного наблюдения в клинику на улице Бломе.
В течение следующих трех месяцев Равель абсолютно ничем не занимается. Его лечат, обхаживают, перевязывают, ему починили вставную челюсть. Он почти не говорит и не жалуется, разве лишь время от времени сетует на то, что ход мысли у него иногда прерывается и думать стало труднее, чем прежде. Он и раньше отличался немалой рассеянностью, теперь же провалы в памяти стали повторяться все чаще. По утрам ему приносят «Попюлэр», которую он всегда читал от первой до последней строчки, но, похоже, сейчас газета не очень-то его интересует, он только мельком проглядывает ее, листая страницы. Все последние годы он напряженно работал, и врачи настойчиво предупреждали: хроническая усталость отнюдь не способствует улучшению его состояния. А со времени этой автокатастрофы оно ухудшилось всерьез. И, пока его подвергают различным обследованиям, он пытается объяснить, что его мысли, какими бы они ни были, томятся в мозгу, словно в тюрьме, не могут выйти наружу. Конечно, после такого шока это вполне естественно, и можно надеяться, что со временем все пройдет. Его обследуют снова и снова, но безрезультатно. Все близкие советуют ему самые разнообразные способы лечения, и каждый считает свой способ наилучшим. Электричество, уколы, гипноз, гомеопатия, психотерапия, внушение, куча лекарственных препаратов, в которых невозможно разобраться, — нет, ему ничто не помогает.
По прошествии этих трех месяцев, когда упрямый Витгенштейн все-таки явился в Париж, состояние Равеля начинает потихоньку улучшаться. Похоже, он даже примирился с калекой-пианистом — или же ему все стало безразлично; во всяком случае, он соглашается дирижировать в зале «Плейель» Парижским симфоническим оркестром при исполнении Витгенштейном его концерта, на которое тот имеет эксклюзивное шестилетнее право. Только не следует думать, что Витгенштейн, сидящий в скрюченной позе перед роялем, с пустым правым рукавом, как всегда, засунутым в карман, отказался от намерения разукрасить партитуру концерта на свой вкус. Он бесстыдно позволяет себе всевозможные излишества, демонстрирует эффектные виртуозные пассажи, уснащает мелодию бесконечными фиоритурами и трелями, расцвечивает фразы, которые никак в этом не нуждаются, а его левая рука то и дело скачет вправо, к нижним нотам клавиатуры, где ей совершенно нечего делать. Внешне Равель на это не реагирует, он стоит за пультом, отбивая такт и, как всегда при дирижировании, слегка путаясь в ритмах. Вид у него какой-то отрешенный. Кроме того, он листает партитуру, перекладывая при этом палочку из правой руки в левую, и это наводит на подозрение, что он уже не может дирижировать своим концертом наизусть.
Так и не отделавшись от чрезмерной усталости, он снова уезжает отдыхать в Сен-Жан-де-Люз. Обычно, когда он здесь, на родине, все идет прекрасно: лениво потягивается и позевывает океан, в бескрайней небесной синеве плывет чистое солнце. И Самазейль и Мари Годен тут, рядом, готовые принять и обласкать его, но почему-то этим летом все начинает разлаживаться. И вот уже некоторые жесты, которые раньше делались мгновенно и бездумно, замедляются или не достигают цели. Например, письмо, о форме и стиле которого он раньше так заботился: похоже, теперь Равелю трудно выписывать слова, даже составляя обыкновенный список покупок. Как-то раз, в воскресенье, сидя вместе с Годенами на корриде, он долго роется в карманах, не в силах объяснить, что ему нужно; потом, когда Эдмон вынимает сигарету из пачки, проворно хватает ее: вот что я искал! И еще история с пляжем: будучи хорошим пловцом, он всегда любил заплывать далеко в открытое море, но теперь замечает, что ему больше не даются некоторые движения в воде — они стали беспорядочными, приводят к совершенно неожиданным результатам. И там же, на берегу океана, когда он решил научить Мари искусству пускать камешки рикошетом по воде, его рука выходит из повиновения, и камешек попадает в лицо его приятельницы.
Тем не менее через три дня после этого происшествия он упрямо возвращается на пляж, смело плывет в открытое море и долго не возвращается. Друзья спешат на поиски и находят его в океане, далеко от берега; он лежит плашмя на воде, ожидая помощи. Его доставляют на берег и спрашивают, что случилось; он спокойно отвечает: я разучился плавать. Врачи не знают, что и думать, но все же советуют ему продлить отдых, только в более прохладном климате, сменив Атлантику на Ла-Манш: северные пляжи, по их мнению, намного благотворнее южных. Ему устраивают приглашение в Туке, и действительно, месяц спустя он чувствует себя гораздо лучше. Теперь можно возвращаться домой.
Да, вероятно, ему лучше, но он хорошо видит, что его почерк быстро деградирует, теряя свою элегантность, становясь неровным, неуклюжим, а вскоре почти неразборчивым. Как раз в это время поднимают голову сюрреалисты; они вынашивают идею пригласить бомонд в редакцию «Минотавра»[12], чтобы устроить одну из своих торжественных акций: на сей раз они решили взять отпечатки рук у всяких знаменитостей, с тем чтобы опытный эксперт-хиромант определил их характер. Собираются деятели самого разного толка — Дюшан и Хаксли, Жид и Сент-Экзюпери. Бретон, который с величайшей опаской относится к музыке — наверняка потому, что ровно ничего в ней не смыслит, — тем не менее настоял на приглашении единственного избранного композитора — Равеля. Равель выглядит вполне здоровым, он очень рад возможности участвовать в такой акции. Он является на прием, улыбаясь, как всегда, тщательно причесанный, в двубортном костюме цвета антрацита; глаза его блестят, походка энергична, и он явно взволнован встречей с сюрреалистами, которые, видимо, интересуют его даже больше, чем он хочет показать; он охотно приступает к процедуре: эксперт прижимает ладони Равеля к черной закопченной пластине, а затем к листу белой бумаги, и дело сделано.
Но, оказывается, это еще не все: каждый испытуемый должен поставить подпись под своим отпечатком; наступает черед Равеля, ему протягивают ручку, но он испуганно отшатывается. «Я не могу, — прямо говорит он, — я не могу подписаться. Мой брат пришлет вам мою подпись завтра». И, обратившись к Валентине Гюго, которая его сопровождает, шепчет: «Уйдемте отсюда, Валентина, уйдемте поскорей!» Больше он не произносит ни слова, они выходят из дома под проливной дождь, Равель торопливо садится в такси и уезжает. Валентина остается на тротуаре. Сюрреалисты переглядываются. Что же касается эксперта, вернее, экспертши, — это госпожа доктор Лотта Вольф, — то ее заключение сохранилось. Абсолютно дурацкое заключение.
Через некоторое время продюсер Канетти, воспользовавшись приездом в Париж квартета «Галимир», предложил фирме «Полидор» записать в его исполнении «Квартет» Равеля. И сообщает автору, что был бы ему благодарен, если бы тот согласился проследить за процессом записи. «Конечно, — отвечает Равель, — с удовольствием». Он усаживается в кабине контроля и следит за игрой музыкантов, не проявляя особого стремления руководить ими. Просто одобряет или не одобряет услышанное, изредка говоря: хорошо, не очень хорошо, а вот это надо бы повторить. Уточняет некоторые мелочи, выправляет легкую ритмическую небрежность или изменения в темпе. После каждой части, при прослушивании восковых валиков, его спрашивают, не нужно ли сделать перезапись, но он считает, что это не обязательно, и все заканчивается уже в первой половине дня. Музыканты упрятывают инструменты в футляры, упрятывают самих себя в пальто, и тут Равель обращается к Канетти: «Все было очень хорошо, — говорит он, — просто замечательно. Только напомните мне имя композитора». Можно верить в эту историю, а можно и не верить.
Поскольку новые обследования не выявляют серьезных органических нарушений, его отсылают на отдых в Швейцарию, в горы. Равелю уже знакомо это благотворное свойство гор: после войны он провел там месяц в санатории, где его лечили от туберкулеза, упорно не называя эту болезнь своим именем и предписывая ему в основном солнечные ванны. На сей раз врачи рекомендуют ему каждый вечер подолгу принимать горячую ванну с хвойным экстрактом. Он должен был написать своим друзьям Делажам, которые ждут от него вестей и, видя, что его все нет и нет, начинают волноваться. Когда письмо все-таки приходит, они едут в Швейцарию, встречаются с Равелем, и ему приходится объяснить им причину задержки: чтобы написать это письмо, он целую неделю отыскивал все нужные слова в словаре Ларусса и списывал их оттуда.
Таково нынешнее положение вещей. Швейцарское лечение не дало никаких результатов. Иногда, присутствуя на концерте, где исполняют какую-нибудь из его вещей, он спрашивает, его ли это сочинение, или, хуже того, бормочет себе под нос: все-таки неплохо. Теперь он уже знает, что не способен написать собственное имя, и, если по выходе из зала молодые люди бросаются к нему за автографом, размахивая авторучками, словно копьями, он проходит мимо, под охраной Элен, как робот, делая вид, что никого не слышит и не видит, и страдая от этого наигранного пренебрежения, призванного оградить его от поклонников, еще сильнее, чем от сознания своей болезни. А вскоре у него только и остается, что любовь к одиночеству, и он целыми часами просиживает в кресле на балконе монфорского дома, бездумно созерцая долину, чья красота некогда сподвигла его поселиться в этих местах. Элен приезжает к нему, беспокоится о нем, спрашивает, что он тут делает. Он просто отвечает, что ждет, не уточняя, чего именно. Он живет в тумане, который с каждым днем все гуще заволакивает его рассудок, оставляя ему лишь одно занятие: каждый день он совершает долгие прогулки по лесу. Там он никогда не теряет дороги. Но зато для него потерян весь остальной мир с его предметами: однажды, ужиная со своим издателем, Равель берет вилку за зубцы, тут же понимает, что сделал не то, и бросает быстрый панический взгляд на Маргариту, сидящую рядом.
В общем, ситуация скверная. В дело вмешивается взволнованная Ида Рубинштейн. Ида все так же высока, стройна, красива и богата и к тому же щедра, достаточно щедра, чтобы принять следующее решение: Равелю нужно сменить обстановку, и она этим займется. Она организует для него длинное путешествие по Испании и Марокко; его будет сопровождать Лейриц. Итак, поехали. Уже в Танжере дела идут заметно лучше. А в Марракеше он в течение трех недель обходит базары вдоль и поперек, не теряясь, как не терялся в лесу Рамбуйе, а затем, вернувшись в отель, даже ухитряется записать три такта музыки в присутствии Лейрица, пробудив в нем надежду на лучшее. Его чествуют всюду, где бы он ни появился, чествуют даже не видя, как, например, в тот день, когда, очутившись среди моря велосипедов, он вдруг слышит свое «Болеро», которое насвистывает некий телеграфист, прокладывая себе дорогу в гуще толпы; впрочем, мы и в это никого не заставляем верить. В Фесе его принимает генеральный консул; он показывает ему город, уверяя, что это зрелище вдохновит композитора. «О, — говорит Равель, — если бы я решил писать в арабском духе, то сочинил бы нечто гораздо более арабское, чем все это». Лейриц шлет открытки с подробными отчетами Иде Рубинштейн, которая, в свою очередь, ежедневно звонит ему. Лейриц уверяет, что все идет прекрасно: Равель очень доволен тем, как его принимают, он немножко работает, он даже написал брату. Лейриц пытается убедить себя и ее, что так оно и есть, однако на самом деле Равель все еще не сбросил гнет усталости, раздражается по любому поводу, едва говорит и больше чем когда-либо чувствует себя оторванным от остального мира, что вовсе не удивительно: этот мир оборачивается для него буйным вихрем пыли, света и движения. Впрочем, на обратном пути домой через Испанию его состояние опять ненадолго улучшается. Улучшается настолько, что, приехав на похороны Дюка, Равель обращается к Кёклену со словами: «Знаете, я тут набросал одну тему… я все еще могу сочинять музыку!» Но на сей раз вы не обязаны верить даже ему самому.
Не обязаны, потому что процесс идет очень быстро, и идет только к худшему: теперь он уже не способен контролировать большинство своих жестов, утратил чувство осязания, практически разучился писать и читать, да и выражается день ото дня все невнятнее, непрерывно путая слова, их порядок и смысл. Что же касается музыки, он еще может кое-как петь или играть по памяти, узнавать произведения, которые ему дают прослушать, но прочесть партитуру или исполнить что-либо по нотам ему уже не под силу. Не говоря уж о сне, который совсем покинул его.
Метод № 3: вести счет. Например, вспомнить все кровати, в которых спал с самого детства. Это сложная задача, она отнимает много времени, каждый раз в памяти всплывают все новые и новые кровати, и это тянется так долго, что становится скучно, — на эту скуку можно рассчитывать как на снотворное.
Возражение: та же скука способна держать Равеля в бодрствующем состоянии, вынуждая его задавать себе неожиданные вопросы, словом, возбуждать. Бывает также, что он плохо справляется со своей задачей: забытье обволакивает его, и надо бы ему уступить, а он не уступает. Желание заснуть так сильно, что он безмерно нервничает в ожидании сна, даже чувствуя подступающую дремоту; это клиническое обостренное внимание отгоняет ее в тот миг, когда она уже на пороге, и все нужно начинать сначала. Ибо, согласитесь, нельзя же делать все одновременно: можно ли заснуть, подстерегая приход сна?!
9
У него всегда было хрупкое здоровье. Перитонит и туберкулез, испанка и хронический бронхит — организм, измученный всеми этими напастями, не мог похвастаться стойкостью, даже если его хозяин неизменно держался прямо, точно аршин проглотил, в своих безупречно сшитых костюмах. Да и рассудок его сильно сдал под гнетом уныния и грусти, хотя внешне он никогда их не выказывал, от невозможности забыться сном, который упорно не шел к нему. Но теперь его мучит еще и другое: он не видит расчески, лежащей перед ним на туалетном столике, не способен завязать себе галстук, вдеть без посторонней помощи запонки в манжеты.
Друзья стараются развлечь его, водят на концерты, но и там он сидит в кресле с отсутствующим видом, недвижный и немой, как труп. В Париж приезжает Тосканини, и Равеля удается уговорить послушать, как тот будет дирижировать одним из его сочинений. Он неохотно уступает, слегка оживляется, когда публика бурно аплодирует оркестру и дирижеру, но, забившись в глубь ложи, категорически не желает их приветствовать. Друзья удивлены и огорчены: что ему стоит подойти к Тосканини, выразить свое восхищение и тем самым ликвидировать то старое недоразумение с «Болеро»?! «Нет, — отвечает Равель, — он мне так и не ответил тогда на письмо!» В вестибюле театра к нему подходит супружеская пара. Их лица что-то смутно напоминают ему, но что?.. «Дорогой маэстро, — говорят они, — помните, как несколько лет назад вы играли у нас на рояле „Дафниса“[13]?» «Да-да-да», — безразлично отвечает Равель, ровно ничего не помня и не имея ни малейшего представления, кто перед ним стоит.
Он уже почти никого не узнает, но хорошо понимает это. Он ясно видит, что его движения не достигают цели, что он берет нож за лезвие, сует в рот сигарету зажженным концом, чтобы тут же исправиться: нет, не то, бормочет он себе под нос в таких случаях. Ему известно, что он обрезает ногти или надевает очки совсем не так, как нужно, и если он все же ухитрится надеть их правильно, чтобы попробовать прочесть «Попюлэр», то не может заставить работать глазные мускулы, чтобы водить взглядом по строчкам. Да, он прекрасно осознает все это, будучи одновременно и жертвой, и свидетелем своего упадка, заживо погребенным в собственном теле, которое больше не слушается разума, в котором живет теперь некто совсем чужой.
«Все-таки это трагедия — то, что со мной случилось», — говорит он Маргарите. «Терпение, друг мой, — неизменно отвечает она, — терпение, все пройдет. Подождите немного. И потом, вспомните Верди: ему пришлось дожидаться восьмидесятилетнего возраста, чтобы сочинить „Фальстафа“!» Но он продолжает сетовать на свое несчастье, и тогда она придумывает другое утешение: даже если он не может больше писать музыку, его творческое наследие и без того велико. «Вы уже состоялись как выдающийся композитор, — внушает она ему, — ваше творчество так замечательно, так прекрасно…» Равель прерывает ее, не дав закончить фразу. «Как вы можете утверждать такое! — горестно восклицает он. — Я ничего не написал, ничего не оставлю после себя, не сказал ничего, что хотел бы сказать!»
Он одинок у себя в Монфоре, одинок и лишен иллюзий. Да он и всегда был одинок, будучи тесно связан с одной лишь музыкой. А теперь эта никчемная жизнь постыла ему, все его существо восстает против сознания, что он уже ни на что не годен, что собственное тело стало ему тюрьмой. Зная, что все кончено, он пытается хоть как-то организовать свое одиночество. Каждый день, обойдя пешком лес Рамбуйе, где он, несмотря на свое состояние, по-прежнему прекрасно ориентируется, он возвращается домой и сидит у телефона, с надеждой ожидая звонка Эдуара, которого дела часто задерживают где-то далеко, продолжая курить без продыха, в нарушение врачебного запрета, и вставая только затем, чтобы опорожнить пепельницу, потому что полная пепельница выглядит так же грустно, как разоренная постель. Зато каждый день в пять часов пополудни к нему приходит гость — Жак де Зогеб. Стоит Зогебу нажать на звонок, как Равель опрометью кидается к двери, чтобы попытаться ее открыть. Поскольку ни одна часть тела ему уже не подчиняется, закостеневшие пальцы неуклюже теребят засов, двигая его взад-вперед, чаще всего не туда, куда нужно, до тех пор, пока он не сдастся и не позовет домоправительницу. Сквозь закрытую дверь Зогеб слышит все более и более громкие раздраженные возгласы Равеля, которым вторит взволнованное кудахтанье мадам Ревло; наконец дверь распахивается.
Зогеб берет Равеля под руку, и они проходят в красно-серую гостиную. Зогеб усаживается на диванчик, а Равель полулежит в глубоком кресле у окна. И каждый день звучит один и тот же диалог. «Как вы себя чувствуете?» — спрашивает Зогеб. «Скверно, — отвечает Равель, — все так же скверно». Его собеседник осведомляется, спал ли он. Равель отрицательно качает головой. «А аппетит?» — продолжает Зогеб. «Аппетит… да, — рассеянно говорит Равель, — аппетит вполне…» — «Вы немножко поработали?» Равель снова качает головой, потом у него на глазах неожиданно выступают слезы. «Почему это на меня свалилось? — спрашивает он. — Почему?» Зогеб не отвечает. Помолчав, Равель говорит: «А все-таки я сочинял неплохие вещи, правда?» Зогеб не отвечает. Он сидит с Равелем часов до восьми, а на следующий день в пять часов пополудни снова является и задает те же вопросы. И так они сидят ежедневно, пока не начинает темнеть и не встает проблема сна.
Метод № 4: бромид калия, лауданум, веронал, нембутал, проминал, сонерил и другие снотворные.
Возражение: оказав ему в свое время немалые услуги, снотворные средства теперь утратили свою силу и больше почти не помогают. В конечном счете, Равелю удается слегка вздремнуть под утро, когда уже начинает светать. Но это подобие сна, омраченное страшными видениями, не дает ему отдыха: Равель все время вынужден вступать в бой с какими-то монстрами или, хуже того, спасаться от них бегством. И лишь в последний миг перед гибелью он в ужасе просыпается, разбитый, еще более измученный, чем накануне вечером, и не то что в дурном настроении, а в полной прострации.
Друзья приложили немало усилий, чтобы организовать для него исполнение «Концерта для левой руки», притом в его, авторской редакции, которую Жак Феврие наконец-то избавил от украшательств Витгенштейна. Во время концерта Равель несколько раз нагибается к своей соседке и спрашивает, действительно ли то, что играют, — его сочинение; правда, сейчас у него есть смягчающее обстоятельство: он никогда не слышал эту вещь в такой форме. Но когда три месяца спустя он попадает на другой концерт, составленный из его фортепианных произведений, то не отдает себе отчета, что публика бурно приветствует именно его. Видимо, ему представляется, что эти аплодисменты обращены к итальянскому коллеге, сидящему рядом, потому что он учтиво поворачивает к нему голову и одаряет мертвой улыбкой, наводящей страх. Потом его ведут ужинать, и он покорно следует ритуалу трапезы — безмолвный призрак, все так же безупречно одетый, если не считать одной мелочи: на случай возможного недоразумения заботливая мадам Ревло приколола к лацкану его пиджака бумажку с домашним адресом.
Ясно, что необходимо принять какие-то меры, и его близкие непрерывно совещаются по этому поводу. Тщетно Ида Рубинштейн объезжает Швейцарию, Германию и Англию, консультируясь со специалистами, — все они как один признают себя бессильными. В Париже она обращается к двум пионерам церебральной хирургии; один из них отрицает возможность операции. Второй заявляет примерно следующее: будь это первый встречный, я не рискнул бы его оперировать и оставил бы больного на произвол судьбы, даже зная, что ему грозит безнадежный маразм. Но Равель — совсем другое дело. В данном случае мы обязаны попытаться ему помочь. Будем надеяться, что успешное вмешательство сделает его прежним, подарит еще долгие годы новых творческих свершений. Несмотря на результаты обследований, по-прежнему неоднозначные, можно все-таки допустить наличие опухоли, и, если это подтвердится, он согласен оперировать. Кловис Венсан — знаменитый нейрохирург, достойный полного доверия, и близкие склоняются перед его мнением; процедуру назначают на послезавтра.
Перед операцией больного полагается обрить наголо; Эдуар и другие стараются его успокоить, но он, видя свои падающие из-под ножниц волосы, умоляет отвезти его домой. Напрасно они внушают ему, что это необходимо для нового рентгена, для более тщательных обследований, — Равель не верит ни одному их слову. «О нет, — говорит он кротко, — я прекрасно знаю, что мне сейчас отрубят башку». Но, когда ему обматывают голову тюрбаном из бинтов, он как будто смиряется и даже прежде других с улыбкой констатирует свое неожиданное сходство с Лоуренсом Аравийским.
Хирурги вручную выпиливают в его черепной коробке прямоугольное «окошечко» и, отогнув кость, вскрывают твердую мозговую оболочку — посмотреть, что там творится внутри. Они видят мозг, слегка запавший влево, но в общем нормальный, без всяких признаков размягчения, хотя между извилинами — кстати, не слишком и атрофированными, — видны отеки. Не обнаружив никакой опухоли, врачи делают прокол бокового желудочка, чтобы выпустить немного жидкости. Несколько раз они поддувают туда воздух в надежде добиться расширения: мозг расширяется, но тотчас же опять съеживается: похоже, церебральная атрофия необратима, то есть врачи мало чего добились. Они решают прекратить операцию, закрывают отверстие для впрыскивания, оставляют твердую оболочку открытой, возвращают на место выпиленный фрагмент черепной коробки и накладывают швы коричневой ниткой.
Операция закончена, Равель на минуту приходит в сознание, и все надеются, что он спасен. Он принимает кое-какую пищу, просит, чтобы пришел Эдуар, затем хочет видеть даму. Какую даму, спрашивают его, перечисляя имена, которые ему самому трудно выговаривать. Иду Рубинштейн? Он отрицательно качает головой, указывает пальцем в пол. Элен Журдан-Моранж? Нет, шепчет он. Маргариту Лонг? Да нет, повторяет он все с тем же жестом и наконец говорит: ниже. Еще ниже. Наконец они догадываются и приводят к нему мадам Ревло. Он снова погружается в сон и десять дней спустя умирает; его тело облачают в черный фрак, белый жилет, накрахмаленную рубашку с жестким отложным воротничком и белой бабочкой и в светлые перчатки; он не оставил завещания, ни разу не был снят на кинопленку, и у нас нет ни одной записи его голоса.
Именной указатель:
Альбенис Исаак (1860–1909) — испанский композитор и пианист.
Арбос Энрике Фернандес (1863–1939) — испанский композитор, дирижер и скрипач.
Барток Бела (1881–1945) — венгерский композитор и пианист.
Бах Иоганн Себастьян (1685–1750) — немецкий композитор.
Бетховен Людвиг ван (1779–1827) — немецкий композитор, дирижер и пианист.
Бретон Андре (1896–1966) — французский писатель, один из основоположников сюрреализма.
Брамс Иоганес (1833–1897) — немецкий композитор.
Ванцетти Бартоломео (1888–1927) — см. Сакко Никола.
Варез Эдгар (1885–1965) — американский композитор и дирижер французского происхождения.
Вебер Карл Мария фон (1786–1826) — немецкий композитор.
Венсан Кловис (1879–1948) — французский врач-нейрохирург.
Верди Джузеппе (1813–1901) — итальянский композитор.
Виньес Рикардо (1875–1943) — испанский пианист.
Витгенштейн Людвиг Йозеф (1889–1951) — австрийский философ; с 1929 г. жил в Англии.
Витгенштейн Пауль (1887–1961) — австрийский пианист.
Гершвин Джордж (1898–1937) — американский композитор.
Годен Мари — дочь Эдмона Годена (см. ниже).
Годен Эдмон (1877–1934) — землевладелец, друг Равеля.
Гюго Валентина (1887–1968) — французская театральная художница, живописец и график. В первом браке жена правнука Виктора Гюго.
Делаж Морис (1879–1961) — французский композитор, ученик Равеля.
Демази Орана (наст. имя Анриэтта Мария Луиза Бюргар) (1904–1991) — французская актриса.
Дюка Поль (1865–1935) — французский композитор и музыкальный критик.
Дюшан Марсель (1887–1968) — французский живописец и график.
Жан-Обри Жорж (1882–1968) — французский писатель и переводчик.
Жид Андре (1869–1951) — французский писатель.
Жиль-Марше Анри-Эмиль (1894–1970) французский композитор и пианист.
Журдан-Моранж Элен (1888–1961) — французская скрипачка, близкий друг Равеля, автор книги «Равель и мы».
Ибер Жак (1890–1962) — французский композитор.
Казадезюс (Казадсю): либо Анри-Гюстав (1879–1947) — альтист; либо его племянник Робер (1899–1972) — французский композитор и пианист.
Кёхлин (Кеклен) Шарль (1867–1950) — французский композитор и музыковед.
Конрад Джозеф (наст, имя Юзеф Теодор Конрад Коженёвский) (1857–1924) — английский писатель польского происхождения.
Лейриц Леон (1888–1976) — французский скульптор.
Лист Ференц (1811–1886) — венгерский композитор и пианист.
Лонг Маргарита (1874–1966) — французская пианистка.
Лоуренс Томас-Эдвард (т. н. Лоуренс Аравийский) (1883–1935) — английский офицер, писатель и путешественник, специалист по арабской культуре.
Малер Альма — жена австрийского композитора Густава Малера (1860–1911).
Маллиген Джерард Джозеф (Джерри) (р. 1927) — американский саксофонист, аранжировщик и дирижер джазового оркестра.
Ман Рэй (1890–1976) (настоящее имя Эммануэль Радницкий) — известный американский фотограф.
Мийо Дариюс (1892–1974) — французский композитор.
Моран Поль (1888–1976) — французский писатель.
Натансон (девичья фамилия — Годевска) Болетт — друг Равеля.
Нин-и-Кастельянос Хоакин (1879–1949) — кубинский композитор, пианист, музыковед.
Ноэль-Ноэль (1897–1989) — французский композитор, автор эстрадной песни, актер, режиссер и сценарист.
Онеггер Артюр (1892–1955) — швейцарский композитор.
Орик Жорж (1899–1983) — французский композитор.
Пабст Георг Виллем (1885–1967) — немецкий кинорежиссер австрийского происхождения.
Регер Макс (1873–1916) — немецкий композитор.
Розенталь Манюэль (р. 1904) — французский композитор и дирижер, ученик Равеля.
Ролан-Манюэль (наст. имя Ролан Алексис Манюэль Леви) (1892–1966) — французский композитор и музыковед.
Рубинштейн Артур (1887–1982) — польский пианист.
Рубинштейн Ида (1880–1960) — русская танцовщица и актриса, жившая во Франции, покровительница многих музыкантов, в частности Равеля.
Сакко Никола (1898–1927) — американский анархист итальянского происхождения. Вместе с Ванцетти был арестован и казнен на электрическом стуле по обвинению в убийстве казначея и сторожа завода, где оба работали. Приговор вызвал массовые протесты во многих странах мира.
Самазейль Гюстав (1877–1967) — французский композитор.
Сати (Лети-Сати) Эрик (1866–1925) — французский композитор.
Сен-Санс Камиль (1835–1921) — французский композитор.
Сент-Экзюпери Антуан де (1900–1944) — французский писатель и летчик.
Скотто Венсан (1876–1952) — французский композитор.
Стравинский Игорь Федорович (1887–1971) — русский композитор, живший и работавший сначала во Франции, а затем в Америке.
Тосканини Артуро (1867–1957) — итальянский дирижер.
Траншан Жан (1901–1972) — французский композитор, автор и исполнитель эстрадных песен.
Фалья Мануэль де (1876–1946) — испанский композитор.
Фарг Леон-Поль (1876–1947) — французский поэт.
Фаррер Фредерик Баргон (Клод) (1876–1957) — французский писатель и морской офицер.
Феврие Жак (1900–1979) — французский пианист, впервые исполнивший «Концерт для левой руки» Равеля в авторской редакции.
Фербенкс Дуглас (1893–1939) — американский киноактер.
Ферру Пьер-Октав (1900–1936) — французский композитор.
Фолкнер Уильям (1897–1962) — американский писатель.
Хаксли Олдос Леонард (1894–1963) — английский писатель, журналист и романист.
Чаплин Чарльз Спенсер (1889–1977) — американский киноактер, сценарист и режиссер английского происхождения.
Шаляпин Федор Иванович (1873–1938) — русский певец, с 1922 г. жил и выступал за рубежом.
Шмит Флоран (1870–1958) — французский композитор.
Шопен Фредерик (1810–1849) — польский композитор.
Штраус Рихард (1864–1949) — немецкий композитор и дирижер.
Шуберт Франц (1797–1828) — австрийский композитор.
Эдисон Томас Алва (1847–1931) — американский изобретатель и предприниматель.
Энеско (Энеску) Джордже (1881–1955) — румынский композитор, дирижер, пианист и скрипач.
Примечания
1
По-французски садовый парусиновый шезлонг называется transatlantique. (Здесь и далее прим. переводчика.)
(обратно)2
Игра с деревянным или пластмассовым диском, который нужно забросить в одну из девяти клеточек специально огороженной площадки на корабельной палубе (англ.).
(обратно)3
Так во Франции называли солдат-фронтовиков во время Первой мировой войны. «Пуалю» (poilu) буквально означает «лохматый».
(обратно)4
«Вечное движение» (лат.).
(обратно)5
«Мой любимый» (англ.).
(обратно)6
Игра состоит в том, чтобы подкинуть и поймать с помощью двух палочек, соединенных шнурком, картонную катушку, сделанную из двух конусов.
(обратно)7
Французская кафешантанная песенка (авторы Буске и Робер, 1913), ставшая во Франции подлинно народной.
(обратно)8
С ускорением (ит.).
(обратно)9
Звание «почетный доктор» (лат.).
(обратно)10
Концерт в соль-мажоре.
(обратно)11
В до-мажоре (лат.).
(обратно)12
Журнал сюрреалистов «Минотавр» начал издаваться в 1933 г.
(обратно)13
Имеется в виду балет „Дафнис и Хлоя“ на музыку Равеля.
(обратно)






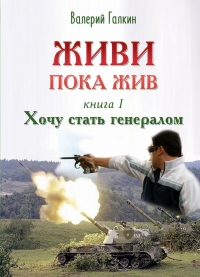

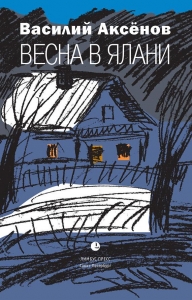

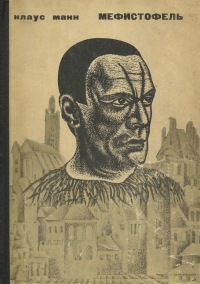


Комментарии к книге «Равель», Жан Эшноз
Всего 0 комментариев