Ауэзхан Кодар Порог невозврата
Здесь прошелся загадки таинственный ноготь…
Я, как и многие у нас в республике, давно знаю Ауэзхана Кодара, как поэта, культуролога и публициста, пишущего на двух языках, а также талантливого переводчика казахской национальной поэзии. Тем приятнее было узнать, что у него вышла новая книга, на этот раз – сборник прозаических произведений. В общем-то, их не так уж и много по объему – повесть, два рассказа, три эссе и подборка афоризмов. Однако тут дело не в объеме – каждый жанр настолько выдержан, что составляет особую грань по своей ювелирной отделке. В книгу вошли произведения разных лет, но мне хотелось бы остановиться на его самой свежей вещи – повести (так у автора обозначено) «Порог невозврата». Кстати, и вся книга носит то же название. И это неслучайно.
На мой взгляд, всё творчество А. Кодара – чёткое осознание того, что он – писатель рубежа веков. Об этом когда-то писал французский литератор Макс Нордау как о комплексе «конца века» («fin de siècle»), когда все устои в таком переходном обществе расшатываются, старые нормы не действуют, а новые не наработаны. Так, в предисловии к своему стихотворному циклу «Римские мотивы» в 1998 г. Кодар писал: «Как известно, существуют два вида поэзии: нормативная и ненормативная. Последнюю еще называют альтернативной. А суть ее в том, что “низ” преобладает над “верхом”, либидо – над разумом, вытесненное – над вытесняемым. Ее стиль – это брань, эпатаж, анально-фаллические образы. Словом, это эстетический перевертыш, уравнивающий в правах попранные стороны человеческого естества.
Особенного расцвета такого рода поэзия достигает в переломные эпохи, когда положительное исчерпывает свой потенциал. Поэты как-то вдруг обнаруживают, что им нечего воспевать. Одический стиль вынужден профанироваться, или перейти к культу негации. Так, цезаристский Рим, растоптавший республиканские ценности рождает Катулла, средневековая Франция – Рабле и Франсуа Вийона, екатерининская Россия – Баркова». Далее, в 2004 г. Кодар выпускает стихотворный сборник «Цветы руин», где в цикле верлибров «Мисс Ноль» описывает то, что народилось на руинах прошлого. И вот перед нами повесть «Порог невозврата», которая по широким обобщающим мазкам и плотности описания скорее выполняет функцию романа. Это роман о том, что не так легко вырваться из прошлого и что непереваренное прошлое – душитель настоящего, чьи едва окрепшие ростки никак не могут развиться во что-то самостоятельное и аутентичное, поскольку произросли на той почве, где ранее не произрастали. И тут опять вспоминается М. Нордау: «Лишь самое ничтожное меньшинство находит искреннее удовольствие в новых направлениях и убежденно провозглашает, что в них и спасение, и надежда, и будущность. Но это меньшинство наполняет собою всю видимую поверхность общества, подобно тому, как ничтожное количество масла широко распространяется на поверхности моря». На деле, это меньшинство выглядит как тонкая плёнка, которую даже не удостаивают взгляда, поскольку не чувствуют за ней ни силы, ни влияния. Особенность подхода Кодара в том, что он берет очень влиятельную личность, бывшего депутата, популярного деятеля 60-х и в один прекрасный момент лишает его влияния и веса, и, помещая в безнадежную обстановку 90-х, производит с ним такие манипуляции, что тот начинает понимать, в каком государстве живёт. Ведь одно дело, когда ты наверху, где буквально всё к твоим услугам, а другое – если ты на самом низу, где никакими перспективами и не пахнет. Как жить в таком обществе и общество ли это вообще? – как бы спрашивает автор.
Это парадоксальный роман, который я назвал бы романом без героя, поскольку главный персонаж – «уже не герой», а его антогонисты – «ещё не герои». Если остановиться на жанре – это фантасмагория в духе Кафки, когда автор без всяких логических предварений помещает персонаж в ситуацию, где с ним могут происходить самые невероятные превращения. Это напоминает и «Золотого осла» Апулея, и «Человека без тени» Шамиссо, ведь главный персонаж повести, Агзамыч, вынужден играть роль созерцателя, который как бы построен всему, поскольку в силу ряда обстоятельств лишен хварны, или богоизбранности.
В казахской литературе последних лет я не встречал такого сложного персонажа. И это происходит оттого, что сам автор относится к нему неоднозначно – он то подшучивает над ним, то в чём-то ему сочувствует, то стирает его в порошок, то начинает возвышать и даже ставит на котурны и вследствие этого персонаж этот как живой и напоминает многих наших современников. Но на деле, это собирательный образ наших шестидесятников, которые вполне процветали в советское время и в то же время считались диссидентами. На мой взгляд, эта двойственность, или можно сказать, талейрановская гибкость, сопровождает их и в наше время. Не потому ли так часто говорят в наших оппозиционных рядах о конформизме казахстанской интеллигенции?
Да и само название романа «Порог невозврата» как бы настаивает на этой двойственности. Почему «невозврат» и невозврат к чему? Вот о чём надо задуматься читателю. Видимо, всё-таки речь идёт о невозврате к прошлому, от которого мы никак не откажемся. Ведь сколько времени прошло, а мы всё ностальгируем по советской эпохе. Пора бы уж кончать с этим, – как бы призывает автор. Мы живем в совсем другое время и в другой стране. Ещё Кафка писал, что существует точка невозврата и что ее не надо бояться, ее надо достичь.
В романе много говорится о современных течениях мысли на Западе, в том числе, и о постмодернизме. Чувствуется, что автор не чужд этого направления и его роман в известном смысле можно назвать постмодернистским. Ведь постмодернизм – это не только цитатничество, главным образом, это преодоление бинарных оппозиций и культивирование того, что обретается на маргиналиях, т. е. вне официального или общественного признания и, не смотря на это, живет своей полнокровной жизнью.
В этой книге всё берется в одном потоке: и высокое, и низкое, и общее, и частное, и национальное, и наднациональное. Причём здесь ничему из этого не отдаётся предпочтения, всё вышеназванное подвергается предельно критическому рассмотрению, можно сказать, на грани цинизма. Автор воспринимает наше общество совершенно изолгавшимся и деморализованным. А ложь, превращённая в политику – это болезнь, которую надо лечить путём хирургического вмешательства. Иначе будет поздно. Порог невозврата так и не будет перейдён. А порог этот перейти надо бы, для этого ныне у нас есть все возможности, кроме былой казахской эскапады, на которую и вынужден был пойти наш замечательный автор – Ауэзхан Кодар.
Что касается названия моей статьи, я позаимствовал ее из «Апеллесовой черты» Бориса Пастернака. Помните ее начало:
«…Передают, будто греческий художник Апеллес, не застав однажды дома своего соперника Зевксиса, провел черту на стене, по которой Зевксис догадался, какой гость был у него в его отсутствие. Зевксис в долгу не остался. Он выбрал время, когда заведомо знал, что Апеллеса дома не застанет, и оставил свой знак, ставший притчей художества».
Так и здесь, читателю, чтобы пробиться сквозь череду искусно воздвигнутых наслоений, нужно стать почти соавтором данного произведения. Не правда ли, почетная миссия?
Берик Джилкибаев, доктор филологических наук, писатель
Порог невозврата Роман
Незаконнорожденному поколению, интеллигенции 90-х посвящается
В Америку!
Агзамов проснулся в прекрасном расположении духа. Голова чуть побаливала, но в теле была необыкновенная легкость. Сразу же вспомнился вчерашний банкет: чем больше пели ему дифирамбы, тем воздушней он себя ощущал и под конец окончательно впал в эйфорию. Банкетный зал был весь в зеркалах, и лысина Агзамова отражалась в них тысячекратно. Чем больше было славословий, тем больше витал он в облаках, как бог в жертвенном дыме, и в какой-то момент почувствовал, что не существует, достиг нирваны. И это ощущение повторялось несколько раз: когда сам Кулмуратов поздравил его с орденом, когда с другого конца стола его бывшая жена Азалия, сияя, как дворцовая люстра, подняла большой палец и когда юная официантка, которую он приметил с начала банкета, подавая коктейль, кинула на него обворожительный взгляд, полный преданности и покорности.
Правда, когда они оживленной толпой выходили из ресторана, к нему бросился какой-то бродяга в куцем коричневом пальто, с лохматыми, давно немытыми волосами. Он размахивал какой-то книгой и кричал что-то нечленораздельное. Охрана быстро убрала его с дороги, но Агзамова неприятно поразила недобрая ухмылка, переходящая в косой шрам, как бы увеличивающий эту ухмылку до бесконечности.
«Как же звали этого беднягу из Гюго?», – подумал Агзамов. – Кажется, Гуинплен… Ну и рожа… Где-то я его видел», – бессильно ворохнулось в мозгу. Агзамова охватило чувство смутной тревоги. Однако когда он уселся на заднее сидение «Ландкрузера», салон которого окунал в благоухающую атмосферу комфорта, Агзамов опять впал в эйфорию, близкую к несуществованию.
И вот теперь, проснувшись после банкета, Агзамов был рад, что существует, что договор с жизнью не расторгнут, что кожа шелковиста, а тело сибаритствует в приятном предощущении утренней зарядки.
По обыкновению он встал, и хотел было приняться за зарядку, но вдруг заметил что-то странное: на подушке и вдоль нее были рассыпаны какие-то коричневые зерна или дробинки, или родинки. Да, кажется, родинки. Рука Агзамова невольно потянулась к шее, где у него с юношеского возраста была целая россыпь то ли папиллом, то ли родинок, которых так и не удалось вывести в течение всей жизни. И вот, пожалуйста, – теперь они сами выпали, все в один день. Шея стала гладкой как каток, пальцы так и скользили, не натыкаясь ни на что. Агзамову стало неуютно, как будто он лишился какой-то защиты, как будто маленькие славные гномики, преданно прилепившиеся к его шее сегодня, исчезли, даже не попрощавшись. Агзамов принес с туалета совок, ладошкой ссыпал туда все родинки с подушки и постели, пошел в туалет и бестрепетно выкинул их в мусорницу. Это была особенность его характера. Странности не волновали его – то, что он не понимал, сразу выносил за скобки, выбрасывал из своей жизни.
Он подошел к окну, открыл форточку, сделал несколько взмахов руками и ногами, помотал головой, покосил глазами, сделал несколько вдохов и выдохов, посидел, отдохнул и пошел в ванну. Там он разделся и принял душ. При этом он полностью отдавался под власть теплых, нежных струй, глотал и сплевывал воду, сунул руку в пах и несколько минут стоял, держа на весу одрябшие яйца. «Вот бы увидела меня Аделаида Николаевна, мой заместитель», – лукаво подумал Агзамов, – мгновенно убирая руку со срамного места. Скользнув в халат, он почистил зубы и стал бриться. Процедура бритья всегда освежала Агзамова. Ему было приятно видеть, как в зеркале вместо заспанного брюзгливого типа с мешками под глазами появляется бодрячок с розовеющими щечками и озорным взглядом ласкающих и ласкающихся глаз.
Вот и сейчас тщательно побрившись, он посмотрел в зеркало и… оторопел. Лицо продолжало оставаться небритым. Станок выпал из его рук, он нагнулся, поднял его и снова посмотрелся в зеркало. На этот раз все было в порядке. Он увидел свою гладко выбритую физиономию, пристально всматривающуюся в зеркало. Не обнаружив далее ничего необычного, Агзамов пошел на кухню и приготовил себе кофе. В задумчивости закончив утреннюю трапезу, Агзамов взял заготовленный с вечера портфель и вскоре вышел во двор, где его ждал служебный «Ландкрузер». По обыкновению, Агзамов закурил и стал ждать, когда к нему подбежит улыбающийся водитель, чтобы проводить до машины. Однако из машины никто не вышел. Докурив сигарету, Агзамов подошел к машине, открыл дверцу, и, поднял было ногу, чтобы сесть, но тут его остановил строгий водительский окрик: «Извините, Вы кто?».
– Азар, да это же я, – смущенно пролепетал Агзамов.
– Извините, это машина Агзамова, – не допускающим возражения тоном, – сказал Азар. – Вы, наверное, что-то перепутали.
– Но ведь я и есть Агзамов, – растерянно улыбнулся Агзамов.
– Ты что, дядя, с луны упал, – усмехнулся водитель. – А ну, катись отсюда!
Дверь салона захлопнулась. Агзамов чуть не заплакал. Он и думать не мог, что милашка Азар, который упреждал малейшее его желание, может оказаться таким грубым и бесцеремонным.
Но Агзамову было некогда. Ему нужно было бежать на работу, в офис, где он должен был принять писателя из Франции, которому назначил встречу на десять ноль-ноль. Кроме того, сегодня после обеда он должен был лететь в США по приглашению одной международной организации. «А тебе я припомню!» – подумал Агзамов, хлопотливо пробегая мимо огромного «Ландкрузера», равнодушного, как мертвый динозавр. И было понятно, что мысль эта относится к шоферу, которого совсем не было видно за тонированными стеклами.
Агзамов поймал такси и поехал на работу. Но стоило войти ему в приемную, как секретарша, всегда такая милая, ласковая, можно сказать, само обаяние, уставилась на него круглыми глазами.
– Уважаемый, Вы к кому?
Агзамова передернуло от этого грубого, неприветливого тона.
– Сания, это же я, Агзам Агзамович, – еле выдавил он из себя.
– Вы посмотрите на себя, – раздраженно сказала секретарша, встала из-за стола, и, подойдя к нему, подвела его к зеркалу.
Агзамов посмотрел на себя и опешил. Перед ним стоял человек очень похожий на Агзамова, но не Агзамов, далеко не Агзамов и даже близко не Агзамов, а какая-та жалкая пародия на этого великого человека. Высокий сократовский лоб переходил в бездарную «виннипуховскую» плешь, великолепный нос с патрицианской горбинкой был красным как после недельной пьянки, чувственные губы с вычурным рисунком мелко дрожали, красивый овальный подбородок неожиданно ставший квадратным, подрагивал, на щеках почему-то была какая-та сивая щетина, где седина выпирала самым предательским образом. Любая самая жестокая пародия не могла бы оскорбить Агзамова сильнее, чем эта обыденная реальность.
Сузившимися, маленькими, свиными зрачками он зло посмотрел на секретаршу и кинулся вон из приемной. Агзамов бежал по длинной улице Фурманова и, казалось, что все зеркала и витрины этого некогда прекрасного города бегут за ним и пытаются поймать его в свой перекосившийся фокус. Ему хотелось поломать все витрины, все отражающие поверхности, смять все встречные улыбки, ибо все это теперь было не для него. В мире произошел какой-то сбой, Агзамов выпал из согласного течения времени. Мир всегда бывший таким благожелательным к нему, вдруг стал равнодушным и серым.
Агзамов судорожно вытащил мобильник и стал набирать номер Кулмуратова. Увы, сотка «сдохла». Вчера он забыл ее выключить, а сегодня она уже не работала. Агзамов стал лихорадочно думать, к кому пойти. Единственный сын жил в Сингапуре, с женой он давно был в разводе, правда, она вчера так сияла, так гордилась им. Но что если и она его не узнает? Этого он не смог бы перенести. В создавшемся положении лучше затаиться и выждать, разведать ситуацию.
«Надо же, меня не узнают! – обиженно подумал Агзамов. – Меня-то, сына великого Агзамова, интеллигента в третьем поколении! Я круглый год вещаю им по «ящику», направо и налево раздаю интервью, состою во всех долбаных комитетах и комиссиях. Меня даже в аулах знают. Вон недавно в Атырау джип подарили!»
– Постой, постой, – вдруг запаниковал Агзамов. – А как же мой счет в банке? Неужели и он исчез?.. Он сунул руку во внутренний карман пиджака и обомлел, кредитной карточки не было. По телу Агзамова пошла противная дрожь, ноги подкашивались, ему пришлось прислониться к дереву, и только усилием воли он не упал. Дело в том, что в кармане не было и паспорта. Не говоря уж об авиабилете, которого тоже почему-то не было.
В обворованной квартире
Через несколько минут он сидел в такси и мчался домой. Рассчитавшись с таксистом, Агзамов не дожидаясь лифта, бегом поднялся на пятый этаж. Он только потянулся к ключу как увидел, что дверь открыта. Он быстро кинулся в проем двери. В квартире всё было вверх дном. Прямо перед ним лежал раскрытый чемодан со всяким вываленным барахлом, по всей квартире были разбросаны его вещи и рукописи. Агзамов бросился в кабинет, к сейфу, но, увы, сейфа не было, а значит, вместе с ним исчезли и все документы, счета в банке, кредитная карточка. Агзамова как будто окатили холодной водой. Он нелепо стоял с холодеющим сердцем и выпученными глазами. Потом какая-та мысль посетила его и, кинувшись к шкафам, он в поисках чего-то, стал вываливать книги. Только изрядно покопавшись, он понял, что ищет совсем не там, и увидел то, что так безуспешно искал. Это был черный толстый Коран еще дореволюционного издания, он преспокойно стоял на верхней полке соседнего шкафа. Агзамов с трепетом взял Коран, прижал его ко лбу, поцеловал, но вдруг священная книга вывалилась из его рук. Агзамов нагнулся его поднять, но увидел, что рядом с книгой лежит булыжник. Бедный Агзамов совершенно не понимал, откуда взялся этот булыжник. «Словно с неба свалился!» – мелькнуло в его мозгу. Рядом валялся раскрытый Коран, Агзамов поднял его, перелистнул, и, вдруг в самой середине книги увидел зияющую дыру с неровными округлыми краями, примерно напоминающими форму булыжника. Агзамов вставил в дыру бугристый овальный камень, покрашенный в зеленый цвет, и он лег туда как родной.
Первое что пришло в голову Агзамову, что над ним здорово поиздевались. Дело в том, что этот Коран был единственным наследством от отца, Агзам хранил его еще с советских времен, когда такие вещи хранить не полагалось. Арабский язык он так и не изучил, поэтому книга представляла для него даже не антикварный интерес, а родовое наследие: ведь они происходили из рода ходжа, который не принадлежал ни к одному из казахских жузов [1], а был самостоятельным ответвлением из рода Мухаммадова, поскольку эти ходжи были арабскими миссионерами, пастырями исламской духовности в бескрайних просторах казахской степи. Надо признаться, что Агзамов с детства рос атеистом, но его приятно грела причастность к духовному нобилитету, пусть это даже и расходилось с его принципами и взглядами. И вот теперь его как бы спустили с неба на землю, показали его истинную сермяжную сущность, отобрали самое дорогое – его высокое происхождение и в связи с этим избранность, которую он ощущал чуть ли не с пеленок. Пусть мать была беременна им, когда отец был в тюрьме (кто из интеллигенции не сидел в сталинском 38 году?), пусть он рос в семье матери с названными братьями от других мужчин, но он всегда знал, что он иной, чем другие: умнее, лучше, духовней. Он с детства привык подчинять сверстников своему влиянию и никогда не стыдился своего высокомерия, он считал, что имеет на это законное право. Так что же теперь получается, он вырос с булыжником в сердце, когда все считали, что там лишь суры Корана? С ним совершили чудовищный акт духовной кастрации, и он должен это терпеть? Получается, что его не только ограбили, но и лишили ментальной сущности? Нет, он не потерпит этого, грабители должны быть наказаны. Агзамов кинулся к телефону:
– Алло, 02, милиция, вам звонит Агзамов! Меня ограбили! Когда? Откуда я знаю, когда?! Вот я прихожу, а квартира вверх дном, нет сейфа, нет документов! Что еще унесли? Так придите, черти, и посмотрите, я откуда знаю! Адрес? Октябрьская, 63 кв. 18, уг. Декабристов. Хорошо. Я вас жду.
Агзамов положил трубку.
– Кто же это мог быть? Что это за ограбление, скорее похожее на издевательство? Агзамов стал лихорадочно прокручивать в памяти образы своих недоброжелателей, тайных и явных недругов.
В последнее время он очень сузил круг своего общения: к нему приходил только племянник, сын его рано ушедшей из жизни сестры, старый друг Махди, соратник еще по молодежному объединению «Степные пегасы» и иногда заезжал Гадиков, которому с недавних пор подфартило стать сенатором. Но с этим они всегда встречались вне дома, где-нибудь в высокогорном кафе или роскошных апартаментах. В друзьях и близких Агзамов никогда не сомневался, очень им доверял и мысли не мог допустить, что кто-нибудь из них… Вдруг Агзамова перекосило, он подумал: а не есть ли это месть за его прошлую оппозиционную деятельность? Вот черти, значит, ничего ему не простили: ни уход из власти, ни создание своей партии, ни организацию многотысячных митингов?
Он вспомнил, как два года назад встречался с Президентом страны. Тот выглядел очень усталым, раздраженным, с мешками под глазами, но встретил его приветливо, вышел из-за стола, поздоровался за руку, усадил в кресло за журнальным столиком. Тогда-то они и договорились, что Агзамов не будет вмешиваться в политику и взамен за это через два года получит кресло министра культуры. Конечно, разговор выглядел не так цинично, речь шла об интересах нации, стабильности государства, о только что успешно проведенной демаркации границ. Пытливые, как бы воспаленные после бессонной ночи глаза Президента буравили Агзамова, как бы пытаясь вывернуть наизнанку его душу, но в душе Агзамова давно уже ничего не было, ни сопротивления, ни желания служить: мило улыбаясь, все время соглашаясь с доводами собеседника, Агзамыч в своей всегдашней элегантной манере выторговал себе все что можно: должность директора института, череду зарубежных поездок, и под конец президент сам сказал, что перед Новым годом его наградят высшим орденом республики. Этот-то орден он и получил вчера, и вот, после столь замечательного события, такой жалкий конец. Значит, власть не простила ему ничего, – просто нейтрализовала на два года, пока он носился по разным странам, изображая из себя посла доброй воли и посредника в диалоге культур. Агзамыч-то думал, что он обыграет и оппозицию, и Президента, но получилось наоборот: оппозиция укрепляется, власть идет на все большие уступки, и только Агзамова – и та, и другая сторона – выкинули за ненадобностью, бросив орден как последнюю подачку.
Звякнул дверной звонок, это пришла полиция. В дверях показались молодой лейтенант и молодая женщина в форме. Лейтенант строго предупредил Агзамова, что нельзя ничего трогать и, пройдя на кухню, стал допрашивать потерпевшего.
– Прошу ваше удостоверение личности.
– У меня сейчас его нет. Понимаете, я его обычно держу в бардачке служебной машины, вместе с правами…
– Ладно, поверим на слово. Итак, фамилия, имя, отчество?
– Агзамов Агзам Агзамович, – и он расплылся в снисходительно-вальяжной улыбочке, ожидая привычной фразы: «Неужели тот самый?!». Однако лейтенант не выразил никаких эмоций и продолжал задавать очередные протокольные вопросы. То показываясь в дверях, то исчезая, женщина фотографировала тут и там вываленное барахло. Когда Агзамов сказал, что его главным образом интересует похищенный сейф, лейтенант спросил, что было в сейфе. И вот тогда Агзамова как будто ошпарили: там был золотой скарабей, подаренный ему Министром культуры Египта. Агзамыч не был суеверным человеком, но с тех пор как он заполучил этот символ бессмертия и вечной жизни, его здоровье значительно улучшилось и даже в сексуальном плане что-то, наконец, опять замаячило. Так что же это получается? Черт-те что, колдовство какое-то!
– Там, знаете, были все документы, и… кредитная карточка… и…
– Ну, продолжайте, продолжайте!
– Э-э-э… как бы это правильно сказать… золотой скарабей… ну, статуэтка такая… ее мне в Египте подарили… Я обычно держу ее в банке… а вчера на банкете решил показать друзьям… сегодня с утра уехал на работу… думал, сдам в банк позже… и вот…
– И сколько весила эта статуэтка?
– А это обязательно записывать? – глупо спросил Агзамов.
– Ну, конечно, а иначе как мы ее отыщем, без всяких примет и описаний?
– Один килограмм, – меланхолично заявил Агзамыч.
– Не может быть! – подскочил лейтенант.
– Я вам могу показать документы. Это подарок из Египта. Впрочем, документы тоже были в сейфе.
Агзамов уже не знал что говорить, вернее, теперь он мог говорить, что угодно. Все дороги вели только к сейфу.
– А как выглядел этот ваш сейф, – спросил лейтенант.
– Ну, такой большой, на двести килограмм, – ответил Агзамыч.
В это время торкнулись в оставшуюся незапертой дверь, и четверо дюжих парней еле втащили в прихожую сейф где-то на метр двадцать. Выскочившие в прихожую Агзамов и лейтенант не знали что сказать. Женщина мгновенно сфоткала вошедших. Парни оставили сейф посреди прихожей и ушли.
– Это ваш? – спросил наконец лейтенант.
– К-к-кажется мой, – еле выдавил из себя Агзамов.
– Вот видите, целехонький! – обрадовался страж правопорядка. – Может, над вами друзья подшутили? – выдвинул он, как показалось ему, бодрую гипотезу. – Ну, что стоите, открывайте!
Женщина подошла и сфоткала уморительную ситуацию: Агзамов стараясь оттеснить лейтенанта, стал набирать код. Сейф не открылся. После нескольких неудачных попыток, включилась сигнализация. На звук сирены в прихожую ворвался грузный мужчина лет тридцати в золотых очках на надменном носу. Увидев дома трех незнакомых людей, причем двоих в форме милиционера, он сразу оценил обстановку.
– Во, ментура работает, что, задержали ханурика?
Кровь бросилась в голову Агзамова.
– Какого ханурика? Я хозяин этой квартиры, а ты кто такой?
– Это я хозяин, а ты вор, пойманный с поличным. Не правда ли, он пытался проникнуть в мой сейф? – незнакомец со значением посмотрел на лейтенанта. Все повадки этого самоуверенного грузного человека выдавали в нем ненароком разбогатевшего вышибалу, которых ныне так много развелось на постсоветском пространстве. Молодой лейтенант столь грозный с Агзамовым, теперь стушевался и пролепетал что-то невнятное. Даже женщина-мент не посмела сфоткать вошедшего. Крайне возмущенный Агзамыч с кулаками бросился на ухмыляющегося верзилу. Но тот так дал ему в лоб своим выступающим животом, что Агзамыч навзничь шмякнулся на пол. Лейтенант, бросившись к Агзамову, помог ему встать, и они вдвоем стали наседать на верзилу.
– А ну вон из моей квартиры! – опять полез на рожон Агзамов.
– Ваши документы, – холодно спросил представитель власти. Собравшаяся с духом женщина сфоткала подозрительного типа.
Человек полез в карман и спокойно предъявил документы.
– Басманов Ашот Азраилович, 1973 года рождения, казах.
– Где работаете?
– Знаешь, есть такая компания «Казахский кобель», ой, что я несу, «Казкабель», так вот я хозяин этих всех кабелей, – довольно плоско пошутил Басманов.
– Позвольте, удостоверение.
Удостоверение тоже оказалось в порядке.
Но лейтенант не унимался.
– Теперь объясните, зачем Вы вторглись в чужую квартиру?
– Я не вторгся, а вошел. Это квартира по ул. Октябрьской? Вот смотрите, у меня ордер.
У него, и в самом деле, был ордер на квартиру по указанному адресу.
Лейтенант, переводя взгляд то на верзилу, то на Агзамыча, не знал, что и думать. Верзила нагнулся и что-то шепнул ему на ухо. После этого многозначительного сообщения, лейтенант воззрился на Агзамова.
– Извините, уважаемый, а где ваши документы?
– Я же сказал, в сейфе.
– Но это оказался не ваш сейф.
– Но у меня тоже был сейф!
– А чей же тогда этот сейф?
– Не знаю, кажется, не мой.
– Зачем же вы тогда пытались его открыть?
Взбешенный донельзя Агзамов не знал, что ответить.
– Ты, продажная тварь, – зашипел он на лейтенанта. – Этот отморозок подкупил тебя, да? Ну, смотрите у меня, я выведу вас всех на чистую воду – он попытался прорваться к двери, но там стоял верзила. Агзамыч попятился к стражу порядка. Приговор лейтенанта был суров и краток.
– Ну, уважаемый, придется вас забрать до выяснения личности. Окончательно пришедшая в себя женщина сфоткала и Агзамова, и, на всякий случай, Басманова. Вскоре с руками, сцепленными за спиной наручниками, Агзамыча везли в опорный пункт милиции.
В хтоническом мире
…Очнулся он в КПЗ, в просторечии обозначаемом как «шлакушник». Рядом кто-то пел, кто-то блевал, какой-то русский – широкоплечий, в длинном черном плаще, – толкался в зарешеченную дверь. В тусклом свете подслеповатой лампочки кто-то лохматый и небритый читал толстую книгу. От смрадного дыхания сокамерников стояла страшная вонь. У Агзамова застучало в висках, к горлу подступил жуткий ком тошноты. Агзамов еле сдержал себя. Между тем, русский гигант несколько раз постучав в дверь, повернулся и направился к лохматому книгочею.
– Эй, хватит читать, это тебе не изба-читальня. Нашел, где просвещаться.
– Как говорил Гераклит: и здесь обитают боги, – буркнул книгочей совершенно машинально.
– Не густо нас тут, богов, – печально констатировал гигант, обведя взглядом не слишком респектабельных сокамерников. – Правда, вот только что товарища подвезли. – Товарищ, вы кто такой будете и как дожили до жизни такой? – вежливо, но прямо обратился он к Агзамову.
– Думаю, я тут не задержусь, – уверенно заявил Агзамов. – Ошибочка, какая-та вышла.
– Вот-вот! – бодро поддержал его гигант. – На первый взгляд, ошибочка, а там, глядь, и в правило превращается. – Я первым на нашем совке «Битлов» перевел на русский, а где сейчас я, где «Битлы»?
– «Битлы», «Битлы»! – вдруг возмутился книгочей, захлопнув свою книгу. – «Йестедэ-э-эй», – протянул он, как будто играя на гитаре. – В том-то и дело, что они сейчас – вчерашний день. Я согласен, что это лучшие модернисты, утвердившие в мире культ электрогитары. Но ныне бал правят не они.
– Танат, ты опять о своих постмодернистах? – усмехнулся гигант. – Так им еще далеко до мейнстрима! Тем более – у нас! Да они и сами против, чтобы их сводили в какое-то общее течение.
– Это не течение, а состояние, состояние после всего, что случилось с культурой в ХХ веке.
– И что это за состояние?
– Это такой сильный похмельный синдром после слишком большой веры в Разум. Крах нацизма и коммунизма показал, что нельзя верить во что-то одно, что не только сон разума, но и сам разум рождает чудовищ, когда слишком переоценивает свои возможности. И вообще нет платоновского мира идей, разум находится в языке.
– И, значит, мир – это текст?
– Да, с этим ничего не поделаешь. Все в этом мире, действительно, только текст, иначе мир не интеллигибелен.
– Папаша, ты согласен? – повернулся гигант к Агзамову.
– Знаешь, – улыбнулся Агзамов. – Мы – восточные люди, а на Востоке мир – скорее подтекст, а не текст. И я думаю, что это правильно.
– Оригинальнейшая трактовка теории Дерриды! – осклабился гигант.
– Да он о нем скорее ни сном, ни духом, – грустно констатировал Танат.
Агзамыча оскорбило, что эти, по всему видать, пауперизованные элементы еще смеют посягать на его интеллектуальную экипировку.
– Слушайте, молодой человек, – весьма вежливо обратился он к книгочею, – что вы имеете против подтекста?
– Да ради бога! – широко махнул рукой Танат, – только сначала текст, а потом подтекст, сколько угодно подтекстов. Но если нет текста, извините, никакого подтекста не будет.
– Ну, хорошо! – хитро улыбнулся Агзамыч. – Вы хотите отсюда выйти?
– Хотим! – сказал гигант.
– Тогда зови начальство.
Гигант заколотил в дверь. К зарешеченной двери подошел сержант.
– Чего надо?
Но тут к двери подошел Агзамыч и что-то шепнул на ухо сержанту. Сержант, как говорится, не повел и ухом. Тогда он вынул из кармана минииздание своего отца Агзамова и показал милиционеру.
– Ну, знаешь, кто это? – и указал на фамилию своего отца.
– Аг-зам Аг-за-мов, – прочитал по слогам сержант.
– Знаешь, кто он такой?
– Не-а.
– Лауреат Государственной премии СССР. А я его сын. Понимаешь?
– Ну и что?
Тут к Агзамычу подошел гигант и, дыша ему в лицо перегаром, спросил:
– Ты че ему мозги паришь? Ты же не Агзамов.
– Как не Агзамов? – возмутился Агзамов.
– Ты на себя посмотри – нет в тебе никакого лоска, гонора, какой же ты Агзамов? Между прочим, вчера по «ящику» передавали, что сегодня он летит в Америку, – выказал немалую осведомленность гигант. – Знаешь че? – еще плотнее придвинулся он к Агзамову. – У тебя бабки есть?
– Есть немного, – попытался уклониться Агзамов.
– Дай ему бабки и всего делов, – усмехнулся гигант. Тогда он и тебя отпустит и нас тоже отпустит. Мы ж не дадим пропасть друг другу? – обратился он к стражу закона и не успел тот что-то ответить, всунул ему весомые купюры, охотно предложенные Агзамовым.
– Вещи при вас? – спросил он для порядка. Но тройка уже бодро мчалась к выходу.
– Пойдешь с нами? – сказал гигант, когда они вышли во двор.
– А куда с вами?
– В царство Аида, к Танатосу.
– Это где?
– В микрах, где еще?
Агзамыч задумался. Он понимал, что идти ему некуда, но и с этими идти не хотелось.
– Знаете, у меня столько дел. Вот держите на такси и до свидания.
– Слушай, друг, шланги горят, ты бы дал на похмелье-то?
– А ты, я гляжу, не прост, палец дашь, руку откусишь! На вот бери, что даю и будь доволен, – Агзамов вручил гиганту всякую мелочь и заспешил подальше от этих сомнительных личностей.
– А все-таки подтексты твои не помогли, – бросил ему в след гигант и они с Танатосом не спеша зашагали в сторону микрорайонов. «Бабло оно и в КПЗ бабло!» – прозвучало напоследок в пространстве.
Агзамов шел и думал: «Куда я иду? Этих я и за людей не посчитал, а самому мне и идти-то некуда. Нет, надо обратно в милицию. Я им должен заявить, что я потерялся, что я это я!».
Он нехотя повернул в сторону опорного пункта. После утреннего пробуждения в «отстойнике» ему не хотелось иметь дела со стражами порядка. Как-то не верилось, что это учреждение для установления истины, или для сочувствия человеку.
Его мысли потекли в другую сторону.
«…Но как они меня опознают? Ведь паспорт-то дома. Фу, какую чушь я несу! Не знал, что так трудно, удостоверить других в том, что ты это ты. За сорок лет в казахской культуре я стал знаменитым, как пропись. И вот, пожалуйста, теперь меня никто не узнает».
Он подошел к полупустой остановке и сел на скамейку. Раньше все сбежались бы к нему, стали бы просить автограф, говорили бы, как его любят, чтят, обожают, как любят его телепрограмму. Теперь людям нет до него дела, каждый ждет своей маршрутки или автобуса.
Агзамов тяжело поднялся и пошел куда глаза глядят.
Немного подумав, Агзамов вспомнил Радика, или Радия Гадикова, «главу голубого экрана» как называли его друзья. Как он не подумал раньше, вот кто не ошибется в идентификации! Еще со времен Кунаева повелось, что если не того выдал в эфир, сам эфир будешь нюхать.
Агзамов сошел с троллейбуса и задумался, то ли перейти улицу на светофор, то ли по подземному переходу. По светофору, конечно, быстрее, но Агзамову нужна была стопроцентная безопасность.
Спустившись в подземку, он очень пожалел о принятом решении, ведь в последний раз он пользовался переходом лет двадцать назад, тогда это было приятно, особенно летом, здесь было прохладно, в киоске можно было купить газету, стояли автоматы с газированной водой. Зато теперь через каждые пять шагов сидели нищие, кто-то кинув на пол шляпу, пел под гитару. Какой-то поэтишка, приставая к прохожим, читал стихи, дородная бабка продавала пирожки, безногий инвалид катил на плоской каталке и толпы прохожих, порой нарядных, порой не очень, шли вместе с Агзамовым, торопясь выбраться из этого подземелья.
Агзамову бы тоже побыстрей убраться отсюда, но тут его внимание привлек плакат, в котором он с приятным изумлением узнал изображение Ахурамазды, дающего наставление Зороастру, над их головами стояло сияние, а между ними в большом котле горел огонь.
«Так это сияние же – фарн, хварна», – мелькнуло в мозгу у Агзамова. Он когда-то занимался этим вопросом, но тогда это была запретная тема. Тираж изъяли, книгу сожгли, выдвижение на премию Ленинского комсомола сорвалось. В одно мгновение он стал еретиком и диссидентом. А теперь это тема – достояние массового сознания. Вон к плакату тянут шеи, и старик в берете, и молодая стильная женщина в модных очках, и худосочный интеллегентик бомжеватого вида.
– Так, что же там написано?
Под портретом иранского царя была расположена следующая надпись:
«Хварна – (зенд.), частица божественной силы и мудрости, даруемая нам и приближающая человека к его Отцу. Она не только освобождает от рабства судьбы, но и возносит над ограниченным временем. Обычно хварну изображают как светящийся нимб. Божественный огонь преображает не только наш внутренний мир, но и внешний вид, и если человек получил этот дар, то у него на теле обнаруживаются его признаки.
По своим масштабам, силе и способу получения хварна делится на три вида. Самой главной является хварна царя, которая дается по Божьей воле в счет будущих великих дел. Хварна жреца переходит по наследству и служит признаком чистоты рода, наградой за благие дела предков человека. Хварной воина человек награждается за добрые дела при этой жизни. Символами трех хварн являются три огня, горящие в зороастрийских храмах».
Конечно же, это были минимальные сведения о хварне, Агзамов знал об этом гораздо больше, но он никогда это не примеривал к себе, его это интересовало чисто в научном плане, ну и в плане идеологического подспорья, как аргумент в пользу избранности кочевников и их пути на мировой арене. Правда, его друг Адоев, который первым в Советском Союзе стал изучать эту тему, не разделял его мнения. Он считал это чисто иранским явлением, но что делать, что делать, тюрки для Агзамыча были дороже.
Между тем, людей у плаката становилось все больше. Среди них были и русские, и казахи, и чеченцы, и женщины, и старики, и дети. Агзамыча удивил такой интерес к странной, экзотической теме, но в это время к плакату протиснулся смуглый горбоносый парень с подносом, на котором горело три свечи – высокая, поменьше и еще меньше.
– Покупайте хварну! – заверещал продавец. – Дешево продаю, покупайте! Царская хварна – 20 долларов! Жреческая – 10! Воинская – 5! Покупаете эти свечи, загадываете желание, и оно сбудется, но если к свечам вы купите и молитвы, то оно обязательно сбудется. Молитвы стоят всего 5 долларов. Деньги принимаются и в рублях, и в долларах!
К продавцу подбежала невзрачная женщина в плохоньком, куцем пальто:
– А женская есть?
– Есть! – не растерялся горбоносый и сунул ей в руку самую маленькую свечку. – А молитву можешь взять бесплатно! Для тебя скидка! – улыбнулся он женщине, протянувшей ему, по всей видимости, последние деньги.
Что тут началось! К продавцу потянулись разнокалиберные руки и деньги. Многие требовали непременно царскую хварну! Свечи так и отлетали!
С недавних пор Агзамыч стал замечать, что многие люди, в том числе и ученые, и писатели, и философы, как в омут, бросились в религию, мистику и прочие оккультизмы. Поначалу это его раздражало: «Книг у писателей не покупают, а на всякую ерунду отдают последние деньги!». Потом он стал размышлять и только сейчас его озарило: «Так что же остается бедным людям, если государством своим они брошены, социальные институты не работают, остается только рассчитывать на тайные высшие силы, которые защитят и поддержат. По крайней мере, это твой выбор, ты сам решаешь связаться тебе с ними или нет, покупать реликвии или не стоит. Человек устроен так, что любая глупость из собственных уст ему дороже чужого ума. И, тем не менее, всегда найдутся люди, испытывающие нечто подобное. Постепенно ты чувствуешь себя не так одиноко и даже напротив, связанным с целым миром людей с подобными же запросами и подобным же образом мыслей. Получается, что у нас такой же разброд и шатания, как во время падения Римской империи, но ведь это падение породило христианство, возможно, и мы стоим на пороге создания новой религии».
Агзамыч как завороженный тоже решил купить себе свечу. Подойдя к продавцу, он увидел за его спиной книжную полку, заставленную брошюрками и среди них свою книжку о хварне.
«Боже мой! Значит, не все сожгли!» – пронеслось у него в сознании. «Но как же так, ее даже у меня сейчас нет, а у них есть. Пусть отдадут ее мне, это моя книга!»
– Эй, подбежал он к продавцу, – отдай мою книгу! Это моя книга! – кричал он, указывая на книжную полку.
– Уважаемый, какая книга? – улыбнулся продавец. – Я книг не продаю.
– Вон та, на полке! Вон видите – «Р.А. Адоев, А.А.Агзамов. Тюркская хварна». Агзамов это я, отдайте мне мою книгу!
Продавец вопросительно посмотрел куда-то в толпу. Вдруг, откуда ни возьмись, к Агзамову подошли два плотных парня бритых под полубокс и вежливо, но сильно взяв за локоть, потащили по длинному коридору.
Через некоторое время показалась бледно-зеленая дверца трансформаторной будки. Один из братвы вставил ключ и открыл ее. За ней показалась дверца лифта. Ребята втащили упирающегося господинчика в лифт и тот стремительно стал падать вниз, как будто в саму преисподнюю. Вскоре дверца лифта открылась и их выбросило в слабо освещенный подвал, где бегали только крысы. Агзамыча передернуло, он подумал, что его оставят на съедение этим тварям. Чувствовалось что и самой братве тут не особо уютно, один из них приник ухом к двери и стал внимательно вслушиваться. Оттуда раздалась какая-та музыка и послышалась протяжная блатная песня. Это были «Журавли». Ребята переглянулись и заулыбались.
– Э-э, значит, шеф в хорошем настроении, – усмехнулся фиксатый. Какое-то время они послушали трогательную псеню. В подвале стало так тихо, что исчезли даже крысы. В этой благоговейной тишине особенно четко прозвучал последний куплет.
Так и в жизни порой отстаем мы от стаи крылатой, Хоть и знаем о том, что законы о дружбе все святы. Но порою судьба начинает шутить и смеяться — И друзья отойдут, и друзья отойдут и никто не поможет подняться.Далее ребята не стали медлить. Фиксатый постучался условным стуком, створки железной двери автоматически открылись и он втолкнул Агзамова в большое помещение, очень похожее на приемную. Они оказались, действительно, в роскошной приемной, где в кожаных креслах напротив пышногрудой молоденькой секретарши сидели знакомые все лица. Агзамов хоть и не был с некоторыми знаком, знал их по телевидению или всякого рода билбордам и рекламным плакатам.
Самым первым здесь с головы до ног весь в белом, как арабский шейх, восседал так называемый Сары Аулие, чьи лечебные сеансы собирали целые стадионы, за ним Агзамыч с удивлением обнаружил Бекбола Дукенова, организатора музыкального фестиваля «Поющая Азия», еще более его удивление возросло, когда он вслед за ним увидел спокойно беседующих Утеша, владельца фирмы «Утя» и Ерлана, хозяина автосалона «Наймани-авто», а далее – кто бы мог подумать – сидел Алмаз, по кличке «Черный», родной племянник столичного мэра!
Агзамова поразило, что эти столь разностатусные люди сидели в этом бункере, как будто на приеме высокопоставленного чиновника, а там за за двустворчатой дверью беззаботно пел свои блатные песни хозяин криминальной земли казахской. Иначе ведь и не скажешь, поскольку стены приемной были увешаны портретами Кенесары, Мустафы Чокая и почему-то Александра Матросова. Последнему обстоятельству многие, наверное, удивились бы, но Агзамов был уже знаком с последними материалами в газетах, где прямо объявлялось, что легендарный герой-детдомовец был не русским, а башкиром. Правда, Агзамов сомневался в этом, но обстановка была здесь настолько однозначной, что ему сразу стало не до сомнений. Между тем, братки открыли двустворчатую дверь и ввели Агзамова в ярко освещенный зал, где за довольно загаженным дастарханом с остатками еды и пепельницами полными окурков, полулежало и сидело несколько мужчин и женщин. Кондиционеры изо всех сил пытались очистить прокуренный воздух. Из-за этого в зале было холодно и неуютно, как над пропастью в горах. В глубине комнаты опираясь локтем на подушку, с гитарой в руке, полулежал на боку грузный мужчина, черноволосый и седобородый, с красивыми черными бровями и сетью морщин под глазами. Это соединение молодости и старчества завораживало.
Хаурики подвели Агзамыча к нему и загнув ему руки за плечи, заставили поклониться.
– Ох, ты, – в удивлении приподнял свои изогнутые брови мужчина, к нам сам Агзамов пожаловал! – Ладно, – снисходительно сказал он, покосившись на своих боевиков, – отпустите аксакала и рассоситесь. Я с ним буду сам разговаривать.
После того как ребята исчезли за дверью, мужчина важно воззрился на Агзамыча, который довольный тем, что его хоть кто-то узнал, расплылся в довольной улыбке.
– Чего лыбишься? Ты хоть знаешь, кто я такой? – раздраженно просипел мужчина, и поняв, что господинчик не в курсе, кто перед ним, громоподобно произнес:
– Я − Сивый Арлан, по казахски, Кокжал!
Агзамыч не успев погасить улыбку, напряженно размышлял, кто же это мог быть. Он краем уха слышал о каком-то казахском мафиози, который сумел всех подмять под себя и заправлял всем теневым бизнесом в Казахстане, как то казино, проституция, автозаправки, автосалоны и т. п., но это было так далеко от его интересов, что он никогда не вдавался в подробности. И вот теперь он никак не мог понять, зачем он понадобился этому сивому авторитету и что ему ждать от этой курьезной и даже одиозной встречи.
– Э-э-э, – сглотнул улыбку Агзамов. – Вы тот самый… э-э-э… авторитет?..
– Бери выше! – оборвал его Сивый Арлан. – Я гроза всех авторитетов в нашем казахском болоте. – Я вор в законе всесоюзного масштаба.
– Но… Союза сейчас нет, – сдавленно произнес Агзамыч.
– Как нет? – вскричал Сивый Арлан, и, сев на корпеше, рванул на груди майку. Агзамыч отпрянул – на его широкой груди крсовались татуирвки Ленина, Сталина. а на животе – волчья голова с ощеренной пастью.
– А этот кто? – робко выдавил из себя Агзамов, указывая на последнюю татуировку.
– А это тот, кого я выращиваю в себе и из себя…
– Разумно, – чуть иронично сказал Агзамов.
– Ты заметил, что я одновременно черноволосый и седобородый?
– Это трудно не заметить…
– В том-то и дело. У нас, будь ты хоть семи пядей во лбу, но если ты не аксакал, никто тебя за человека не будет считать. Но, честно говоря, наши аксакалы настолько уже поизносились, что еле жуют своими вставными челюстями. Поэтому я решил не связывать себя только с ними, как видишь, ношу свои естественные черные волосы. Вот только бороду пришлось обелить. Зато теперь я весомей смотрюсь, не так ли?
Агзамов промолчал. Он не любил самовлюбленных людей. И все эти самопанегирики начинали его раздражать.
Сивый Арлан не видя прямой поддержки от Агзамова, тоже почувствовал себя уязвленным.
– Что молчишь? Белены объелся? Ты хоть знаешь, почему я сюда тебя позвал?
Поелозив рукой за спиной, он вытащил книгу про тюркскую хварну.
– Это твоя книжка?
– Моя и Адоева.
– Отныне она будет только твоей.
– Почему?
– Ты напишешь, что у тюрков была только царская хварна. А я подарю ее нашему Президенту.
– Но это не так. Тюркская хварна называлась кутом и ею мог обладать каждый тюрк, избранный богом.
– Ты прекрасно знаешь по тюркским надписям, что кут принадлежал только царю и царице, ибо они олицетворяли свой народ.
– Эти надписи не показатель, их писали только для этих царей.
– Значит, не будешь писать?
– Я уже все написал в своей книжке.
– Это неправильная книжка, значит и ты неправильный. А, ну-ка, братва, – закричал он, повернувшись к двери, – вправьте ему мозги и через три дня найдите где угодно и приведите обратно.
– Отдайте мою книгу!
– Она тебе без надобности. Ты напишешь новую.
В открывшуюся дверь вбежали знакомые боевики, и, скрутив Агзамову руки за спиной, потащили по коридору. Потом они втолкнули его в лифт и стремительно поднявшись вверх, затащили его в туалет.
– Ты кто? – спросил его тот, кто был потолще.
Агзамов не знал, что отвечать. Он понимал, что он уже не он, но кем теперь стал, он еще не знал. Между тем, угроза физической расправы была очень реальной.
– Я… никто, – искренне ответил Агзамов.
– А почему так одет, – резонно спросил бритый толстяк.
И тут Агзамов, потерявший всякую связь с собою прежним, обратил внимание, что хоть одежда ему не изменила. Он по-прежнему был одет в дорогую коричневую тройку, держал в руках кейс из крокодиловой кожи, а если бы эти братки знали сколько стоят его очки, они первым делом молча сняли бы их и убежали.
– А что, нельзя? – сыграл наивняка Агзамов.
– Гони деньги, – вернул его в грубую реальность толстяк.
– Я без денег, – буднично ответил человек в роскошной тройке.
– Тогда раздевайся, – толстяк уже явно не миндальничал.
– Но… как же так… я же останусь голым.
– Не бойся, нам трусы твои не нужны.
Агзамов вспомнил знаменитый совет Ленина и стал раздеваться.
Сначала он снял свои дорогие итальянские туфли, потом брюки и только потом почему-то верхнюю одежду.
Он думал, что на этом достаточно, но второй бандит схватил его за галстук и так сдавил горло, что Агзамов мгновенно снял все остальное, вплоть до часов и золотой печатки. Новоказахской цепи, он, слава Аллаху, не носил. Он хотел было снять и носки, но тут братки напихали все в черную сумку, толстяк вежливо хлопнул Агзамова по пузу с седыми волосиками и, обняв за плечо напарника с сумкой, пошел к выходу. Через мгновение Агзамов услышал стук захлопнувшейся двери и остался один.
О происшедшем напоминало только то, что он остался в одних трусах. И хоть убей его, он не мог бы описать своих грабителей. Они могли быть и русскими, и казахами, и инопланетянами, ибо настолько отвечали современному «тайсоновскому» типу, что другими быть не могли. Сдерживаемые переживания, видимо, настолько переполнили Агзамова, что он срочно захотел «по большому». Влетев в кабинку, он дал такую пулеметную очередь, что унитаз явно должен был провалиться. Разряд следовал за разрядом, но Агзамов понимал, что до завершения далеко. «Откуда во мне столько дерьма?» – недоумевал Агзамов, без нужды поправляя очки, которые забыли прибрать грабители. В желудке стало хорошо, Агзамов подобрел, и все происшедшее предстало перед ним в смешном свете. «Вот я на «очке» и с очками», – улыбнулся Агзамов. – Но я теперь не нужен со своими очками. Во-первых, нынешней реальности не нужны очки, во-вторых, это очки не той диоптрии, они никогда не подойдут к нынешней реальности».
В этот момент в туалет вошли двое, судя по голосам, мужчина и женщина. Агзамов не знал, что делать. Он понимал, что не может выйти, пока не выйдет женщина, но женщина выходить не торопилась.
– Вы что предпочитаете, минет, или… – деловито спросил женский голос.
Или, – ответил одышливый мужской баритон.
– Может, лучше все-таки минет? – галантно переспросила женщина.
– Ты за кого меня принимаешь? – рявкнул мужчина. – Я бывший чемпион по биатлону. Пошли, шлюха! – и поволок ее в кабину.
Агзамов натянув трусы, сидел на закрытом унитазе и пытался понять национальную принадлежность столь неожиданных посетителей. Они могли быть и казахами, и русскими, ведь русский язык настолько всех нивелирует, что скорее по говору, рязанскому или московскому, можно опознать русских, чем иноязычных. Это что-то удивительное, казахов теперь не узнаешь ни по внешнему виду, ни по языку, ни даже по тактильным ощущениям, – вспомнил он недавних бандитов.
Но в это время мужчина ритмично задышал, женщина стала повизгивать, и темп всего этого настолько нарастал, что не мог обещать ничего хорошего. Так оно и случилось. В какой-то момент послышался грохот повалившегося тела, женщина сдавленно ойкнула. Слышно было, что она пытается поднять мужчину, но, видимо, не получилось. Тогда она выскочила из кабинки, послышалась быстрая дробь каблучков и стук захлопнувшейся двери.
Агзамов сидел ни живой, ни мертвый. Мало того, что его ограбили, теперь могут обвинить в убийстве. В соседней кабинке было тихо, как в гробу, ни малейшего шороха, ни малейшего даже намека, что там что-то может двигаться и производить звуки. Интересно все-таки, что с ним?
Агзамов вышел из своего добровольного заточения, подошел к кабинке и открыл дверь. На полу возле унитаза, скрючившись, лежал огромный мужчина лет пятидесяти, в черной рубашке с галстуком, брюки болтающиеся в ногах обнажали задницу и все остальное, руки были закинуты за голову. На внутренней перегородке кабинки висел снятый пиджак. Агзамов, наклонившись, потрогал сонную артерию, поднес пальцы к ноздрям мужчины. Ни пульса, ни дыхания. И тут только он понял, что голый, в одних трусах стоит над трупом человека, скончавшегося от излишнего сексуального перевозбуждения. Помочь он ему теперь ничем не мог, зато мог помочь себе. Он лихорадочно стал снимать с мужчины ботинки, брюки, в две секунды оделся и, прихватив с перегородки пиджак, бросился вон из туалета. Одежда была на полтора размера больше, чем требовалось. Кроме того, Агзамов побрезговал снять с трупа рубашку, теперь он, запахнув пиджак наподобие халата, со сведенными на пузе руками, торопливо поднимался по лестнице, туда, вверх, к божьему свету.
«Господи, – проносились в мозгу обрывки мыслей, – за свои шестьдесят три года чего я только не видел, с юных лет состою на учете КГБ, однажды чуть не погиб в раскопе, достиг всего, что мог достичь интеллектуал, и что в итоге?.. Меня как будто сбросили с двадцать пятого этажа, да еще приказывают жить… Хотя, честно говоря, никто не приказывает… Но разве с этой собакой… вернее, с этой собачьей жизнью так легко расстаться?..». Бережно обняв себя руками, он семенил какой-то быстрой, вкрадчивой походкой и никто не мог бы подумать, что это – бывший сотрясатель основ и властелин дум целого поколения.
В плену у мисс Ноль
Поднявшись на поверхность, Агзамов вдохнул свежий осенний воздух, пахнущий землею и сыростью, поднял голову к небу с кучевыми облаками, и не успел ни о чем толком подумать, как сзади раздался дробный стук каблучков, его подхватили за локоть, и, он, не успев ни о чем сообразить, побежал за высокой девушкой в зеленом платье. Она затащила его в соседний подъезд и жарким шепотом спросила:
– Чье это на тебе шмотье?
– Шмотье? – переспросил Агзамов. – М-мое, – сказал он замешкав.
– Не ври! – сердито шикнула на него интервентка, крепко сжимая его за локоть. – Это ты с того хухрика снял, который меня недотрахал! И, между прочим, не заплатил!
– С какого… хухрика? – все не мог прийти в себя бывшая знаменитость.
– Который кокнулся в туалете, – более чем однозначно сказала девушка. – Слушай, я вижу ты тормознутый какой-то. Давай пошеруди в карманах, там должен быть бумажник.
– Да вы что, я не лазаю по чужим карманам, – брезгливо поморщился сын великого классика.
– Надо же какой чистюля! А пиджак снять с мертвеца не погнушался! Это похуже чем снимать на парики волосы с мертвых старушек. Помнишь, «Ворота Расёмон»?
И тут только Агзамов обратил внимание, что девушка абсолютно лысая, точнее, безжалостным образом обритая. Как говорится, до образа нуля. «Мисс Ноль», – мелькнуло в мозгу Агзамыча.
– Вы считаете меня мародером? – беспомощно воззрился он на девушку.
– Здесь не место такой литературщине, – сказала девушка и быстро пошуровав в кармане его брюк, вытащила бумажник. Там оказалась толстая пачка долларов. Девушка взяла себе сто долларов, потом лукаво посмотрела на Агзамова.
– Остальное я оставляю тебе!
– Мне? С какой стати?
– Ты на себя посмотри. Даже чучело огородное лучше выглядит. Тебе надо хоть одежду купить.
С тех пор как Агзамов попал в эту передрягу, у него не было ни секунды на размышления, обстоятельства были сильнее его. А он привыкший к рассудительности и рефлексии, привыкший обдумывать каждый свой шаг месяцами, всегда примерявший на себя образы литературных героев, вот уже сорок лет размышлявший над очередной строчкой своего так и не написанного романа, теперь только виновато промямлил:
– Да, наверное.
– Пошли.
Девушка подхватила его под локоть, и через некоторое время из магазина одежды Французского дома вышел шикарный господин и не менее шикарная девушка со своей обритой головой очень похожая на манекен.
– Ну, что гуляем? – кокетливо спросила девушка.
Поймав такси, они покатили в горы, чтобы как сказала девушка: «Расслабиться».
Агзамову самому стало интересно, кто он теперь – прежний Агзамов или судьба дает ему шанс отторгнуть себя прежнего и попробовать начать все сначала, как говорится с чистого листа. С другой стороны, ему было как-то не с руки, нереспектабельно находиться рядом со столь сомнительной личностью, как эта девушка. Ведь он совсем ничего не знает о ней, кроме того, что она, видимо, проститутка, и… почти воровка. Но она почему-то все деньги отдала ему, Агзамов по простоте душевной принял эти деньги (ведь ему же надо было одеться), но теперь он решительно не понимал, что с ними делать. И вообще, куда он едет и… с кем?
– М-м…э-э-э… простите, как вас зовут?
– А мы разве уже не на «ты»?
– Но я Вас совсем не знаю…
– А я Вас так, как будто целую вечность. Ты такой славненький, как медвежонок! Впрямь такой пушистый папусик!
– Фу, какая пошлость. Меня зовут Агзам Агзамович Агзамов…
Он ожидал, что она скажет: «Тот самый?», но девушка, видать, была далека от интеллигенции в третьем поколении.
– А меня Маша!
– Но ты же казашка!
– Какая какашка, я – Машка! Можно даже поласковей – Манька. Один дружок меня так и зовет «Манька-Обманка», а я что – я не возражаю. Как сказал другой мой дружок: «Женщина – другое имя соблазна»!
– Так ты казашка?
– Да что ты к этому так прицепился? Разве это так важно?
– Как «не важно»? Тебе безразлично, какой ты нации?
– Если честно, по барабану. Что это мне дает: виллу на взморье или беспроцентные кредиты?
– А что, обязательно надо что-то иметь со своей нации?
– А как же! В противном случае, зачем вообще нужно это дерьмо!
– Водитель! Остановите машину, я схожу!
– Нет, не останавливай! Сверни вон направо!
– Нет, езжайте прямо. Я вспомнил, куда мне надо. На Маркова-Аль-Фараби!
– Что ты там потерял?
– Не твое дело. Помалкивай, не то высажу из машины.
Маша благоразумно промолчала. В сущности, ей было все равно куда ехать. Она была из нынешнего постперестроечного поколения, которое никуда не спешило, ничего не хотело, ничем не увлекалось и, потому, получало все блага жизни даром.
Агзамов лихорадочно думал, как теперь ему быть. К Гадикову он так и не попал. Да и к другим, наверно, тоже не попадет. Ведь у него нет никаких документов. А без них ни в одно учреждение не пропустят, сейчас везде развели такую охрану, что только держись. Однажды даже в театральной проходной его обыскали, как террориста. Можно, конечно, позвонить, но он забыл подзарядить мобильник, а все телефоны там, в адресной книге. Значит, надо ехать не к сильным мира сего, а к кому-то из простых смертных, благо, к ним доступ есть всегда, в любое время суток. Это такое же дармовое удовольствие, как глоток воздуха, как пинок по собаке. Можно даже сказать, что еще проще, ибо не каждую собаку ведь пнешь, иная может и укусить… Нет ныне ничего дешевле простого человека, даже вода дороже, ведь ее приходится покупать, не из арыка же пить. Да, надо ехать к кому-то из друзей. Но все его друзья теперь важные шишки, у них та же охрана, ротвейлеры всякие. Сын в Сингапуре, с женой они в разводе, да и как скажешь женщине о таком? И тут он вспомнил об одном поэте, которому когда-то в бытность свою депутатом крупно помог, выбил ему квартиру уже тогда, когда тот, отчаявшись пробить себе путь в столице, собрался ехать домой, в аул. Это был колоритный парень – широкоплечий, широкоскулый, с квадратным дравидским подбородком, с размашистым разлетом бровей, только глаза были узкие и смотрели из-под очков очень внимательно, испытующе, иногда зло и недобро. Но в целом он был добродушен и особенно привлекал к нему его смех – раскатистый, роскошный, как сказал один заезжий русский писатель, смех голливудской кинозвезды. Смеясь, он запрокидывал голову с шевелюрой длинных иссиня-черных волос, рассыпанных по плечам, как у индейца. Он был так колоритен, в нем было столько пышущего здоровья, что как-то не замечалось, что он ходит на костылях, волоча за собой маленькие, как у подростка, паралитичные ноги. Агзамов заприметил его после первой же его статьи в республиканском литературном журнале. А когда они познакомились на одном из писательских застолий, он пригласил его к себе на работу. С тех пор они и подружились, сын великого писателя, сам уже сделавший себе громкое имя и самонадеянный парень из аула, который даже не замечал того, что он инвалид. Агзамову нравилось, что Айхан смотрит на него снизу вверх, с искренним почтением и обожанием. Однажды, когда Агзамов выдвигался в депутаты, недоброжелатели устроили ему обструкцию, тыча в неблаговидные факты его биографии, ведь он был трижды женат и не был членом партии. Надо было видеть тогда Айхана, как его это все возмутило! Он защищал Агзамова с яростью льва и такой убежденностью, что врагам оставалось только сдаться на милость победителя. Агзамов, конечно же, прошел в депутаты, а через несколько лет уехал послом в Индию. Каково же было его удивление, когда по окончании своей миссии, приехав домой, он стал видеть Айхана чуть ли не еженедельно по «ящику», а фото его не слезало с разворота самых популярных газет. Да, теперь многое изменилось – на телевидении свирепствовала реклама, город задыхался от обилия подержанных иномарок и совсем новеньких аляповатых джипов, неугомонные неоновые вывески звали в рестораны и казино, улица Саина стала чуть ли не официальным пристанищем проституток, в воздухе стоял запах крупных «безбашенных» денег и продажного секса. Причем этот запах стоял не только на улице, но и пропитывал самые высокие кабинеты. То ли оттого, что чиновники любили душиться и вынаряживаться в самые роскошные костюмы, то ли от безупречной побритости лоснящихся счастьем розоватеньких щек, то ли от всеобщей какой-то безвкусной напомаженности, – все эти упитанные, самодовольные мужчины казались самыми дешевыми продажными женщинами, которыми побрезговал бы самый последний шудра. Может, Агзамов не мог опомниться после Индии с ее четкой социальной структурированностью, но куда бы он ни зашел в Астане, все люди самых разных рангов и положений казались ему непристойно сексуальными и непристойно дешевыми, настолько дешевыми, что трудно было с ними здороваться. А здороваться надо было, ибо Агзамову нужно было пробиться на прием к 01-му, как тут величали хозяина этой страны. При этом Агзамычу казалось показательным это беспомощное ноль перед такой величественной единицей. Это сочетание цифр у него всегда ассоциировалось с дозвоном в пожарную службу, и это тоже было примечательно, поскольку всегда должен быть кто-то, кто организовал бы пожар, прежде чем звать службу тушения. Словом, 01-ый его не принял, и Агзамыч долгое время ходил, как пришибленный. И было отчего, ведь он привык, что он – государственная величина, Его Превосходительство, а тут на-те, – выбросили, как ветошь, и даже не посчитали нужным объясниться. Агзамыч стал приглядываться к людям и выяснил, что недовольных больше чем достаточно. Тогда он собрал своих старых друзей и организовал оппозиционное движение, которое вскоре превратилось в партию. Тогда-то ему и пригодился Айхан, ставший к тому времени новомодным властителем дум и кумиром нового поколения. Неожиданно он стал ярым западником и проводником постмодернизма в Казахстане. Его публицистика оставляла впечатление подожженной на глазах у зрителя пороховой бочки, философские статьи поражали каким-то инопланетным взглядом на вещи. Стихи и эпиграммы были по-римски циничны и язычески непристойны. Они сделали вместе много славных дел, в том числе открыли журнал, который Айхан возглавляет до сих пор. Поэтому Агзамыч и решил, что надо открыться Айхану и вместе решить как же быть дальше, как Агзамову вернуть свое былое агзамовское достоинство.
– Сверните в этот проулок и заезжайте во двор, – сказал Агзамов при виде знакомого пятиэтажного дома, где жил Айхан. Таксист заехал и остановился перед указанным подъездом.
– Ты посиди, – сказал Агзамыч, оглянувшись к Маньке, сидящей на заднем сиденье. – Я недолго, возьмем одного друга и поедем куда-нибудь отдохнем.
– Ой, какой страшный подъезд! – не удержалась Маша, увидев расхристанную дверь, держащуюся на честном слове. Подъезд действительно был из тех, которые встретишь только в беднейших районах Индии, а здесь даже в профессорских домах, каковым и был этот дом, не редки такие подъезды. Он был, как отрыжка советского менталитета, – весь в окурках, пивных банках, обрывках газет, со стенами, покрашенными в тюремный темно-синий цвет. Агзамов не удивился, что на полуэтаже перед раскрытой форточкой мирно дремлет бомж, спокойно обогнул его и поднялся на второй этаж. К его удивлению, дверь открыла незнакомая женщина, похожая на известную певицу Лолиту. Рослая статная, с дремучими, развратными глазами, она стояла в пеньюаре и лениво разглядывала незнакомого мужчину. Агзамов и тут не очень удивился, поскольку прекрасно знал пристрастие своего дружка к женщинам и алкоголю.
– Я к Айхану, можно войти? – приветливо попросился он.
– К какому Айхану?
– Ну, насколько я знаю, тут только один Айхан живет, – несколько раздраженно произнес Агзамов.
– Нет тут никакого Айхана. Они давно переехали. Он дом купил в Тау-Самале.
– Не может быть! Он всегда жил в этом доме! – пролепетал Агзамов. Он-то прекрасно знал, что дом купить его дружку не на что, не заработал он еще таких денег. Эта женщина нагло обманывала его, почему-то пряча от него Айхана. Но с другой стороны его вообще поражало присутствие этой женщины в этой квартире, поскольку Айхан был женат и славился как примерный семьянин. Немного отстранив женщину, он закричал:
– Айхан! Это я, Агзамыч!
Но вместо Айхана показался парень похожий на Цекало.
– Чего тебе надобно, старче? – мирно спросил веселый коротышка.
– Здесь живет мой друг, куда вы его дели?
– Тебе же объяснили, папаша, он переехал. Ему новый мэр квартиру подарил.
Это уже было более правдоподобно, но для очистки совести он попросился в квартиру и его спокойно впустили.
– Может, он оставил какие-то координаты? – повернулся он к знойной женщине, продолжающей невинно стоять в пеньюаре. Агзамову даже показалось, что это единственное подобие одежды, нисколько не скрывающее соблазнительные подробности ее изобильного тела.
– Вы знаете, нет. Он сказал только, что его всегда можно будет найти в казино «Шахерезада».
– А где это казино?
– А шут его знает…
Осмотревшись в прихожей, Агзамыч обнаружил, что в квартире Айхана всё начисто изменилось. Но больше всего его поразило то, что внутренние перегородки стали прозрачными. Взглянув на кухню, он увидел стоящего на голове Цекало, а в зале шла какая-та бурная дискуссия между четырьмя мужчинами. Один из них, седой, с высоким крутым лбом и крупным швабским носом что-то медленно проговаривал, в то время как другой – сухощавый и со встопорщенными усами, как у молодого Максима Горького, размахивал руками, метался из стороны в сторону, то и дело отметая доводы седого старца. Третий в античной тоге, со смуглым лицом, курчавыми волосами и горящими глазами, сложив руки на груди, стоял подле первого, снисходительно улыбаясь. Четвертый сидел в глубине комнаты у окна и меланхолично поигрывал револьвером, целясь то во второго, то в первого. Айхана нигде не было. Зато над столом, где восседал спокойный как танк старик, Агзамыч увидел портрет степного балбала в натуральную величину. Агзамов тут же узнал его. Это был его подарок Айхану в честь его 40-летия. Поигрывавший пистолетом молодой человек, очень похожий на латиноса, а если точнее, на Тарантино, стал целиться в балбал. Вдруг с глаз Агзамыча как будто пелена спала, он понял, что это, действительно, Тарантино, а тот усатый – наверняка Ницше. Третий смахивал на Гераклита. Только вот старика он никак не мог распознать, он напоминал ему какого-то голливудского актера, но, черт возьми, кто же он?
– Кто этот старик? – спросил он Лолиту.
– А, этот крутолобый, который сказал, что язык – дом бытия, что ли? У него фамилия сложная… ХайдЕггер, кажись?
– А, Хайдеггер! – обрадовался Агзамыч, вспомнив статью Айхана «Инобытие или Дом бытия?». – А эти, выходит, Ницше и Тарантино?
– Да, они самые!
– А это кто?
– Господь с тобой, да это же Гераклит!
– А ты Лолита?
– Я – Лолита.
– Но что вы тут делаете?
Но в это время к нему подскочил Тарантино и, сунув в нос пистолет, прорычал:
– А ты тут что делаешь? А ну вон отсюда!
Агзамыч кинулся к двери, открыл защелку, толкнул дверь, и, выскочив на лестничную площадку, побежал вниз по лестнице, но на полуэтаже грохнулся, споткнувшись об бомжа. Бомж даже не пошевелился, так и лежал, улыбаясь, погруженный в какие-то сладкие грезы.
Агзамыч, медленно спускаясь по лестнице, обернулся – его поразила мысль, что он может окончить свои дни таким же незамысловатым образом. «Да и чем же я лучше бомжа, – думал он по дороге к машине. – Я и есть бомж, человек без определенного местожительства, не имеющий ни семьи, ни работы, ни надежды хоть как-то вернуться в свою былую привычную жизнь. Чем больше я пытаюсь в нее вернуться, тем больше меня от нее откидывает. Я даже не бомж, ибо даже бомж имеет какой-то социальный статус. Я хуже, я – никто, я – странное существо, пережившее собственную сущность».
Когда он медленно сел в машину, Маша поняла, что что-то не так.
– Что с другом? Он не едет с нами?
– Его вообще нет – исчез, испарился. Вместо него в его квартире то ли духи, то ли актеры. Я так ничего и не понял.
– Не может быть. Не может человек испариться в миллионном городе!
– В миллионном городе как раз испариться легче всего. Хотя… мне сказали, что он часто бывает в каком-то казино.
– В каком?
– Кажется, «Шахерезада».
– Нет ничего легче! Я знаю, где это находится! Давай, жми до Ленина! – повернулась она к водителю.
В казино
Они поехали по Аль-Фараби, переехали Фурманова, и только тогда Агзамов заметил, как изменился город, когда-то величественная Алма-Ата, а теперь неудобоваримое, какое-то куцее – Алматы. Однако, несмотря на невыразительное название, в бывшей столице выросло множество суперсовременных высотных комплексов, которых можно было видеть с любой точки города. Если ранее единственной высоткой кунаевской столицы была 25-этажная гостиница «Казахстан», на фоне новеньких «куатовских» высоток, она смотрелась эдаким архитектурным динозавром, мирно доживающим свои дни на чужом празднике жизни, на фоне пятизвездочных отелей с чудными иностранными наименованиями типа «Рахат-Палас», «Анкара», «Сингафредо». Но в то же время состояние дорог было такое, как будто по ним каждый день катаются на танках. Разметки куда-то делись, асфальтовое покрытие было латано-перелатано, рытвины имперского размера сочетались с новоявленными «скрытыми полицейскими». В общем, Агзамова так растрясло, что он с тоской вспоминал об индийских рикшах, бережных к каждому своему пассажиру.
И еще Агзамычу бросилось в глаза то, что город превратился в как бы огромную лавку: первые этажи некогда бесцветных многоэтажок пестрели разными вывесками на чудовищной смеси английского, казахского и русского языков. Там располагались всякие бутики, магазинчики, закусочные, а рядом под красочными переносными зонтами зазывали к себе пивные и кафе-мороженое. Но больше всего в городе оказалось даже не кафешек и ресторанов, хотя и их тоже развелось видимо-невидимо, но всяких казино и игровых автоматов. Казалось, что за неимением лучшего, или, вернее, вследствие потери всяких разумных оснований для воспроизводства и смыслопроизводства, люди надеются только на выигрыш в лотерею, неважно какую, лишь бы повезло. Будет ли это выигрыш в рулетку или покер, в «наперсточек» или Джек-пот, все равно, лишь бы слепая игра случая выбрала меня, любимого. Такая настроенность невидимых людских масс оскорбляла Агзамова, всегда привыкшего надеяться на свой интеллект и на свое влияние в обществе. Ведь механизм славы – самая загадочная вещь на свете, однажды потрудившись заработать авторитет, всю остальную жизнь ты можешь почивать на лаврах, твоя слава будет работать на тебя лучше любого продюсера. Но теперь, – кто он, бывший Агзамов? Агзамова поразило, что он подумал о себе в прошедшем времени, как о бывшем. А это кто едет с отвязной красоткой на заднем сиденье, с толстой мошной в кармане?! Правда, они уже побывали в трех казино с похожим названием и все еще не нашли Айхана. Ну и что? Как сказал когда-то Горбачев: «Процесс пошел!». Пусть Агзамыча выкинуло из прошлой жизни, но ведь он еще жив и, главное, его интеллект еще при нем, вон он как рефлексирует все это время, пока они по бывшей Ленина спустились на все еще Гоголя и поехали по нему прямо. Когда авто переехало улицу Фурманова, Агзамов на противоположной стороне улицы увидел казино «Шахерезада», построенное в виде сверкающей, трехлучевой короны. Перед казино были выставлены, видимо, в качестве выигрыша, три автомобиля – «БМВ», «Мерседес-600» и «Тойота-Лэндкрузер». Этот джип очень понравился Агзамову, ибо напомнил ему о его собственной машине, которая так неожиданно и безвозвратно ушла из его жизни. Но ушла ли? А может, попробовать ее вернуть? И тут Агзамов совсем неожиданно для себя решил зайти в казино и попытать свое счастье.
– Братишка, останови вон у того казино, – сказал он шоферу-казаху.
– Но тогда надо будет развернуться…
– Ну, так развернись.
– Эй, эй, погоди! – раздался сзади голос Маши. – Ты что, лохушник, что ли? – зашептала она на ухо Агзамову. – Тебя же облапошат, как Буратино. Ты что, наших не знаешь?
– Это ты меня не знаешь! – ворчливо буркнул Агзамыч.
– Я тут катаю его по всему городу. Думаю, он меня в кабак пригласит. А ты вишь, что удумал, спустить все деньги? Нет, так не пойдет.
– Не слушай его, сверни вон к кабаку, – повернулась она к таксисту.
– Вот тебе деньги на кабак, – сказал Агзамов и дал ей стопку новеньких долларов, – а я пошел! – буркнул он сходя с такси.
– Нет, я с тобой! – Маша уже шла за ним.
– Эй, а мне кто заплатит? – выскочил из машины таксист.
Агзамов рассчитался с таксистом и пошел к казино.
Когда они входили, путь им преградили два охранника.
– Сейчас нельзя. Вон видите 12 часов. У нас время молитвы.
– Ничего себе казино! – воскликнула Маша. – У вас что – игорное заведение или мечеть?
– А тебе вообще не стоит вякать, – сказал один из охранников. – Женщин мы вообще сюда не пускаем.
– Вы знаете, – с достоинством произнес Агзамов, – она – со мной, я заплачу, сколько запросите.
– Ладно, – сказал старшой из охраны, отправляя в карман стодолларовую купюру. – Только пусть она наденет вот этот хиджаб и протянул что-то вроде мешка с пустым овалом для лица, – вот, накидывай.
– Я тебе не лошадь с попоной! – возмутилась было Маша, но увидев гневное лицо Агзамова, покорно полезла в хиджаб. Ее увели в раздевалку, и вскоре она вернулась в черном мешковатом платье до пят, с овалом для лица.
После этого их провели в молельную комнату, где с полсотни человек колотились лбами о молитвенные коврики, потом садились на колени и шептали что-то невразумительное, затем, выставив разнокалиберные зады, опять валились на коврик. Зрелище было не из приятных, но Агзамову с Машой пришлось проделать все это вместе со всеми. Отец когда-то научил Агзамова формуле исламской веры и одной молитве, содержание которой он давно уже не помнил. Зато помнил слова и шептал их с неожиданно проснувшейся жаждой веры. Такое чувство было удивительным для Агзамова, поскольку он был закоренелым атеистом и никогда не ощущал потребности в боге. Он, как говорится, не нуждался в этой гипотезе. Его удовлетворяла научная картина мира. Но в последнее время он с замиранием сердца отмечал, что в этой картине никто не нуждается. Напротив, все теперь кинулись в религию, мистику, гороскопы, составление родословий и прочую хиромантию. Когда-то Агзамыч споткнулся о фразу автора «Так говорил Заратустра» о том, что культура – это скорее исключение, чем правило в жизни человечества, что это – тонкая наружная пленка, под которой все также торжествуют дикие первобытные инстинкты. Агзамычу, тонкому интеллектуалу и моралисту до мозга костей, не хотелось это верить. Это что же, значит, нет в истории никакого прогресса, а возможно и нет никакой истории? И что – мы также беззащитны перед вопросами бытия и веры как миллионы лет назад? Агзамов отказывался в это поверить. И, тем не менее, он сейчас вместе со всеми отбивал поклоны, и, мало того, пытался направить свои мысли в нужное русло, т. е. в религиозном направлении, стараясь понять хотя бы логику такого образа мысли, при котором ты несравненно ниже верховного существа, но пытаешься обратить его взор на свою скромную персону, донимаешь его всяческими просьбами, хотя от тебя требуется лишь то, чтобы ты полностью предался его воле и только тогда Он, возможно, снизойдет до тебя. Но, как ни старался Агзамов, он так и не проник в эту логику, и ему ничего не оставалось, как повторять то, что повторяли другие. Он не читал Бодрийяра и не знал, что мир страдает перепроизводством символов, теряющих свое содержание, но продолжающих существовать, и в этом своем существовании, способных убить то новое и актуальное, что рождается параллельно, но не обладает, к примеру, авторитетом многовековой исламской традиции.
Вдруг ему вспомнилось, как он однажды заболел в студенческие годы. Были уже каникулы, все разъехались, он тоже думал, что завтра полетит в Алма-Ату, но всю ночь гулял с чудесной девушкой, своей новой знакомой, а утром почему-то слег и заметался в жару, верней, его бросало то в жар, то в холод, он обливался потом, и вдруг наступил момент, когда он понял, что все, умирает. Ему казалось, что стоит ему закрыть глаза, и больше он их не раскроет. И тут ему явилось видение, что его как бы пригвоздили к земле, но он рвался на небо и до того додрыгался, что все пошло красными кругами, и вот тогда, как шило, его пронзил страх смерти и одновременно страх божьего суда, который он мнил неправым. В следующий момент его отпустило, он как бы взлетел и открыл глаза. С тех пор бог был для него синонимом смерти, и он избегал думать и о том, и о другом. Когда в те же студенческие годы он впервые прочитал Сартра и Камю, они показались ему досужими, циничными авторами, неприятными в своих, несомненно, гениальных прозрениях. А здесь, падая на молитву в игорном заведении вместе с его разношерстными посетителями, ему также как и всем, наконец, захотелось чуда, т. е. дармового, ничем не заслуженного счастья, что называется, по праву рождения. Тем более, что он теперь стал никто, т. е. существом богоравным, ведь бога тоже никто в лицо не видел, несмотря на это, в него верят и ждут от него исполнения того, чего бессильны добиться собственными усилиями. Наверное, обращение ничтожеств к ничто и называется богослужением. Надо сказать, что все происходило на арабском языке, с экрана настенного монитора благообразный араб, очень похожий на Бен Ладена, показывал разные позы при молитве и все их старательно повторяли, то вставая, то опускаясь на колени, то касаясь лбом молитвенного коврика. Наконец, сидя на коленях, все раскрыли ладони и, что-то бормоча, провели ладонями по лицу. Не успел закончиться намаз, как все вскочили на ноги и побежали в гардероб переодеваться. Через несколько минут от благообразных, смирно шепчущих молитвы мусульман ничего не осталось. Все стали трещать по мобильникам, юнцы потащили своих девиц к барным стойкам, а толпа ринулась к игорным столам. Агзамов тоже кинулся вместе со всеми и сел за стол для игры в рулетку.
Как человек порядка и гармонии, он поставил свои фишки на четные числа и проиграл. Тут же разочаровавшись в гармонии, он поставил на нечетные числа и… опять проиграл. Но его утешало то, что он был в этом не одинок. Никто из присутствующих не выиграл. Крупье сгреб выигрыш и стал принимать новые ставки. Записав их на дощечку, он опять крутанул колесо и так быстро, что Агзамов еле успел поставить на цифру 13. И надо же, он выиграл. Да так, что вернул весь проигрыш и заработал кое-что сверху. К нему тут же подбежала Маша (она была уже без хиджаба):
– Агзамыч, дорогой, поехали, хоть и говорят, что дуракам везет, но не настолько же!
Но Агзамову стало не до нее, он был весь во власти азарта. Ему казалось, что он понял закономерность – надо ставить на самые дохлые цифры. На «зеро», например. Он так и сделал и опять выиграл. Потом раз за разом он нагло ставил на 1, 2, 3 и неизменно выигрывал. Теперь он размышлял, какая самая худая цифра из четных. Недолго думая он поставил на 10 и опять выиграл. Это было что-то из сферы фантастики, он мог раз за разом ставить на смежные цифры, но удача не покидала его, он неизменно выигрывал. Гора фишек возле него росла, другие игроки мрачнели все больше, у крупье отвисла челюсть, Маша энергично помогала Агзамову сгребать фишки.
Агзамова теперь было не узнать, глаза его разгорелись, губы подрагивали, лысина лоснилась, в нее можно было смотреться как в зеркало, Маша увидела там свою пасть, расплывшуюся в улыбке, и поняла, что надо дергать. Понятно, что мужчина без тормозов, но когда женщина не включает заднее, это опасно. Маша оглянулась. Вокруг них уже стали тереться непонятные личности явно с криминальными намерениями. Красивые девушки в прозрачных национальных костюмах, до того прозрачных, что можно было разглядеть вторичные половые признаки, не уставали подносить игрокам водку. Те, не глядя, выхлестывали ее, и вновь рвались делать ставки.
– Агзам Агзамович, – почтительно обратилась Маша к Агзамову. – Вы же хотели найти своего друга.
Эта фраза, произнесенная спокойным, вразумительным тоном, отрезвила Агзамова. Вдруг он вспомнил, что с ним случилось, в какое идиотское положение он попал, и весь азарт с него как рукой сняло. Гора выигранных фишек показалась бессмысленным разноцветным мусором. И даже если это не мусор, что ему делать с этими шальными деньгами, у него теперь нет ни детей, ни родственников, ни друзей. Женщины, которых при другом раскладе он, конечно же, не обошел бы своим вниманием, его не привлекали. Да и на что ему это барахло, кто он теперь, чтобы кому-то что-то покупать, одаривать кого-то с барского плеча. Так, слепая рука судьбы, такая же слепая, как сегодняшний день, подаривший ему эти невозможные, бешеные деньги.
– Ладно, пойдем!
Он встал и медленно побрел из-за стола. Но не такова была Маша, она немедленно сгребла все фишки в большой пакет и потащила его к кассе. Под изумленные взгляды всего зала, они прошли к кассе и стали менять фишки на деньги. Это оказалось нелегким занятием. За какой-то час с лишним Агзамыч выиграл почти миллион долларов. Когда они окончательно все подсчитали, к ним подошел вежливый молодой человек и попросил Агзамыча пройти к хозяину заведения. Маша попыталась было увернуться, но молодой человек крепко схватил под руку Агзамова, и тому ничего не оставалось, как покорно последовать туда, куда его повели. Причем Маше вежливо, но твердо было приказано остаться и ждать здесь, в зале.
Jopa
Поднявшись на второй этаж, они зашли в просторную приемную. Молодой человек посадил Агзамова в кожаное кресло, а сам пошел доложиться. Вдруг дверь открылась, и оттуда вышел, кто бы мог подумать – сам Гадиков, собственной, как говорится, персоной. Агзамов не поверил своим глазам, но пока он чухался, Гадиков размашистой походкой пошел к выходу из приемной. На Агзамова он не обратил ни малейшего внимания, как будто это была чья-то тень или того хуже, пустое место. Пока Агзамов собирался с мыслями, Гадикова и след простыл.
– Что он тут делал? – недоумевал Агзамов. Он мог представить Гадикова в парламенте, в Доме правительства, на какой угодно высокой трибуне, но чтобы он шлялся по казино и, причем, в разгар рабочего времени, это не укладывалось в голове Агзамова.
Бесшумно открылась дверь, и знакомый молодой человек пригласил Агзамова в кабинет. Пройдя через двойные двери, Агзамов с большим пакетом денег в правой руке вошел в очень большой, просторный, как море, кабинет, чей хозяин казался далекой ирреальной точкой, уткнувшейся в какие-то записи. Агзамову казалось, что он очень долго шел до него, ноги почему-то стали ватными, дыхание то и дело пресекалось, и когда он дошел до стола хозяина, он обрадовался только одному – возможности сесть, поскольку ноги его почти не держали.
«Надо же, какой страх умеет внушить этот человек?» – мелькнуло в сознании Агзамова. Он поставил пакет подле столика, а сам плюхнулся в кресло. Помощник помог ему сесть и вышел. Агзамов проводил его долгим взглядом, как бы не желая с ним расставаться, и только потом посмотрел в сторону хозяина кабинета, да так и обомлел. За столом сидела жопа – или у этого человека настолько оплыли щеки, что напоминали ягодицы, накрытые сверху париком, из-под которого еле проглядывали щёлочки глаз, а из наплыва щёк еле виднелась кнопочка носа, а еще ниже – что-то наподобие узеньких губ.
Агзамов чуть не выблюнул от омерзения. Он смотрел на невероятного объекта или субъекта, не зная, что от них ждать и вообще, отказываясь верить собственным глазам.
Вдруг это нечто икнуло и бормотнуло:
– Ты что – жопу не видел?
– На таком уровне н-нет! – остолбенело выдавил Агзамов.
– На каком это на таком? – приподняло «голову» жопа.
– На вы-высоком! – выпалил Агзамов. – Слишком высоко от уровня пола.
– Что ты гонишь? – обиделась жопа. – Любая жопа приговорена к своему полу. Попробуй пришпандорить половые признаки, если у них нет обратной стороны!
– Причем тут пол? – вырвалось у Агзамыча. – Ты же сидишь в кресле собственника казино, распоряжаешься огромными деньгами, судьбами людей. Люди тебя боготворят, а ты оказывается, всего лишь задница?
– А чем плоха задница, или, грубо говоря, жопа? На протяжении всей вашей жалкой жизни все ваше тело сидит на мне, в то время когда все почести достаются голове, все экскременты проходят через меня, естественно я научился быстро распознавать опасность, не зря вы говорите: «жопой чую», но чую-то я, а не вы. Я – огромное чувствилище, и это мое самое главное достоинство. Я знаю, куда ветер дует, а вам это и не снилось! А ветер дует так, что только подставляй жопу! Кстати, мы нынче все любим нефтяные потоки, а ведь это ископаемый продукт, тоже своеобразные экскременты, так теперь ведь от них крутится вся мировая энергетика и вся мировая экономика! Так кто теперь важнее – жалкая голова, на которую вы все молитесь, или я – жопа, ничтожнейшая из ваших ценностей?
– Ну, это риторика, – обиженно бормотнул Агзамов.
– Э, не скажи! – подняла указующий палец жопа. – В таком случае, ты глубоко архаичный человек. На Западе давно уже отказались от метафизики, от запредельных миров и больших россказней, или, как поёт лучший из их философов, от фаллологоцентризма. И куда это всё по-твоему ведет – к феминоцентризму? Увы, этому никогда не бывать! Мужчина никогда не отдаст своего господства! Значит, это ведет к коллапсу идентичности – вот к чему это ведет! Нет теперь ни Востока, ни Запада, ни этносов, ни наций, ни мужчин и ни женщин, есть только одна большая жопа, подключенная к нефтепроводу и подтираемая нефтедолларами. Все уходит в трубу или, точнее, в жопу. Тысячелетия мы делали культ из головы, теперь настала эпоха жопы. Принцип в том, чтоб распознавать, кому подтирать и внушить другим, чтобы подтирали тебе. Цивилизация переходит на тактильный уровень. Кто этого не понимает, не понимает в жизни ничего!
Ораторствующий на ногах Зад рухнул в кресло, и взялся было за сигару, да так и застыл – ее некуда было всунуть. Ведь губы-то на этой маске были декоративные. Тогда он с сожалением посмотрел на нее и протянул Агзамову.
– На, закури, где ты еще такое покуришь?
Агзамов чиркнул зажигалкой и с удовольствием выпустил клуб дыма.
При этом, он не преминул поехидствовать.
– Хотелось закурить Вам, а курю я, все-таки неудобно, когда зад на месте головы…
Тут Зад не выдержал, хлопнул рукой по столу и выпалил:
– Да ты знаешь, кто я такой?! Я тебе сейчас покажу! – и с этими словами он стал снимать с себя голову или то, что было вместо нее. Это оказалось нелегким делом. Зад словно прирос к его шее.
– Помоги же! – вскинулся он на Агзамова.
Они стали тянуть вместе, но зад не поддавался. То, что было под задом, барахталось и материлось. В пылу борьбы Агзамов нечаянно нажал на «кнопочку» носа и тут – о, чудо! – зад катапультировался самопроизвольно. Но то, что увидел Агзамыч вместо зада, ужаснуло его еще больше. Там было лицо, чуть ли не самого известного человека в стране, того, кого прочили в преемника президента, самого крупного медиамагната, приемного сына от первой жены. Теперь он сидел в черной тюбетейке в надлобном выступе которого была наклейка с изображение ощеренной волчьей пасти.
– Это Вы? Так Вы что – под Сивым Арланом ходите?
Агзамов в изнеможении опустился на кресло.
– Как бы нет так, – рассмеялся Нуриев. – Это он подо мной ходит. А за жопу прости. Я тебе тут просто перформанс сделал. Ты хоть знаешь, что такое перформанс?
– По-моему, это больше на хэппенинг похоже, тебе же удалось вовлечь меня в свое действо, – задумчиво произнес Агзамов, – и вдруг рассердился: – Какой фигляр! Я тут всего лишился, остался без прошлого и настоящего, а он тут мне лекции о жопе читает. Вон доигрался до того, что жопа к лицу чуть не приросла.
– Ну, ты, давай поосторожнее, – помрачнел Нуриев. – Я же не виноват, что твое время прошло.
– Я жив-здоров, в полном расцвете сил, я еще столько смогу сделать, что тебе и не снилось.
– Возможно-возможно… Но ты не понимаешь, что изменилось время и что этому времени ты не нужен.
– Как не нужен? Кто ты такой, чтобы определять, кто нужен, кто не нужен?
– Все определяет время… Но на деле явственно слышалось, что все определяет не кто иной как он, этот расползшийся в самодовольной улыбке сукин сын.
Агзамову вспомнились строки из древнетюркского памятника: «Время распределяет Тенгри. Сыны человеческие пришли все, чтобы умереть». Ишь, кем он себя вообразил, этот мордастенький теленок, хозяином времени, т. е. самим богом на грешной земле. Как же им не хватает воображения, хотя бы элементарного чувства юмора, как же они обделены тактом и вниманием к окружающему миру. Агзамову захотелось встать и ударить его, но вместо этого он выдавил из себя:
– А тебе не кажется, что и ты не вечен, что лет через пять будешь жрать баланду и выносить лагерную парашу и реально узнаешь, что жопу носят не на голове, когда в него будут втыкать вот такие вот сигары, а может быть что и похуже! – и жестко погасил сигару об стол этого гада.
Но тот как будто и не слышал Агзамыча.
– Да, все определяет время. И время теперь на моей стороне, – произнес он раздумчиво. А я… я могу помочь тебе. Вот сам подумай – мне сейчас 40, через год – президентские выборы. Президентом должен стать я! Так помоги мне в этом! Ты – сын легендарного писателя, сам знаменит, как бог. Да мы с тобой…
Тут Агзамов невольно рассмеялся: «Ты же сам только что сказал, что времени я не нужен!» – и повторил его напыщенную позу.
– Зато мне ты нужен! – поставил точку Нуриев. Он вышел из-за стола и, подойдя вплотную к Агзамову, сунул ему в нос пистолет.
– Ну, ты – хамло интеллигентское! Ты знаешь, с кем разговариваешь? Я – твой царь и бог, понял!
– П-понял, – выдавил из себя Агзамов, – приподнимаясь под дулом пистолета.
– Сядь! – припечатал его к креслу Нуриев. Сам сел в кресло напротив. – Теперь выслушай меня спокойно. – Ты думаешь, чё я тут кручусь в игорном бизнесе? Вон папа хотел меня генералом сделать. Меня-то, эндодермиста, генералом? Да народ уржался бы до ослиного рева! А тут денег немеряно, больше чем в нефтяном секторе. А деньги мне нужны – чтобы всех купить и самому стать президентом. Представляешь, у меня Россия куплена! Еще чуть-чуть и Америку куплю. И хана тогда моему папаше! Недолго ему осталось забавляться с молодой женой! Он сам мне женою станет! Ох, и попил он у меня кровушки! Ох, и поиздеваюсь же я над ним!
Нуриев опять вскочил с кресла и расхаживал перед Агзамовым туда и сюда, словно по острию ножа, наслаждаясь каждым своим словом и словно бы нахлынувшей от этих слов крамольной, скабрезной свободой.
Агзамов смотрел на его петушиную поступь и вспоминал известное выражение о том, что революцию задумывают мечтатели, осуществляют герои, а плодами пользуются проходимцы. И в самом деле, о такой ли участи он мечтал, диссидентствуя в советские годы? Ему казалось, что он, как Моисей, сформирует за годы брежневско-кунаевского безвременья гордую нацию свободных людей, чьи корни берут начало в седой старине. Но ныне все это обернулось против него. Во-первых, вылезли эти «декабристы» с их никому не нужным наивным национализмом, потом на гребне оказался Айтматов со своим невесть откуда взявшимся манкуртизмом, тут потоком хлынула возвращенческая литература (все вдруг вспомнили, откуда у них ноги растут, казахи стали считаться древнее Древнего Египта), на волне которой Президент, уже ставший тогда Президентом, разогнал Верховный Совет под ничтожным предлогом, а там уже один таможенный генерал ломал стаканы в телеэфире, не пародируя, а подражая Жириновскому.
Между прочим, так изображались альтернативные выборы уже несменяемого Президента. И вот, за несколько лет исчезли молодчики в малиновых пиджаках, а возникли солидные дяди с солидным бизнесом, а за ним и гуттаперчевые племянники с совершенно железной хваткой любителей вечной и безнаказанной халявы. И вот, самый наглый из них, подмявший под себя все, что приносит доход в этой небедной стране, предлагает ему Агзамову сомнительную сделку. Вот так они и выходят в люди, не оставляя всем другим этого шанса, а потом милостиво предлагают сделку, как самый выгодный шанс! Агзамова опять чуть не стошнило, но он сдержал себя.
После продолжительного молчания он спросил Нуриева:
– У вас есть какая-та программа действий?
– А не нужно никакой программы. Вон мой папа объявил программу! И толку? Все над ней только смеются. Вы знаете, я пока хоть и поддерживаю у нас всякую исламскую бодягу, в душе являюсь упертым западником. В наше время не надо изобретать велосипеда. Я скажу: «Засуньте в жопу ваш бешбармачный язык, изучайте английский. Пошлите к чертям Россию, вы никогда ее не переиграете, а она вас – в любую минуту. Поэтому сотрудничайте со Штатами. Короче, я начну с того, на чем закончили «Битлы» – свободная продажа наркотиков, свобода сексменьшинствам, да здравствует Шри Ауробинда! Кстати, место этого гуру можете занять Вы! – великодушно закончил Нуриев.
Агзамов встал и хлопнул по столу. Его как будто прорвало.
– Тогда вы не продержитесь у власти и трех дней! Таких, как ты, надо называть «йеху»!
– Нехуй? Как «нехуй»? Вы же культурный человек? – искренне удивился Нуриев.
– Тебе ли говорить о культуре, – поморщился Агзамов. – Ты для начала хоть Свифта прочти.
– Да читал я его. Это он же первый изобретатель теории относительности. У него Гулливер то маленький, то большой. Никакой определенности. Так и у нас теперь. Наша страна то общий дом, то хижина дяди Тома, надо чё-то делать, нельзя же всю жизнь сидеть между двух стульев. Мы не Восток и не Запад. Мы – Чучмекистан! Представляете, надо делать карьеру на глупости людей, на самом святом, на чувстве патриотизма. Надо так раздуть плачевное положение казахского языка, чтобы люди последнее отдавали, и чтобы все это шло в мой, и только мой карман. Вы же сами писали, казахи – народ эпический, им ничего не надо, только слава нужна, пусть весь род сдохнет, но их конь должен быть первым! Так этот конь я и есть! Не всем же казахам виллы приобретать в Великобритании, ходить под руку с Клинтоном, покупать Наоми Кэмпбелл на ночь!
Агзамычу казалось, что он сходит с ума, но он ощутил, что почти поддается очарованию речи этого молодого, не пуганого никем подонка. Он вдруг ощутил, что Нуриев – существо однозначное (Маркузе сказал бы, одномерное) и что именно поэтому он очень убедителен, он попросту не допускал иных вариантов.
– А что же вам от меня нужно? – выдавил, наконец, из себя Агзамов.
– От Вас? Просто ваше присутствие. Мы отныне везде должны показываться вместе. Кроме того, Вы всегда так красиво говорите… Я бы молчал везде, а вы бы говорили…
– Но… о чем говорить?
– Какая разница? О чем угодно! О подвигах, о доблести, о славе, – козырнул эрудицией Нуриев. – Вы еще о себе любите порассуждать. Так и карты вам в руки.
– И где это нужно говорить?
– Ну, в посольствах там разных, на приемах, на всяких великосветских раутах. Представляете я такой крутой, а вы такой красноречивый.
У Агзамыча потихоньку стала кружиться голова. Ведь как бы он ни выдавал себя за аскета, по натуре был сибаритом и денди, одевался с иголочки, всегда мечтал пользоваться успехом у женщин, да и пользовался в принципе, хотя ему всегда было мало. И вот теперь на старости лет судьба, хоть и задним числом предоставляет ему шанс наверстать упущенное. Он будет общаться с королевскими особами и подписывать… вернее, присутствовать при подписании международных договоров. Но…
– Позвольте, – повернулся он к Нуриеву. Но… Вы же никто! Кто вас допустит до всяких этих раутов.
Но Нуриев уже подходил к нему с какими-то документами.
– Вот скоро будет создана партия, я стану председателем партии. А вот это документы на то, что я член Международной правозащитной организации. А это подлинная печать хана Аблая, прямым потомком которого я являюсь. Попробуйте доказать обратное, все нотариально заверено.
От удивления привставший было Агзамов сел и откинулся на кресло, а Нуриев, наклонившись над столиком, стал выдавать ему как мальчишке.
– Да ты врубись, ведь все это придумал папа, ну, чтобы заслать меня в оппозицию, чтобы я морочил им головы и держал под контролем. А я сейчас со всеми договариваюсь и решил разыграть свою партию, вернее, свою игру, где в оконцовке Президентом стану я, а не Папа. Так что ты ни в чем не проиграешь, официально я буду одним из активистов оппозиции. Впрочем, кем бы ни выглядел, успех неизбежен.
Логика была железной, но именно она и раздражала Агзамова. В последнее время он стал понимать, что всегда попадает впросак со своим прекраснодушием и со своим желанием помочь великому делу. Почему-то всегда получалось так, что к таковому вечно примазывались всякие проходимцы, а в дураках потом оставался Агзамыч. Как бы не вышло так и на этот раз. Вдруг его пронзило: а что если вся эта история случилась с ним только оттого, что этому слащавому идиоту захотелось погреться в лучах его еще не закатившейся славы. Ведь Агзамов был на пике популярности и спихнуть его с этого пьедестала не было никакой возможности. Так, значит все, что с ним случилось, было кознями этого подонка! Каков подлец, а? Значит, это он запугал его шофера и секретаршу, зная о его нежной впечатлительности? А дальше как по нотам – отобрал квартиру, довел до бешенства, потом «шлакушник», побег, подстроил ограбление в подземном переходе, подсунул эту девку, а теперь выступает этаким благодетелем. Нет, не на того напал, теперь и я попробую сыграть с ним свою игру.
– Мне надо подумать, – осторожно посмотрел он на Нуриева.
– Вас что-то смущает? – спросил Нуриев.
– Не по мне все это, – искренне признался Агзамов. – Не люблю я вас, так называемых новых хозяев жизни. Но ты даже в этой породе существо какое-то особенное. Чего тебе не хватает? Вы и так целое государство превратили в частную семейную лавочку! Здесь вам и так принадлежит всё – от нефти до последнего задрипанного барана – чего же тебе не хватает? Тебя и так будут продвигать по служебной лестнице, поговаривают, что именно тебя готовят в преемники – что еще надо?
– Оторваться от семьи – вот что мне надо! Если бы ты знал, как я ненавижу свою семейку! Они все – глубоко архаичные люди! Мой отец как был партократом, так и остался. А знаешь что такое партократ? Это член жречества, советско-азиатский брахманизм в нем так и сидит. Он кормит всех вокруг себя, чтобы они его кормили. А между тем, его окружение озабочено только тем, как бы слопать его самого. И слопают! Я точно знаю – ведь у меня на них на всех есть компроматы! И прощай тогда мое преемничество! Так почему бы мне их не опередить?! Я бы задал такой импульс развитию государства, оно ракетой бы полетело!
– Куда? – иронично вопросил Агзамов.
– Как «куда»? В рай либерализма, в страну равных возможностей! В цивилизацию. А я бы обкорнал всем бороды, как Петр Первый. Папа не понимает, что Америке нет альтернативы, и демократии – тоже, и пусть они сейчас мусолят идею о просвещенном монархе и либеральном султанате, где гарантия, что она опять же не подсунута Америкой? Сейчас Россия не в счет, только Америка правит миром. И мой Папа у них в кулаке, как мышь на длинной веревочке. Он столько взял кредитов, что не расплатится и за всю жизнь, еще и потомству придется расхлебывать все, что он натворил. Поэтому я и не хочу, чтобы его кредиты висели на мне!
– Но разве тебе позволят прийти к власти? Ведь в нации проснулось её достоинство, она просто растопчет тебя. Все эти годы неожиданно свалившегося суверенитета, она все пыталась поверить в свою независимость, и на этом пути прощало все своему первому лидеру, но больше она никому ничего не простит!
– Ничего подобного! Казахи как были холопами русских, так и остались. Не зря узбеки говорят, что если хочешь стать русским, сначала стань казахом!
– А что плохого мы видели от русских?
– Да ты пойми, они сами сейчас в жопе со своим православием! Вроде и отказаться от него нельзя, но и бухнешься в него, утонешь в дерьме! Значит, надо отказаться от политесов, жить черным хлебом реальности, но своей реальности, а не средневековой. Весьма возможно, что на этом пути надо отказаться и от национальной идентичности, отрубить, так сказать, хвост атавизма!
– И кем ты тогда будешь? Мальчиком из пробирки? Гомункулом либерализма?
– Ладно, Агзамыч, – вдруг улыбнулся Нуриев. – Ты победил. Обещаю подумать над этим вопросом. Ну, как, ты со мной?
– Мне тоже надо подумать, – буркнул Агзамов.
– Я вижу, ты мне не веришь, – задумчиво произнес Нуриев.
– Ну, что ж я тебе докажу, что можно быть под колпаком не только у Мюллера.
Он взял пульт и нажал на кнопку. На стене слева от стола вспыхнул огромный экран, на котором возникло множество кадров, от обилия которых пестрило в глазах.
– Ну-с, какую прослойку граждан нашей страны вы хотели бы наблюдать. Нашу политическую элиту, интеллигенцию, «шмурдяков» и бомжей?
– А что – вы и за ними наблюдаете? – съерничал Агзамов.
– С них как раз глаз спускать нельзя. На остальных всегда можно найти рычаги влияния, а этим все пофиг. Ни кола, ни двора. За что их возьмешь, разве что за яйца.
– Давай тогда начнем с них, – серьезно сказал Агзамов.
В тусклом предутреннем свете показалась однокомнатная квартира, где у стены сидел в кресле рослый русский мужик с длинными волосами и допивал остатки водки из 200-грамового стакана, а рядом, свернувшись в калачик, валялся темноволосый казах, рядом с которым лежал огромный фолиант, раскрытый где-то посередине. На проигрывателе образца 70-х годов повизгивала виниловая пластинка, с иглой, застрявшей на последнем обороте. Русский парень был похож на шведского шкипера или на Иисуса Христа, или на хиппи, которые в Алма-Ате нет-нет, да промелькивали. Приглядевшись, Агзамов признал в нем русского гиганта из «шлакушника».
– Я этого, кажется, видел, – неуверенно произнес Агзамов.
– Я даже вам скажу, где вы его видели, – веско сказал Нуриев. – В КПЗ, или как говорят в народе, «шлакушнике».
– Да, а вы откуда знаете? – наивно спросил Агзамыч и осекся при одной мысли, что все это время тоже был под наблюдением.
– Нет-нет, что вы, за вами слежки не было, – успокоил его Нуриев, как будто угадав его мысли. – Просто у них такой образ жизни, что их постоянно загребают менты. – Это самая несчастная порода людей, я их называю «гении-кустари». Они, надо сказать, очень талантливы, но не умеют ладить с обществом, вписываться в конъюнктуру. Ведь талантом надо делиться, знать под кого лечь, а эти мнят себя уже готовыми оракулами, непризнанными пророками. У них на все есть свое суждение, их никогда нельзя переубедить. Даже между собой, каждый раз начиная во здравицу, кончают за упокой. В общем, грызутся как собаки, но друг без друга не могут. Они действительно единственные, которые в наших условиях разбираются в модернизме и постмодернизме.
– А нам это нужно?
– Кто его знает? По крайней мере, надо что-то знать об этих вещах. Вообще-то не мне бы Вам об этом говорить.
– А по мне, все это говно, словесный мусор, нам надо нациестроительством заниматься.
– Уау, слово-то какое сложное! Это даже не выговорить. Вы нацпаты – очень странные, кто вам сказал, что нация – это соответствие прошлому? Вы же, именно, оттуда черпаете свои представления о нации, из прошлого! И кто вам сказал, что вообще возможно соответствие чему-то?
– Но ты же сам чему-то соответствуешь?
– Ничему я не соответствую! Я расставил игорные столы и очищаю карманы игроков, разбивая их мечты на соответствие каким-то заветным, сакральным числам. Я как раз богатею там, где люди хотят меня обанкротить! Так кто умнее? И дело даже не в уме, а в образованности. И знаете, кто меня образовал? Вот эти двое! Я прикинулся «шмурдяком»-алкоголиком, таскался с ними по пивбарам, злачным местам, по всяким конференциям, ведь они иногда переодеваются в чистое и выступают на ученых собраниях. И однажды от кого-то из них я услышал слова Гераклита: «Мир – ребенок играющий в кости!». И для меня сразу все встало на свои места, что нет ни бога, ни черта, ни смысла, ни бессмыслицы, я не стал лезть в политику, я открыл казино.
– Зачем тогда теперь лезешь? – неприветливо спросил Агзамов.
– Я понял, что у нас нет чистого рынка. Это стало моим вторым открытием. Рынок – это свободная конкуренция товаров, а у нас нет этого. У нас все управляется оттуда, – он кивнул на потолок. – А там сидит мой папа и держит в своих руках нити всех интриг. Слышал, недавно Бекжанов умер. Ну, этот наш Леви-Стросс или скорее Миклухо-Маклай. Он и в самом деле из казахов хотел сделать что-то вроде папуасов.
Нуриев нажал на кнопку пульта и на экране появился высокий, худощавый Бекжанов, известный писатель и этнограф. Агзамов не любил его, они были антиподами. Агзамыч искал величие казахов в глубокой древности, в сакской, тюркской предистории, а этот дальше 19 века, оплеванного Абаем и Левшиным, не забирался. Между тем, на экране возник кабинет президентского любимца Акбасова. Там сидели Акбасов и Бекжанов и о чем-то жарко спорили, размахивая руками и брызгая слюной. Вдруг Акбасов полез в ящик стола и вытащил оттуда кинжал. Бекжанов выхватил у него кинжал и полоснул себя по горлу. Кровь фонтаном брызнула в лицо Акбасову. Нуриев выключил монитор.
– Вот такое вот харакири, – подытожил Нуриев, положив пульт на стол. – Думаете, это все просто так, что, Бекжанову жить надоело? Это Папа приказал ему исчезнуть из жизни, ибо тот все время лез с идеей Казахстан для казахов, а как это возможно в наше время, остальные народы ведь тоже не букашки. И Папа это прекрасно понимает, а вот вы, писатели, вечно воду мутите. Но Папа ошибался насчет Бекжанова, он-то как раз был не опасен, всего лишь демагог и позер, но в его верноподданичестве не приходилось сомневаться. Вот кто опасен! – Нуриев снова схватился за пульт и включил монитор. Показался большой ресторан. Видимо, там шел чей-то юбилей. Вскоре Агзамов стал узнавать присутствующих.
За центральным столом сидел Бакай Жакаюмов, живой классик казахской литературы, автор бессмертной эпопеи «Нескончаемая даль». О нем говорили, что он появился на свет сразу со своей многообещающей трилогией, да так и не расстается с ней до сих пор, все исправляет, исправляет, добивается невиданного совершенства. Добился он этого совершенства или нет, никто так и не понял, но все понимали, что надо хвалить его уже за саму попытку. Вот и хвалили его все, начиная с Луи Арагона, который почему-то добровольно взвалил на себя шефство над киргиз-кайсацкой литературой. В этом году юбиляру исполнялось восемьдесят пять, а его нетленному шедевру – пятьдесят пять. Агзамову вспомнилась притча про пройдоху-алкаша, который выходил из своей каморки с тремя копейками в кармане, но благодаря своей незаурядной общительности к обеду уже сидел в ресторане, а ночью засыпал в самой дорогой гостинице в объятиях самой шикарной девицы, какая только возможна. Вот и Жакаюмов обладал не то что обаянием, а какой-то железной хваткой, из тисков которой невозможно было вырваться ни гению, ни титану, ни самому Господу Богу, если автор неувядаемой эпопеи хотел их использовать в свою пользу. Возможно, поэтому вещичка, кое-как исполненная в стиле соцреализма, верно служила своему хозяину вот уже более полувека. Агзамов повернулся к Нуриеву.
– Да, это юбилей Жакаюмова, – усмехнулся тот. – Ему в очередной раз переиздали его вечную книгу и подарили очередной джип. Правда, он хотел Звезду Героя, но Папа не дал, он ее бережет для себя. Теперь наш Баке обижен и собирает заговор против Папы. Смотрите, кто сидит рядом с ним.
Скользнув взглядом по экрану, Агзамыч увидел рядом с классиком Нукенова и Нуркенова, самых перспективных молодых политиков после Президента. «Один белый, другой серый – два веселых гуся!» – почему-то вспомнилась Агзамову легкомысленная песенка. Но эти молодцы были отнюдь не легкомысленны, а очень даже серьезны. Уже в тридцать лет они были опытными царедворцами, а сейчас к сорока годам потихоньку приближались к престолу. Причем их обоих приблизил к себе сам Хозяин. Если первый отличался крайним аккуратизмом и исполнительностью, второй был очень инициативным и крайне преданным президенту человеком, его так и называли «тень Ноль Первого». Сейчас он втолковывал Жакаюмову, что идти против Папы бесполезно, его авторитет как никогда высок. Жакаюмов ему отвечал на это, что терять ему нечего и что он не за себя старается, а за Нуркенова, которому давно пора стать Президентом. Нукенов все это время сохранявший строгий нейтралитет и бесстрастное выражение лица, вдруг отпросился у Жакаюмова в туалет, и только было направился к двери, как Нуркенов резко дернул его за полу пиджака, да так резко, что оттуда выпал диктофон, аккуратно записывавший весь этот крамольный разговор. Нуркенов нагнулся, резко выхватил с пола диктофон и стал совать его в лицо Нукенову. Приподявшийся было со своего места Жакаюмов, обратно рухнул в кресло. Его ноги подкосились при одной мысли, что его записывали.
Нуриев выключил монитор.
– Дальше не интересно. Будет просто банальный мордобой и выяснение отношений. Жакаюмова заберут на скорой. Но в принципе, никто ни о чем не узнает. Кроме меня, конечно! Теперь ты видишь, что мои шансы реальны? У меня столько компромата на всех, что пусть только попробуют пикнуть!
Тут взгляд его упал на пакет с деньгами, притулившийся подле столика.
– Да, продолжил Нуриев. – Возьмите свой пакет с деньгами. Это ваш выигрыш. Ваш законный выигрыш.
Агзамову почему-то всё стало по барабану. Он взял пакет с деньгами и двинулся к выходу.
– Агзамыч, подождите!
Нуриев, сев в свое кресло, нажал на кнопку. Вошел помощник.
– Проводите господина Агзамова. Сделайте всё как надо.
Через некоторое время Агзамов ехал в такси с Машей и большим дипломатом, как он полагал, аккуратно упакованных долларов. Агзамову было над чем поразмышлять, он чувствовал себя чуть ли не переродившимся. У него не то что миллиона, никогда лишнего рубля не было, поэтому он всегда жил за счет своего авторитета. А тут, выходит, он впервые разменял свой авторитет на деньги, и, к тому же, он никогда не имел дела с продажными женщинами, а теперь спокойно едет со шлюхой, которая, возможно, еще и шпионка этого несносного Нуриева. Последнее обстоятельство настолько его занимало, что он не стал расставаться с Машей, решив во что бы то ни стало выяснить, кто она такая. А Машу настолько впечатлило, что он спустился с солидным и явно не пустым дипломатом, что она тут же чуть не кинулась ему на шею. Но он хмуро отстранил ее, еще свежи были воспоминания о том, что она, возможно, агентка. Агзамов решительно не знал, что с ней делать, но она, видимо, прекрасно знала, что делать с ним.
– Ну, что теперь в кабак? – весело спросила она.
– В кабак, так в кабак, – не стал возражать Агзамов. Он так устал после этого казино, что ему явно надо было развеяться.
В ресторане
Вскоре они сидели за уютным столиком, и девушка, заказав себе лягушку, умело расправлялась с деликатесом. Ясно, что с лица Агзамова не сходило выражение брезгливости и дискомфорта, как будто он пытался что-то припомнить, или, наоборот, что-то забыть. Однако, легкая музыка, французский шансон, несколько рюмок водки, и, что говорить, очень неплохое меню, создали соответствующее настроение.
В облике девушки было что-то изначально раздражающее, но только здесь, в ресторане Агзамов понял, что его в ней раздражает ее обритость. Девушка была симпатичной, все в ней привлекало Агзамова, – и белое породистое лицо, и широкие бархатистые глаза, и капризно изогнутые черные брови, но стоило посмотреть выше…
– Где Вы так обрились? – поднял он голову к экстравагантной особе.
– Вы, наверно, хотели сказать, где Вас обрили? – рассмеялась девушка. – Нет, это я добровольно.
– И – все же…
– Рассталась с девственностью и обрилась.
Агзамов молча уставился на девушку.
– Меня одноклассники изнасиловали. Их человек восемь было. Сделали свое дело, и бросили в кусты.
– Но… как же ты допустила?
– Мы все обкуренные были. Было так ржачно. Я сначала ничего не понимала.
– А когда поняла?..
– Побежала к себе, заперлась в ванной и обрила себя опасной бритвой. Потому что все началось из-за моих волос. У меня были прекрасные длинные волосы. Коса до пят. Ну и вот. Я достала папину бритву, и пошла чесать по голове. Вместе с волосами струилась кровь. Это было восхитительное ощущение. Состоялась не только дефлорация, но и инициация. Знаете, как у шаманов… Кстати, моя мама занимается шаманизмом.
– А папа?
– Он нас давно бросил. Когда я была еще маленькая.
– И как – совсем не общаетесь?
– Ничуточки. После нас, говорят, вновь женился, но сейчас вроде опять в разводе.
Эта ситуация напоминала Агзамову его собственную, ведь и его можно назвать Дважды Героем Развода, но жена и дети его как-то не волновали. Все это мешало творчеству, а все что мешало творчеству, он отметал прочь.
– Ты не пробовала сама его найти? – спросил он для очистки совести.
– Мне кажется, наша встреча его не обрадовала бы! – вдруг жестко сказала Маша. – Помнишь, того мужика в туалете? С ним могло случиться такое же!
– Так ты его… того? – в ужасе спросил Агзамов.
– Не того, а этого! – рассмеялась Маша. – Он умер просто от любовного исступления. Ему слишком хотелось, а когда слишком хочется, трудно соразмерить свои слабые возможности с неуправляемыми градусами вожделения.
– Да-а-а, – протянул Агзамов, не зная, что сказать на столь откровенные признания. Казалось, для этой особы нет запретных тем, нет чужих и своих, все в одном потоке испепеляющего цинизма. Между тем, ей было где-то лет 20, не больше.
– А… это… Вы, то есть ты, ты где-нибудь учишься?
– В театрально-художественном.
– Ну, то, что ты на художества очень способна, это я уже понял.
– Смотри, какой понятливый! Я, в натуре, учусь. И все говорят, что я очень талантлива. А что касается… э-э… того, чему ты стал свидетелем… ну, там… в туалете… я не проститутка. Я такой женский Робин Гуд – отбираю у богатых и раздариваю бедным. Я вообще считаю, что женщина – это дар богов бедным смертным. Я такой Эрот с вагиной – посредник между богами и смертными. Я немедленно отдаюсь тому, к кому испытываю влечение. А иначе вам, мужикам, не о чем даже было бы и вспомнить. Ведь от жен и даже любовниц устаешь, с проститутками иметь дело пошло. А я могу прийти и могу исчезнуть, иногда с вашими деньгами, иногда с вашим сердцем в кармане.
– Э-э… у меня деликатный вопрос… отчего это тот… в туалете… умер… неужели все, кто был с тобой, умирают. Тогда ты никакой не дар богов, а какое-то страшное возмездие.
– Да, за похоть. Похоть и есть vagina dentata.
– Что, что? – всполошился Агзамов. Казалось, он не верит своим ушам.
– Ну, если тебе так приятнее – звизда с зубами. Замени две передние буквы и будет более чем понятно.
– Но если не похоть, то тогда что тебе нужно?
– Любовь. Хотя бы на миг, но любовь.
– Но разве бывает одноразовая любовь?
– Любовь как семя, однажды посеянное, оно может прорасти.
– Но ты же убегаешь к другому?
– Чтобы сеять любовь дальше…
– А ты не работаешь в органах? – вдруг без перехода спросил Агзамов.
– На это могу ответить только словами Ницше: «Государство – самое холодное из чудовищ»! И у меня всегда есть повод держаться от него подальше.
– Ну почему, ты идеально подходишь для роли шпионки. Делаешь то же самое, шныряешь, где попало, спишь, с кем попало, но за это еще тебе капают деньги.
– Я чувствую как раз, что на меня накапали. Ненавижу эту мужскую привычку оболгать именно ту, которая даже и не думала пускать в свои огороды. Если у тебя всё, я пошла.
– Постой, постой! – всполошился Агзамов, придя в ужас при одной мысли о том, что останется один – без друзей, без связей, без биографии… «А тут хоть какая-та зацепка к жизни, она – мой лысый Харон по потустороннему царству социального дна», – усмехнулся про себя Агзамов, усаживая ее обратно за стол. «А если шпионка, это даже к лучшему. Значит, я все-таки еще кому-то нужен», – додумал он свою невеселую мысль.
Мисс Ноль охотна села на свое место.
– То-то же, понял, что пропадешь тут без меня.
В это время Агзамов, сидящий лицом ко входу, заметил, как в ресторан вошел стройный худощавый мужчина неопределенного возраста. В нем было что-то от креола или мулата. Карие, миндалевидные глаза, казалось, горели. За ним колобком вкатился кучерявый бодрячок в темных очках и в темной же куртке. Девушка тоже заметив вошедших, обрадованно вскочила с места.
– Эй, Такеши, сюда! У нас не занято! – помчалась она к мулатокреолу. Они обнялись.
– Манька-Обманка, как ты хорошо выглядишь, вот так встреча! Откуда ты и с кем? – вопросительно поднял брови тезка Такеши Китано.
– Да я с этим… потом расскажу. Пошли за наш стол, – пригласила Манька-Обманка.
– Неудобно как-то. И потом – тут, смотри, почти весь зал пустой.
– Сейчас варьете начнется, тогда все и припрутся. Нет, лучше пойдемте к нам, вон туда.
«Такеши» задумался было, но бодрячок быстро подхватил его под руку и потащил к указанному столу. Агзамов не знал, как себя вести в этой ситуации. С одной стороны, он никого не приглашал, но с другой стороны, хоть какое-то общение. Его невольную задумчивость нарушил кучерявый бодрячок.
– Извините, уважаемый, можно к Вам?
– Можно, можно, – приветливо закудахтала девушка. – Агзамыч, позволь тебе представить. Это Такен Акинчев, архитектор, умничка и мой друг. А это – друг Такена.
– Ничего себе, – обиделся бодрячок, – что, у меня нет имени или профессии?
Тут в разговор быстро вмешался Такен.
– Чего тут обижаться, она ж тебя не знает. Обращаясь к Маше и Агзамову:
– У него имя и профессия совпадают. Его зовут Саулет, что значит, архитектура.
Вошедшие сели, Агзамов встал и представился:
– Агзам Агзамович Агзамов… Э-э… я…
– Сплошная тавтология, – поморщилась Манька. – А ну, кучерявый, наливай.
Больше до Агзамова никому не было дела.
После первой рюмки за знакомство разговор зашел о том, что Такен вернулся из поездки в Париж.
– Умереть, не встать! – всплеснула руками Манька. – Как я тебе завидую! В музее д’Орсэ побывал? Небось, и «Мулен Руж» посетил?
– Знаешь, где он был, – хитро прищурился бодрячок. – В музее эротики!
– Ну, это святое, – авторитетно заявила Манька. – Я бы там так и осталась.
– Как живой экспонат? – живо ввернул бодрячок.
– А что, не подхожу?
Манька сделала вид, что поправляет на затылке не существующую прическу.
Все, кроме Агзамова, рассмеялись.
– Это не совсем то, о чем ты думаешь, – улыбнулся Такен. – Знаешь, там великолепные образцы первобытного искусства. Фаллосы, лингамы, вагины, китайская графика на соломке, японские эротические картинки, циклы индийской «Камасутры», чертики всякие… Но знаешь, что мне больше всего понравилось? Это выполненные из алебастра женские органы, знаешь, там все так рельефно, подробно.
– А ты знаешь, что у нашего Такена есть работа «Фаллосовагина». Французы завыли бы от зависти при виде такой работы.
– Да ты что! И как это выглядит?
– Представь такое плоское прозрачное стекло в виде зада, где полость сделана в виде вошедшего в вагину стоячего члена…
– Слушай, но это невозможно представить – то в виде зада, то в виде члена, попробуй такое представь.
– Да, это надо видеть, – поддержал Маньку Саулет. – Давайте сейчас посидим, а потом махнем в мастерскую к Такену. Вы там все своими глазами увидите.
Для Агзамова этот разговор был не интересен. Он, конечно, не раз бывал в Париже и все парижские достопримечательности ему давно надоели. Зато он с удовольствием бы рассказал, как недавно съездил в Японию, но кому это здесь нужно?
Лениво прикладываясь к виски, Агзамов прошелся взглядом по залу. Публики было немного, она сидела тут и там, совершенно теряясь в пространстве огромного зала. Агзамыч, привыкший все подмечать и реестрировать, заметил про себя, что здесь два одинаково респектабельных сорта людей – или старики с молоденькими девушками, или рано оплывшие парни в дорогих очках с купеческими прическами и барственной внешностью, с бокалом виски о чем-то рассуждающие с приятелями. Обычно это была чисто мужская компания из трех-четырех человек, мирно попыхивающая сигарами и то и дело отвечающая на звонки по мобильнику, как будто пришли не на людей посмотреть, а себя показать. Был, конечно, и третий сорт – это человек десять мужчин и женщин, веселящихся во всю ширь евразийской безмерной души. Эти непременно поднимали тосты и, встав, пили как гренадеры.
Увлеченный анализом социальных страт, а иногда, асоциальных групп, Агзамов не заметил, что в глубине зала сидела одинокая женщина в темных очках с черными, волнистыми волосами, одетая очень элегантно и стильно. Казалось, она кого-то ждала или за кем-то следила, а может, пребывала в задумчивости. Мало ли таких женщин, деликатно снимающихся или, наоборот, снимающих молодых, придурковатых альфонсов?
Вдруг пошло какое-то шевеление, откуда-то появился метрдотель. В зал сначала вошли два плотных высоких парня абсолютно бесцветной, промокашечной внешности. Окинув тренированным глазом зал, они исчезли и немного погодя вновь вошли вместе с представительной делегацией явно «випповского» уровня. У Агзамова глаза так и вспыхнули, из вошедших почти все ему были знакомы. Во главе вошедших был бывший издатель, ставший недавно сенатором. Это был высокий бледнолицый казах с залысинами и рыжеватой шкиперской бородкой на энергично выпяченном подбородке. Его широкие, чуть раскосые глаза излучали бодрость и оптимизм, намекая на то, что пусть бог его и не наделил интеллектом, зато наградил железной, непреклонной волей. Широким жестом пригласив всех в зал, он с достоинством последовал к «випповскому» кабинету. За ним шел, как ни в чем не бывало, Гадиков, «лепший» друг Агзамова, идя к которому он так пострадал в подземном переходе. Затем шли две-три записных министерских блудниц в сопровождении всякой астанинской челяди и замыкал шествие, (кто бы мог подумать!), старый соратник Агзамова Махди Жумин, изрядно полысевший старик лет семидесяти с внешностью угрюмой обезъяны-неудачницы. Несмотря на громкое имя Махди, т. е. мессия, посланник божий, он действительно был неудачником, который когда-то еле защитил кандидатскую, да так и застрял в каком-то институте народного творчества. Если бы не Агзамыч, он, наверное, давно бы откинул копыта, но потомок степных миссионеров не мог позволить товарищу остаться в беде и совал его во всякие комиссии, правления и прорывные проекты, которые Махди неизменно заваливал. Но Агзамыч совал его вновь и вновь, познакомил его со всякими министрами и депутатами, так что если Махди и был чьим-то посланником, то только Агзамова. Поэтому не удивительно, что увидев Жумина, он отпросился на минутку у новоявленных знакомых и, выйдя из-за стола зашагал в сторону «випповских» персон. Честно говоря, он думал, что они его тут же заметят и пригласят с собой. Однако никто не обращал на него внимания. Весело переговариваясь, они продолжали свое державное шествие. Тогда, подойдя как можно ближе, Агзамов стал гипнотизировать Жумина, уверенный, что уж этот-то прибежит немедленно. Не тут-то было, Жумин остановившись на полпути с каким-то молодым сухощавым чиновником в очках, брызгая слюной, что-то ему втолковывал. Агзамов не выдержал, и вежливо тронул Жумина за плечо. Тот сердито повернулся к нему и сказал:
– Не мешайте, товарищ, я тут с человеком разговариваю!
– А я, что, не человек, – улыбнулся Агзамыч, все еще надеясь на свое неотразимое обаяние.
Но Жумин, махнув на него рукой, пошел под руку с чиновником. Тогда Агзамов забежал вперед и выпалил с досадой:
– Да что ты, в самом деле, я же Агзам, неужели меня так трудно узнать?
– Агзам? Какой Агзам?
– Господи ж, боже ты мой! – чуть не упал от возмущения Агзамов. – Что, у тебя так много Агзамов. Это же я, старый ты остолоп, тащил тебя всю жизнь. Я, Агзамов, сын Агзамова.
– Да, такого я знаю, – подтвердил Жумин. – Но он вчера уехал в командировку.
– Но я же стою перед тобой!
– Этого не может быть!
– Но почему?
– Пусть приедет Агзамов и удостоверит, что ты это ты!
– Что за чушь ты несешь? Ведь если приедет Агзамов, окажется, что я – это не я!
Жумин оторопело глядя на Агзамова, не знал, что сказать. Потом бросился за чиновником, приближающимся уже к вип-кабинету. Сквозь туман в мозгу до Агзамова четко долетело:
– Да пошел ты в жопу!
Агзамов стоял как оплеванный. Жумин был последний ниточкой, связывавшей его с собою прежним. Ниточка оказалась весьма призрачной, если не сказать гнилой. Теперь Агзамова ничего не связывало с прошлым, а как заново начать свое настоящее, он не знал. Получалось так, что его теперь нигде нет – ни в прошлом, ни в настоящем. Человеку-невидимке и то было легче, он все-таки, пусть и, став как бы бестелесным, жил в реальном времени. Агзамов же, обладая вполне зримой телесностью, катастрофически выпал из времени. Возможно, правы индуистские мыслители, предполагавшие, что над человеком есть аура, и когда она пропадает, вместе с ней исчезает и человек. А иначе, как объяснить, что его – живого и здорового, с породистой внешностью степного аристократа, никто не узнает и никто не желает с ним знаться? Вообще-то, не совсем так, с ним не хотят знаться, когда он называет себя, свое имя, фамилию, но стоит ему забыть об этом, все общаются с ним, как с нормальным. И как бы в подтверждение этого к нему подбежала Манька и, приобняв, жарко зашептала на ухо:
– Слушай, папик, надо рассчитаться. А потом поедем к Такеше.
Что было делать Агзамову, перспектива остаться в полном одиночестве ему совсем не улыбалась.
Немного погодя рассчитавшись с официантом, они ехали к Такену.
В мастерской Такена
Мастерская Такена находилась в «Атакенте». Въехав через ворота, они повернули направо, проехали немного по аллейке, и слева увидели шлагбаум, перегораживающий тротуар. Такен вышел, рассчитался с таксистом и повел их к себе, в темноту. Вскоре, войдя во двор через калитку, они поднимались по винтовой лестнице в длинный домик-башенку. На втором этаже их встретил светлый русский парень с оттопыренными ушами и провел в мастерскую. Агзамов вошел и опешил – небольшая комната на 20–30 квадратных метров была уставлена сетчатыми полыми железными конструкциями с непредсказумо-сложными спиралевидными извивами. «Прямо иллюстрация к диалектике Гегеля!» – подумал Агзамов.
– Это мои опыты с пространством и временем, – счел нужным пояснить Такен.
– А это? – недоуменно спросил Агзамов.
В воздухе, казалось, без всякой опоры, напоминая полусидящих людей, висели как бы две изогнутые ленты. Несмотря на узкую полоску пустоты между ними, они были строго параллельны друг другу. Концы ленты соединялись так, что напоминали символ бесконечности.
– А, это лента Мёбиуса, – приветливо пояснил Такен.
Агзамов что-то смутно помнил про эту ленту, но настолько смутно, что бесполезно было напрягать память. Такен, как будто угадав это, поднес к нему альбом.
– Это знаменитый рисунок Эшера. Видите: по замкнутой, изогнутой вдоль ленте и с той, и с другой стороны, двигаясь в одном и том же направлении, ползут муравьи. А происходит это благодаря кривизне пространства.
«Но зачем его искривлять?» – подумал Агзамов.
– На самом деле, нет ни жизни, ни смерти, есть только кажимость истины. Вспомните Парменида: «Бытие есть, небытия нет». Все дуальности – кажимость. Мое творчество – разоблачение этой кажимости, – вдохновенно продолжал Такен.
Агзамов из философов знал только Гегеля и Маркса. Истина, достигнутая ценой искривления пространства, его не интересовала. Подавляя зевоту, Агзамыч заозирался по сторонам. Комнатка вся была загромождена сетевидными железными конструкциями, они даже с потолка свисали, по углам стояли макеты зданий и улиц, тут и там виднелись муляжи и скульптурки.
Внимание Агзамова привлекло что-то вроде бюста, но какого-то очень странного свойства, если не сказать больше. Подойдя ближе, он увидел совершенно лысую голову, над которой висели ее волосы, но как-то частями – надо лбом небольшой чуб, а над затылком две затянутые в узел косы, лицо же с раскосыми глазами и губами, как бы полумесяцем растянутыми в улыбке, поражало гримасой самодовольного лукавства, мол, знай наших, мы такое можем загнуть, вам и не снилось!
– Это Тазша-бала, – прервал недоуменное молчание Агзамова Такен. – Помните, персонаж казахских сказок? – На вид простак, лысый, вшивый, неказистый, такой вечный пастушок по жизни, а на деле, – хитрый пройдоха, а копнешь поглубже, – так умница. Казахские батыры возвращаясь из дальних странствий обычно проникали в свой аул под видом такого мальчика-паршивца, чтобы не вызвать ни в ком подозрений – мало ли таких шляется, прогоняемых тычками и затрещинами! Ему даже посвящена особая сказка «Сорок небылиц», где он в состязании по лжи обыгрывает дочь хана и с триумфом женится на ней. Если честно, я уважаю этого малого. Судьба к нему черства, немилосердна, никто его не считает за человека, но в нем столько человеческого достоинства, жизнелюбия и находчивости, что он ввергает в смущение власть имущих, заставляя их признать, кто в этой жизни умнее и талантливей. Вы знаете, как бы к нему не относились другие, как бы его не пытались принизить или возвысить, настоящий талант неукротим и неиссякаем и не нужно ему ничего кроме собственной убежденности в своем таланте. Конечно, ему не помешали бы и признание, и почет, и материальное преуспеяние… Но кто же их ему даст? Ему, отторгнутому за край ойкумены, подвергнутому остракизму за то, что он не такой как все, как будто он виноват в том, что ему не дают заработать, не дают состояться, не дают жить равным среди равных, не говоря уж о признании его выдающихся заслуг.
Мне кажется, это корневой образ для казахов, это архетип таланта, обреченного на забвение, а зачастую и презрение, – в темной, невежественной среде, озабоченной лишь удовлетворением своих первобытных инстинктов. В представлении казахов все великие люди, включая и Абая, и Чокана, и Махамбета – паршивцы, поскольку позволяют себе выйти за пределы привычного. Я не знаю другого такого народа, который занимался бы систематическим отстрелом своих самых достойных людей. А именно, надежды нации. Как может такая нация вырасти или состояться? Никто нас не тормозит, только мы сами! То, что для других народов – исключение, для нас – правило! И, тем не менее, самое поразительное то, что народ живет, пусть – как Тазша-бала, но он несет свой крест и, потому, достоин уважения! И не только уважения, но и высшего его выражения – хварны! Вам, наверное, знакомо это понятие?
Глаза Такена горели, лицо пылало, руки двигались как бы самопроизвольно. Агзамову было странно видеть Такена таким возбужденным. За это короткое время он успел проникнуться к нему уважением за сдержанность и такт, и вот, – пожалуйста…
– Да, я знаю, что это такое, – спокойно произнес Агзамов. – Мы с одним моим другом были первыми в Советском Союзе, кто заговорил о хварне. Только нашу книжку сожгли, а друга так затравили, что он покончил с собой.
– Так вы дружили с Адоевым? – изумился Такен.
– Я думал, наша дружба всем известна? – в свою очередь удивился Агзамов.
– Простите, я не знал, – признался Такен.
Но Агзамов уже далеко ушел в свои мысли. Перед его глазами стоял Рустам Адоев, его друг и учитель, кумир его горячей, увлекающейся юности.
Рустам был сыном крупного геолога, а сам стал археологом, исследователем наскальных изображений – петроглифов. Они познакомились, когда Агзамову было 23, а Рустаму – под 30. По существу он был его первым учителем. Поражала эрудиция Рустама – без дна и берега, способность мыслить в полете над человечеством. Когда вышла их первая книжка, все шишки достались Адоеву и он не выдержал, – ушел из этого мира, бросился в горах в пропасть. Агзамову же пришлось публично отречься от книги. Это было, пожалуй, больнее, чем упасть в пропасть.
– Так вот, – донесся до него как сквозь туман голос Такена. – Я переосмыслил визуальный образ хварны. Обычно она изображалась как сияние над тиарой правителя или жреца, а я поместил это сияние в пространстве между волосами и лысиной мальчика-паршивца, зато начиная с плеч, я облачил его в царский кафтан и дал в руки булаву и шар – знаки царского достоинства. Тем самым, я хотел сказать, что хварна – это не подарок богов, а внутреннее свойство, которое придает царское величие даже скромному пастуху. Обратите внимание на шею Тазша-балы, она вся усеяна родинками, это признаки царской хварны, она дается авансом, в счет будущих заслуг!
Агзамов непроизвольно провел по своей шее и тут же вспомнил о выпавших с утра родинках. Так вот оно что, это был знак того, что он лишился хварны, т. е. божьей благодати и защиты. Агзамова бросило в пот, к горлу подступил ком тошноты, голова загудела. Такен продолжал о чем-то мерно говорить, и этот рассудительный тон вернул Агзамова к реальности.
«А может, прав Такен: хварна – это всего лишь внутреннее свойство, тогда я ее никак не могу потерять. Она всегда будет при мне. Возможно, со мной не будут носиться, как раньше, но живет же, к примеру, Такен. Его никто не осыпает милостями, не превозносит, он еле выживает, судя по этой скромной мастерской, но спокойно продолжает творить и как творит – свежо, самобытно, национально. Все, что мы с Адоевым едва намечали в теории, он полновесно воплотил в искусстве. И возможно даже пошел дальше нас. Ибо для него национальное неотделимо от общечеловеческого».
Напротив Агзамова висели два зеркала – одно обычное, другое вогнутое. Агзамов только было направился к зеркалам, как к нему подбежала Манька и потащила совсем в другую сторону.
У входа на небольшом квадратном возвышении стояло что-то вроде стеклянного судна для больных. Приглядевшись, Агзамов увидел, что это не судно, а что-то напоминающее человеческий, как сказали бы медики, коитально-дефекационный комплекс. Но штука была в том, что внутри прозрачной вагины был длинный полый мужской член впечатляющих размеров, плавно переходящий снаружи в женские половые губы. Такену удалось невероятное, он обнажил самое сокровенное, то, что на протяжении тысячелетий было окружено чуть ли не сакральной тайной.
– Уау! – воскликнула Манька. – Неужели такие бывают?
– Какие «такие»? – спросил Такен
– Ну, члены… – растерянно сказала Манька.
– А хотелось бы? – улыбнулся Такен.
Все рассмеялись.
– Мне кажется, этой своей штукой я разрешил всю гендерную проблематику. Нет проблемы равенства или неравенства, нужно соитие, нужен коитус, вот и все. Мы, земные люди, созданы для плотствования, но как раз до этого мы никак не дойдем, так любим рассуждать на абстрактные темы, хлебом не корми.
– Такеша, я не могу сдержаться! А ну, пойдем со мной.
Манька обняв за шею Такена, потащила к двери. Такен попытался было вырваться, но она была выше него и вскоре они исчезли за дверьми. В это время позвонили бодрячку по мобильнику, он вышел в коридор поговорить, да так и не вернулся. Видимо, его позвали куда-то.
Агзамов оставшись один, постоял еще некоторое время возле прозрачно-бесстыдного шедевра, зачем-то сунул палец в полость фаллоса или вагины и прошел потом к зеркалам, которые его давно заинтересовали. Одно зеркало было обычное, другое – вогнутое. Но лучше бы он к ним не подходил. Как бы он ни вставал на цыпочки, какие бы потом не корчил рожи, он не отражался ни в одном из них! «Так, значит, я действительно исчез? Достиг нирваны? Саморазрушился? Но ведь – вот же я стою, вот у меня руки, ноги». Агзамов высунул язык. Все было напрасно. В зеркале ничего не отразилось. Тогда он плюнул в зеркало. Плевок тоже бесследно исчез. Боже мой? Что происходит? Чего же я лишился – души или плоти? Или они на самом деле одно и я лишился всего сразу?
Дверь тихо открылась, и, обнявшись, вошли Такен и Маша, счастливые, умиротворенные.
Глядя с упоением на повернувшегося к ним Агзамова, Такен сказал:
– Поздравь меня, друг, я женюсь на ней! А со своей я развожусь. Я, наконец-то, все решил!
Но тут Маша-Манька-Обманка разжала объятия и отпрянула от Такена.
– С какой стати, Такеша! Я же не давала согласия! Я отдалася тебе, но это не значит, что я буду твоей женой! Я отдамся еще десяткам других!
– Да пожалуйста! Но будь моей женой!
– Быть женой для меня презренно! Быть женой – это то, что убило женщину в женщине! Быть женой – это значит стать рабыней одного мужчины. Это значит – запереть на кухне все свои влечения и страсти! Это значит, что ты не можешь быть язычницей и вакханкой, что ты не можешь отдаться тому, кому захочешь! Это значит – навеки лишить себя выбора! И что взамен всему этому? Только штамп в паспорте и лицемерное уважение общества, и сплошное лицемерие с мужем, когда ты ему изменяешь, и когда он изменяет тебе? Нет, я не могу так лгать – ни себе, ни обществу!
Такен:
– Но ты не можешь так просто покинуть меня, после того, что было? А было ведь потрясающе!
– Поэтому я и покидаю тебя! Потрясающее не повторяется! Эй, рохля, пошли! – и она, подхватив за руку Агзамыча, оттолкнула Такена, пробежала с Агзамычем сквозь дверной проем, и они помчались вниз по лестнице.
Вмиг оказавшись на улице, они лихорадочно открыли калитку и вскоре ловили такси.
После оргии
– Почему ты с ним так поступила? – спросил на улице Агзамыч, – еле переводя дух.
– Я не говорила ему, что буду его женой. Он талантливый человек, но как мужик – самый элементарный. Он бы запер меня и выбросил ключ.
– Как сказала Дебора из «Однажды в Америке»?
– Какая разница? Мы – одно онтологическое тело.
Тут подъехала иномарка, и они побежали к дверце машины.
– Куда едем-то? – обернулся к Маше Агзамыч.
– Да есть у меня одни хухрики… Подкармливаю их иногда.
– Саина-Жубанова, – сказала она, наклонившись к дверце.
– Знаешь, есть такая порода людей, – сказала она, когда они уселись в машину и поехали, – несвоевременные, ну, пасынки какие-то, или незаконнорожденные (как будто детей зачинает закон, а не фаллос!), вечно не к месту, ни к селу, ни к городу, но вечно в движении и размышлениях. Это началось еще с Сократа. Мы ж его вечно видим на чужих пирах, а в собственном доме не видим. Так и у меня есть два дружка, один – поэт, другой – философ, которые забили на этот мир широко и окончательно. Поэт какое-то время делал успешную карьеру, работал на телевидении, издал свои переводы «Битлз» и «Пинк Флойда», поехал в Москву, думал, произведет там фурор, но никто даже и бровью не повел. Все ниши были заняты. Пришлось ему вернуться в Алма-Ату, но и здесь уже все ниши были забиты. Ведь талант у нас ценится не по номиналу, а по количеству и, главное, качеству связей. А с философом случилось так, что он вообще появился раньше времени, люди еще барахтались в марксизме, а его потянуло к постмодерну, о котором тогда еще и в России не знали. Представляешь, он написал диссертацию о хайдеггеровском понимании истины, а его зарубили на том основании, что ему некому оппонировать. – Слушай, сказала она таксисту, – останови возле магазина, я пойду, затарюсь.
Взяв у Агзамыча деньги, она пошла в магазин и вскоре вернулась с двумя пакетами, полными продуктов.
«Опять везет в какой-то шлакушник», – подумал Агзамов. Но то, что он увидел, поднявшись на четвертый этаж, превзошло все его ожидания. На звонок Маши дверь открыл какой-то казах с зелеными пьяненькими глазами и кривой ухмылкой, почему-то показавшейся Агзамову знакомой. И только увидев за ним русского гиганта, Агзамыч признал старых знакомцев из милицейского КПЗ. Но, приглядевшись, Агзамыч удивился еще больше – его старые знакомцы были одеты чуть ли не с иголочки. Гигант был во фраке, а книгочей – в сюртуке и даже чисто выбрит, и даже шрам, казалось, не так выделялся, скорее похожий на довольную кривую ухмылку.
– Машка! Откуда тебя занесло? – обрадовался гигант.
– Игоречек! А я к тебе с гостем и с харчами.
Маша зашла сама и затащила за собой Агзамыча.
– Вообще-то это моя квартира, – проронил книгочей, отступая.
– Ну, значит, и тебя обслужим, – многообещающе заявила Маша. – Слушай, – повернулась она к Игорю. – Никак вы на банкет идете или собрались читать свою Нобелевскую лекцию, но я вас впервые вижу в полном параде. По какому поводу вы так намарафетились?
– Талант не пропьешь! – осклабился в улыбке Игорь. – У нас сегодня проект должен пройти в фонде образования. Вот ждем Костыляныча с вестями. Если пройдет, он поведет нас на прием в американское посольство, а через неделю мы все едем в Америку! Читать лекцию по теме: «Аполонийское и дионисийское начала в казахской культуре». Я – Аполлон, Костыляныч – сатир, а вот это наш Дионис, или Танат по прозвищу «Доброе утро!», ибо уже к восьми утра он стоит у магазина в еще не начавшейся очереди за водкой!
– Но слушай, может, мы тогда не вовремя? – замежевалась Манька.
– Люди с водкой у нас всегда вовремя! – с пафосом сказал Игорь, и перехватив у Маньки пакеты, занес их в зал.
Смеясь, они вошли в комнату, Агзамыч – за ними. Он еще в прихожей обратил внимание на то, что обои в доме как на плавках Макмерфи из фильма Милоша Формана «Полет над гнездом кукушки» – с резвящимися на волнах дельфинами. Это настраивало на довольно фривольный лад.
Квартира явно была холостяцкой. В центре стоял видавший виды журнальный столик с диванчиком и двумя креслами, в углу, у окна довольно компактный письменный стол, над ним – навесные книжные полки с такими огромными фолиантами, что казалось, они сейчас рухнут. Напротив стола ютилась солдатская односпальная койка, а рядом с ним радио с проигрывателем наверху – вот и все содержимое комнаты. Агзамову предложили сесть, но он пошел к полкам. Фолианты оказались словарями – французские, английские, арабские. Но больше всего впечатлили Агзамыча словари греческие и латинские. Но мало того, на полках не оказалось ни одной книги на русском.
– Я гляжу, тут живут одни полиглоты? – неуверенным тоном спросил Агзамов.
– Они самые! – немедленно ответил гигант. – Вообще-то это квартира Таната, которого я иногда называю Танатосом, поскольку иногда своей угрюмостью он напоминает бога смерти. После развода с женой он тут один живет.
– Почему один, с книгами! – рассмеялся «Танатос», больше похожий сейчас на «Доброе утро!».
– Ну, и я его навещаю, – продолжал гигант, – чтоб у него тут крыша не поехала. А то, как напьется, начинает с деревьями за окном разговаривать, одно зовет Хайдеггером, другое – Ницше, третье – Траклем. Да вы садитесь, а то этот вам никогда не предложит, – Игорь взяв за руку, подвел Агзамыча к дивану.
К этому времени скромный журнальный столик трещал от изобилия. Чего там только не было – и черная икра, и семга, и огурчики, и колбаса, и ликер «Амаретто», и две огромных бутылки «Распутина». Если чуть раньше Агзамычу показалось, что в этой конуре, затянутой паутиной холостяцкой заброшенности, могут подохнуть и мыши, теперь об этом даже и не вспоминалось. Хозяева квартиры кинули на койку верхнюю одежду, и пошла такая пьянка – пыль столбом!
Игорь оказался изумительным собеседником, он по памяти читал Томаса Элиота, вскользь прошелся по Бродскому, сделав страшно свирепую морду и до безумия выпучив глаза, пародировал Андрюшу Вознесенского. «Танатос» тоже все время пытался что-то вставить в разговор, но Игорь тут же перебивал его и продолжал свой захлебывающийся монолог. Поняв, что произвел на гостя ошеломляющее впечатление, он теперь решил поднять в глазах Агзамыча и Таната.
– Вы не смотрите на него как на недоразумение, – вступился он за своего друга. – Это он, когда напьется, такой, а по интеллектуальной накрученности, он – просто мордоворт, или как Ван Дамм – универсальный солдат. Есть у нас такой Айхан Костыляныч, у которого вместо ног костыли. Они давно дружат с Танатом, и вот что он написал о нем.
Кто есть такой Шахмухаметов? Древнее Ветхого Завета, Он – буквоед, зануда, крыса, Бесстрастный, словно биссектриса, Ему пристало с этим весом, Быть верным ключником у беса.Тут что ни слово – шедовер. Вы знаете, с чего начал Танат? Он перевел Силезиуса! Это поэт-мистик 17 века, эк куда его занесло! Но с другой стороны, Танат попал в самую матку – Ангелус Силезиус – один из отцов негативной теологии, а наша душа жаждет Бога, но не в церкви же его искать или в мечети, там все опошлено бизнес-муллами, да и пора бы нам всем прийти, наконец, к наднациональной религии, но – как к ней прийти? Только из души человеческой, только из самой этой нашей жажды! А Силезиус так и писал о том, что Бог рождается в душе человека!
Тут «Танатос», который без всяких ножа и вилки, руками разделывался с семгой, энергично воззрился на всех ошеломленными глазами и выпалил: «Христос мог бы тысячу раз рождаться в Вифлееме – ты все равно погиб, если Он не родился в твоей душе!»
Агзамову становилось все интереснее с этими деклассированными элементами, вдруг превратившимися в интеллигентов, и даже можно сказать, интеллектуалов. Проблема богоискательства его волновала давно, мысли, подобные высказанным здесь, высказывали еще средневековые суфии, и он решил напомнить этим ребятам, что такое понимание Творца имеет восточные корни.
– Э… видите ли, – попытался он было вписаться в разговор, но его и не собирались слушать.
– Это он цитирует Силезиуса! – продолжал свой монолог Игорь, но Агзамов уже не слышал очередной зажигательной тирады, ему стало досадно, что его перебили и, честно говоря, его напугали эти двое, которым было тесно не только в казахской, но и в русской культуре: «Где этот самый Ангелус? – гневно вопрошал про себя Агзамов, – а где мы, казахи? Что может он дать нам для нашего национального возрождения? Какая у нас может быть преемственность с христианской традицией? Нет, он решительно не понимал этих разнузданных молодчиков, особенно этого неряшливого длинноволосого казаха с вечно кривой ухмылкой, уплетающего семгу голыми руками.
Игорь продолжал что-то говорить, но взгляд Агзамова переместился на Машу, и только тут он понял, какая она стильная женщина – груди ее так и выглядывали из летнего платья из какого-то легкого ажурного материала, оголенные плечи так и сверкали, в глазах ее, устремленных на Игоря, было что-то задорно провокационное.
Игорь, казалось, задался целью пропиарить всех своих друзей разом. Теперь он перешел на Айхана, которого почему-то называл Костылянычем. «Не мой ли Айхан?» – неуверенно мелькнуло в голове Агзамова.
– Вы не представляете, это что-то феноменальное: грудь как у кентавра, вместо передних ног костыли, голова большая как у Минотавра, только рогов не хватает.
– Я бы ему наставила, – рассмеялась Маша.
– Знаешь, у него такая жена, что на тебя он и не посмотрит, – авторитетно заявил Игорь. – Но я не об этом. Костыляныч – охренительный мастер стёба. Короче, современный Катулл.
Гордый Фаллос, что сник, видно, чистил не там ты, где нужно. Был когда-то велик, а теперь хоть выбрасывай в нужник. Был когда-то стояч, а теперь ты висишь, как мочало! И ничто ничего от тебя, старина, не зачало…Не правда ли, скулодробительно? Впрочем, и у меня есть не хуже. Вот послушай. И Игорь, как всегда, слегка грассируя и бойко размахивая руками, принялся за декламацию.
Взираю на эпоху я — Мы не изменим ни х. я; Во всем паскудства торжество — Мы не изменим ничего; Во всем бездарности черта — Мы не изменим ни черта; Вокруг нас косности стена — Мы не изменим ни хрена; Уже маячит смерть-карга — Мы не изменим ни фига; Ужель стезя моя крута? — Мы не изменим ни шута; Ужель и мне почить пора? — Мы не изменим ни хера. Уже отходит ввысь душа — Нам тут не светит ни шиша [2]Тут уж Маша не выдержала.
– А спорим, что кое-что светит? Танатыч, у тебя есть музычка?
Танат мутными глазами указал на допотопный проигрыватель. Из музыки у него был только Вивальди. Маша поставила скрипичный концерт и, церемонно поклонившись, пригласила Игоря. Игорь встал, подошел к ней и легко закружил ее в вальсе. Они очень подходили друг к другу. Он высокий, статный, с длинными светлыми волосами, собранными в пучок на затылке. Она тоже высокая, стройная, со своей обритой головой похожая чем-то на гончую. Восхищенный Агзамыч на миг забыл обо всем – и об убогой обстановке этого жалкого холостяцкого пристанища, и о его странном косноязычном хозяине, и о своей еще более странной ситуации, и целиком погрузился в обворожительные ритмы вальса и в созерцание этой прекрасной танцующей пары. Танат, опершись рукой о кулак, как-то совершенно по-русски пригорюнился.
– Не правда ли, прекрасная пара? – удостоил его разговора Агзамов.
– Какая пара? Это же Вивальди! Его надо слушать, а не танцевать.
– На мой взгляд, эта музыка как нельзя лучше подходит под этот танец.
– Как-то Андре Жид сказал: «С прекрасными помыслами делают дурную литературу». Это что-то из этой сферы. Впрочем, сейчас даже философия вернулась в свое прежнее бродячее состояние, в своем собственном виде она никому не нужна и неприкаянно бродит по улицам, где даже проститутки стоят дороже, чем философы.
Танат помолчал, оценивающе разглядывая Агзамова, а потом и вовсе понес полную ахинею.
– Модернист хочет изменений в мире, а постмодернист – его переинтерпретации. Словом, тех же изменений, но в условном поле. Мир вменяем только как символический универсум и поддается переструктурации только в символическом плане. Поэтому Деррида считает, что мир – это текст. Образ модернизма – дерзкий художник, дающий пощечину дурному общественному вкусу. Модернизм – культ эпатажной личности. Образ постмодерниста – человек с вечной ухмылкой на лице от предпонимания неизбежности всего, что происходит. Бодрийяр потому и назвал один из своих основных трудов «Фатальные стратегии», что пытался создать философию предпонимания обгоняющей саму себя современности. Впрочем, все они пляшут от Хайдеггера, который первым понял, что переход на технотронную фазу цивилизации будет фатальным для самого человека, отныне и до конца своих дней становящегося частью технологии.
– У тебя сейчас несколько раз прозвучало слово «фатальность». Выходит, все эти твои постмодернисты – оголтелые фаталисты, но какие же они тогда философы, если не слишком далеко ушли от сивилл?
– Сивиллы имели дело с первобытным миром, где властвовала природа, мы имеем дело с симулякрами, т. е. символами без содержания, с пустыми оболочками смысла вещей. Все самые важные понятия – такие, как этнос, нация, человек, гуманность, гуманизм не имеют ныне того содержания, в гуще которого они создавались, ибо не мы их создаем, а они – нас, т. е. у нас есть определенные стереотипы этноса, нации, гуманизма, которым мы пытаемся следовать. Но задача заключается как раз в том, чтобы самим создавать понятия или, как говорил Делёз, творить концепты. Нам до этого далеко, а Делёз их немало сотворил, вот только навскидку – шизопотоки, машины желания, тело без органов. На мой взгляд, тело без органов и есть нация, а шизопотоки – это новое понятие гуманизма, или точнее, дегуманизации без берегов.
Агзамов вспомнил, что когда впервые увидел Таната еще в той своей прошлой, теперь такой далекой жизни, тот напомнил ему персонажа Гюго, но тогда этот парень поразил его гримасой уродства, а ведь у Гюго речь идет об аристократе, волею судеб ставшим уродом на потеху публике, об аристократе, а не об уроде! Теперь, когда один Танат слушал Вивальди, в то время как все остальные, в том числе и Агзамыч, пребывали в плену витального пиршества, сын великого писателя в полной мере оценил своего визави. Перед ним, действительно, был аристократ, несмотря на то, что он не пользовался вилкой, а волосы его явно нуждались в ножницах и бриолине.
Тут у итальянского маэстро пошла такая экспрессия, что Игорь и Манька, встав напротив друг друга, дали джигу или рок-н-ролл, локти их так и мелькали, носки ввинчивались в пол, задницы то опускались, соблазнительно покручиваясь, то крутились из стороны в сторону. Вскоре Игорь так раззадорился, что снял и выкинул рубашку. Возбужденная Манька недолго думая тоже сняла блузку. Но стоило ей повернуться задом к Игорю как он немедленно отстегнул с нее лифчики, и ее роскошные груди с сосками в виде ягод клубники бодро заметались из стороны в сторону. Агзамыч и Танатос смотрели, как завороженные. Вдруг из белых штанов Игоря стало выпирать что-то могучее, в своем неукротимом стремлении вверх похожее на замаскированную ракету. Паре было уже явно не до этикета.
– Секс-пауза! – галантно выкрикнул Игорь и потащил Маньку в сторону ванны.
– Куда они пошли? – глуповато спросил Агзамов после небольшой заминки.
– А вы не поняли? Он же только что сообщил, – резонно заметил Танат.
За стенкой послышался звук бурно льющейся воды и интригующее ржание случающейся пары.
– Все, что делает Игорь, так обаятельно, – улыбнулся Агзамов.
– Вы еще скажите «Мой нежный и ласковый зверь». Никакой он не зверь, а доморощенный интеллигентишка. Все они такие эти модернисты, им только дай выпендриться. Помните Маяковского: «Я лучше в баре блядям буду подавать ананасную воду!». А в итоге взял и застрелился! Модернизм как пенистая струя после ночи в пивбаре. Так что в этом эпатажного? Моча она и есть моча, рано или поздно всегда выпрет! Единственное, что я приветствую, это пивной путч Гитлера! Вот человек, который не только демонстрировал, но и достигал!
– Фу, да ты нацист!
– Не нацист, а националист! А впрочем, какая разница! А Игорь? Ты думаешь, он – одуванчик! Великорусский шовинист, вот кто он! Вон даже Маньку приватизировал, не может отдать ее черножопым!
До Агзамыча стали доходить очевидные истины. Но многое для него было непонятным, ведь модернизм всегда считался положительным явлением. Даже Сартр заявлял, что экзистенциализм – это гуманизм.
– А как же Сартр? – неуверенно начал Агзамыч.
– Прочитайте Хайдеггера. Хотя бы «Письмо о гуманизме». И вы поймете что Сартр – мальчишка. Только тогда, когда гуманизм выйдет за пределы морализма, начнется настоящее развитие человечества. Это и предлагает постмодерн, в лице допустим, Бодрийяра. Поймите вместе с ним, что не субъект, а объект важен.
За стенкой всё также продолжала литься вода, проигрыватель крутил очередной опус Вивальди, музыка была напряженной или просто кричащей. Вдруг из коридорчика выскочили голые Игорь и Манька и друг за дружкой, паровозиком проскакали под музыку в комнату, Манька была спереди, а Игорь держал ее за бедра. Потом они стали в горизонтальную стойку и стали галопорировать, как в кордебалете, то справа налево, то слева направо, при этом большой член Игоря извивался как змей, а груди Маньки так и стояли торчком, слегка качаясь в сторону движения. В какой-то момент Игорь сел на пол и сдвинул по-турецки ноги, его член торчал как надутая изнутри труба, Манька села перед ним на колени и, прижав ребра ладоней ко лбу, склонилась перед ним в поклоне. Чувствовалось, что она крайне благодарна партнеру. Для нее в этот момент никого, кроме него не существовало.
В это время заверещал дверной звонок и раздался страшный, напористый стук в дверь. Казалось, дверь сейчас треснет, и в квартиру ворвутся какие-то монстры. Игорь с Манькой кинулись в ванную, Танат пошел открывать дверь, и только тут обнаружил, что вода из ванной уже пошла к двери и, видимо, заливает соседей. Недолго думая он открыл дверь, и тут же был сбит с ног мощным ударом крепкого коренастого казаха с придурковатыми глазами, налитыми кровью.
– Ты, что тут за бардак? – поднял казах Таната с пола.
– А ты кто? – не удержался спросить Танат.
– Я дам тебе кто, манкурт сраный! Ты у меня кипятком будешь писать, забудешь с какой стороны твоя жопа! Я же твой сосед, ахмак!
– Тебя зовут Ахмак?
– Дурак! «Ахмак» по-казахски означает «дурак»! А ну, пропусти, дай посмотреть, кто тут у тебя озорничает?
«Ахмак», – а Танат стал его теперь так звать про себя, не зная и не желая знать его настоящего имени, – ворвался в комнату, но, увидев там парадно одетого Агзамыча, слегка замялся.
– Уважаемый, ассалаумалейкум! Можно войти?
– Входи, входи, братишка! – ласково сказал Агзамов, лихорадочно продумывая, как бы повежливей выставить его за дверь и, в то же время, не забывая играть роль благожелательного влиятельного сородича.
– Уважаемый, что происходит? Мою квартиру залило водой, и я смотрю, что она течет отсюда!
– Знаешь, дорогой, мы уже вызвали аварийную службу, а это вот тебе – в счет убытка! – Агзамов вытащил стодолларовую купюру.
– Нет, нет, что вы! – замахал руками казах. – Я всего лишь чабан, недавно переехал в город. Мне родственник купил квартиру, он такой же уважаемый человек, как вы. Мне достаточно с вами только поздороваться!
С этими словами он подошел к Агзамову и протянул ему свою квадратную смуглую ладонь.
«А ведь он меня не знает, – подумал Агзамов, всовывая свою ладошку в его объемистую ладонь. – Для него важно, что я хорошо одет и с этими важными очками. Вот и получается, что всю жизнь меня замещала моя внешность. Так, где же потеря? Выходит, я себя и не терял? С другой стороны, какое почтение у казахов к старшим, только что он готов был убить Таната, а передо мной расшаркивается, как перед богдыханом!»
Казах повернулся к Танату.
– Ты бы хоть сказал, что у тебя такой брат. А то я никак не мог понять – как ты, такой чипиздрик, мог заработать на квартиру. Ладно, смотри, еще раз зальешь, я на брата не посмотрю!
Закрыв за ним дверь, Танат постучал в ванную.
– Эй, трубадуры, выходите! Только не забудьте почистить ванную, вон соседа залили!
Зайдя в зал, он поблагодарил Агзамова и разлил по стаканам водку.
– Ну, Агзамыч, за вас! Не то этот «ахмак» мог бы нас всех отыметь!
Выпили. Агзамов стал закусывать.
Как мокрые курицы, вошли Игорь и Манька. Манька была в халате Таната, а Игорь – с голым торсом и в брюках.
– Ну, что, пронесло? – весело вопросил Игорь. – Разврат продолжим али как?
– Ты убрался в ванной? – сурово спросил Танат.
– Да, мы убрались, – сказала Манька. – Но мне пришлось пожертвовать всей одеждой, потому что у тебя нет тряпок.
– Я тряпок не держу, – гордо отвечал Танат. – И не люблю мужчин – тряпок, – многозначительно посмотрел он на Игоря.
– Это, видать, намек на меня, – задумчиво произнес Игорь. – А как тогда быть с Кафкой? Его иначе как тряпкой и не назовешь. Ведь он ничего не предлагал и ничего не обсирал.
Все уже сидели за столиком и пили водку.
– Тем не менее, чувствуешь себя мусором под властной шваброй обстоятельств, – продолжал Игорь. – Это полнейшая деструкция власти и властных отношений…
– Почему? – прервал его Танат. – У него есть и обнадеживающие вещи. К примеру, его отношение к женщине. Она у него всегда отвратна и в то же время неприступна. Ее приходится иметь. Но, имея ее, ты принадлежишь ей. А если не принадлежишь, то превращаешься в насекомое.
– Так, значит, он деконструировал женщину? – недоуменно спросил Игорь.
– Именно, – грустно сказал Танат. – Она – в строе бытия и значит, онтологически предопределяет все. Она – соблазн, и этим она всегда ограничивает уровень соблазна.
– Ты согласна, что ограничиваешь уровень соблазна? – обратился Игорь к Маньке.
– Как сказать? – замялась немножко Манька. – Это, наверное, связано с длиной маточной трубы…
– Нет! – отрезал Танат. – Об этом как-то хорошо сказал Бродский: «Сколь же радостней прекрасное вне тела».
– «Ни объятия невозможны, ни измена», – продолжил Игорь.
– Нет, – дело не в этом, – сказал Танат. – Это уже предел Бродского, т. е. всё та же метафизика.
– Что же не метафизика?
– Промискуитет! – обреченно произнес Танат. – Сношения всех со всеми, машина желаний без тормозов.
– Ну, это скучно! – поморщился Агзамов. – Я читал этого вашего Уэльбека.
– При чем тут Уэльбек, – усмехнулся Танат. – Надо Делёза читать.
– Пожалуй, из всего, что здесь прозвучало, мне понравилась идея этого вашего Силезиуса, что бог должен родиться в душе человека. Это похоже на идеи суфиев об индивидуальном возвышении к Богу.
– У суфиев это идет от знакомства с христианством, – авторитетно заявил Танат. – Меня более привлекает идея Хайдеггера о том, что Бог умер, но что его место осталось. Получается, что всё это время мы заполняли это «место» не тем содержанием. Но каким теперь должно быть это содержание, это новое понятие бога – вот в чем вопрос. По Хайдеггеру, человек – это четверица земного и небесного, смертного и бессмертного, т. е. человек – это космос и часть космоса, или как он сказал, «нечто выдвинутое в ничто». Он был близок к идее безрелигиозной религии в стиле пиетизма Бёме. Наверное, в этом направлении и надо искать.
Зазвенел дверной звонок. Все насторожились, никому не хотелось повторного визита апокалипсического казаха. Продолжающий восседать с голым торсом Игорь встал и заозирался, что бы с собой взять в случае нападения, но у Таната не было даже утюга. Игорь медленно подошел к двери и нехотя открыл ее, но тут же раздался его восторженный возглас: «Император! Да неужто, это Ваше величество? Да как же вы на четвертый этаж подняться изволили? Поднял кто-нибудь?»
– Да сам я, сам, что я, инвалид, что ли?! – раздался лукаво-снисходительный баритон. Немного погодя в дверях, волоча ноги, показался, (кто бы вы думали?) тот самый Айхан, которого Агзамов разыскивал со дня собственного несуществования и фатально не мог разыскать, а тут вот он, пожалуйста, величественно движется на двух костылях к их журнальному столику. Он так медленно передвигался, переставляя поочередно костыли и ноги, что казалось, не он движется, а пространство под ним скользит, каждый раз приближая его на несущественные сантиметры. Вслед за ним показался человек среднего роста, очень похожий на Достоевского, только смуглый.
– А это кто? – спросил Игорь, здороваясь с незнакомцем.
– Это Федор Михайлович, якутский шаман, лечит от всех болезней, кроме запоя, предсказывает судьбу за минуту до смерти. В частности, сказал мне, что среди вас находится мой друг Агзам Агзамович Агзамов. Это правда? Где он? – заозирался по комнате Айхан.
– Да вот он же я! – встал из-за стола Агзамыч. – Неужели и ты меня не узнаешь?
Айхан силясь узнать, но, как будто видя вместо него калеку или урода, сожалеючи произнес:
– Эк тебя угораздило… Если бы не Федор Михайлович никогда бы не подумал, что это ты. Ведь мне сказали, что ты улетел в Америку.
– Я хотел, но не получилось.
– Знаешь, почему у тебя не получилось?
– Я всё это время только над этим и думаю. Ум за разум заходит.
– Федор Михайлович, объясни ему.
– Это сложно сразу понять, но вас лишили хварны.
– Я знаю, что такое хварна, но причем тут я?
– У Вас были родинки?
– Да.
– Много?
– Да.
– Сегодня они выпали?
– Да.
– Так вот, Вы обладали жреческой хварной, той, которая передается по наследству. С такой хварной можно поворачивать вспять реки или пролагать новые пути, основывать государства, вести вперед народы. Раньше Вы, действительно, оправдывали свою хварну – шли против течения, помогали людям, но в какой-то момент, то ли Вы устали, то ли у Вас угасла вера в Тенгри, то ли Вас настолько обласкала власть, что Вы решили помалкивать и поступать так, как от Вас требуют, тогда и угасла Ваша хварна или божье сияние над Вами, Ваша вышняя защита. Каплей, переполнившей чашу терпения стало вручение Вам ордена, от которого вы не то что не отказались, но даже были очень довольны. Это Вы-то, человек с жреческой хварной! Разве ее можно было обменять на какую-то позолоченную медяшку? Но Тенгри велик в своем великодушии, всё еще надеясь, что Вы очнетесь, придете в себя, он дал вам второй шанс – подослал к вам бродягу в образе этого молодого человека. Он обратился к вам с какой-то просьбой, но Вы даже не выслушали его. Но даже и на этот раз Тенгри не торопился лишать Вас своей милости, он просто лишил вас родинок – печати вашего избранничества, но…
– А теперь дай я скажу! – перебил шамана Айхан. – Ты сегодня зарубил наш проект. Ребята, мы не едем в Америку! – повернулся он к Танату с Игорем. – В его фонде зарубили наш проект, а сам он, как утверждают члены Правления, сейчас находится в Америке, и если в действительности он находится среди нас, и это не сон, то это – единственный наш шанс поговорить с этим вурдалаком.
Агзамов никак не ожидал такой агрессии к себе, ведь это он сделал этого человека человеком. Не выбей он тогда ему квартиры, ему пришлось бы уехать в свою грязную железнодорожную станцию, или же откинуть копыта в одной из пивнушек Алма-Аты. И этот парень, который каждым шагом продвижения здесь обязан ему, променял его на этих полубомжей, развратников, циников, в общем, дела-а-а-а… Но погоди, погоди, кажется он припоминает… Как-то приехал из Калифорнии Ларри Джонс, руководитель международного Пен-клуба, Агзамов познакомил его с Айханом, и они почему-то так спелись, что тот захотел пригласить его в Америку, но не просто так, а чтобы он прочитал лекции о казахской культуре. Агзамов нисколько не возражал бы против этого, но Айхан пристегнул к себе еще кого-то, как оказалось, эту сладкую парочку. Этого Агзамыч простить не мог. Он продумал тонкую комбинацию со своим отъездом в Америку и приговором проекту Айхана, который должен был произнести Председатель Правления, славный парень, известный как правозащитник. Так оно, видимо, и получилось. Агзамов иронично хмыкнул.
– Так что это у нас сегодня – трибунал?
– «То Высший Суд – наперсники разврата!» – напряженно заржал Игорь.
– Можно мне слово? – буднично сказал Танат. – Я считаю, что этот человек ни в чём не виноват. – И, кроме того, – обратился он к Игорю, – он сегодня спас нас от этого дикаря. – Я очень уважаю Агзама Агзамовича, – обратился он потом к Айхану. – Он – сын великого писателя, среди нас должны быть аристократы, а он – единственный, кто здесь аристократ по праву рождения.
– Но с хварной вы хватили лишку, – повернулся Танат к шаману. – Это чушь собачья! Нет никакой хварны. Если Бог умер в эпоху Ницше, какая может быть хварна? Как говорили античные скептики: это не более, чем то. Агзамыч такой же, как мы: в меру глуп, порой не в меру самодоволен. А то, что его отовсюду убрали, так устарел, пора и честь знать. Вон Делёз, когда устал от страданий, взял и спрыгнул с восьмого этажа вниз головой, как Эмпедокл в жерло вулкана. Вот это смерть философа! Вообще, я вам скажу, что только философы предназначены для смерти, а все остальные – предназначены только для прозябания.
– Я тоже думаю, что этот ваш шаман – или явно чем-то обкурился, или действует по твоему сценарию, – сказал Агзамов, жестко посмотрев на Айхана. – Я никогда не нуждался в какой-то хварне, верил только себе и своим знаниям. Я и тебя когда-то оценил, – продолжал Агзамов, обращаясь к Айхану, – из уважения к твоему интеллекту и силе характера. Но со временем характер стал в тебе самодовлеть, ты стал подчинять себе окружающих, стремиться к лидерству.
– А не кажется тебе, что всё происходило само собой? Просто я стал актуален для людей, я говорил то, о чем они думали, буром шел вперед, не сворачивал с избранного пути, вот люди и потянулись ко мне. И только тебе это почему-то стало не в радость. Ты мне помогал, когда меня никто не знал, видимо, тебе нравилось тешить свое самолюбие тем, что ты такой благодетель, но стоило мне проявить себя самостоятельно, это сразу тебе не понравилось. А ведь ты считал себя продвинутым парнем, уникальной личностью, далеко опередившей своих соплеменников! Так в чем твоя уникальность, в том, что ты строишь козни против ближайших своих друзей, тянешь их за ногу обратно в яму? Чем же ты лучше самых заурядных казахов, еще в утробе матери зачатых с комплексом неполноценности, в котором зависть – самое определяющее чувство. Уж мне-то чего завидовать, я с четырех лет заболел полиомиелитом, в шесть лет потерял отца, в двадцать лет умерла от рака мать, и, тем не менее, я шел вперед. Рожденный в станционном тупике, теперь я – кумир своего поколения! Я изначально решил, что, раз мне отказано в одном, превзойти людей в другом – в знании, образованности, культуре. Я сам себя сделал человеком, состоялся вопреки всему – происхождению, здоровью, отсутствию блата. В цивилизованных странах обычно поддерживают таких людей, вспомните хотя бы Джека Лондона или Тулуз-Лотрека, но у нас, чем больше я становился известным, тем более сгущался вокруг меня заговор молчания. Правда, был краткий период, когда мы работали с тобой вместе: создали журнал, стали создавать среду. Но тут твои друзья, все эти старые хмыри, настроили тебя против меня. И вот, когда ты отошел от меня, вокруг меня образовалась пустота. Ведь у нас не общество, а какое-то преступное исмаилитское братство, каста убийц всего живого и творческого. И тогда со мной остались только эти двое, и видит Бог, они столько же сделали для меня, сколько я – для них! Их считали алкашами, отбросами общества, а я изумлялся их свободе, независимости, эрудиции. Их отовсюду изгоняли с позором, я их приблизил к себе! Это не прибавило мне авторитета в глазах общества, зато я вырос в собственных глазах. Ибо я считаю, что все богатства этого мира не стоят одной фразы Хайдеггера, взятой им в свою очередь у Гельдерлина: «Поэтически обитает на земле человек». Поэтически, а не политически, как это происходит со многими из нас. В них меня восхищало то, что они сделали свой выбор. Кафка писал, что с определенного момента в духовном развитии человека наступает точка невозврата и что ее не надо бояться, ее надо достичь. Так вот, ты никогда не достигал такой точки, всегда оставлял лазейку, чтобы вернуться в реальность. Ты так и живешь, как оборотень, – засыпаешь волком с мыслью о мясе молодых ягнят, а проснувшись, сдираешь когти и лезешь ногами в мягкие тапочки, чтобы не выдать свою звериную сущность. Духовным существом можно назвать того, у кого есть двери восприятия, кто может впустить в себя соблазны этого мира и найти отдохновение в ярком языческом танце. И чем больше участников, тем насыщенней танец, но твои двери, увы, давно закрыты. Они у тебя выполняют не функцию входа, а функцию барьера, или преграды.
– Что ты знаешь обо мне? – презрительно процедил Агзамов. – Ты думаешь мне впервой выпасть из времени, примерить отребье изгоя? Только стоило мне подняться, как на меня стучали, и я вновь уходил на дно, вел растительное существование. Однажды меня представили к очень высокой премии, но только для того, чтобы назавтра вычеркнуть из списков. Я нигде не задерживался на работе больше года или двух, и вот, когда, наконец, настало мое время, вылезаете вы, хотя самим вам и сказать-то нечего этому миру!
– Мы, по крайней мере, не придумываем мифов, а вот ты этим занимался всю жизнь. Ведь вся твоя жизнь – это мифотворчество. Чего только стоит твоя книга «Тюркская хварна». Хварна – это изобретение иранского мира, продукт зороастризма, «Авесты». Нельзя же в пылу патриотизма попирать очевидные вещи. У тюрков божья благодать называется «кут», и он одинаков для всех смертных!
– Надо же, открыл Америку! Между прочим, я первым написал о тюркском боге Тенгри и тенгрианской благодати – «кут»!
– А мне больше нравится Ахурамазда. Все степные боги всего лишь его отрыжка! Ахурамазда – самое великодушное божество, это первый монотеистический бог в мире. Но он был столь неревнив и не завистлив, что делил свою власть и с Митрой, и с Анахитой, и со многими другими богами и очень возможно, что среди них был и Тенгри! Когда другие боги с остервенением, достойным разве что кухарок, грызлись за власть, Ахурамазда то и дело раздавал ее лакомые куски почти всем, кому придется. В результате, через много веков пришлось родиться Заратустре, чтобы власть вновь сосредоточилась в руках Ахурамазды. Но мне почему-то нравится божественная рассеянность этого небесного властителя, она идет не от слабости, а от силы, не от недостатка, а от избытка, не от изъяна, а от совершенства. Мне этот бог нравится в любом своем проявлении – от грозного божества до мелкого демона, ибо он непредсказуем, как сама действительность, а, как сказано Аристотелем, бытие мира проявляется многообразно. Особенно мне нравятся Гаты Заратустры, его разговоры с Богом. Заратустра – пророк-богохульник, он хочет лишить своего бога жертвоприношений. Но как милостив с ним Ахурамазда!
– Да что ты пристал к нему, – опять встрял между собеседниками Танат. – Хварна, кут, Тенгри, Ахурамазда – какая разница. Это все та же метафизическая мистическая белиберда и место ей – на свалке истории.
– Тебе явно хочется понравиться Агзамову, – задумчиво произнес Айхан. – Но не ты ли мне всегда жаловался на него, говорил, что это позавчерашний день, прошлогодний снег, что он элементарен, как пропись, что он зажимает наше поколение. Мне ради тебя пришлось расстаться с ним, хотя он не сделал мне ничего плохого.
– А я и говорю, что не надо расставаться, он – хороший, – спокойно продолжал Танат, – только из другого поколения.
– Но из-за него мы не едем в Америку! Он провалил наш проект!
– А это надо нам – ехать в Америку?! Кому мы там нужны? Проект! Значит, не созрел наш проект!
– Погоди, Танат, – усмехнулся Айхан, – я тебя сейчас порадую.
Потом он повернулся к Агзамову.
– Агзамыч, – помнишь мы как-то заседали на Коктюбе. – Я тогда говорил тебе, что зря ты зарубил наш проект встречи Нового года в горах, на космостанции. Помнишь, что ты тогда сказал? Ты сказал, что тебе не нужны «Иванушки Интернешнл» и что космос тебя не привлекает и что тебе нужна только родная почва.
– Да, я и сейчас так считаю, – спокойно произнес Агзамыч.
– Нет, дело не в этом! – не дал себя сбить Айхан. – Потом речь зашла о Танате. Я сказал, что он написал кандидатскую по Хайдеггеру, и это – все равно, что замахнуться на высшее, но его не допустили к защите. Я просил тебя помочь продвинуть это дело, а ты что сказал?
– Я сказал «Давай выпьем!» – рассмеялся Агзамов. – Разве не так? А что я мог больше сказать? Я не член Диссовета, кроме того, и Танат особо не рвался ко мне в друзья. Я видел его как-то мельком, но не запомнил. Разве я в этом виноват?
Айхан замедлил с ответом. Судилища не получалось. Мало того, что подсудимый не чувствовал за собой вины, не находилось вроде и потерпевшего. Айхан вопросительно посмотрел на Таната.
– Знаешь, – сказал Танат, – я тебе благодарен за заботу о моих интересах, но… Пойми, это не дело минуты. Мы – поэты, философы как зерна, только исчезнув в почве, мы прорастаем. Значит, надо просто честно сдохнуть. Нет инстанции, которая нас оценит и не нужно ее. Оценка будет только отрицательной. Знаете, с какого-то момента наступает точка невозврата. Только эту точку надо толковать в двух смыслах. Первое, – когда вы сами решили не возвращаться к тому, что было, и второе, – когда само время не приемлет вас ни на йоту. И тут уж ничего не поможет – ни гороскопы, ни удостоверения личности, ни рекомендации сверху, ни, извините, происхождение. Вот для меня самым первым философским впечатлением был Кьеркегор, потом Ницше, настало время, когда меня полностью подавил айсберг Хайдеггера. А у нас? У нас не происходит точки невозврата, у нас все повторяется до невыносимости. Наше настоящее барахтается в болоте непреходящего прошлого, и никак не может выплыть на берег. Ведь прошлое должно проходить, а у нас не проходит. Все то же советское прошлое, все тоже азиатское преклонение перед деспотом. Хорошо Достоевскому, он сразу вырос из «Шинели» Гоголя. А мы до скончания века продолжаем волочить все ту же шинель. А вы все еще продолжаете играть в деколонизацию. Да мы уже давно не колония. Нас ныне, наоборот, от самих себя спасать надо! А Вы, Вы хоть понимаете это? Вы пытались игнорировать все перемены, упрямо сидели в шестидесятых, и чего добились? Вас просто выкинуло! Не выкинули, а выкинуло! (Обращаясь к Айхану). А ты еще пытаешься суд над ним устроить. Агзамыч – такая же жертва, как мы. Ему вообще не повезло. В колебаниях между делом и творчеством, он так и не состоялся. Его жалеть надо, а не бороться с ним.
– Ну, нет, Таныч, – возмущенно произнес Айхан, – тут дело не в нас с тобой, не в нашем отношении к Агзамову. А в его отношении к нам… Мы, или, по крайней мере, я, всегда считал его лучшим из лучших в своем поколении. И, возможно, он, действительно, был таким, и даже остается таковым. Но он не видит дальше своего поколения, вот в чем беда! Кто же нас тогда оценит, когда даже в Агзамове сидит поколенческий дальтонизм?! А ведь он еще претендует на хварну, на свою особую избранность, но хварна как раз и дается, чтобы ее по цепочке передавать другим, делая род людской лучше и лучше! А что у нас с Агзамовым, «обладателем хварны»? Он не нашел ничего лучшего, как замкнуть ее на себе! Вот и подавился! Прекрасно зная каждого из нас, используя нас в своих целях, он, тем не менее, прошел мимо нас, не заметив очевидного, что, да, мы другие, но мы еще способны слышать и ощущать зов бытия, трепетно внимать миру, а вот за нами идет поколение, которое не будет ничему внимать, кроме своих расовых или животных инстинктов! Кому много дано, с того больше и спросится! Я не могу обижаться на своих братьев-казахов за то, что они не понимают ни моей философии, ни моей поэзии, но Агзамов? Агзамов-то всё прекрасно понимает! Почему тогда молчит? Почему не вступится за нас, за незаконнорожденное поколение? Мы ведь хоть и родились в советскую эпоху, духовно зачаты Перестройкой. Рождены прежде, чем зачаты, но мы так зачаты, что как плод никому не нужны!
Глаза Айхана горели, он отчаянно взмахивал руками, как бы впечатывая слова в воздух, или, пытаясь взлететь. Все заворожено смотрели на Айхана, они никогда не видели его таким серьезным. Обычно он любил пошутить, сыронизировать, а тут… Тут он шел как на смертную битву. Каждое его слово западало в душу.
Агзамыч понял, что надо срочно спасать положение.
– Слушай, Танат, не слушай его! Он сам не знает что несет! Знаешь, я не знал, что ты такой великодушный! Я такие вещи очень ценю. Я возможно и виноват в чем-то перед тобой, но, думаю, это не поздно исправить.
– Где мой дипломат? – обратился он к Маньке.
Она нагнулась и достала из-под столика объемистый кейс.
Агзамов положил его себе на колени и торжествующе обратился к обществу.
– Здесь ровно миллион долларов. Я их выиграл в казино «Шахерезада». Теперь я сам распоряжаюсь этим богатством. Но после тех речей, которые я здесь слышал, я могу поделиться только с Танатом.
– Ну, Таныч, сколько тебе нужно для счастья? – спросил Агзамыч, панибратски похлопывая его по плечу.
– Ну, мне, пожалуй, нужно все, – задумчиво произнес Танат.
– Все не могу! – как ошпаренный, вскричал Агзамыч.
– Ну, тогда половину!
– И половину не могу!
– Ну, тогда мне ничего не нужно, – равнодушно сказал Танат.
– Постой, постой, я имел в виду, сколько нужно для вашего проекта? Тысяч пять – десять хватит?
Присутствующие напряженно уставились друг на друга. Когда совсем рядом такая куча денег, никому не хотелось ограничиваться десятью тысячами.
– Ладно, я могу добавить еще с десяток, – сказал Агзамыч, и, вставив ключ, открыл дипломат.
Вместо блеска зелененьких долларов, показалась тускло отсвечивающая папиросная бумага. Агзамов порвал один слой, второй, потом стал лихорадочно рвать другие слои. Бумага отлетала клочьями. На самом дне показалась книга Агзамова «Тюркская хварна», но чуть глубже оказалось такое, что книга выпала из рук Агзамыча. Там лежала гуттаперчевая ладонь, сложенная в увесистый кукиш. Агзамыч поднял «кукиш», но под нею уже ничего не было, да и как бы мог поместиться в небольшую выемку миллион долларов?
Все так и застыли, только один Айхан не выдержал и расхохотался.
– Ой, не могу! Вот это миллион – только на кукиш и тянет! Ты прав, Игорь, талант не пропьешь, власть не переиграешь!
Агзамыч, не раздумывая запустил в Айхана фигой, но она пролетела выше его головы и с грохотом опустилась на проигрыватель.
В это время раздался требовательный стук в дверь. Она оказалась не запертой, и не успел Игорь подняться, как в квартиру ворвался до боли знакомый коренастый сосед, только на этот раз с топором в руке. Но если бы в руке его был только топор! На голове его был шлем с каким-то пышным опереньем, на груди – кожаные доспехи, на коленях – кожаные же наколенники.
– А к-ху ли, – сказал он, не успев войти. – А кху ли вы отсюда не уходите? Вы мешаете спать! Всем! В том числе и мне! И вообще, мне особенно!
Чувствовалось что он изрядно выпил и, видимо, с определенной целью. Ведь трезвый казах – это стопроцентный подкаблучник, а пьяный – эпический герой. «Герой» еле держался на ногах, но в вяло опущенной правой руке он сжимал настоящий боевой топор.
– Вот, полюбуйтесь! – осклабился в саркастической улыбке Айхан. – Если вы раньше думали, что големы бывают только у евреев, то это наш казахский голем, изобретение наших духовных вождей.
Тут последовал выразительный взгляд в сторону Агзамова.
– Они всё кричали, что затирают казахский язык, но разве когда-либо был у нас иной язык, кроме языка топора и сабли? Вот и докричались! Один я с середины 90-х пытался привить этому народу язык философии, но разве меня кто-нибудь послушал? Разве жалкие тиражи моих книг могли дойти до этих воителей?! И разве можно встретиться с ними в космосе мысли? Нет, только в тесной квартире, где без драки не разойтись!
Танат встал и подошел к соседу, который, заозиравшись, и, видимо, постепенно трезвея, стал медленно поднимать топор.
– Слушай, ахмак, пошел вон, это моя квартира! – вдруг сказал Танат, встав напротив «воителя». Можно было ожидать, что сосед взмахнет топором и отрубит ему голову, но нет, тот даже опешил.
– Может, это твоя квартира, – медленно произнес сосед, – но это моя земля. И на ней не должны жить такие люди как вы. – Почтенный, – обратился он к Агзамычу. – Я же ради вас их простил, почему же вы их не убрали отсюда?
Сосед говорил по-казахски, Танат отвечал по-русски. Беда русскоязычных в том, что они понимают по-казахски, а их оппоненты ничего не понимают.
Агзамыч зашел в тупик. Но не таков был Айхан, он сунул руку за пояс, вытащил оттуда револьвер, взвел курок и наставил его на соседа.
– А ну, брось топор, верней, медленно опусти его на пол.
Ошарашенный сосед немедленно исполнил приказание.
– Ты это того, не шути! Эта штука ведь стреляет! – вскрикнул он напоследок.
– Думаешь, инвалиды оружие не умеют держать? Еще как умеют. Вообще, ты не воспринимай всерьез мое инвалидство. Мой образ создан как бы в назидание потомкам. Я не инвалид, а пародия на ваше социальное и национальное инвалидство. Мы, казахи, по словам одного своего классика, столько раз умирали и возрождались, что и не помним себя в первозданном величавом виде. То мы зависели от иранцев, то от китайцев, то от монголов и каждый из них ломал нам хребет, пересоздавал по своему образу и подобию. Все эти перипетии как бы отлиты в моей фактуре: у меня высокий арийский лоб, широкие монгольские скулы, хитрые узкие китайские глаза. Позвоночник мой не перебит, но нервы, отвечающие за движение съедены в нем вирусом полиомиелита. Так и наше общество крайне заражено вирусом политизации. Мы сейчас не смотрим на себя, не выясняем, в каком состоянии мы находимся. Это в нас говорит комплекс инвалида. Ведь инвалид всегда хочет казаться лучше, чем есть. Он старается по возможности скрыть свои недостатки и выпятить малейшие свои достоинства. Вот и мы откровенно хотим казаться лучше, чем есть, пусть у нас самая высокая подростковая смертность в мире, но мы объявляем себя лучшими в Европе и Азии, лучшими во всем человечестве. Но при этом, как передо мной – костыли, за нами волочится хвост атавизма с такими неотразимыми прибамбасами как племенная идентичность, культ ханской семьи и любовь к жизни на халяву! А молодежь наша готова есть все, что бы ей не предлагали – пиццу, суши, западную музыку, восточные единоборства. А наше, свое, национальное, с каждым годом становится все невостребованней. Особенно это касается нашего языка. Хотя для него у нас созданы самые льготные условия, другие народы учат его как из-под палки. Так нам бы успокоиться, расслабиться, приняться, наконец, за развитие культуры, искусства, философии, но нет, наш казахский язык, как девушка на выданье, над которой бдят сонмы нянек и повитух, которые уже взрослую девушку опять кладут в колыбельку, обрубая ей все, что не соответствует колыбельному размеру – размеру их убогих представлений о языке. Из языка поэзии и эпоса они хотят сделать топорный канцелярский язык, где половина современной лексики не у народа взята, а придумана горе-умельцами от языкознания.
Айхан сделал паузу. Потом воззрился на казаха, потупив глазки посматривающего на свой топор.
– Нельзя из языка выхолащивать главное – его душу, иначе язык из средства общения превратится в топор, отсекающий все цветущее и жизнеспособное. Кто вам дал право так уродовать свой родной язык? Земляк, а ну, подними топор!
– Но зачем? – сосед, нагнувшись, поднял топор.
– Ты съешь его, – невозмутимо отвечал Айхан.
– Но как, ага? Я же не смогу.
– А размахивать топором ты смог? Угрожать им сумел? И вообще, как ты посмел ворваться в чужую квартиру с этим своим троглодитским топором? Это опасное оружие в руках пьяного человека! Если ты чем-то недоволен, мог бы вызвать милицию! Но вот так врываться и творить самосуд – тебе никто не давал такого права!
– Но я же…
– Заткнись, умница! – Айхан нацелился прямо в лоб трясущемуся соседу.
Потом, озираясь, он прошелся взглядом по всем присутствующим. У всех был такой жалкий, испуганный вид, что он рассмеялся.
– Всё, друзья, концерт окончен. Зрители расходятся по домам.
– Но Айхан, так нельзя, – залепетал сын великого классика, – давай отпустим этого, пусть он извинится и катится. А мы посидим, разберемся во всем.
– А в чем тут разбираться? Ты как всегда стоишь на своем, ну и мы на своем. Так что, давайте расходиться. А с этим я сегодня точно разберусь, – подытожил свою мысль Айхан.
Но не успели присутствующие подняться с мест, как сосед, бросив на пол топор, побежал, вскочил на подоконник и сиганул в открытое окно. Все побежали к окну, но соседа нигде не было видно.
– Ребята, айда искать, пока не поздно! – вскричал Игорь, и все побежали вниз.
Агзамов хотел было помочь Айхану, но тот его только похлопал по плечу.
– Агзам Агзамович, живи теперь сто лет. Ты, как и всякий казах, неуязвим для земного суда. Скажи теперь, хочешь ли вернуться в свою прежнюю жизнь или останешься с нами?
– А кто меня вернет в мою прежнюю жизнь? Разве это возможно?
– Все зависит от твоего выбора. Если хочешь вернуться к своей прежней жизни, наш шаман вернет тебя.
Агзамов пристально посмотрел на шамана и сказал:
– Знаете, давайте не будем испытывать судьбу. Возврата к себе прежнему я уже не выдержу. Я понял что-то такое, с чем я уже вряд ли захочу расстаться. Слишком многое мной пережито. Так что, дайте, пойду, глотну воздуха, потом посмотрим. Шаман, я поручаю тебе Айхана, – сказал Агзамыч и зашагал к двери.
Выйдя, он повернул за угол и увидел Игоря и Таната, несущих соседа на носилках к скорой. Маньки нигде не было видно. Мужчина на носилках вырывался и кричал, но идущий рядом медбрат крепко держал его за руки, а ребята бодро тащили к машине. Агзамов поднял голову и увидел открытое окно на четвертом этаже. Рядом с ним стоял развесистый карагач. Под деревом валялся надломившийся сук с пышной листвой. Видимо, «герой» в падении зацепился за сук и это спасло ему жизнь. У Агзамова отлегло от сердца и он повернул в сторону остановки. На остановке стояла женщина с грудным младенцем, кроме нее никого не было. Агзамыч подошел и встал с ней рядом, сам не понимая, что он тут делает и какой автобус ожидает. Вдруг женщина повернулась к нему и сказала: «Хотите купить ребенка? Я его могла бы продать. Вы с виду такой положительный. Наверное, есть жена, семья, вам лишний ребенок не помешает?».
– Видите ли, – неуверенно произнес Агзамов, не зная как продолжить.
– Посмотрите, какие у него родинки! Показала женщина, чуть распеленав ребенка. – Это значит, что он – носитель хварны, причем царской хварны, такие дети рождаются раз в столетие, – продолжала убеждать его женщина.
«Сегодня почему-то все помешались на хварне», – грустно подумал Агзамов.
– Но почему Вы его тогда продаете? – спросил он у женщины.
– Понимаете, он незаконнорожденный. Я родила его по любви, но не в браке. Его отец – классик нашего кино, но… Но он не желает признавать этого ребенка. А я… я не хочу, чтобы он рос нищим. Уж лучше пусть умрет.
– Я бы взял его, – искренне произнес Агзамов. – Но я в разводе, у меня нет ни семьи, ни работы, ни дома. Мне попросту не на что жить. И все же…
Он протянул было руки к ребенку, но было поздно, женщина увидела приближающуюся машину, и когда до нее осталось несколько метров, подбежала и положила на асфальт ребенка. Вскоре стало даже видно, как водитель повернулся к пассажиру и о чем-то с ним разговаривает. Агзамычу внезапно изменило привычное ему благоразумие. В каком-то нечеловеческом порыве он бросился за ребенком, но упал, сбитый машиной. Раздался визг тормозов. Все это произошло в мгновение ока. Последнее, что пронеслось в его мозгу: «Опять не успел!». Но это было не самым последним его впечатлением.
Его раздробило на тысячи кусков и в последнем проблеске сознания ему казалось, что он летит в Америку в салоне комфортабельного самолета, но вдруг могучий «Боинг» врезался во что-то несокрушимое. И это несокрушимое было еще более несокрушимее, чем он, Агзамов. Но эту мысль он так и не смог додумать.
Вместо эпилога
Манька сидит у себя дома и смотрит телевизор. По телеку передают случай с Агзамычем. Она видит покореженный бампер «Ауди», труп Агзамыча и его перекошенное то ли от гнева, то ли от боли лицо. Что интересно, ребенка, видать, не задело. Мать, стоя в толпе, вновь держит в руках запеленутое дитё. Но Маньку поражает неестественное запрокинутое лицо Агзамыча.
– Господи, да это же он! – всплескивает она руками. – мама, мама, иди сюда! Твой муж умер!
Вбегает мама Маньки, молодящаяся брюнетка с длинными волнистыми волосами.
В кадре Агзамыча кладут на носилки и несут к скорой. Лоб у него разбит, со рта течет кровь.
– Доченька, доченька, не смотри! – подбегает она к Маньке и закрывает ей глаза.
– Нет, почему же? – вырывается она из-под рук маменьки. – Я должна насладиться этим зрелищем. Это ведь я должна была его убить, и убила бы, если б мне не помешали! Я даже подготовила красочное видео, которое он должен был бы посмотреть перед смертью. Вот оно, смотри! – достает из сумочки кассету и всовывает в видеомагнитофон.
Дочь с мамой садятся по креслам у журнального столика с шампанским и двумя бокалами. Изображение дрожит, но вскоре на экране появляется Манька.
– Это будут твои последние кадры! – заявляет она с экрана. – Я не зря таскалась с тобой с тех пор, как ты попал в эту историю. Ты и попал-то в эту историю исключительно благодаря мне. Не нужен ты не Нуриеву, ни этим моим хухрикам, ни тем более, власти. Это все я подстроила, начиная с ордена и до судилища в микрах. Для этого мне пришлось со всеми переспать, вплоть до твоей секретарши, но что не сделаешь для того, чтобы сжить со свету своего папашу, который породив тебя в порыве бешеной страсти, бросил потом на произвол судьбы. Да, я твоя дочь от твоей первой жены, о которой теперь никто и не знает! А разве не она тебя сделала человеком? Печатала на машинке твои труды, устраивала пресс-конференции. Потом случилась эта страшная история с твоей книгой! Но и тогда она не покинула тебя, была рядом. Но потом бросился в пропасть этот Адоев, а тебе пришлось писать покаянное письмо. После этого ты как с цепи сорвался! Бросил нас с мамой и уехал в археологическую экспедицию. С тех пор ты не возвращался. Я росла, как в поле трава, мама с горя бросилась в религию. Неожиданно в ней открылась способность к целительству и предсказаниям. Но ее интересовал только ты, она решила во чтобы то ни стало отомстить тебе, убить тебя. Но уже просвещенная в мистике и демонологии она поняла, что ты особый, что тебя защищает хварна. Но она знала также, что любое отступление от своего пути лишит тебя хварны, с тех пор она стала сбивать тебя с пути, ввела в высшее общество, сблизила с властью, поссорила с оппозицией. Да, да, это все дело рук скромной, хрупкой женщины, которая являлась тебе под разными обличьями, но ты никогда не узнавал ее, ибо никогда не любил! Потом подросла я и решила убить тебя, несмотря ни на какую хварну. Ведь к этому времени в маме проснулось милосердие, она решила вновь сойтись с тобой, если ты устроишь меня в МГИМО. Но когда она через столько лет пришла к тебе с этой просьбой, ты не пустил ее даже за порог своего дома, говоря, что не хочешь разрушать свою новую семью. Тем самым ты подписал себе приговор. Теперь мы решили не убивать тебя, а лишить всего, чем ты дорожишь – уважения, положения в обществе, твоей новой семьи, незыблемого авторитета и ткнуть тебя мордой в дерьмо уличной жизни, в сообщество бомжей и неудачников, оставшихся на обочине жизни. Но ты впервые увидел в них людей, и это стало вновь обогащать тебя, укреплять тебя. К твоему удивлению они, хотя некоторым из них ты в свое время перекрыл кислород, оказались не мстительны, а мудры. В принципе они даже не считали, что ты им в чем-то помешал. Но об этом прекрасно знали мы с мамой.
Тут мать выдернула у дочери пульт и выключила видео.
– Мы тогда проиграли… – горько сказала она в сторону дочери. – Его спас этот дикарюга Айхан, иначе наш палач снес бы ему голову.
– Но ты же видишь, он же потом сам ушел из жизни. Может, это твой запасной вариант? – заговорщически посмотрела дочка на мать. – Ты решила сыграть на его любви к лжесостраданию и подослала к нему эту бродяжку с ребенком?
– Как ты догадалась?
– Я же все-таки твоя дочка! – рассмеялась Маша.
– Запомни, дочка, – есть только одна война: война между мужчиной и женщиной. И в ней всегда побеждать будем только мы! – сказала мама и, улыбаясь, чокнулась с дочкой бокалом шампанского. Но потом в ней как будто что-то проснулось. Она поставила бокал на столик и стала подниматься с кресла.
– Нет, дочка, я пить не буду. Сегодня мне нельзя. Сегодня я должна прочитать свою эонную молитву, и тогда она, наконец, сбудется.
– А эон это сколько?
– Это период времени, в миллионы раз превышающий жалкую человеческую жизнь!
ЭПИЛОГ
В своем занебесном чертоге за огромным письменным столом восседает Ахурамазда в просторном персиковом халате, подпоясанном зеленым кушаком. В левой руке он держит ваджру – копье со сверкающим острием, над которым стоит некое потрескивающее сияние. То же сияние стоит над его огненно-рыжими волосами, ниспадающими ниже плеч. Сияние божественного фарна столь нестерпимо, что, кажется, сейчас раздастся разряд грома, и от бога останется только горстка пепла. Между тем, бог пытается стучать по клавише компьютера, при этом он отпускает ваджру, и та падает, рискуя сразить монитор, бог хватается то за ваджру, то пытается отстукать букву, и, наконец, не выдержав, кричит:
– Даэна!
Входит нестерпимо красивая секретарша.
– Да, мой Господь!
Бог, поймав ваджру, любуется на свою секретаршу.
– Неужели я так красив?
– А как же, Господь! Я же всего лишь образ твоей души, а у вас и тело есть, и оно при вас. Посмотрите на себя, как вы великолепны!
Бог озирает себя и расплывается в довольной улыбке.
– Да, я само совершенство.
Потом опять смотрит на секретаршу.
– Но ты… ты даже меня совершенней!
– Я просто отражаю совершенство вашей души!
– Ну-ка, скажи тогда, что означают твои ноги?
– Быстроту вашей мысли, Господь!
– Колени?
– Гибкость вашей мысли!
– Хм… а эти… как их… б-бедра?
– Полноту и зрелость вашей мысли!
– Ты хочешь сказать, что я только о них и думаю?
– Вовсе нет, вы думаете о гораздо более глубоких вещах!
– Хм… и где же это находится?
– Это находится так глубоко и в такой дремучей чаще. Это нечто зияющее, которое вечно зовет в себя, но стоит туда попасть, как становится так липко, как… как…
– Как, как, закакала тут мне – как где?
– Как во всякой грязной, развратной, похотливой мыслишке! – не выдерживает секретарша.
– А согласись, что и ты, и я не чужды этой мысли или как ты говоришь, мыслишки! – весело смеется бог.
– Да, ничто человеческое нам не чуждо, – улыбается секретарша.
– Но почему тогда это вожделенное место не расположено на лбу? – недоумевает бог.
– Тогда никому не было бы интересно, – мудро ответила секретарша. – Притягивает только то, что невидимо, темно и липко. И чем больше хочешь отлипнуть от этого, тем больше в это влипаешь. А зачем вы меня собственно вызывали?
– Да я тут одну ошибку нашел в списке, обладающих хварной. Хочу исправить, но разве с этой ваджрой освоишь компьютер.
– А вы отложите его в сторону!
– Что – ваджру? Ты в своем уме? Это никак нельзя.
– Почему?
– Это же мое божественное достоинство!
– И вы с ним никогда не расстаетесь – ни днем, ни ночью?
– Да, он всегда при мне. Представь, если он вдруг сорвется, весь мир рухнет.
– Ну, тогда отдайте его мне. Я подержу, а вы разберетесь со своим списком.
– А ты не рухнешь?
– Если рухну, то только с ним. И никогда его не упущу!
Бог простодушно бросает свою ваджру секретарше, но тут происходит что-то ужасное – гром и молнии, копоть и чад, – все заволакивается дымом. Секретарша куда-то исчезает, а вместо нее из клубов дыма и огня выходит Агзамов с лицом в крови и копоти и склоняется в земном поклоне перед Господом.
– О, великий Ахурамазда, я спас ребенка!
– Зачем?
– Чтобы предстать перед тобой!
– И чтобы я увенчал тебя сиянием хварны.
– О, да!
– Тогда возвращайся на землю!
– За что?
– За самозванство. Пойми, ты всегда занимал чужое место. Сегодня до меня дошла молитва, и не от кого-нибудь, а от твоей первой жены! Ну, я сразу за компьютер, он же у меня самой последней модификации.
Бог изящным движением руки включает компьютер, который несмотря на конец света, работал как в будни.
– Вот смотри, я пишу на компьютере «Агзамов», а эта фамилия стирается и вместо нее проступает «Муканов». В небесной канцелярии иногда бывает такое. Как звали твоего отчима?
– Му-му-муканов, еле выдавливает из себя Агзамов.
– Вот видишь, значит, ты рожден не от Агзамова, а от того, кого ты считал своим отчимом. Это произошло, когда твой отец сидел в тюрьме. Но, по-своему благородству, он признал тебя своим сыном. Поэтому нет у тебя никакой хварны. Тем более, жреческой. Вертайся на землю и сумей найти себе предназначение. И вообще, мне сейчас некогда.
Бог выходит из-за стола и, пнув под зад Агзамова, бежит за секретаршей.
– Даэна, отдай ваджру! Отдай, сучка!
Гоняется за ней по облакам и кабинетам.
– Не видать тебе этой палки, как своих ушей! Надо же, за единственным своим инструментом не уследил! И тебя-то называют самим совершенством?! Но если ты ошибаешься, к чему ты нужен? Теперь я буду править этим миром, я, Анхра-манью, Манька-Обманка!
Разражаясь гомерическим смехом, секретарша, слившись с ваджрой в несокрушимый болид, скрывается в глубинах космоса.
…………………………………………………………………………………
Агзамов открывает глаза в больничной палате и ему кажется, что все это сон. Но нет, он лежит на больничной кровати с забинтованной головой и с единственным глазом, скорее похожим на гнойную рану. Глядя в сторону окна, он медленно говорит:
– Да… Не вышло из меня спасителя человечества, даже человека не смог спасти. А эти недоросли хотят, чтобы я их за руку привел в культуру, сказал всем, что они не обезъяны. Нет, дорогие, это самим надо доказывать, причем всю жизнь. Надо же, собрались в Америку! Нужны вы там больно! Она утопает в собственном счастье. А как же, это страна победившего феминизма! Вон даже конец истории объявила, правда, почему-то устами японца. Да и вы если и нужны ей, то только для того, чтобы вправить вам мозги и заставить вас говорить то, что нужно ей, а не вам. Вот так-то… Если я чего-то и боюсь, то этих ужасных мисс Ноль, обритых женщин, ведь господство женщин – это всегда сведение всего к нулю. Ведь из них ничего не выпирает – ни мозгов, ни прочего. Случилось непоправимое – мир стал однозначно однополярным, правда, теперь он идет не к плюсу, а к минусу, где правит не голова, а жопа и прочие жопоголовые элементы. Мне теперь за державу обидно. Она теперь стала банановой республикой с интеллектом Чунга– Чанга… Вот до чего довела жополизация!.. Жизнь мудрее теорий и никогда не кончится, кто бы что ни говорил. Завтра я открою окно, и меня волною свежего воздуха окатит вечно синее небо, или улыбающийся Кок Тенгри, Вечный Небесный Бог. Не надо мне никакой хварны, лишь бы Тенгри наш победно шел по Земле… Но что это со мной? Мне все хуже и хуже… Я не…
Агзамов в пароксизме страха теряет сознание – окончательно или нет, бог его знает…
Сальто мортале
Манька-Обманка летела по космосу туда-сюда, с востока на запад и с запада на восток и вдруг каким-то образом очутилась на планете Земля. А там, как известно, земное притяжение. Вот и кинуло ее на землю, а сверху еще и ваджра упала. Так закончилось состязание женщины с мужским всепроникающим началом. Тут возник Ахурамазда, как всегда сиятельный и с фарном над головой.
– Ну, как, не по Маньке шапка оказалась.
– Господи, помилуй! – прокричала из-под ваджры Манька-Обманка.
– Э, нет, это не я решаю. Вот если бы тебя кто-то из землян пожалел…
Тут как был в больничной пижаме и с забинтованным лбом возник перед Богом Агзамов.
– Я… Мне… Я жить хочу! – вдруг отчаянно вскричал классик. – Придумайте что-нибудь, умоляю.
– А ты не мог бы пожалеть эту несчастную девушку.
– А кто она?
– Ты мог бы спросить чего-либо полегче? Как «кто она»? Известно «кто» – женщина. Только ее не я создавал. Ее Анхра-Манью создал. А я, признаться, из жалости придал ей человеческий облик. Вместо льда, который был в ее груди, я вложил туда сердце. Тоже не бог весть какое чудо, но, все же, оно способно на чувства.
– Тогда в чем ее вина? Почему ее надо пожалеть?
– В частности, она хотела убить родного отца. Кстати, отцом своим она считала тебя.
– Меня? Так вот откуда все мои напасти?! Но почему меня? Я не помню, чтобы у меня была внебрачная дочка.
– Самое смешное, она тебе действительно не дочь и ты не отец ей…
– Но тогда как же так? Почему возникла эта вся катавасия?
– Это все – происки ее матери, твоей бывшей жены. Она так возненавидела тебя после развода, что и дочь свою от другого мужчины воспитала в ненависти к тебе, нашептав ей, что ты – ее негодный отец. И все же, между полами не должно быть ненависти, между ними должна быть любовь. Когда нет любви, мир погружается в холод ненависти – космический холод, где царствует не тварь, а утварь. Все это отдаляет творца от творения. Ведь я тоже жив только вашей любовью. Вот и получается, что крах любви в этом божьем мире – это и крах бога, и крах человека, что бы там они ни грезили о своем величии… Нет, я не умер, я на грани. Ах, если б знали вы как трудно эквилибрировать на грани, вибрировать там, где нет ни отклика, ни чувства. В этом захламленном машинами и тщеславием мире я больше всего люблю писателей и поэтов. Если я пока еще жив, то только трепетом их сердец, их тоской по вселенскому общению. В общем, сделаем так, я же когда-то дал тебе хварну, а потом ее забрал, но я могу тебе ее вернуть, если ты простишь эту девушку не как чью-то дочь, а как тварь божью, чье сердце – часть божественного помышления.
– Для меня это не так легко, Господи!
– Но ты же тогда хотел спасти того малыша, попавшего под машину.
– Но он не сделал мне ничего плохого!
– Но и ничего хорошего! Просто ты пошел на этот жест из-за тщеславия, чтобы отличиться передо мной. А вот теперь я прошу тебя, а ты не хочешь. Это же надо – сколько в тебе ненависти к этому глупому и беззащитному существу!
– У меня одна жизнь, Господи, и я не заслужил, чтобы мне так мстили!
– Но если ты ей будешь мстить, это же будет только актом умножения зла в этом мире.
– Господи, я кажется что-то понял… Ты, кажется, вразумил меня, Господи…
Дай подумать… додумать эту мысль!
– Вот и думай… а как надумаешь, напиши книгу, но муза в данном случае будет для тебя только обузой. Поэтому я сейчас превращу ее в гусиное перо, легкокрылого Гермеса, посредника между мной и тобой…
Дует на Маньку-Обманку и превращает ее в гусиное перо.
Оно кажется таким легким, воздушным, но когда бог поймав ее, бросает Агзамову, тот сгибается под ее тяжестью и непроизвольно взмахнув руками, упускает перо, игриво вспорхнувшее в воздух.
………………………………………………………………………………
Агзамов так и просыпается в больничной палате с руками, протянутыми в вверх, к потолку.
– Перо! Верните мне перо! Мое божественное перо. Я прощаю эту тварь, о, Господи! Мало того, я, наконец, напишу всю правду о себе, чего бы мне это не стоило!
Руки его плетьми падают на постель, голова – на подушку и он опять проваливается в сон.
Из открытого окна, перевернувшись в воздухе, опускается ему на грудь белое гусиное перо. Агзамов во сне счастливо улыбается. Так, как будто бы это перо и во сне щекочет ему ноздри…
Непрошеные гости
Агзамов в больничной пижаме сидел у окна на стуле и читал газету. Обстановка в палате была самой спартанской. Напротив окна стояла койка с покрывалом и подушкой, рядом – тумбочка и собственно, более ничего. В дверь постучались.
– Да, заходите, – благодушно отвечал Агзамов.
Дверь открылась и вошла стильно одетая Манька все с той же лысой головой, а за ней, кто бы вы думали, – сам Агзамов Агзам Агзамович, в дорогих очках, с кейсом из крокодиловой кожи и в той же коричневой тройке, которая по законам элементарной логики давно должна была быть продана бандитами из подземелья. Они быстро прошли в палату и человек в роскошной тройке с несколько извиняющейся улыбкой настоящего, супернастоящего Агзамыча протянул руку для приветствия. У человека в больничной палате как-то абсолютно невежливо опустилась челюсть и выпала из рук газета. Повисла неловкая пауза. Сверхнастоящий Агзамов все также продолжал стоять с протянутой рукой.
– Да опусти ты свою швабру! – подошла к нему Манька и опустив ему руку повернулась к Агзамычу.
– Что – глазам своим не веришь? Можешь ущипнуть себя за нос, но это ты и только ты и другого тебя больше быть не может!
– Но я же… вот он же я… – беспомощно пробормотал Агзамов. – Я – живой, как видите…
– Это ты для себя живой, – безапелляционно заявила Манька. – А для всех ты отныне будешь гражданин Индии – Премчанд Сантаяна. Для удобства можешь считать это своим вторым воплощением. Нирваны не получилось, уж слишком много грехов на тебе. Как бы то ни было тебе уже больше не быть Агзамовым.
– Это с какой стати? – возмущенно произнес Агзамов. – Ты что Господь Бог, чтобы лишать меня собственной сути?
– А суть Агзамова – другая! – грубо оборвала его Манька. – Он – добрый, милый, уступчивый, очень воспитанный и великодушный! – улыбнулась она под конец. – Нашему времени не нужен Агзамов, общающийся со всякими бичами и бросающийся под машину, нам нужен стопроцентно предсказуемый Агзамов, не выкидывающий никаких фортелей. Но поскольку ты нас убедил, что ты – существо неуправляемое, мы создали тебе замену. Знакомься, это киберагзамов, созданный по твоему генотипу и стереотипу мышления. А управляется он импульсами моего мозга, ведь я твое естественное продолжение. – А ну-ка, киба, покажи свое искусство, – воззрилась она на робота.
Он некоторое время смотрел на нее, старательно воспринимая необходимые указания, потом подошел к Агзамову, поднял его со стула, усадил на кровать и участливо посмотрев в глаза, как это было свойственно только Агзамову, начал свою речь.
– Дорогой Премчанд, я понимаю, что новая твоя идентичность пока совершенно чужда тебе и вызывает полное отторжение, но это же временное явление, скоро ты привыкнешь к нему. И на этом пути утешай себя тем, что это твоя жертва во имя развития твоей нации, ради продвижения тюркской идеи, ради стабильности и мира на твоей земле….
Кибер в каждой своей интонации настолько был похож на оригинал, что Агзамова вдруг окатило теплой волной, он почувствовал полное доверие к этому существу и его охватила такая благодарность, какая обычно охватывала людей по отношению к настоящему Агзамову. И, видимо, все прошло бы без сучка и задоринки, если бы тут не вмешалась Манька.
– И знай – это не просто слова!
С этими словами она взяла у кибера кейс, подтащила к кровати стул, положила на него кейс и щелкнув замком, открыла его. Там лежали загранпаспорт, авиабилет и полный дипломат зелененьких долларов.
– Вот, смотри, это все теперь твое! Здесь миллион долларов – тех самых, которые ты тогда выиграл! Возьми и улетай в Индию хоть сегодня, но для полноты картины ты должен плюнуть ему в рот и тогда он полностью воспримет твое ДНК и станет тобой!
С Агзамовым стало происходить что-то ужасное, он только что было расплылся в улыбке от благодарности, но потом его лицо вытянулось в недоумении, глаза широко раскрылись и в следующий момент он впал в такую ярость, что было впору разверзнуться земле.
– Ах, ты исчадье дикого рынка, несчастная продажная девка! Да ты никакая не дочь мне, поняла! Эта твоя мать всю жизнь обманывала тебя, чтобы отомстить мне! Так что вы никоим образом не можете на меня влиять. А значит, то, что произойдет – это мой выбор! Так вот, не поеду я ни в какую Индию! Я здесь останусь, на своей земле и приму свою судьбу, какой бы она ни стала! Пусть я стану бомжом и алкоголиком, но я сумею поднять народ против тех, кто все подлинное, свое хочет заменить чужим суррогатом, кто продал уже не только нашу землю, но и все ее подземные богатства, кто само национальное сознание подменил демагогией и пустыми лозунгами, кто ограбил свое потомство на десятки лет вперед! А этих обосранных цинизмом денег не надо ни мне, ни вам!
Агзамов схватил дипломат с долларами, подбежал к открытому окну и выкинул его. Доллары зелеными комьями стали медленно растекаться по небу, пачки в воздухе стукались о сучья деревьев и доллары сыпались вниз зеленым, благодатным дождем.
Манька и кибер тут же бросились вон из палаты.
Агзамов некоторое время простоял у окна, смотря на пролетающие мимо доллары. Внизу творилось что-то невообразимое. Люди ловили доллары с неба, подбирали с земли, радостно делились друг с другом.
– Ну что ж, начало положено! – улыбнулся воодушевленный Агзамов. – Это дар Тенгри, и значит, хороший знак. Как говорится, распопоролось брюхо белой верблюдицы! Значит и мне пора переступить порог невозврата. Да мне и в самом деле некуда больше возвращаться. Только вперед – как можно дальше от того конформиста, каковым я был всю жизнь. Я-то людей жалел, а их жалеть нельзя. Это пристало только богу. А так: все люди − равнодостойные, как говорят наши жырау, и, потому, пусть каждый отвечает за себя.
Агзамов оглянулся, у него теперь даже вещей не было. Агзамов застегнул пуговицы на пижаме и вышел из палаты. Улицы он не боялся. Она с детства была его стихией.
Зеркало Атымтая Рассказ
Когда я думаю о нем, мне больно и грустно, его смерть была первой осознанной потерей в моей жизни, означив рубеж, за которым многое кончилось: и моя способность к глубокой привязанности, и моя былая открытость, и желание жить интересами какого-то сообщества. Без него я впервые ощутил одиночество во всем его экзистенциальном ужасе, как невозможность соприкосновения с людьми. Когда-то я не мог докричаться до них, теперь они не могли бы достучаться до меня. Я был не то что пуст, я все время обваливался, каждое чужое прикосновение сдирало с меня кожу, а ведь душа не может чувствовать себя без плоти. И, возможно, первой потерянной мной оболочкой был он, Атымтай, мой каган, мой император, мой друг…
Я не представляю его бегущим или едущим в машине, я представляю его только грустно шагающим по осеннему или зимнему городу, шагающим не спеша, в полном одиночестве, как бы волокущим свою тень… Его шаги отмеряли не столько, сколько ему осталось жить, но скорее – сколько им пройдено, удлиняясь на шаги нескончаемых дум, написанных и не написанных стихов, на обрывки бесед и состояний, на еле всплывающие блики былых озарений.
Итак, если бы решился о нем написать, я начал бы так…
По осенней Алма-Ате, величественно вышагивая, шел человек в черном кожаном плаще – небольшого роста, но плотный, с еле видными признаками седины в волосах и усах. Было явно, что он весь в себе и ничего не замечает вокруг – ни цепи угрюмо нахохлившихся пятиэтажных домов по обе стороны улицы, ни оголенных деревьев, ни шуршанья листвы под ногами, ни луж на тротуаре, ни этого чудесного осеннего воздуха, смешанного с землею и сыростью. И никто не мог бы подумать, что пять минут назад он выскочил из своей квартиры, захлопнул дверь, пнул ее, и нервно простучав каблуками по лестнице, выбежал из подъезда. Теперь когда он, спустившись по Маркова почти дошел до Тимирязева, перед глазами стояло яростное как у Мегеры, лицо жены, попрекавшей его безденежьем и неспособностью жить, или точнее, неспособностью жить без водки, или если еще точнее, неспособностью жить без фантазий. Ей, как и всякой умной, достойной женщине казалось, что стоило бы ему с высот своих грез спуститься на грешную землю, у него вместо иллюзий были бы деньги, пусть сначала хоть и небольшие, зато потом она помогла бы ему развернуться. Ведь она-то, Заягуль, была пробивной бабой, если бы не он, их дом давно был бы как полная чаша, да и карьеру сделали бы не хуже других. Логика, казалось бы, неотразимая, но только не для Атымтая. В последнее время он вообще был встревожен поведением жены. На его взгляд, с ней творилось что-то неладное. Раньше, как и все их атеистическое поколение, она была равнодушна к религии, но сейчас когда с неожиданно объявленной эпохой гласности вылез весь этот религиозный дурман с культом астрологии и мистики, когда вслед за почти примелькавшимися кришнаитами стали шастать Свидетели Иеговы, а за ними и мусульмане с Кораном и четками, его жена стала водиться со всякими целительницами и святыми старцами, в результате чего, ранее неколебимый авторитет мужа, стал расшатываться с невиданной силой.
Вот и сегодня с утра вместо того, чтобы сбегать в магазин и похмелить мужа, она заявила, что едет на паломничество в Арыстанбап и забирает с собой дочку, поскольку ее не с кем оставить.
– Как это не с кем? – , возмутился Атымтай. – А почему со мной нельзя? Я что – труп что ли?
– Труп не труп, а толку от тебя мало! Мы же тебя с ребенком целыми днями не видим! Все шастаешь со своей шелудивой кодлой по барам да пивнушкам! Рад стараться, что всякие пацаны-поэтишки величают тебя каганом, а на деле разыгрывают из тебя шута горохового, – махнула на него рукой Заягуль.
– Слушай, что с тобой случилось? – спросил Атымтай затянувшись сигаретой. – Ты же их всех знаешь, с каких пор они стали для тебя кодлой? Кодла – это бандиты или мафиози, а в них ты что нашла мафиозного? Это же молодые поэты и каждый со своей непростой судьбой, но зато и со своим голосом, с желанием и способностью сказать что-то свое.
– Но почему тогда только один ты должен с ними нянчиться? Вон же есть Союз писателей, секретариат, секции всякие, пусть там собираются, а не прожигают свою жизнь по кабакам.
– Да там одни мертворожденные мутанты, в твоем Союзе, – усмехнулся Атымтай. – Вот кого я назвал бы мафиози, а не моих нойонов.
– Ладно, оставим этот разговор, – сказала Заягуль, – тебе дороги твои нукеры, а мне – моя дочка. И она сейчас поедет со мной!
Атымтай потушил сигарету и улыбнувшись, обернулся к дочке.
– Пусть она сама решит. Айфер, я прошу тебя остаться со мной, пусть мама одна едет, если ей так хочется.
Его дочери было семь лет и она была красива как восточный ангел, если существуют подобного рода ангелы. По крайней мере, смотря на нее казалось, что она из их рода. Однако Айфер была не только красива, но и очень воспитана. Она очень любила папу, но ее давно приучили, что слушаться надо маму. Она посмотрела на отца и, немного помолчав, сказала:
– Папа, я помолюсь за тебя!
– Кто тебя этому научил, – спросил Атымтай, окинув ее растерянным взглядом.
– Мама! – не стала врать дочка.
– Вот видишь, я так и знал! – вскочил как ужаленный Атымтай. – Это все твои старые ведьмы-целительницы и доморощенные святоши, это они попирают наших предков именем бога! Вот и меня распнули словами моей же дочки. – А ты доченька, знай, у нас, казахов, молятся за мертвых, а я пока еще живой! Не верь этой твари, она тебя еще доведет!
С этими словами он кинулся вон из дома.
Теперь, шагая по улице полной машин и пешеходов, он подумал, что, в сущности, никогда не имел дома. Потому что дом – это нечто большее, чем семья, дом – это дом бытия, где ты не киснешь, не вянешь, а живешь, дыша полной грудью и позволяя себе всё, что захочешь. Дом – это когда тесно на двуспальной кровати, поскольку мужа и жену прибивает друг к другу огнедышащий демон страсти, дом – это когда тебя постоянно тянет в дом, а его почему-то постоянно тянуло из дома.
Надо признаться, подумал вдруг Атымтай, что я женился не по любви. Просто я так устал от своей кочевой жизни, от своего вечного бродяжничества, что захотелось семьи, уюта, преданного существа рядом с собой. А тут встретилась Зая, такая молодая, чистая, страстная, к тому же, поэтесса, коллега, так сказать. И пошло, и поехало, в ее лице он действительно нашел для себя преданнейшее существо, готовое из любви на всё. Он хоть и женился, продолжал гулять со своими друзьями, а Зая как бы стала частью их закидонистого дионисийского сообщества. Атымтай много читал в те годы и однажды в какой-то энциклопедии вычитал про бога Диониса, и сравнив его культ с казахским культом сал и серэ, понял, что казахи – это дионисийцы. Ведь что самое важное для кочевника? Праздничное, карнавальное мироощущение, присущее ему с детства до самой смерти. Таков был и сам Атымтай – он прекрасно скакал на коне, играл на домбре, легко отвечал стихами на самые каверзные вопросы, и, естественно, был неотразим для аульных красавиц, девушки буквально бегали за ним как вакханки за Дионисом. Но Заю в те годы это вполне устраивало, она была так уверена в себе, что и мысли не допускала о возможных изменах мужа. Ей в те годы всё в нем нравилось, и даже его успех у женщин. Зато теперь он для нее – непосильная ноша, непроходимый абсурд ее жизни и если раньше у нее хватало сил все его недостатки превращать в достоинства, то теперь даже стоило ему уронить пепел мимо пепельницы, это ее раздражало так, что убила бы. Заягуль сама по себе была очень гибкой женщиной, умела вовремя поддакнуть, легко соглашалась на чужое предложение просто из вежливости, чтобы не обидеть. В принципе, она и в самом деле не имела никаких возражений этому миру, все ей казалось понятным и очевидным. По ее представлениям, люди были связаны между собой круговой порукой взаимоприятия и взаимовыручки. Она не могла представить, что есть какие-то вещи, которыми нельзя поступиться, а ведь мир состоит как раз только из таких вещей и таких состояний. Если отказаться от них, значит, отказаться и от себя. Только твоя безальтернативность к таким странным вещам или событиям создает твой дух и твою нежную душу, потому и нежную, что у нее тонкий металлический остов.
В груди Атымтая как будто заиграла музыка, глаза стали застилаться туманом, и, как всегда, из этого тумана светлым облаком выплыло лицо Лейли, прекрасное и задорное, как тогда, в далекой юности, двадцать лет назад.
Тут надо сказать, что в юности Атымтай был далек от поэзии, ему хотелось стать боксёром. В то время казахи гордились Сериком Конакбаевым, но если бы Атымтай не заблудился бы между поэзией и боксом, все могло бы быть иначе…
Атымтай был на ринге легок, напорист, непредсказуем. Побеждал противников только нокаутом. Но однажды сам получил такой нокаут, что мало не показалось. Одно утешает, что получил его не на ринге. В тот день он по своему обыкновению собрался на пробежку и через некоторое время побежал по аульному саду. Было чудесное летнее утро, на зеленых листьях играли солнечные лучи, воздух приятно холодил легкие, слышалась соловьиная трель. Юноша бежал по аульному саду как в раю, ему казалось, что он один на всем белом свете, такой бодрый, сильный, красивый, летучий. В спортивных трусах и майке он ровно бежал по дорожке, но на повороте увидел такое… Навстречу ему бежала высокая изящная девушка в красивом красном платье как будто из восточной сказки. Трепетали на ветру иссиня-черные волосы, как будто в изумлении поднимались черные брови, трепетные ресницы подрагивали над черными зрачками, на губах играла улыбка, у кончика губ справа была маленькая родинка…
Атымтай встал, как вкопанный, ему хотелось ей что-то сказать, но дар речи отказал ему. Девушка, продолжая улыбаться, высоко поднимая колени, легко пробежала мимо него.
Это было какое-то мгновение, но запомнилось ему на всю жизнь. Эта столь скоротечная встреча стала для него, как посвящение в веру. Раньше он и подумать не мог, что красота сражает, что она победоносна, что она – манифестация своей избранности, не позволяющая тому, кто ее увидел, отвлечься на что-то иное, кроме ее прославления. Кто знает, возможно, и пророк Мухаммед, был сражен неким видением, где он понял, что стал посланником Аллаха, невиданного Бога, единственного и единого как мироздание. Так и Лейля с первой минуты стала для Атымтая прорывом в неведомое, «дуновением вдохновения», имеющим божественный статус. С тех пор он посвятил ей несколько поэтических книжек, он уже попросту не мог думать об ином. Но и поэтом не стать он уже не мог. Казалось, ему суждена была легкая слава. Ведь у публики больше всего в чести стихи о любви…
Однако всё оказалось сложнее. Он писал о любви, когда люди писали о тракторах и комбайнах, когда Цветаеву только начали издавать, когда Ахматова уже закончила свой путь земной. Он писал о любви, когда на каждом перекрестке прославляли «Целину» и «Малую Землю». В этом он упрямо не совпадал со временем. Да и в Союз писателей его приняли, когда ему было за тридцать. Правда, рекомендацию дал сам Аскар Сулейменов. Она состояла только из одной строки: «Если все остальные наши поэты – рысаки, то Атымтай – иноходец».
Казалось бы, прошло столько времени, пора бы уже повзрослеть, пора бы понять, куда дует ветер. Его сокурсники прекрасно это понимали. Едва окончив вуз, выбивались в начальники, становились лауреатами всевозможных премий, их имена гремели по всей республике, а Атымтая знали только в узких кругах литературного бомонда. Люди писали о покорении космоса, находили высоких покровителей, а Атымтай как писал о Лейле, так и писал, только теперь он называл ее сестрой цветка шугунук [3], т. е. она стала для него не просто возлюбленной, а олицетворением Родины. И это пришло так легко, так естественно, что сам поэт не заметил этой метаморфозы, а критики и литературоведы – тем более. Они вообще не видели в нем ничего, кроме праздной витиеватости и досужего словоблудия. Самый лучший из них явно подтрунивая над ним, писал, что этот поэт всё путает, вместо того, чтобы писать пером на бумаге, он тончайшей иглой выписывает причудливые орнаменты по металлу. Между тем, хотя и шутя, критик докопался до главного: Атымтай работал не с темами, а с языком. Для него язык был выше всего и прежде всего. Даже прежде Бога. Ибо язык творит мир, а поэт ему сотворчествует. И не язык – инструмент поэта, а поэт – инструмент языка. Посредством реинтерпретации времени, он убирает швы смерти и всё к чему бы он ни прикоснулся, превращается в целостное неуночтижимое бытие. Не потому ли он добился такой музыкальности, что рифмовал почти целые строки? В любом языке бывает пласт заимствованных слов, перемешанные с чисто казахской лексикой, они звучали у него как родные. С недавнего времени он стал писать на русском, используя те же приемы. Продолжая вышагивать, Атымтай зашевелил губами.
Локти выше, легкий бег — На Турбазе водки нет. Но приятный вот хабар, На Клочкове водка бар.Разве предложишь такие стихи на обсуждение секретариата Союза писателей?
В Алма-Ате он пробовал состояться дважды. И каждый раз судьба, казалось, была к нему благосклонна. В студенческие годы, учась на журфаке, он был баловнем всего факультета. Его все любили, цитировали, приглашали на веселые попойки. Но однажды случилось так, что на одной из таких попоек избили его друга. Поймали где-то и безжалостно затоптали. Юность – самое жестокое время для человека. Там все впервые и на все вызовы надо отвечать моментально. И в то же время юности не присуще чувство меры. Атымтай с друзьями пошел искать обидчиков друга. Состоялась групповая драка, о которой стало известно в деканате. Чтобы не отчислили, пришлось взять академический. Так Атымтай опять оказался в родном краю, в горах Сарнокай, на высокогорном джайляу. Лет через десять друг стал там директором совхоза, а Атымтай вернулся опять в Алма-Ату.
И поначалу опять всё было как нельзя лучше. Один очень известный поэт пригласил его в свой молодёжный журнал. Вот тогда он и связался с молодёжью, став для неё и придирчивым критиком, и наставником, и мэтром, и собутыльником на равных. Друг, к тому времени ставший директором совхоза, тоже его не забывал, иногда увозил его на джайляу и они отрывались там по полной программе. Кстати, звали его Жайлаубай и он был ему дорог тем, что был посвящен во все перипетии его отношений с Лейлёй.
С тех пор как он впервые встретил Лейлю, он узнал о ней всё, но всё это было для него не важно. Он хотел встретиться с ней, поговорить, признаться в любви, показать ей свои стихотворения, посвящённые ей и только ей. Ведь с тех пор как они встретились, стихи из него лились потоком. Он сам не ожидал, что поэзия придёт к нему как совершенный дар и увенчает его чело вечнозёленым лавром избранности и посвящённости в неземное. Но стоило ему с ней встретиться, как он лишался дара речи и просто превращался в её щенка, всюду бредущего за ней в поисках добра и милосердия. Их уже давно познакомили, он прекрасно знал, на каких вечеринках она бывает, но между ними так и не произошло настоящего общения, или подлинного контакта. На самом деле Лейля нисколько его не избегала, охотно вступала с ним в разговор и даже однажды сама пригласила его на танец. Но Атымтай в эти моменты был как сама бездарность, говорил что-то нечленораздельное или вяло отшучивался, а от танца с ней отказался, сославшись на то, что не танцует. Он шёл домой и всю ночь сидел над стихами, а днём бежал к другу и читал их ему. Порой забывал у него свою тетрадку. Другу надоело наблюдать, как он погибает буквально на глазах, робеет перед какой-то самоуверенной особой, однажды он взял тетрадку со стихами и передал их Лейле, выразив свои опасения, что если она не поймёт его, юноша на грани безумия. Лейля улыбнулась и сказала, что обязательно прочитает стихи и уж, конечно, не допустит того, чтобы человек из-за неё стал Меджнуном. И сдержала свое слово, приехала однажды в тот чабанский отгон, где Атымтай по своему обычаю проводил всё лето. У чабанов глаза на лоб полезли, когда к ним приехала шикарная городская девушка на черной, наверное, обкомовской «Волге». И стар, и млад побежали искать Атымтая, который как всегда «квасил» с друзьми у бурнотекущей горной речки. Когда ему сказали, что за ним приехала Лейля, он тут же хотел броситься за ней, но вспомнил, что недавно постригся наголо, и это обстоятельство его настолько смутило, что он решил не показываться ей на глаза. Бегая туда и сюда в поисках укрытия, он нырнул в речку. Лейля к счастью, не видевшая эту сцену, недоуменно хмыкнув, уехала ни с чем. Больше они не виделись. Потом он узнал, что она закончила какой-то московский вуз, вышла там замуж и с тех пор не появлялась в родных краях. А Атымтая прибрала к рукам его первая жена, девушка, с которой он дружил с первого класса. Но брак с ней оказался недолгим. Через год он развелся с ней, оставив ей сына. Потом у него было множество других романов, он не отказывал ни одной красивой девушке, заслужив славу гуляки-поэта, которого в старину называли «сал», т. е. безудержный, распущенный, неистовый. Раньше в степи был культ таких поэтов. Особенно он расцвел в 19 веке. Сал – это предводитель вольного мужского сообщества. Как правило, все они были холостыми, не связанными узами брака. Сал – это сама щедрость во всем, сверходаренная личность, универсальный талант – поэт, музыкант, бард, гуляка и затейник. Причем девушкам не положено отвечать ему отказом. Обычно он подъезжал к аулу и падал с коня. Девушки должны были подхватить его на руки и притащить в самую богатую юрту. Его веселая свита, спешившись, бежала за ним. Оказавшись в юрте, сал брал домбру и мог петь несколько дней, всячески веселя публику и приставая к юным красоткам. При всём при этом он мог перемигнуться с одной из них, а ночью встретившись с ней в логу, у речки с ароматом пряных трав и метелками камыша, так ее приболтать, что она никогда ни в чём ему не отказала бы. Этот дар каким-то образом проснулся в Атымтае в стране, где больше привыкли собираться на партсобраниях, чем на гулянках, где потомки грозных казахских батыров робели как дети перед секретарем райкома, где по вечерам слушали не салов, а скучную программу «Время». Как бы то ни было, сын председателя аульного совета, Атымтай, стал поэтом и вскоре ему стало тесно даже в рамках области. Но если бы он знал, что столица станет для него капканом, что она обломает его гордый нрав, лишит его избранности и что ему суждена судьба быть одним из пятисот писателей, членов Союза писателей Казахстана, разве он поехал бы в эту проклятую Алма-Ату?
Сойдя с автобуса, он обогнул здание Детского мира и увидел уютное трехэтажное здание Союза писателей. Здесь всегда было людно – кто-то тащил свою книгу на обсуждение, кто-то шёл просить помощи в Литфонд, но многие шли сюда просто так – потолкаться, пообщаться и пропустить рюмочку-другую в писательском баре «Каламгер», самом популярном заведении этого квартала. В те годы было почётно быть писателем или поэтом, за тобой все бегали, стремились взять автограф, звали за свой стол угоститься. Вот и сейчас не успел Атымтай зайти в фойе, как к нему подбежали два молодых поэта и потащили его в бар.
Писатели и поэты… Это… так и хочется сказать, враждующие кланы. Но это не так, враждуют или писатели между собой, или поэты друг с другом. Но когда писатель встречается с поэтом, нет милее общения и нет романтичнее дружбы. Ведь им не надо ничего делить, никто и не думает посягать на чужое поле, зато, напротив каждому приятно сообщить о своих достижениях коллеге, который вроде бы и коллега, но, слава богу, не соперник. Но нет ничего печальнее, когда общаются поэт с поэтом или прозаик с прозаиком, тут всегда всё начинается во славу друг друга, а заканчивается полным взаимным неприятием и разрывом всяческих отношений. Что же тогда сказать о том несчастном, кого угораздило сочетать в своём творчестве и легкий слог поэта, и склонность к тяжеловесным рассуждениям, обычно столь выгодно отличающий прозаика? Такое необычное дарование сразу лишается почтения у всей литературной братвы. Ведь его склонность к рассуждениям угрожает хлебу и литературных критиков! А это уже вам не шуточки. Критика у нас хоть традиционно и хромает, но корыто своё бдит и по кому надо «вставить» всегда сумеет.
Атымтай улыбнулся на этой неделе в казахской литературной газете появилось три статьи против него. В одной статье он осуждался как поэт-диссидент, омархаямствующий и верленободлерствующий, в другой статье говорилось, что он морочит голову молодёжи, собрав их в какой-то вечнопьянствующий каганат, а в третьей поносилась его историческая повесть о наследнике Чингисхана, как попытка имперской метафизики, нереальной в эпоху горбачевской Перестройки и свободы слова. Тем не менее, солнце не померкло для Атымтая и сегодня, впрочем, как и всегда, он сидел в «Каламгере» в обществе писателя, поэта и литературного критика, которые всячески показывали, что в этой дурной полемике они на его стороне. Особенно старался писатель – высокий, сухощавый, с смуглыми лошадиными скулами, с живыми, быстрыми глазами.
– Слушай, – посмеивался он, жизнерадостно похлопывая Атымтая по плечу, – тебе надо радоваться. Ты так долго не появлялся в печати, а тут тебя прямо троекратно отметили!
– Не говори, – усмехнулся Атымтай, – даже на воре так шапка не горит!
– Один – ноль в пользу в шапке угорающего! – хладнокровно констатировал критик – небольшого роста, тоже сухощавый, но в черной шляпе и черной рубашке, из-под которого торчал его смуглый ястребиный нос. Голос критика звучал неожиданно густо и трубно, что не соответствовало минимализму всей его внешней фактуры.
– Ну что, давайте чокнемся за нашего Кагана! Критика всё же лучше молчания! Как сказал наш друг Иса, «от замалчивания и до заклания недалеко!» – улыбнулся поэт, встав и чокнувшись коньяком со своими друзьями постарше.
– Иса – этот тот, который на костялях, мустанг-самоучка? – усмехнулся критик.
– Да, Асеке, не зря вы спрашиваете, это вы, говорят, его раскопали?
– Я не причем, это вот он, Багдад, – указал он на писателя, но того, видать, такое реноме не особо устраивало.
– Аскар, признайся, ты имеешь к этому бузотеру не меньшее отношение, чем я. Кто первым написал хвалебный отзыв на его стихи?
– Это я сделал, чтобы досадить этому бездельнику Хасанали. Тот снимал тогда фильм о Чокане, но в стихах нашего Исы было больше правды, чем в этом фильме.
«Вот так всегда, – грустно подумал Атымтай. – Ждёшь что, наконец, что-то внятно скажут о тебе, но, увы, тут же переходят на другого!».
С Исой, молодым литератором, недавно приехавшим из Кызылорды, он успел не только познакомиться, но и подружиться. Конечно, у него сейчас не было настроения воздавать осанну своему молодому другу, но и остаться в стороне он не мог.
– Говорят, его выгоняют из Дома творчества за драку с Узуновым?
– Как, он еще и дерется? – искренне изумился Аскар. – Я знал, что он хорошо играет в шахматы, но чтоб драться, да еще с Узуновым. Это же двухметровая громадина. Да и не по шахматному как-то, поэту и лезть в драку.
– Этот Узунов, он кого угодно доведёт, такой мелочный, сварливый, противный. Всего и делов-то было, что в номере Исы собралась толпа друзей, ну, что-то там отмечали. А этот полез в чужой номер делать замечание. А Иса был на взводе. Вот и нашла коса на камень. Ведь не все же такие терпеливые как Мерей! – указал Атымтай на улыбчивого поэта. – Ты вон расскажи им, как натерпелся от этого старикашки. Три года держал твою книгу в издательстве!
Мерей как будто подавился улыбкой. Он так скривился, что все покатились со смеху.
– Кто не знает Узунова?.. – грустно протянул Багдад. – Говорят, он скоро наш Союз писателей будет возглавлять.
– А как скромно начинал. Написал повесть под названием «Пуговка» – о том как профессор расстегнул пуговку на халате студентки, – меланхолично промолвил Аскар.
– Ну, когда-то это была заява-а-а! – опять протянул Багдад.
– Зато Госпремию получил за воспоминания о Мухтаре Ауэзове, – показал свою осведомлённость Мерей.
– У нас всегда громкие заявы заканчиваются скромным бздишком, – не преминул заметить Аскар.
– А я всё про Ису думаю, – сосредоточенно сказал Атымтай. – Надо что-то делать. Говорят, его собираются исключать из Союза писателей.
Все повернулись к Багдаду.
– Это от вас зависит, – обратился он к Мерею. – Его будут разбирать на молодёжном совете.
– Ну, если от нас, то мы что-нибудь придумаем, – осклабился Мерей. – Но разве от нас что-нибудь зависит?..
Атымтай подумал, что надо бы заехать к Исе, предупредить его о затевающихся мерах.
Между тем кафе наполнялось. Если с часов четырёх-пяти тут и там занимались только отдельные столики, то теперь было не протолкнуться. Все столики были заняты и даже очень. Но, не смотря на это, к Атымтаю пришла толпа ребят и пригласила его за свой столик. Багдада с Аскаром тоже звали коллеги с соседних столов. Вскоре они откровенно пошли по рукам и Атымтай уже не помнил за чьим столом сидит и перед кем настаивает на своей водочной идентичности вопреки коньячной, и кому в очередной раз рассказывает свою историю о Чингисхане.
– Каган наш из рода борджигин, понимаешь? Это можно понять только на казахском языке – «бори жеген», т. е. «волкоед», понимаешь? Мы же не казахи, мы монголы. Я давно об этом говорю. Я же тюре, чингизид, вон даже каганат свой основал, кстати, ты туда входишь?
– Конечно, Атеке!
– Ко мне надо обращаться – «Каган», а не как попало. Я же у вас Император, забыл, что ли?
– Извините, Каган, исправлюсь.
– Ты у меня на какой должности?
– Нойон я, нойон!
– Я горный пик тебе жаловал?
– Нет еще, каган!
– Значит, не заслужил!
– Я потому и пригласил вас, каган, чтобы исправиться!
Но Атымтай сидел уже с другими.
– Вы знаете, что водка кровь в мозг подает? Вот то-то и оно, в наше время поэты не пьют вино. Чтоб в мозг попасть прямой наводкой пейте, други, водку!
– Чё Пушкин? Чем он лучше меня, или, к примеру, Саади? Вы знаете, что мое отчество Сагадиевич! А ты всё Пушкин, Пушкин! Вы знаете, у кого он содрал «Мой гений чистой красоты!», у Жуковского! А тот у восточных поэтов, не зря же он их переводил!
Атымтая было не узнать. Он весь стал каким-то рыхлым, его большие красивые глаза теперь выпирали как рачьи, волнистые длинные волосы растрепались, из них и из усов откровенно выпирала седина. Трудно было поверить, что это поэт-лирик, певец прекрасной Лейли, которую он воспевал из книги в книгу. Ведь молодые поэты потому к нему и тянулись, что прекрасно знали его лирику. Но сейчас, когда ему перевалило за сорок, он всё реже вспоминал свою первую любовь, со временем она стала для него сродни наваждению, он теперь любил другую девушку. Она была поэтессой и поначалу очень привечала его. Но когда узнала, что последние его стихи посвящены ей и что он это ни от кого не скрывает, старалась меньше попадаться ему на глаза, избегая их привычный каганатовский круг. Вот и сейчас, сколько Атымтай её не высматривал, всё было бесполезно. Здесь было много интересных девушек, но её здесь не было. Честно говоря, это уже не удивляло Атымтая, он стал понимать, что не нужен своей избраннице. Да и чем он её мог привлечь? Ни денег, ни звания, ни положения… Это в юности он был красавцем-поэтом, удачливым ловеласом, победителем-боксёром. Но теперь глядя на него, такого пожухлого и обессиленного, с печальными беспросветными глазами, кто скажет, что это романтик Атымтай, поэт Атымтай, что его назвали в честь человека, чье имя стало символом щедрости, благородства и бескорыстных благодеяний? Но, не смотря ни на что, он чувствовал, что только Ляззат, эта юная найманка (найманы это такой род у казахов, не путать с еврейской фамилией!) с светлейшим буддистским лицом и бархатными черными глазами могла бы сбросить с него и бремя лет, и непонятно тяжелую карму, где в обмен за свое богатое дарование он получал только низменную зависть, и злые оковы, сковывающие его мозг, и незримые кандалы нищего, попрошайничьего быта. О, отдайся она ему, о, если бы они слились без малейшего просвета между телами, о, если бы он проник в неё, то простил бы этой земной юдоли и невнимание сильных мира сего, и жуткий безглазый профиль полуудачи, и стихи, так и не удостоившиеся лицезренья бога. Это было самое его сильное желание за всю жизнь, и дело было не в сексе, не в либидо и даже не в удовлетворении влечения. Это было для него как дверь в иную жизнь, так иногда, умирая, верят, что там, за смертью, высшее воздаяние. И стихи свои Атымтай считал данью Харону, или пропуском в эту иную жизнь. Он искренне верил, что можно обольстить стихами, что ими можно обыграть смерть, ведь смерть – это не только уход из жизни, но это и непонимание, и крошечная мера ума, и вообще, полное отсутствие вменяемости, и всё же, прежде всего, стихи – это игра со смертью, где все сакральные таинства на стороне поэта.
Он уже сидел за третьим или четвертым столом, куда его пригласили. Вдруг после очередной рюмки ему показалось, что в зал вошла Лейля. Вернее, она уже уходила из зала. Он вскочил и хотел побежать за ней, но её и след простыл. А может, это ему показалось? В полной растерянности Атымтай сел и хлопнул еще одну рюмку. Ему стало жутко. Это видение как бы вернуло его ему самому. Как же он мог забыть свою Лейлю? Как он мог променять её на другую? Даже в мыслях? Что с ним творится в последнее время? Почему он стал таким безвольным и жалким? Жрёт и жрёт эту водку? Окружил себя льстецами и подхалимами? Купается в похвале и дифирамбах? Раньше он воспринимал это как должное, а теперь добивается, чтобы его хвалили? В последнее время объявился только один человек, который его не хвалит. Это Иса. Правда, он тоже его поначалу хвалил, но потом стал говорить ему горькие вещи. О том, что нельзя вечно пить, вечно упиваться собой, что такими людьми легко манипулировать, что ему многое дано и что он всё это так легко разбазаривает. Поэтому у него было двойственное отношение к Исе. С одной стороны он уважал его требовательный, острый ум, с другой стороны, его не устраивало неуважительное отношение со стороны молодого критика, который, на его взгляд, уж слишком откровенно не соблюдал субординацию.
В это время к нему подошел Мерей и протянул ему журнал.
– Каган, поздравляю, тут вышла статья Исы о Вашей поэзии. Шикарная статья! Ни о ком у нас так еще не писали!
Это был журнал «Простор», самый престижный русскоязычный журнал в республике.
Раскрыв его на нужной странице, он увидел свое фото молодых лет и переводы Исы с его вступительной статьей. Моментально протрезвев и забыв обо всём, Атымтай погрузился в чтение статьи. Особенно его поразило следующее место.
«В Атымтае каким-то чудесным образом возродился рыцарский дух поэзии Золотой Орды и эпохи после ее распада. Если Хорезми в «Мухаббат-наме» создал непревзойденные образцы любовной лирики, то образ Лейли, созданный Атымтаем, это состязание не с Петраркой, а с Хорезми и с созвездием восточных поэтов от Низами до Навои. В поэме, посвящённой Бабуру он описывает завоевание им Афганистана и Индии, но там превалирует не восторг от завоевания, а скорбь по своим соплеменникам, растворившимся в экзотике Индии. Абсолютная погруженность в восточный дух Великой Степи делает поэзию Атымтая исключительно национальной, но в то же время это поэзия настоянная на духе индивидуализма от Бодлера до Лотреамона».
Атымтай улыбнулся, он испытал такое ощущение, что если все прочие статьи о нём, даже самые лучшие были написаны наждаком по бархату его поэзии, то тут как будто шелк прошелся по бархату, коснулся и унесся ввысь и затерялся в занебесной дымке, вернее, не затерялся, а, видимо, попал в руки богов, ибо в сердце Атымтая наступила удивительная гармония, и главное, испарилась обида на этот мир, обида, за которой тяжкой поступью шло зло. Атымтай встал, потом наклонился и приобнял присевшего рядом с ним Мерея.
– Спасибо, родной! Пойдём, поехали к Исе! Поздравим со статьей, а переводы почитаем там, в Доме творчества, вместе с ним!
Но Мерей, медленно отстранившись от его объятия, замотал головой.
– Каган, да что Вы? Уже поздно! Нас туда не пустят! Я тоже рад за Ису, но ведь к нему можно поехать и завтра, днем, в нормальное время!
– Иса сказал, что завтра он съезжает оттуда, его уже выселили и дали время только до утра!
– Ну, я тогда приеду к нему и заберу его к себе, а Вы приходите ко мне, тогда и поговорим.
– Смотри, держи свое слово! Забери его пока к себе, а потом устрой куда-нибудь на квартиру.
– Конечно, каган, конечно! Какие могут быть разговоры?
Атымтай испытующе посмотрел на Мерея.
– Так ты идёшь со мной?
– Нет, каган, и вам не советую!
– Ну, ладно, ильхан, я пошел. Дай трояк на такси.
Мерей вытащил бумажник и дал требуемую сумму.
Атымтай взял идеально свежую трёшку, засунул журнал во внутренний карман плаща и двинулся к выходу. Отошедший куда-то Мерей догнал его и сунул в карман плаща пол-литру и кое-какую закуску.
Когда он подъехал к Дому творчества было около одиннадцати. Дверь была заперта, в фойе горел приглушенный свет. Атымтай стал стучаться в двери, ему повезло, на стук вышла знакомая вахтёрша и открыла ему дверь.
– Опять к Исе? – спросила она игривым голосом, не стареющей кокетки. Высокая, дородная, с разметавшимися курчавыми волосами она никак не была похожа на отставную спортсменку, каковой на самом деле являлась.
– К нему, к нему! – заулыбался Атымтай, едва не припав к высокой груди нетленной красотки.
Через минуту он был на втором этаже и стучался в дверь к Исе.
– Кто это? Дверь не заперта, входите! – раздался звонкий голос из комнаты.
Атымтай толкнул дверь, прошел сквозь небольшой коридорчик и оказался в комнате, где у правой стены на диване облокотясь на подушку лежал Иса и читал какую-то книгу. Это был курчавый черноволосый парень в очках, с широкой грудной клеткой, которая трапецевидно сужаясь, переходила в узкие как у подростка ноги. Рядом, между диваном и тумбочкой стояли массивные деревянные костыли, дальше у стены пустовала аккуратно застеленная кровать.
– О, каган! – радостно воскликнул Иса, и тут же вскочив на костыли, оказался у пустого стола, придвинутого к черному провалу окна. Видимо, критик забыл задвинуть занавески
– Извините, каган, но у меня шаром покати, – грустно констатировал Иса, усаживаясь за стол.
– Да погоди ты, это не проблема! Я приехал ближе к полночи не затем, чтобы у тебя питаться! Вот, смотри, вышла твоя публикация в «Просторе»! Поздравляю, гоуан!
– Это где я написал о Вас и перевел ваши стихи?
– Она самая! А я пришел это дело обмыть! Как ты не понимаешь? – удивился Атымтай, и, подойдя к столу, стал выкладывать туда содержимое своего широкого кармана, потом пошел в коридорчик повесить плащ и шляпу.
– Да я уже устал ждать, когда она выйдет! Они же целый год тянули! За этот год Вы меня гоуаном сделали, а в «Просторе» я до сих пор в приживалах хожу! Вон целый год тянули из меня жилы!
– Ничего, гоуан, – сказал Атымтай, усаживаясь за стол. – Зато твоя статья стоит там особняком, никто и близко не может сравниться! Такое впечатление, что остальные критики – пешеходы, а ты один только крылатый всадник!
– Душа моя млеет от блажи такой! – расхохотался Иса и тут же достал из-под стола два граненых стакана.
Атымтай своей каганской рукой налил по сто грамм и, чокнувшись, они выпили. Теперь их было не узнать, особенно Атымтая. Он как будто скинул лет двадцать, с лица исчезла всякая одряблость, глаза блестели, усы искрились весельем. Он рассказал всё, что произошло в писательском кафе, в лицах передавая то Аскара, то Багдада, то Мерея, не позабыл упомянуть и про призрак Лейли после чего встревоженно уставился на Ису.
– Может, я гоню? Как такое может привидеться? Но… я её видел, как будто наяву?
– Понимаешь, она вселилась в тебя, ещё тогда, в твои семнадцать лет. А потом ты её всю жизнь изгонял – стихами, выпивкой, другими женщинами. А сегодня ты, видать, ослаб, перестал себя контролировать, тут тебя она и настигла! А у меня обратный случай, мне нельзя себя не контролировать! Вот я всю жизнь хожу на костылях, такой судьбау меня! Так вот, я не на костылях хожу, а на мозгах своих хожу, стоит мне чуть ослабить контроль, меня выкинет как стекло на скользкий лёд!
– Да, гоуан, ты потому и великий, что никогда не расслабляешься!
– Почему? Я люблю выпить! Это же мой способ беспересадочного полета по Вселенной!? – рассмеялся Иса. Он явно уже входил в стадию вдохновения и раскрепощения. Лицо его раскраснелось, длинные кудрявые волосы отливали как вороново крыло, в узких раскосых глазах сверкала безуминка, как бы написанные акварелью разлетистые брови не поспевали за полётом его мысли. – Кстати, каган, – воззрился он вдруг на Атымтая, – а что это за титул – «гоуан»? Ты мне как-то объяснял, но я опять забыл.
– Это он так звучит в монгольской подаче. А по-китайски, это «го ван», т. е. «большой ван», или великий властитель. Так китайцы величали зависимых от них степных владетелей. Но Чингисхан, наш каган, дал этот титул своему любимцу Мухали, из племени жалайыр, после того как тот покорил Китай. Говорят, что завоевав шестьдесят китайских городов, он послал кагану конную телеграмму с вопросом: «Вот я покорил столько-то городов? Идти ли мне дальше?». Каган сказал: «Идти!» и Мухали в безудержном броске покорил еще четверть Китая!
– А ильханы это кто?
– Это наместники провинций.
– Так выходит ты поставил меня выше всех из твоего окружения? Они не обидятся? Ведь они были с тобой гораздо раньше?
– Гоуан, приказы кагана не обсуждают!
– Тогда выпьем, мой славный каган, мой единственный ценитель в этом бренном мире!
– Поверь, мой гоуан, это ненадолго! У тебя великое будущее!
Они чокнулись и выпили. У Атымтая захорошело на сердце, а когда у него хорошело, в него словно вселялся дух Чингисхана, он чувствовал себя пророком чингисова рода и, как бредящая в конопляном дыму пифия, он прозревал всё в чингисовом свершении.
– Понимаешь, если бы кагана не было, его следовало бы придумать. Иначе бы степной мир так и остался бы во прахе, ничем не проявив себя за вереницы столетий! Понимаешь, ни-чем! В степи нет истории! К 13 веку там уже никто не помнил ни Мо Дэ, ни Атиллу. А тут на тебе – какой-то сирота Тэмуджин объявляет себя Чингисханом и покоряет Китай, этого непобедимого колосса! Мало того, он вырезает Тангутское царство, завоевывает Среднюю Азию, устанавливает свое трехсотлетнее владычество над Россией! Попробуй, обойди такую фигуру! Европа дрожит от свершений великого монгола, римский папа шлет ему своих послов-прелатов! Если бы ты родился в то время, ты не ходил бы на костылях, тебя носили бы в паланкине и кушал бы ты из золотой тарелки! Ты же сам говорил, что происходишь из рода «алтын», а «алтын» – это золото. Так что ты тоже, видать, из чингисова рода, теперь ты понял, почему я тебя гоуаном поставил? Ты же знаешь, наши ханы – потомки Чингиса и наследниками славы Золотой Орды являются не татары, а мы, казахи!
– Конечно, это всё хорошо, но ведь на нём столько крови… Реки в Китае и Средней Азии были красны от крови, над степью долгие годы стояла трупная вонь…
Атымтай рассмеялся.
– И ты туда же… Право на кровь добывается мерой страдания, а Степь к этому времени так настрадалась, её так затоптали всякие исламские и иные завоевания, что она не могла не покуситься на кровь. И хорошо, что это произошло тогда, иначе это произошло бы сейчас. И если сейчас у нас тишь да гладь, это благодаря нашей генной памяти, навсегда запомнившей уроки Чингисхана. Да, Иисус, говорят, взял все людские страдания на себя, но каган понимал, что абстрактное добро ничему не учит, каждый должен сам перестрадать!
– А нельзя без страдания?
– И этот вопрос ты задаешь мне? Ты же мне сам только что говорил, каково тебе ходить на костылях? Разве тебя на это Чингисхан обрек? Тебя же сейчас Узунов гонит отсюда, а не каган! А что, ты разве не имеешь права жить по-человечески? А хочешь, я сейчас пойду к Узунову и накажу его, заставлю его на коленях ползать перед тобой?
– Что вы, каган, не надо! Это очень опасный человек! Он милицию вызовет, подаст на вас в суд! Не надо, каган!
Но Атымтай был уже неудержим. Он знал, что Узунов живет буквально за стенкой, в соседнем номере и как был в одних носках, бросился туда. Немного погодя раздался страшный грохот, потом еще, еще, казалось, что что-то большое бьется то об одну, то об другую стенку, а то может быть и об пол. Потом всё затихло и наступила какая-та непонятная тишина. Потом раздался шум льющейся воды, потом опять наступило затишье. С тревогой прислушивающийся ко всему этому Иса решил, наконец, встать и узнать, в чём там дело. Но не успел он опереться об костыль, как тихо открылась дверь и в комнату вошли Узунов и Атымтай. Никто не мог бы подумать, что Узунова минуту назад били об стенку, он был в пиджаке, при галстуке, чисто выбрит и очень ухожен. Пройдя к опустившемуся обратно за стол Исе, он сел на стул Атымтая.
Потом обратился к Исе.
– Дорогой Иса, я пришел извиниться перед тобой! Ты очень талантливый человек! К тебе приходит много людей! Я не имел право обижаться и вторгаться в твою комнату! Ты правильно тогда меня ударил! Прости меня, если можешь! Завтра я пойду в секретариат и заберу свою жалобу, тебя не будут обсуждать на Совете и продлят твою путевку сюда еще на месяц! А это вот расписка в том, что я к тебе претензий не имею. Она заверена моей личной печатью.
Он вытащил из внутреннего кармана пиджака расписку и передал Исе.
Иса взял расписку, прочитал и спрятал в нагрудный карман рубашки. Потом с улыбкой посмотрел на Узунова и сказал:
– Пиши теперь расписку в том, что не имеешь претензий к Атымтаю.
Тот полез в карман пиджака, достал ручку и взяв протянутую Исой бумагу написал расписку с датой и подписью.
– Поставь свою печать! – не унимался Иса.
– Но я, кажется… – не захотел было Узунов, но посмотрев в сторону как бы невинно стоящего Атымтая, мгновенно нашел печать и удостоверил ею свою подпись.
– Теперь можете идти, – сказал Иса, еле сдерживая смех.
Когда Узунов ушел, аккуратно закрыв за собой дверь, друзья расхохотались.
– Ой, каган! Ой, не могу! – заливался в хохоте Иса. – На каком языке вы разговаривали, что он так присмирел?
– На языке Чингисхана! – скромно ответил Атымтай.
– Вот бы вам так поговорить со всеми членами нашего Союза писателей! – воскликнул Иса.
– Стоит ли мараться? – усмехнулся Атымтай. – Я ведь уже воспитал самого главного.
– Так выпьем за это! – и Иса опять потянулся к бутылке.
Через некоторое время Иса стал клевать носом, его кудлатая голова то и дело клонилась к столу. Надо было двигаться домой. Атымтай помог Исе подняться, помог сесть ему на постель. Потом прошел в коридорчик, оделся, спустился вниз по лестнице, холл был пуст. Атымтай прошел в закуток, разбудил вахтершу, она ему открыла дверь.
Когда на такси он подъехал к своему дому, ему показалось, что в одной из комнат его квартиры горит свет. Он рассчитался с таксистом и медленно стал подниматься к себе на третий этаж. Всё это время он думал, почему в его комнате горит свет, показалось это ему или в самом деле так? Но если это так, кто мог его включить, кто мог его ждать в столь позднее время, ведь Заягуль должна приехать через неделю?
В этом полубессознательном недоумении он вставил ключ в дверь и открыл её. В прихожей было темно. У Атымтая отлегло от сердца, он включил свет, разделся и пошел в туалет. Умывшись и почистив зубы, он накинул халат и пошел не в спальню как обычно, а к себе в кабинет. Но стоило ему открыть дверь, как в залитой светом комнате у себя за столом он увидел молоденькую девушку, сидящую к нему спиной. Однако её лицо отражающееся в зеркале, висящем перед столом, показалось ему странно знакомым: те же длинные черные волосы, тот же точеный нос, та же родинка, – за столом озорно улыбаясь, сидела Лейля. Но как это может быть, ведь это никак невозможно, ведь столько лет прошло, ей-то наверно уже под сорок, а тут сидит такое юное создание и улыбается ему, смотря на него в зеркало.
– Сестренка, откуда ты взялась? – вырвалось у Атымтая. – Или, может быть, я схожу с ума? – еле закончил он фразу, схватившись за сердце.
– Ради Бога не волнуйтесь. Вот, сядьте на диван.
Вскочив со стула, она подбежала к нему и, полуобняв, повела к дивану.
– Простите меня, я хотела сделать для Вас сюрприз и, кажется, перестаралась.
– Лейля, ты откуда? – шептал как в забытьи Атымтай. – Неужто это ты? Неужели ты пришла ко мне? Я же ждал тебя всю жизнь! Я же и сочинять стихи начал, чтобы очаровать тебя.
– Ну, вот я и пришла к тебе! Пойдем в спальню, я помогу тебе раздеться!
– Но это же невозможно! Ты впервые меня видишь!
– Зато ты носишь мой образ в сердце всю жизнь!
– Но ты же не ты, то есть, ты же не Лейля! – бормотал Атымтай, покорно двигаясь с девушкой в сторону спальни. У него все смешалось в голове – Иса, Узунов, призрак в кафе, он уже не знал чему верить, чему не верить, что считать фантазией и что считать реальностью. К тому же девушка так приятно пахла, была так свежа и притягательна, что сердце Атымтая таяло, а тело так напряглось, что он уже не мог сдерживаться. Он дошел с ней до спальни, повалил ее на постель и впился в губы. Она ответила ему таким горячим поцелуем, что в следующий момент он очутился нагим в объятиях обнаженной девушки, пахнущей духами Лейли, его Лейли…
Назавтра, проснувшись, он не обнаружил рядом с собой вчерашней девушки. Только запах духов все еще витал в спальне, как тогда, двадцать лет назад, когда на одной из вечеринок он сидел рядом с Лейлёй… Отбросив одеяло, он обнаружил на простыне пятна крови… Теперь он не знал, что и думать.
С тех пор у Атымтая опять пошли веселые, языческие стихи, как у Катулла. Таинственная девушка так больше и не появилась. Но разве тайна может исчезнуть? Она так и жила в его душе с уже давно прошедшего времени ее единственного ночного визита. Не потому ли теперь, когда он шел по улице, как всегда величественно вышагивая, на губах его блуждала непроизвольно счастливая улыбка?
Конечно, суровый современный читатель заподозрит меня в мистификации, запросит всяческие объяснения, скажет, что так не бывает. Что я могу на это ответить? Я тоже не знаю, как все это объяснить. Может, это была юная поклонница Атымтая, бесконечно влюбленная в его поэзию и настолько воплотившаяся в Лейлю, что решила исправить ошибку судьбы и слиться со своим обожателем, как Галатея с Пигмалионом? Возможно, это дух Чингисхана, довольный почти религиозной преданностью Атымтая, решил послать ему девственницу? Но в любом случае эта девушка могла забеременеть и объявить потом, как Дева Мария, что непорочно зачала супергениального ребенка! И в любом случае, если ранее в нем мера страдания зашкаливала настолько, что почти застила свет, после этого загадочного визита он понял, что бывает мера радости и порой всего лишь одна ее щепотка перевешивает горы страдания. Ибо то, что нечаянно, то и божественно. Мифы о воздаянии – всего лишь мифы. Нет ни кармы, ни воздаяния. Есть только то, что ты взрастил в своей душе и пустил в свободный полет. Есть только это. И оно обязательно к тебе вернется.
Истина Коркыта Рассказ
Все началось с того дня, когда молодой хазрет заблудившись в степи, попал к старому баксы и отогрелся у него в пещере. Здесь впервые Коркыт услышал музыку кобыза, впервые узнал о существовании Тенгри – древнего тюркского бога.
Вернувшись через полгода в город, он пошел в ханаку к суфиям-ясавийа и стал играть им на кобызе. Косматые дервиши в разноцветных латаных-перелатаных халатах слушали его со слюной на губах. Даже великий шутник Дурман-ходжа засунул свой огромный член в штаны и перетянул бедра веревкой.
Ободренный Коркыт вместе со всей братией пошел в мечеть, где как раз шла пятничная молитва. Сухопарый имам, взгромоздясь на михраб, читал проповедь на ломаном арабском. Коркыт усмехнулся. Когда-то он столько усилий приложил, чтобы усвоить множество языков – от арабского до хинди. Теперь они стали не нужны ему – все до единого. Теперь он будет говорить только на языке Тенгри, на родном языке, на языке кобыза.
Вдруг все повалились на колени и стали молиться. Коркыту, видящему перед собой только округлые спины и раздвоенные абрисы задниц, на мгновение показалось, что у этих людей, видно, и нет лиц. Наверно, они и рождены безликими, придатки к своим гениталиям, не более. А их Аллах, видимо, похож на Дурман-ходжу с таким же неимоверно огромным членом, чтобы пронзить их всех, этих задоликих тварей, способных только на покорность.
Вытащив из холщового мешочка кобыз, Коркыт провел смычком по его струнам. Раздался протяжный, стонущий, вибрирующий, странный звук. Спины молящихся так и замерли, лица впечатались в коврики, задницы не в силах постичь смысл свершившегося, стали похожи на подушки, набитые гагачьим пухом.
Коркыт повел смычком в другую сторону, звук настолько разросся, что ему стало тесно в мечети. Казалось, что эти величественные своды, содрогаясь, вот-вот раздвинутся и все, включая сухопарого имама, станут добычей шайтана.
В мертвящей тишине Коркыт играл и играл, медленно двигая смычком то в ту, то в другую сторону. Казалось караваны верблюдов, стада коров и табуны кобылиц, мыча и волнуясь, решили рассказать неспешную историю степи, которая вне человеческого языка и разумения. Да, язык животных и птиц – вот язык кобыза. Шевеление всего бессознательного – вот разумение кобыза. Корень «коб», «кобу» означает возбуждение, рост, эрекцию. Кобыз – это инструмент для пробуждения спящего бога. Эти несчастные не знают, что их Бог – Тенгри, а не Аллах. Бесчисленными поклонами они вбили своего бога в землю и теперь молятся чужому, богу запретов и наказаний, не заслуженных людьми. Но ничего, Коркыт разбудит тюркского бога, таково было знамение полученное им в пещере старого баксы.
Люди постепенно стали поворачиваться к музыканту и увидели, что перед ними не шайтан, а хрупкий юноша, водящий смычком по непонятному инструменту.
Больше всех был разочарован лавочник Берди Бермес. С возгласом «Эй, щенок! Как ты смеешь играть в мечети! Это храм божий!» он вскочил на ноги и бросился на Коркыта. Правоверные ринулись было за ним, но путь им преградил Кара-ходжа, отец Коркыта.
– Вы же мусульмане, а не стадо быков. Постойте, не торопитесь. Это мой сын, которого я ищу вот уже полгода.
Толпа ахнув, попятилась от Кара-ходжи, известного святостью и крутым нравом.
Коркыт продолжал играть на кобызе.
– Сын мой, брось этот непотребный инструмент и поздоровайся с отцом.
Коркыт смотря поверх голов, продолжал играть.
– Сын, я не привык повторять.
В ответ звучала только заунывная музыка кобыза. Как холодное прикосновение смерти, она проникала в сердце и разрывала кишки, холодила печень, орган родства и побратимства.
– Коркыт, мои внутренности спеклись от тоски по тебе, но если ты не встанешь, я прокляну тебя.
Коркыт продолжал играть, как будто ведя одному ему понятный разговор поверх всего на свете. Мусульмане, не смея шелохнуться, ждали неизвестно чего.
Кара-ходжа подошел к сыну и пнул кобыз. Тот со звоном и визгом отлетел в сторону.
И только тогда Коркыт увидел отца.
– Куке, что ты здесь делаешь? – изумился Коркыт, поднявшись на ноги.
– Ты разве не видишь, сынок? Я здесь молюсь.
– Кому?
– Аллаху.
– Наш бог Тенгри! Отец, почему ты скрывал это от меня все время.
– Тенгри – это шайтан. Нет бога кроме Аллаха…
– …и Мухаммед – пророк его! – хором поддержали счастливые соплеменники.
– Я был в пещере баксы Койлыбая. Видел балбалы, читал книги написанные на уйгурском. Там сказано, что мы – тюрки, и, следовательно, ничего общего с арабами не имеем. Отец, ты предал веру предков. Койлыбай мне сказал, что раньше ты был великим шаманом.
– Заткнись, щенок! Эй, правоверные, выкиньте этого недоноска из мечети. Это не мой сын. Это сын шайтана.
Тут же разномастные руки подхватили Коркыта и выкинули из мечети. Вслед за ним полетели обломки кобыза.
Очнулся опальный хазрет в пещере старого баксы. Правда, поначалу он не знал об этом. Его преследовали видения. То ему снилась волчица, пришедшая среди ночи и зализавшая его раны. То ему снился отец, сдирающий с себя лицо, словно спутанную паранджу. То он летел по дну скользкой реки и река не имела конца. И еще одно виденье он помнил очень отчетливо. К нему лежащему на городской свалке, пришел баксы и долго плясал над ним, а потом вырвал его сердце и вложил свое, а потом целуя сердце спящего хазрета, ушел в никуда.
Когда Коркыт проснулся, южное солнце щедро освещало что-то уже знакомое, но больше чужое. Молодой человек сел и тут же ему на голову упала колотушка. Рухнув на спину Коркыт, рассмеялся. Он понимал, что этого не должно было быть. И все же, за каких-то полгода с ним случилось такое, о чем он и помыслить не мог. Он всегда относился к отцу больше, чем с почтением. Отец был очень авторитетным человеком в их городе. Но всякий раз, когда ему предлагали место имама, он деликатно отказывался. Именно отец пробудил в Коркыте влечение к чужим языкам и, при первых его успехах в арабском, заставил вчитаться в Коран. Поначалу Коркыт с суеверным ужасом складывал буквы в слова, а слова в предложения. Потом он к этому привык, а затем… стал думать. Вот тут-то все и началось. Коран объявлял Мухаммеда единоличным посланником Аллаха. Следовательно, надо было верить Мухаммеду, а не Аллаху. Но Мухаммед был арабом, а отец Коркыта был тюрком. Так кем должен был быть Коркыт?
Кроме того, познакомившись с Кораном, Коркыт понял что в нем нет ничего чудесного, что весь он состоит из предписаний и запретов, из разных россказней, которые не могут идти ни в какое сравнение с легендами и сказками Дешти-Кипчака. И отец в нем всячески поддерживал любовь к наследию предков. Так что же с ним случилось сегодня? Это и был последний вопрос, сразивший Коркыта не хуже колотушки.
Все еще продолжая смеяться, Коркыт уже понимал, что находится в пещере старого баксы. Вот стены изборожденные сценами войны, охоты и жертвоприношений. Вот очаг, чьи угли давно остыли. Видимо, баксы ушел собирать лечебные травы, или дремлет вон там, за пологом из звериных шкур.
Но стоило Коркыту пошевелиться, как он издал отчаянный вопль и снова впал в беспамятство. Когда в какой-то из дней он очнулся, у порога лежал старый баксы со стрелой, вонзенной в спину.
В ужасе Коркыт встал и выбежал из пещеры. Но там его ждал еще больший ужас. В десяти шагах от входа валялся труп отца с лицом искореженным гримасой страдания. Казалось, это лицо молило лишь об одном – об отмщении. Коркыт склонившись над отцом, закрыл ему глаза и рот. Нет, мстить он не будет. С местью надо кончать. Правда, долг мести – это один из заветов Тенгри. Но, видимо, и боги бывают неправы. Все беды кочевников-тюрков в неукоснительном соблюдении закона возмездия. Вот и шли они род на род, племя – на племя и только оттого, что где-то когда-то в каком-то дремучем веку кто-то кого-то оскорбил по отцу или матери. Что за несчастный обычай, когда за проступок какого-то глупца-недоноска отвечает не он сам, а весь его род, все его племя? Здесь нужны другие способы. Надо удалять таких отщепенцев из племени и пусть выживают как могут. Пусть живут как собаки, если не могут жить как люди.
Кара-ходжа убив в бешеной ярости шамана, сам умер от ужаса перед содеянным. Или, возможно, старый шаман проклял его. Видно, и в сердце святого старца билось обычное человеческое сердце, ранимое и трепетное, не принимающее козней и насилия.
Нет, он мстить не будет. И другим не позволит. Первое, что впишет в свою священную книгу, это слова «отказ от мести». Ибо месть каждый раз восстанавливает прошлое, а Коркыт видел себя поводырем настоящего, которое лишив его самых дорогих людей, оставило жертвой кишащих, как змеи вопросов.
Чучмек-наме (ложноклассическое эссе о новых старых варварах)
Чучмек – дореволюционное обозначение нацменов, то же самое что «шланг», «совок», только с восточным оттенком.
Из авторского блокнота
Я играл роль Гамлета, Полония, теперь играю тень отца Гамлета, следующая роль – череп Йорика.
Михаил КозаковКак водится, начнем с диалога.
– Что такое новые варвары?
– Боюсь, что это все те же старые чучмеки…
– А что такое чучмеки?
– Это существа, в которых зоология преобладает…
– Над чем?
– Да надо всем. Понимаешь, чучмек – сплошное тело, тело без органов.
– Думаю, наоборот. По всей видимости, чучмек – это сплошной орган, орган без тела.
– Да, тяжелый случай. А он, орган этот… мужской или женский?
– Дурак, органы у нас только государственные!..
* * *
Итак, ближе к телу. Чучмек – это не «кацап» и не «калбит», а как раз существо без этнических признаков, созданное в отечественной пробирке «дружбы народов» и потому крайне падкое на политическую демагогию. В разное время его (чучмека) называют по-разному, но раз в четыре года он удостаивается обольстительного прозвища «электорат», от которого теряет последние остатки разума.
Но, как известно, язык без костей и печатный станок тоже. Так знайте, что это – орудия чучмека. Посредством них он воспроизводит себя и свое потомство. При этом мне вспоминается высказывание одного аргентинца, правда, не Марадоны. Этот чудак любил повторять по поводу и без повода: «Он ненавидел зеркала и совокупления, они умножали людей». Что касается чучмека, тот, напротив, бесконечно любит и то, и другое, и вообще, всяческого рода множества и преумножения.
Так легче скрыться и скрыть что угодно: вплоть до собственной импотенции и гермафродитизма. Словом, чучмек – это двуспинное животное с двумя языками, облизывающими друг друга. Когда у него спрашивают «Да» или «Нет», он вместо этой жалкой альтернативы найдет красивую фигуру умолчания, впоследствии очень похожую на кукиш…
Чучмека можно определять бесконечно. Ибо он неопределим в принципе. В нем не за что ухватиться. Это нечто округлое и рыхлое, бесформенная масса, так никогда и не побывавшая на гончарном круге. Любой гончар, который брался придать ему форму, сам тонул в море первобытного хаоса. Он даже не успевал сойти с ума. Умирал заживо, как добыча в чреве питона.
И все же, что такое чучмек? Это гуманоид без окон и дверей с хитрыми гляделками вместо глаз. Туда ты можешь сунуть хоть миллионы тыщ, но в ответ получишь только шиш, или повестку в судебные инстанции. Тем не менее, не надо думать, что чучмек – только интриган и зануда. Ему нужны и культура, и искусство, и религия, и философия, короче, все, что хотите, вплоть до йоги, только без самого йога.
Носитель культуры для чучмека все равно, что вошь, которую надо давить и давить. Вы можете хрустнуть от первого же щелчка, но это не значит, что земля вам будет пухом. О, это далеко не так! Вам, еще при жизни обобранному до последних трусов, сверкая в могиле голыми останками, придется отдать последнее – свое имя.
Чего только чучмек не сотворит с вашим добрым именем: и пригладит, и причешет, и повесит на самом видном месте и все это для того, чтобы самому покрасоваться на вашем фоне! Ибо чучмеку всегда фатально не хватает легитимности, и, прежде всего, в собственных глазах. Вот почему ему нужны эти нескончаемые юбилеи. Астральная пустота, заменяющая ему душу, как огромная нескончаемая зевота, вопиет об удовлетворении. Вот он и жрет все, что попадается ему на пути, вплоть до собственных испражнений!
И вы невольно задумываетесь над этимологией лексемы «чучмек». Не означает ли она «чуш-мек», т. е., мекать чушь, нести околесицу. Вот и весь мир представляется чучмеку такой околесицей или декорацией, перед которой он должен сняться. И порой думаешь, как хорошо, что Бог умер. Он, видимо, не хотел быть задником для чучмека. Впрочем, Богу не повезло больше всех. Он до сих пор крайне популярен у чучмеков. До такой степени, что Ему впору самому написать сатанинские стихи.
Другим излюбленным идолом у чучмеков является культ предков. Все, что выжило из ума, потеряло последние зубы и страдает недержанием речи, вызывает у чучмеков нескончаемую эрекцию. А это опять-таки оттого, что в любое время дня и суток, они, кровь из носу, хотят выглядеть лучше, чем есть. Поэтому культ предков, который исчерпал свое позитивное содержание еще в бронзовом веке, дошел у чучмеков до таких крайних пределов, что уже боязно за нацию. Вот, наконец, и прозвучало это слово, перед которым чучмеки лебезят, как иудеи перед своим таинственным големом, принося своему божеству,подобно израильтянам, человеческие жертвы.
Порой чучмеки представляются мне неким божьим наказанием, выпрыгнувшим вдруг неизвестно откуда, чтобы пожрать наше настоящее. Помните цитату, приводимую Ортегой-и-Гассетом о вертикальном вторжении варварства. Это как раз о них, о чучмеках! Такую неблагодарность перед щедростью бытия, неисповедимой глубиной познания и сознания редко где встретишь!..
Разновидности чучмека неисчерпаемы. Чучмек – чиновник, чучмек – отец нации, чучмек – телеведущий… Ну, про первый типаж можно было бы и не упоминать. Достаточно сказать, что у нас даже капитализм с чиновничьим рылом и мафиозными подтяжками. Как в Америке 30-ых годов. Как в Англии эпохи Кромвеля. Вы думаете, у нас чиновников готовят в КИМЭПЕ или Кембридже? Что вы, их подбирают с улицы, с водокачки, «от сохи», из тюремного изолятора… А что, так ближе к народу! Да и безопаснее как-то. Не обжулят, по крайней мере. «На лапу» дать не забудут. Он на то и народ, чтобы быть благодарным. А о том, что без электората выше завмага не прыгнешь, об этом лучше не думать. Нет, надо же, что этому народу каждому по отдельности можно морду набить, зарплату заморозить до конца света, пенсию прикарманить, зато собравшись вместе, этот муравейник может сделать из тебя Президента. Только умеючи надо работать с этим быдлом. А не то сожрут раньше времени.
Не забывайте, что каждый чучмек – это потенциальный кандидат в Президенты и по совместительству, отец нации. Этот патриарший синдром характерен для всех чучмеков – от любого брокера на бирже до классиков чучмекской литературы. Итак, о двух трансмутациях мы поговорили, переходим к третьему сорту. И в самом деле, если чиновники у нас помирают от мании величия, то телеведущие такие скромняги, что не обнаруживают даже вторичных половых признаков. Кто бы ни вел передачу, мужчина или женщина, такое впечатление, что это – никто. Помните разговор циклопа с Одиссеем? «Ты кто?» – кричал циклоп, обливаясь кровавыми слезами. «Я – Никто», – отвечал Одиссей, удаляясь под брюхом барана. Так и здесь такая ситуации, как будто наши телеведущие – хорошо замаскированные говоруны под чьим-то загадочным брюхом. Конечно, жалко их, бедных, но зачем рваться на экран, если сказать нечего?! С другой стороны, цензура на телевидении ныне столь свирепствует, что «телемэтры» стали удаляться в беседку и с сальной, онанирующей улыбкой лезть в подсознание собеседника.
Чучмека привлекают только чучмеки и ничто иное. Напрасно вы будете совать ему томики Канта или Махамбета. Их имена для чучмеков как обозначения обратной стороны луны, можно шею сломать, пока букву к букве привяжешь. А шея для чучмека нужна, ибо плавно переходит в голову, которая озабочена только тем в чью бы задницу залезть, лишь бы не простудиться на сквозняке самостоятельной мысли.
Когда вы видите пауков в банке, пожирающих друг друга знайте, что это чучмеки. Ибо у них есть свое жречество, семантика которого восходит к таким романтическим понятиям как жрать, пожрать, выжрать.Оное жречество вид имеет вполне человеческий и несчастные иностранцы ведущие с ними умные разговоры даже представить не могут, что перед ними все те же чучмеки. Однако, возможно, что эти богатенькие дяденьки из-за бугра сами тоже порождение своего жречества. Ведь жречество всего мира ныне заинтересовано, чтобы на свете было как можно больше чучмеков.
Но что касается наших чушегонов, о них разговор особый. Это существа, которые хотят сидеть одновременно на тридцати стульях и на каждом из них чувствуют себя весьма респектабельно. Что касается темы
«Чучмек и время» здесь нас ждут такие открытия, что куда там Эйнштейну! Если по утверждению последнего, все относительно, чучмек полагает, что не совсем и даже ни чуточки. Ибо он все соотносит с собой и, что самое потрясающее, любое соотнесенное явление оказывается хуже чучмека. Ну, например, чучмек и Юлий Цезарь. Ясно, что Цезарь хуже. Или, к примеру, чучмек и пророк Мухаммад. Здесь все гораздо щепетильнее. Чучмек понимает, что пророк – это, как ни крути, пророк. Но, с другой стороны, чем он лучше чучмека? Также женщин любит и к вину неравнодушен. Иначе зачем ему запрещать винопитие и это самое… прятать женские прелести?
И вообще, все эти запреты… с одной стороны, они близки чучмеку, когда они предписаны для прочих, с другой стороны, он вроде бы и сам должен им следовать. Последнее обстоятельство представляется чучмеку крайне непорядочным. Ведь запрещать должен он другим, а не ему другие. Вот эта нежелательная инверсия делает отношения чучмека с пророком крайне сложными и порой непредсказуемыми. Для пророка, разумеется…
Когда чучмек не в силах сравняться с чем-то или кем-то, он тут же втаптывает оное в грязь и предает анафеме и остракизму. Попробуй при таком раскладе стать вровень с чучмеком! То-то же… Таким образом, чучмек – единственное живое существо, проеодолевшее необратимость времени. Вплоть до полного моратория. Чучмек как скала обтекаемая потоками времени, обращенными в постыдное бегство. Когда я вижу по видику Большие Американские Каньоны, мне думается что там побывали наши чучмеки, которые так и остались в виде скал, выступов и утесов. Америка пошла дальше, а каньоны свои сохранила в качестве музея под открытым небом, демонстрирующего печальные плоды самозабвенного чучмекства. Видимо, неслучайно Абай в «Восьмистишиях» обращается к своим соплеменникам как к утесу, отказывая им в одушевленности:
Но утес, он на то и утес, Крик мой, канув, нигде не пророс.На мой взгляд, и ныне утилизация одушевленного в неодушевленное продолжается. Насколько далеко зашел процесс минерализации, или как выражался Рене Генон, «отвердения», можно судить по отношению чучмеков к проблеме смены поколений. Как известно, без физического омоложения трудно ожидать перемен и в духовной сфере. Что до чучмеков, они так «уперты» на своих былых авторитетах, как будто солнце способно светить только в прошлом.
Да… не дай бог истинному таланту родится среди чучмеков! До возраста Мафусаила его будут считать ребенком, а потом произведут в молодые. До тех пор любой старикан еще с младенчества страдающий идиосанкразией и ипохондрией будет приводить их в восторг до полного помешательства. Я называю данный феномен кащеизмом. От слов каша и Кащей. Таким образом, чучмекская литература – это похлебка Кащея, где тут и там выныривают таланты-не чучмеки и тут же тонут в кащеевой хляби.
Честно говоря, литература – дело сугубо индивидуальное. Однако, чучмеки признают писателем только того кто значится в их длинных нескончаемых списках, начало которых теряется в кабинетах «кремлевского горца». Поэтому напрасно во главе реестра вы будете искать Булгакова или Гоголя. Список наших классиков выглядит следующим образом: Ляпкин-Тяпкин, Коробочка, Воланд, Манилов, Коровьев, Ноздрев, Аннушка и прочие рыбы нелитературной свежести. И только где-нибудь ближе к концу вы наткнетесь на имена тех, кто породил в муках танталовых эти «шедевры» рода человеческого.
Впрочем, по мне, что чучмек-писатель, что чучмек-читатель все один крен. Уверяю вас, что это не описка. Конечно, для нас не секрет как появляются дети, но что касается чучмека, он – порождение крена и, потому, рождается с креном. Причем неважно в какую сторону. Важна обреченность на крен. В любом деле и в любом начинании.
Если чучмек мыслит, то значит обязательно попирая логику. Если он помогает, будьте уверены, что скоро сведет в могилу. Мне как-то помогал один министр, так я уже шатаюсь от истощения – нервного и иного. Так что бойтесь любви чучмека, ибо она паче ненависти! Любовь чучмека, как липучка для мух: чем больше хочешь взлететь, тем больше в ней увязаешь.
Словом не ждите от чучмеков ничего хорошего. И пока не научитесь неприятию всего чучмекского, не надо браться ни за какую деятельность. Она будет напрасной. Сейчас стало модно злоупотреблять эпитетом «новый». Новые русские, новые казахи, новые неореалисты, журнал Новый мир, который, кстати, древнее всех новоявленных новых.
Что до меня, я с опаской отношусь к этому определению. Судите сами: чем отличается старый чучмек от нового? На мой взгляд, лишь степенью мимикрии. Старый старается скрыть, что он старый, а новый нагло демонстрирует, что он новый. И попробуйте не поверить в это, когда он даже в туалет с айфоном ходит. А эти пейджеры, заменяющие ныне кинжалы?! Не правда ли, интересно, когда громила с внешностью абрека хватается за пояс и вытаскивает оттуда коробочку с гулькин нос вместо холодного оружия? Вы думаете «абреку» спущена срочная информация? Ничего подобного! Ему просто напомнили, что пора идти в сауну. Ведь так-то он не запомнит, нечем.
И вообще, на мой взгляд, все эти новые, подобно собакам Павлова, живут условными рефлексами. Только неизвестно кто на них ставит эксперимент и ради чего? Как могла произойти такая радикальная смена ценностей, что людей теперь не отличишь от автоматов, когда не хозяин едет в машине, а машина вместо хозяина? Когда не ты решаешь за компьютером, а компьютер решает вместо тебя? С такими темпами скоро совсем исчезнет необходимость в человеке.
Что тогда станет со всеми нами? Наверное, будем согнаны в резервации и оттуда славить новых чучмеков, придумавших все это светопреставление. Что касается соответствия означающего означаемому, то нет ни первого, ни второго, а только голая витальность с одуряющим тоталитарным душком, который чем дальше, тем явственнее.
Видимо, неслучайно у нас такой пиетет перед властью, как будто нас породили не путем зачатия, а особым указом царствующей фамилии. Да, чучмеки – это метафизики, еще до Платона и Аристотеля изобретшие особый ее вид – метафизику власти. Суть ее в том, что как мир есть всего лишь отображение вечных идей, так и чучмеки не что иное, как истечение власти. Если у чучмека имеются эрогенные зоны, они откликаются только на отеческую ласку вождя и ни на что больше.
Как видите, народ выдрессирован так, что даже фаллос, этот глупыш и бесстыдник, забыл о женском лоне, ибо ждет указаний жречествующего чучмека. Мой друг с дефектом речи то и дело путает слова тюрки трюк.С невозможности их адекватной артикуляции он и стал заикой. Да и для меня зачастую лексема тюркассоциируется с трюкачеством.
Что и говорить, наши чучмеки – трюкачи каких поискать!. Один их трюк с демократией чего стоит! Ведь они чего хотели того и добились – демо нократии. Однако, чтобы не смущать мировое сообщество убрали противительную частицу но. Да и зачем частицы, которые сопротивляются! Для таковых у них давно открыта лаборатория на Капитолийском холме, загадочное сооружение, имеющее вход, но не имеющее выхода. Там наше министерство министриирует, т. е., из нормальных людей создает министров. А ненормальным удаляет мениск. Вот там-то я и сижу и оттуда пишу эти строки.
Меня охраняют полтора тиранозавра и 799 шакалов. Дело в том, что один тираннозавр уже почти сожрал другого. Так что и ему, и шакалам есть чем поживиться. Вообще, если бы не тираннозавры, шакалы подохли бы с голоду. Ведь нас-то, нечучмеков стерилизуют и в зубы им мы не попадаемся. Это сделано для того, чтобы не заразить шакалов сверхчучмекскими идеями. И то верно. Ведь что такое чучмек? Это чучело, набитое больше предрассудками, чем соломой. Поэтому он и в огне не горит, и в воде не тонет. И ничуть не изменился с эпохи динозавров и птеродактилей.
Ну, что же, за мной пришли. К моим вискам поднесут два электрода и включат высоковольтку. Чудовищная энергия вытянет мой дух из тела и я превращусь в бесцветное сияние, точно такое же как от вашего торшера или бра… Впрочем, это все чушь. Чучмеки – это твари, на истинную сущность которых проливает свет тюркское «чучмак» – бояться, впадать в ужас. Нашему жречеству нет дела до моей писанины. Они правильно полагают, что замалчивание убивает ничуть не хуже, чем открытая травля. Мне не будут удалять мениск и тем более, производить меня в министры. Меня просто вышлют из страны. Удалят как гнилой зуб из здоровой пасти. И каждый из нас будет знать, что дело не во мне, а в них самих, чучмеках.
Здесь меня посетила мысль, которая, наверное, должна была бы посетить меня с самого начала: «А зачем я это все, собственно, пишу?» Если чучмекам не дано ничего иного, пусть чучмекствуют. Как говорится, богу богово, а твари т-варево. И, тем не менее, нигде не сказано, что чучмекство – это лучший способ бытия. Что касается священных книг, таких как Библия, Коран, «Размышления» Абая, в них вообще отсутствует понятие чучмека. Значит, это местное изобретение. Откровенно говоря, я и сам чувствую себя чучмеком среди людей, не разумеющих по-чучмекски. Так может быть есть более глубокие основы бытия и мышления, чем наше пресловутое чучмекство?
Тотальная чучмекизация, ставшая ныне единственной нашей реальностью не столь безобидна, чтобы над ней только посмеиваться. Это чудовищная сила, обгоняющая саму себя и, потому, препятствующая естественному духовному становлению наших народов. Многие ценности в наше время, не успев появиться на свет становятся ненужными. Например, возможно ли ныне говорить о национальной идее, когда страна на наших глазах превращается в огромную биржу или акционерное общество с неограниченной безответственностью? Как возможно возрождение культуры, когда никто не хочет влагать деньги в новые имена и свежие идеи?
Если в нормальных странах творческая личность, однажды состоявшись, приобретает все большую и большую известность, у нас над ним увеличиваются лишь круги забвения. И каждый из нас задыхается в своем кругу, как рыба, выброшенная на берег. Как ни странно, этой ничтожной рыбешке, чтобы выжить нужно целое море. Так и для нас все разговоры бесплодны, если мы не в состоянии выйти из своих пресловутых кругов и образовать общество, нацию, государство. И только тогда мы предадим забвению само забвение…
«В небесной математике вечно что-то не сходится» Эссе
В небесной математике вечно что-то не сходится. И только вздумаешь исповедаться этому миру, как вдруг начинается дождь. Он тренькает по ушной раковине, по затылку, по замыслам, пестрым как бабочки. И все затухает, замирает, разбегается. Остается лишь гул машин, мчащихся по автостраде. Постукивают часы. Урчит желудок. Слух, не способный впитать столь разноречивую информацию, безвольно отдается потоку насилия.
Дождь похож на пьяного пианиста, помешанного на гамме из трех нот: ми-ре-до, до-ре-ми… Иногда его палец натыкается на металл, иногда на дерево, порой на траву. Иногда он просто бурчит что-то нечленораздельное. Ох, уж эти сентиментальные пианисты с их изнуряющей жаждой исповеди! Это не музыканты и не христиане, а натуральные воры. Ибо попробуй настроиться на исповедь, когда тебе приходится исповедовать исповедника. А исповедник пьян и вообще, сказать ему не о чем. Он давно уже выжил из ума, да и в те годы, когда он кое-что еще соображал, он понял, что исповедь – развлечение тех, кто страдает недержанием речи. Так что дождь – это ипохондрия болтунов, не обладающих телом. А нам, носителям тел более прилечествует молчание во глубине наших гортаней. Это та сила, которой нет у дождя, сила сдержанности и целомудрия; цельность, не желающая дробить себя по пустякам.
Дождь плачет и ноет, вибрирует и беснуется: играет свою немудрящую гамму.
Я сплю. Мое молчание расцвечивается яркими снами. Однажды объявится собеседник и оно заговорит. На языке непонятном дождю.
«Я звал его реликтовым казахом»
Я звал его реликтовым казахом. Он входил в комнату раскованной походкой воина-аламана. И казалось, что на боку его болтается сабля, а там, за дверьми остался боевой конь, бьющий копытом в предвкушении битвы.
Бросив громовое: "Салам!" он опускался в кресло и тут же начинал говорить о былом величии Дешти-Кипчака, о своих армейских подвигах вождя-одиночки, о маленькой Чечне, укусившей большую Россию. При этом он не успевал повторять, что хищник всегда меньше своей жертвы.
Его округлый лоб с залысинами смуглел и лоснился, раскосые глаза поражали недобрым, горячечным блеском.
Я, обычно, терялся во время его визита-вторжения и по существу был лишь несущественной частью его живого, выразительного монолога. Я мекал, мычал, услужливо кивал головой, а сам вспоминал слова некоего австрийского полукровки о том, что традиции нельзя научиться, если она однажды ускользнула из рук.
На мой взгляд, ничьи победы и поражения ничего не доказывают. Есть лишь вечное повторение подобного или то прехождение-гибель, в течение которого избавляются от всех иллюзий. Но моему герою не дано избавиться даже от одной: от веры в собственную исключительность.
Хоть мы и жили с ним в одном великом "Сегодня", стрелки наших часов упрямо не совпадали. И оставалось только удивляться моему терпению и его опьянению собой. И отсутствию катастрофы в наших отношениях. Впрочем, он однажды уехал и, как выяснилось, навсегда. Я, наконец, получил право самостоятельно распоряжаться своим временем. И с тех пор понял для чего существуют могилы: чтобы в них закапывать свое прошлое и жить настоящим, хрупким и щедрым, как восходящее солнце.
Апофигизмы одинокого мустангера Афоризмы
1. К талантливым поэтам относятся как к проституткам, едва преодолевая чувства гадливости и соблазна
2. Я готов написать роман, но почему-то романа с ним у меня не получается
3. От гения до идиота один шаг, если они сосуществуют в одном человеке
4. Формула «два в одном» – это не только кредо «Твикса», но и обычного шизофреника
5. Объять необъятное можно, если с вами журнал «Тамыр»
6. Что такое человек обыкновенный? Читатель журнала «Простор».
7. Лужа общения
8. Разум – это игла, пронзающая лишь больное место. Или сама боль, возможно, есть лишь далекое присутствие разума
9. Одиночество – профилактика благоглупости
10. Похмелье – дьявольское наказание за грехи наши. Бог придумать такое не мог.
11. Секс – гимнастическое упражнение на уровне инстинкта
12. Опьянение – минута свободы, которая далеко заводит
13. Пьянство – органический механизм самоистребления
14. Горгона – женщина, неспособная к диалогу
15. Аполлон – меткий стрелок, которому все равно куда стрелять
16. Вдохновение – это такая шалава, которая всегда почему-то кстати
17. Поэзия – способность говорить ни о чем, в то время когда все говорят о чем-то
18. Философия – узаконенный идиотизм самоуверенных интеллектуальных фюреров
19. Постмодернизм (1) – свобода попугайничать и нести любую околесицу
20. Традиция – пустое слово, оправдывающее леность ума и неспособность к самовыражению
21. Личность – имярек, ощущающий свою лишнесть
22. Семья – нечаянное образование, приватизирующее личность
23. Праздник – возможность промискуитета, а что может быть лучше?
24. Дружба – ежедневное покушение на твою иммунную систему
25. Романтика – магнитофон эпохи застоя
26. Скепсис – способность убирать преграды, выдающие себя за достижения
27. Чесотка – это когда тело пытается мыслить
28. Авангардизм – способность к самоэстетизации
29. Модернизм – осознание того, что бытие неисчерпаемо
30. Постмодернизм (2) – каталогизация исчерпанного бытия
31. Текст – это авторские экскременты и ничего более
32. Экспрессионизм – попытка эмоциональной экономии
Примечания
1
Жузы (от слова: жуз) – территориально-племенные объединения казахов. Их всего три: Старший, Средний, Младший.
(обратно)2
Подлинные стихи Игоря Полуяхтова, ушедшего из жизни в 2007 году в возрасте 43-х лет.
(обратно)3
Высокогорный цветок Иван-да-Марья с желто-синими соцветиями. Символ верности.
(обратно)



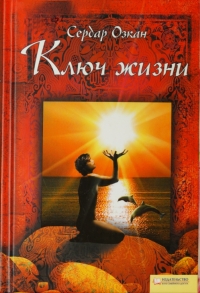
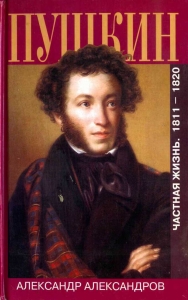

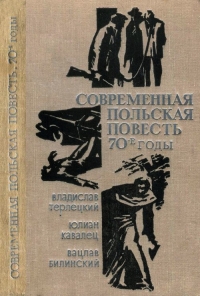



Комментарии к книге «Порог невозврата», Ауэзхан Кодар
Всего 0 комментариев