Борис Берлин Ню
Право на возвращение
Пролог
Не говорите, что – осень.
Из-за тумана, с той стороны невидимой реки, длилась – тишина… Только два неслышных голоса шептали друг другу… Как два опавших листа или два майских жука. И не говорите, что – август…
– Что же мы – так никогда и не встретимся?
– Ну почему – встретимся – и даже обязательно. Только потом пожалеем о этом.
– Почему? Это грустно… Но я тебе верю – ты всегда все знаешь.
– Правильно. Верь мне. И тогда все будет хорошо.
– Ты говоришь – все будет хорошо – и от этих слов такой холод…
– Тебе не может быть холодно, маленькая врунишка. Я ведь с тобой, да?
– Ну да, ну да – не может – я просто преувеличиваю. Обожаю преувеличивать…
– А я обожаю тебя.
– Это славно – мне это нравится…
– Ну а ты? Нет, я не буду спрашивать, скажи сама, а?
– Я… А что я? И ты сам все знаешь. Давай лучше о другом…
– О чем моя сладкая? О чем?
– Расскажи – как мы встретимся, как все произойдет.
– Все будет непросто. Да, непросто. И – по-разному. Слушай…
Есть Бог на свете
Часть первая – Оля
Мой самолет разбился в 7.30 утра.
Сильнее страха было удивление.
Неужели этот ужас происходит со мной.
Этого просто не может быть.
Еще молодая, любимая, карьеру сделала, мужчины вслед оборачиваются, подруги говорят – везучая.
Мне и по правде всегда везло.
До сегодняшнего дня.
Не хочу вспоминать про то, что началось в салоне после того, как люди поняли, что – все.
Самолет полный.
Группа детей с воспитателями – английские школьники – возвращаются домой после месяца, проведенного в Москве и Питере – месяца изучения языка и архитектуры. Молодожены – сидят на ряд впереди.
Старик – строгий и нахмуренный – с самого момента посадки.
Стюардессы – красивые, вышколенные.
И еще много других, к которым и присмотреться-то не успела.
Как вдруг, все разломилось на несколько кусков – и нет ничего.
Про это вспоминать не хочу.
Я о другом сейчас.
О другом.
Глеб встречает меня в лондонском аэропорту.
Вот он – наконец-то я его вижу вблизи.
Толпа обезумевших людей, (видимо, уже объявили про катастрофу) и он среди них.
Седая голова, синие глаза.
Улыбка знакомая, но сейчас – как будто приклееная.
Не поймет, в чем дело.
Не верит, что все кончилось, так и не начавшись.
Милый…
Милый мой…Я прозрачна и невидима, а потому безбоязненно прохожу сквозь сгустки человеческой боли и оказываюсь рядом с ним.
Моя ладонь невесома, но я касаюсь его щеки.
Касаюсь…
Господи, ведь мы целый год мечтали об этом.
Коснуться…
Да не год – какое там. Целую жизнь мечтали – и вот…
Глеб беспомощно озирается по сторонам.
В толпе кто-то падает.
Крики, крики, крики…
– Милый, – шепчу я, – мне не больно, мне совсем не больно… Ну что поделаешь – не сложилось у нас. Деток жалко – погляди на их семьи – вот горе то. А я – что ж, прости – не долетела я до тебя…
Год писем, и все закончилось здесь.
А сейчас я читаю его мысли. Они мечутся, как звери в клетке.
И последняя: «Не сложилось…»
Я чувствую тупую боль в его груди и накрываю ее своей ладонью.
Боль тут же утихает.
И хорошо.
Не надо, чтобы боль.
Не надо, чтобы смерть.
Живи – и за меня и за себя – и за нас.
Ведь есть же бог на свете…
Часть вторая – ГлебВот уже десять дней, как ее нет…
Десять дней, десять лет, десять жизней…
Неужели – уже десять? Моей Оли…
Мы знакомы год… Были знакомы… были…
Это принято называть виртуальной любовью. Может, так оно и есть, но тогда, что такое любовь – вообще… Никакая невиртуальная, а просто – любовь, обычная, когда двое… Я не знал. А потом мы встретились.
Так оно и было – встретились. Наши письма, наши мысли, наши души… И даже наши тела…
Тысячи, тысячи писем с одного континента на другой – как дышать, есть, пить, как – жить…
Да, мы научились и этому тоже.
Говорить друг другу «доброе утро» и «спокойной ночи», смотреть в глаза и улыбаться, сердиться и умирать от нежности друг к другу, ссориться и мириться, все, как в обычной жизни, как у всех…
Но, как у всех, так и не стало.
Ее самолет – упал.
Мы сумели, смогли дотронуться душами, но не руками, не губами, не глазами – не сложилось…Сказать по правде, я почти ничего не помню. Просто в какой-то момент – ватная тишина, и вокруг – изменившийся мир, в котором все стало – до, а что – после…
Да, семья, конечно… У меня Вера с Катюхой, у нее, у Оли тоже – муж, дети…
Ее, наверное, уже похоронили – я не знаю… Помню только имя в списке на стене… там было много других имен, вроде что-то такое про детей, люди, люди, слезы… Я почему-то хотел позвонить ей домой, но не смог вспомнить телефон, а когда вспомнил, было уже не нужно, уже поздно… Уже поздно…
Наверное и для них так лучше… Ведь никто ничего не знал – о нас. Никто и ничего… А как я мог поехать на похороны? Невозможно похоронить – себя. Она же – во мне, живая… Ее глаза, улыбка, манера говорить и морщить нос… Ее смех… А что еще-то с высоты десять километров……Я вернулся на третий день, как и собирался. Обнял Веру. Невозможно смотреть в глаза… Душ…
– Нет, спасибо, не хочу. В самолете кормили, лучше посплю пойду… устал что-то, болтало…
Ближе к вечеру встал разбитый, все время Олино лицо перед глазами, копна ее каштановых волос. Она говорила, что у нее очень редкий цвет от природы – тициановский. Гордилась… Я потом специально нашел в сети его картины, действительно – похоже…
Наконец, мельком посмотрел на жену, осунулась, лицо бледное, мешки под глазами… Какая-то вся поникшая. Неужели, из-за… Нет, не может быть, никто же не знал, никто…За ужином она сказала, что у нее рак. Анализы, подозрения, биопсия – подтвердилось… Два дня назад пришел ответ… Не говорила, ну, не хотела раньше времени, думала – обойдется… У нее с детства так – начинает о чем-то говорить вслух, и это превращается в реальность. Потому и молчала… Надеялась. Говорят, нужно срочно химиотерапию. «Лысая останусь – разлюбишь…» Беспомощность и боль в глазах – прямо как у ребенка. «Папа, сделай что-нибудь, ну, пожалуйста»… Неужели и правда – есть бог на свете, а? Хочу, чтобы был. Пусть хотя бы он знает – за что. Потому, что иначе выходит, что – просто так… Вот, просто так – Оля, ее семья… Вера, я, Катюха… И все остальные фамилии из того списка на стене… И дети – тоже. И их дети… И…
…Верина голова на моей руке. Дышит вроде ровно, может, спит. Я только что сделал все, чтоб она уснула и спала как можно дольше. Все, что мог… Не могу больше следить за лицом, за движениями, за Верой… Необходимо побыть самим собой – хоть на минуту, расслабить нервы, расслабить мышцы, расслабить сердце. Почему его всегда рисуют в середине груди, если болит все время – слева. И если не сердце, то – что? Душа? Что же, может быть. Наверное…
Осторожно вытаскиваю правую руку, встаю, только бы не разбудить… Иду в кухню, ищу Верины сигареты. Сам давно бросил, лет десять уже, а она до сих пор. Сколько ругался с ней из-за этого… Теперь уж точно бросит…
И ведь никому не расскажешь, никому… Да и поздно уже – второй час ночи. Только Андрею, пожалуй… Удивится… Нет. Ну, тогда хотя бы самому себе, что ли… Только тихо, Веру не разбудить… Может, хоть так отпустит. Ну, хоть немного……Нет, кажется, не разбудил… Только повернулась на другой бок, и дыхание не такое ровное… Спи… Я вернулся, все будет хорошо… Я обещаю, слышишь… Снова, как раньше – вместе и навсегда, слышишь…
…Господи…. Оленька, Оля, откуда ты… как ты… ты здесь, милая моя… Неужели все-таки он есть?!!! Есть бог на свете!.. Есть бог на свете… Есть Бог… Часть третья – Вера
Конечно, я обо всем знала.
И про письма, и про любовь, и про эту их встречу. Научилась пользоваться компьютером, открывала почту и – читала.
Читала все.
Почернела от горя.
А сказать ничего не могла.
Я понимала – скажу, что следила за ним – не простит. Потом нашли опухоль, сделали биопсию, и я решила – пусть едет.
Если есть бог на свете, он не допустит, чтобы столько горя – и одному человеку. Мне…
Ну встретятся один раз – все равно он ко мне вернется, со мной ему хорошо, я же знаю, я чувствую…
И он знает.
А потом передали про катастрофу…
Глеб вернулся через пару дней.
И я рассказала про свою болезнь.
Он пожалел меня и обнял, и любил.Только… что хотят эти люди?
Почему они говорят, что Глеб умер?
Какие глупые, глупые, глупые люди.
Уйдите все из нашего дома.
Мы хотим побыть вдвоем.
Впервые за долгий год.
Ведь теперь, наконец, все кончено.
Он мой навсегда.
Каждый из нас заплатил свою цену.
И он, и она, и я.
А значит – Бог есть.
Глеб…
Ты с лышишь меня, Глеб?
Есть Бог на свете!..Звонок
Она
Она суетилась вокруг него так, как суетятся нелюбимые жены.
– Милый, водички хочешь?
Погоди, не вставай, не вставай, только голову приподними – вот стакан, пей.
Одеяло подоткнуть?
Ну скажи, подоткнуть?
Ох, ну что я за дура-то…
Я все время забываю, что ты не можешь говорить.
Пока не можешь говорить.
Но обязательно заговоришь – так доктор сказал.
Вернее он сказал – «надежда есть»
Есть надежда, слышишь, всегда есть надежда.
И заговоришь, и рукой-ногой снова двигать начнешь.
Вот я и надеюсь.
Сашенька, ну что ты морщишься?
Где болит?
А знаешь что, давай я тебе карандаш и блокнот организую, будем переписываться.
Как раньше, помнишь, я один раз в санаторий уехала, а ты мне письма писал.
Каждый день…
Я чуть с ума от счастья не сошла.
Мы тогда уже лет десять были женаты, а все как новобрачные – скучали, перезванивались, письма те…
Ну вот я дура – заболтала тебя. Сашенька, не хмурься, ну скажи, скажи, где больно-то?
Господи, а давай я спрашивать буду, а ты – если это место болит – глаза закроешь.
Хорошо?
Ну закрой глаза, если ты согласен.
Вот – видишь, видишь, какая я у тебя сообразительная.
А ты ведь никогда мне не говорил, что я сообразительная. Ты меня особо не хвалил никогда.
Зато я знала всегда, какой ты у меня умный.
Знаешь, как гордилась, перед подругами воображала, что ты историк – в университете преподаешь, даже книжку написал.
А помнить – книжка твоя, как только вышла, мы с тобой пошли в ресторан отмечать это дело, и ты напился в первый раз.
Напился, как цуцик.
И стал ко мне прямо в ресторане приставать. Зацеловал всю, я уж и не знала, смеяться или сердиться.
Да я и не сердилась на тебя никогда по-настоящему.
Я ведь, знаешь ли, я ведь тебе за всю жизнь ни разу не изменила.
Ну да, я знаю, что уже не первой молодости, хоть и младше тебя, неважно, пусть младше, ну и что – что намного, а раньше-то, раньше – ты же не забыл, какая я красавица была?
Недаром ты на меня запал – и женился через неделю, как познакомились.
Да и работала в таком месте – кого только не перевидала, каких только историй не услышала.
Лучший косметический салон в городе – богатые и модные клиенты и клиентки, а уж сколько соблазнов…
Но вот честно тебе скажу – мне кроме тебя никто и не нужен был.
Да, никто – вот так.
Мне и сейчас никто не нужен.
Мне нужен только мой Сашенька.
Жаль только, что ты неразговорчивый такой.
Всегда был неразговорчивый.
А в последнее время и вообще больше молчишь. Вот ведь у нас редко когда выдавалось в последнее время по душам поговорить.
Я у телевизора по вечерам, ты за книгами, да за компьютером.
И то сказать – за тридцать лет – обо всем, считай, уже поговорили.
Поэтому, когда в прошлую субботу ты меня усадил в столовой и сказал каким-то странным, чужим голосом, что хочешь со мной поговорить – я не то, что удивилась…
А почему-то испугалась.
Хотя, кажется, чего мне пугаться-то?
Детей у нас нет, с работы меня не выгоняют, ты давно на пенсии, со здоровьем все в порядке. Было в порядке… Да… Вот вроде пугаться нечего, а вдруг испугалась.
Сердце куда-то вниз – раз – и ухнуло.
И после – поверишь – ничего и не помню.
Ни о чем говорили, ни что было потом.
Помню только – ты стоишь, рот открываешь, а слов нет. Потом упал, а я скорую вызвала.
И вот мы здесь.
Мы здесь уже десять дней. Инсульт.
Завтра тебя отправят на реабилитацию.
Вместе поедем, а там дай бог и домой на своих двоих вернемся, правда?
Ох, ну что же это я – заболталась совсем.
Миленький, так что ты хотел-то?
Ну не стони, не стони.
Не стони, все будет хорошо.
Я тут, я рядом.
Вот водичка. Не хочешь, голову отворачиваешь.
Ну, давай, доктора позову?
Нет – головой мотаешь.
А может, в туалет?
Тоже нет.
Куда ты смотришь?
Карандаш дать?
Напишешь мне, да?
Ну давай попробуем, левая-то рука у тебя еще работает.
Ну вот, я держу блокнот.По… По… Позвони…?
Кому, милый?
Брат твой знает, он и друзей твоих обзвонил – вон Галька с Генкой – только вчера тебя навещали.
Некому больше звонить-то.
Давай сюда карандаш, давай.
Вот так.
Устал ты милый – поспи.
Поспи.
А я пойду доктора найду – спрошу, как наши дела сегодня.
Он– Как же я устал от ее голоса…
Как я устал от нее.
Тридцать лет уже, боже мой…
Нет, ну не с самого начала. Сначала было очень даже… Почему в жизни так бывает? Н-да, глупый вопрос. Да и ответ тоже – глупый. А может и нет его вовсе. А просто – так и все.
Позвони же Ане, ну…
Пожалуйста…
Ты же знаешь про Аню. Я же тебе все рассказал тогда, помнишь? Ну, перед…
Когда это было-то… В субботу. По-моему, в субботу. Не помню ни хрена.
А сегодня какой день? Она же волнуется. Она же не знает ничего, совсем ничего, что со мной…
Вот ситуация, а? Просить жену позвонить любовнице… Хм… Любовнице? Какая ж она, нафиг, любовница-то? Жена она, как ни крути. Жена и все. Так что у тебя, Санька, две жены теперь.
А что, так и выходит… Год уже. Неужели – уже год? И не поверит никто, если рассказать. Да кому расскажешь? Рассказал уже один раз – хватит.Может, сестру попросить? А, черт, забываю все время, как попросить-то? Она же все время рядом. И вообще, как? Ведь ни говорить, ничего. Даже отлить – и то помощь нужна. Две жены… Двух сиделок тебе надо, вот что. А как же все-таки хорошо было. Думал, вот моя последняя женщина, последняя любовь. А может, и первая – за всю жизнь. Настоящая. Ну, когда молодой был, тут – понятно… Страсть, влечение, желание. Все, как первый раз. Потом постарше стал, поопытнее, выбирать начал, искать свое. Кто знает, какое это – свое? Кто скажет? Никто… А вот чувствуешь что-такое… Фигня все это. Ничему мы не учимся, как были пацанами глупыми, так и остались. Просто все, на самом деле. Ты или встретишь ее – свою единственную – или нет. Встретишь – больше никто тебе не нужен, и ты даже не понимаешь, что выпал тебе счастливый билет, один на миллион. Просто живешь…
Н-да… Анна… Анна… Анечка… моя… Имя одно… Считается – седина в бороду – бес в ребро. Чушь… Никакой не бес. Да и не ходок я уже давно, честно-то. Ведь только-только начинаешь понимать, что к чему, что главное, уже и пенсия, и…
Пожалуй, и лучше, что она ничего не знает. Ведь как ни крути, прежним я уже не буду, дай бог хоть как-то… да-да, именно – дожить… Так что ж, вешать это на нее после того что было? Она меня другим запомнить должна. Да и потом, захочет ли, сможет ли, готова ли – на все на это? В том-то и дело, что уравнение это со многими неизвестными.
Нет, но сообщить как-то, дать знать. Чтоб не подумала – пропал, исчез. Ах, как же она смотрела на меня! Как смотрела! Ее глаза в полумраке спальни… Ее тело… Ее тяжесть на мне… Ее…
Все! Еще прослезиться не хватало! Стоп, стоп…
Лучше про разговоры наши вспоминать, про наши беседы… Ни разу, ни одного мгновения неловкости, ни одного мгновения непонимания, да не просто непонимания – неугадывания. Ведь угадывали друг друга, как будто жизнь прожили. С полулета. Случайно такое не получается – только, если думаешь так же. Чувствуешь так же. Вот и все.
Нет, надо дать ей знать… как-то надо… Что там? Дверь открылась, ее шаги. Хорошо хоть, слух остался…
Она– Ну вот милый, с доктором я поговорила, он опять мне про надежду сказал.
Есть, говорит, надежда.
Вот я и надеюсь.
И никогда не перестану надеяться – ты понял?
Я хочу, чтобы ты понял – никогда не перестану.
Еще он про таблетки говорил.
Что надо принимать таблетки.
Аспирин.
Тогда, может, и заговоришь. Только я вот знаешь, что подумала…
Я, конечно, не медик.
И сообразительной никогда не была.
Как ты – такой не была.
Но я твоя жена.
И я за тебя в ответе.
Поэтому я тут подумала…
А зачем нам таблетки?
Ну что нам – без таблеток что ли не справиться?
От таблеток этих только вред один.
На пенсию я уже заработала.
Брошу работу – буду с тобой дома.
Ухаживать буду за тобой – лучше, чем мамка за ребятенком ухаживает.
По вечерам будем гулять.
Перед сном – на диване сядем, обнимемся, телевизор посмотрим.
А говорить…
Если не начнешь снова говорить – не страшно.
Что ж говорить, мы и раньше мало говорили.
А про то, что ты в ту субботу хотел мне сказать – так какая мне разница?
Ну какая разница – если всегда есть надежда…
А? Как ты думаешь, милый?
Звонок…Через три недели они вернулись домой.
Двигательные функции восстановились почти полностью. Он мог ходить – чуть прихрамывая, чуть подволакивая ногу.
Правая рука уже не висела как плеть – он даже мог сам держать ложку, мог сам кушать.
И только речь так и не вернулась.
Нечленораздельное мычание и слезы на глазах после – вот и все разговоры.Она бросила работу, целыми днями ухаживала за ним, готовила, убирала, стирала белье, бегала по магазинам. Когда она уходила, он садился напротив телефона, глядел на него неотрывно и шевелил губами.
Месяцев через восемь, ранней весной, в тот день был страшный гололед, она возвращалась из булочной, торопилась, потому что не любила оставлять Сашеньку одного, по сторонам не глядела.
Когда грузовик оказался слишком близко, чтобы увернуться – только успела охнуть, даже про Сашу подумать как следует не успела, одна мысль мелькнула, да и то последняя, вот и оборвалась посередине:
– Он же один там… Позвонить…Неотвратимость
Рейс 4417, Москва – Новосибирск
Рейс подходил к концу. Они уже снизились до высоты круга, скорость упала, погода была ясная, безоблачная, летняя. Новосибирск принимал и выпускал борты без задержек, и экипаж твердо рассчитывал к вечеру вернуться в Москву. Два пилота и шесть человек персонала.
42 часа до вылета – капитан
– Да не знаю я, не видел – он опустился на траву и откинулся назад – руки и ноги еще дрожали от напряжения. – Не видел и все… откуда я знаю, как она свалилась в воду! Я вообще случайно ее заметил. Я на поплавок смотрел, а не на… тонущих беременных женщин… Что она беременная, я тоже, как вы понимаете, не видел. И вообще, старший лейтенант, лучше б дал ты мне сигарету, чем вопросы задавать… Видишь, у человека еще руки-ноги трясутся, три раза нырять пришлось, ее уже почти под корягу затянуло, хорошо – платьем зацепилась… А то бы – точно с концами. Она хоть в сознание пришла? Если родит, и все в порядке, свечку пусть за меня поставит. Ну и еще кое-что не мешало бы… Вот, другое дело – он вытащил из протянутой ему пачки сигарету, закурил от поднесенной зажигалки, затянулся и закашлялся. И тут же, вдруг поморщившись, впился пальцами другой руки в бедро. – А, чччерт… Опять ногу свело… Хорошо хоть на этот раз на берегу, а не там, а то, если б не отпустило, и я бы там остался с ней вместе… В эту самую секунду, в голубой жилке, под кожей коленного сгиба его одеревеневшей от напряжения левой ноги, оторвался тромб. Крохотная красная бляшка, словно задумавшись, зависла на мгновение в потоке венозной крови и…
Голоса
– 4417, доложите тип захода. Толмачево-круг.
– Толмачево-круг, заход директорный. 4417.
– 4417, заход на двадцать пятую разрешаю, снижайтесь к четвертому четыреста, связь с посадкой… Толмачево-круг.
– Заход разрешили, к четвертому четыреста метров, связь с посадкой… 4417.
– И почему она это сделала… Ведь столько лет, не доходит. Ну не доходит и все…
– А оттуда – куда? Сразу в офис, или сначала…
– Я так устала, так устала с ним. И ведь ничего не говорит, молчит, только следит за мной глазами, и как же это тяжело, и когда же это кончится. А с другой стороны – если кончится – как я жить-то буду…
– Бабуля, мы уже совсем низко летим, уже все-все видно…
1 час 35 минут до вылета – капитан
– Так-так… – доктор взял его запястье и нащупал пульс.
– А вы частите, дорогой мой… Да, частите. Точно не употребляли? Н-да… С таким пульсом… Даже не знаю. Кофе черный пили? Раньше тахикардию замечали? Ну, учащенное сердцебиение – замечали? Нет? И ни болей в груди, ни одышки – ничего такого?
…– Давайте так тогда… С таким пульсом я вас допустить не могу. Единственно, что могу предложить – попытаться еще раз, мало ли что может быть. Человеческий организм, он, знаете ли, штука непростая, даже очень. Пропустим сначала остальной экипаж, а потом снова вы – последним, простите – крайним. Знаю, не любят летчики это слово. В общем, еще минут двадцать-тридцать у вас есть.
Постарайтесь успокоиться, настройтесь, и попробуем еще раз. Идет? Я практически уверен – все будет нормально…
Голоса
– 4417, посадку на двадцать пятую разрешаю. Ветер двести семьдесят, четыре метра.
– Толмачево-посадка, посадку разрешили, вошел в глиссаду, шасси выпущены, к посадке готов. 4417.
– Женечка, сиди смирно. Прилетели, прилетели…
– Ой, Тань, я так по нему соскучилась, ты не представляешь…
– Конечно купит… Он же тебе обещал, он же наш папа…
– 4417, удаление пять, на курсе, на глиссаде. Продолжайте снижение…
– Автопилот отключен. Взял управление…
Вот и осталось всего 20 секунд, потому, что тромб уже почти вошел в левое легкое…
– Оценка!
Еще несколько секунд – и…
– Решение!
– Садимся…
– Торец. Высота пятнадцать… десять… Командир, куда-а-а-а!!!
Из отчета МАК (Межгосударственный Авиационный Комитет):
…Ф.И.О. – … должность: КВ С (капитан воздушного судна), образование: Качинское высшее военное училище летчиков – 199… г., Московский авиационный институт– 200… г. Налет: 10083 час. 26 мин.,(в день авиационного происшествия Зч. 44 мин.). На данном типе ВС – 7465 часов, в должности КВС – 4018 часов.
…В результате АП из 132 находившихся на борту пассажиров и членов экипажа:
Со смертельным исходом – 132 чел.
Серьезные – 0.
Незначительные/отсутствуют – 0
…Следов алкогольных и наркотических веществ в крови членов экипажа не обнаружено.
…По неустановленной причине, при заходе на посадку, воздушное судно, находясь на высоте 10 метров над ВПП/ RWY25, А/П Толмачево (Новосибирск), в посадочной конфигурации, получило резкий левый крен, приведший к контакту консоли левого крыла с земной поверхностью, последующему разрушению ВС и пожару.
…Воздушное судно находилось в исправном техническом состоянии, не препятствующем производству полетов.
…В момент столкновения с землей, управление ВС осуществлялось слева (КВС), контроль – справа(2-й пилот).
…Техническое состояние регистраторов бортовой информации (черных ящиков) позволило снятие и расшифровку технических параметров работы основных систем ВС. Расшифровка и идентификация аудиозаписи голосов членов экипажа в период, непосредственно предшествующий столкновению ВС с землей, невозможна из-за плохого технического состояния регистратора № 2, вследствие ударно-температурного воздействия в момент взрыва и пожара ВС. …Причины АП и возможные виновники расследованием не установлены.
Председатель комиссии:…………………………….подпись
Члены комиссии:………………………………………подписи
Голоса– Валер, ну Валер, ну как это может быть, что имя не записали? Да бардак там у них в отделении, и все… Что значит – ушел, он же показания милиции давал, мне говорили… Куда уходил? По радио вызвали, отошел к машине? А тот и уехал, значит… Слушай, жалко-то как. Я ж за него свечку хотела поставить, а сама даже имени не знаю… Ну, не знаю зачем свечку… Так положено вроде. Чтобы ничего худого с ним не случилось, наверное. Чтоб все по справедливости бог рассудил. Он – добро, и ему – добро… Что делать-то, а? Ну, может объявится еще… Слушай, не забудь после работы зайти памперсы купить, ладно? Ну пока, давай…
Вот и все…Рыжий и его женщина
Доктор умирал.
Тина сидела рядом с кроватью, смотрела на его ввалившиеся желтые щеки и плакала молча – глотала слезы, не всхлипывала, только скручивала носовой платок в тутой-тутой жгут, теребила, покусывала.
Доктора здесь знали все.
Это сейчас он лежал в отдельной палате, а до этого ходил по коридорам и бегал по лестницам этой самой больницы почти ровно двадцать два года. И вот, оказался здесь.
Так случилось, что лечить людей было смыслом его жизни.
Нет, конечно – была Тина, были девочки. И даже собака – большой, лохматый черный терьер.
Семья и дом – это важно.
Но главным для него всегда была работа – до того момента, когда неделю назад он оказался в этой палате.
Доктор был рыжим – раньше рыжим – а последние годы – почти седым.
Но он оставался рыжим внутри – вспыльчивым, резким, самонадеянным.
Больные его боготворили, студенты побаивались, коллеги уважали, но посмеивались за спиной – уж больно рыжим был его характер.
Но, но, но…
Он, как никто другой, умел, положив руку на лоб больного и выслушав сбивчивый отчет ординатора, выудить из шелухи медицинских терминов главное и поставить единственно верный диагноз.
Он, как никто другой, умел разругаться со всем миром, чтобы спасти жизнь человеку, который никогда и не догадывался – каких усилий стоило доктору доказать правильность неординарного лечения, договориться о внеплановой операции, настоять на своей правоте.Тина никогда не работала, была умна, свежа и ухожена. Тина была – баловень любви.
Способна ли она сама на это древнее чувство, оставалось неясным – уж больно холодным и надменным становился ее взгляд, если кому-нибудь удавалось остановить его на себе.
А сейчас она сидела, бессильно склонив голову – ждала, когда Доктор очнется.
Скрипнула кровать, Тина подняла голову и увидела его уставшие от боли глаза.
– Я хочу тебе кое в чем признаться, – сказал он. – Хочу покаяться.
– Что? – спросила она. – В чем? О чем ты говоришь?
Пересохшие губы растянулись в виноватую улыбку.
– Как странно, – сказал он, – Ты уже целых двадцать пять лет моя жена…
– Что же в этом странного?
– Как движется время. Вроде бы стоит на месте, а потом вдруг оказывается, все позади… Ты знаешь, я в молодости мечтал прыгнуть с парашютом. Жаль, что так и не удалось. Сначала думал – вот завтра, завтра, потом – следующим летом, а потом…
– О чем ты говоришь, Лазарь – Тина потерла ладонью висок, – Я не понимаю, я не понимаю.
– Тина, милая, просто я вдруг понял, что жизнь похожа на прыжок с парашютом, но с одной разницей. Нет парашюта… Сначала – голубое небо, белые облака, сквозь них видна земля, где-то далеко внизу, в дымке, и – не приближается, ты летишь, ветер в лицо, и мир – твой и вечен. Потом ты влетаешь в тучи, тебя поливает дождем, бьет градом, швыряет воздушными потоками, но когда, преодолев все, ты, наконец, вырываешься на свободу, к солнцу, к ветру в лицо, и снова все, как раньше – лети, оказывается, что земля уже вот она – рядом и со страшной скоростью несется тебе навстречу. Ты пытаешься нащупать вытяжное кольцо, а его – нет. Потому, что нет – парашюта. И единственное, что остается, попытаться, хотя бы в последние секунды, понять смысл всей этой затеи… – Он перевел дыхание. – Зачем я тебе это говорю, Тина?
– Я… я не знаю, я не понимаю, Лазарь…
– Видишь ли, дорогая, единственное, что пока удалось понять мне – я больше не хочу тебе лгать. Не сейчас. Не перед смертью. Не спорь – он покачал головой. – Мы оба это знаем – и ты, и я. Я же врач, я хороший врач, Тина. Мне осталось жить часы или дни – это неважно, неважно… Я не знаю, доживу ли до завтрашнего утра. Я не знаю, увижу ли я тебя еще раз, Тина. И я хочу покаяться. Ты готова выслушать меня, скажи?
– Да, Лазарь, да, милый, только подумай, может, все же завтра? Ведь и ты иногда ошибаешься, я знаю… Может…
– Тина, ты забыла? Я рыжий, Тина. Я ведь рыжий, я таким родился, рыжим, упрямым, несговорчивым… Мне уже трудно говорить, поэтому, пожалуйста, дай мне сказать… Ладно?
Она кивнула – молча. Только руки ее замерли, застыли в воздухе, словно он вдруг сгустился вокруг них, не давая шевельнуться.
Он вздохнул, умолк на секунду и сказал:
– Тина, милая, я не был тебе верен, только и всего. Слышишь?
Она сидела по-прежнему не двигаясь, только лицо вдруг осунулось и посерело. И потухли глаза.
– Это началось уже давно. Ну, правда, несколько первых лет… А потом – понимаешь, молоденькие женщины вокруг, ночные дежурства… Ничего оригинального – как у всех, или почти у всех… Я старался делать это по-умному, я не хотел и не собирался разрушать семью, это всегда было – ну… просто так… просто так… Любил я только тебя – всегда… Ну, вот… – он откинулся на подушку и перевел дыхание.
– Я понимаю, ты меня не простишь, ты не сможешь, ты гордая. Тем более что я знаю, я уверен – ты любила. И была верна… Но меня не слишком долго будет мучить совесть, или будет мучить вечно. Скоро я узнаю… Я прошу тебя – только не говори девочкам, ладно? Я виноват перед тобой, но я прошу – не делай этого. Не говори им, не надо. Пусть это умрет между нами. Ты обещаешь?
Она кивнула.
– Ну, вот… А теперь, Тина, иди, слышишь. Дай мне только последний раз увидеть… тебя. Поцелуй наших девочек от меня, хорошо? И – иди, теперь – иди. И больше не приходи сюда, не надо. Тебе сообщат, когда это произойдет. – Он замолчал, и тело его заметно расслабилось.
Она несколько секунд продолжала сидеть, потом поднялась и вышла из палаты.…Когда появился доктор Милош, он дремал. Или делал вид, что дремлет – он всегда был непредсказуем. И открыл глаза не сразу, и не открыл, собственно, а приоткрыл – чуть-чуть, чтобы было понятно – он не спит.
– Привет, Милош, – негромко сказал он.
– Здравствуй, Лазарь, здравствуй, Доктор, – доктор Милош уселся на стул, с которого несколько минут назад поднялась Тина.
– Ну, как наши дела?
Глаза Доктора приоткрылись чуть шире.
– А ты будто не знаешь… Не задавай дурацких вопросов, мне, во всяком случае. Не забывай, я пока еще тоже – врач. Хоть и твой пациент. Впрочем, пожалуй, уже нет. Точно – нет. – он сделал попытку улыбнуться, у него не получилось.
– Сегодня вечером я перейду в другую клинику… Туда. – он поднял глаза к потолку. – Скорей бы уже, что ли…
– Не смей так говорить! Именно потому, что ты – врач. К тому же, не просто врач, ты – Доктор. Я у тебя учился, мы все учились у тебя, Лазарь, не смей даже думать!
– Я не думаю, я – знаю. Послушай, зачем нам играть друг с другом? Ты знаешь, как мне больно. Ты знаешь, что эта боль никуда не уйдет, она станет лишь сильнее и мучительнее, Милош. Ты хочешь, чтобы я продолжал мучиться? Это твоя плата за все то, что я тебе дал? Послушай, мы оба знаем, чем ты мне обязан, правда? Сегодня ты вернешь мне долг, и счет будет закрыт. И это правильно. Я сознаю, что я делаю, и не надо говорить со мной, как с ребенком… – он сделал паузу и несколько раз глубоко вздохнул.
– Я уже простился с Тиной. Значит – пора…
– Что значит – простился? Я встретил ее сейчас внизу, она меня даже не заметила, на ней просто лица не было… Что ты ей тут наговорил? И что – пора?
– Видишь ли, друг мой, мужчины между собой обычно об этом не говорят. Но сейчас – и мне – можно. Тина – моя женщина, понимаешь? Не просто моя жена, мать моих девочек – моя женщина. Я любил и люблю ее всю жизнь, сколько знаю. И она – меня. Мы – друг друга. Так не бывает – да, но с нами это случилось. И я не могу оставить ее просто так. Так – это значит обречь ее на муки, которые превратят ее жизнь без меня – в пытку. Я не могу себе этого позволить. Я всегда старался оставаться мужчиной – в любой ситуации и сейчас – тоже. Поэтому я сделал так, чтоб она меня возненавидела. Я сказал ей сейчас, что всю жизнь изменял ей с разными женщинами, понимаешь… Солгал ей. Ей тяжело, я знаю, но это поможет ей жить дальше. Того, кого мы ненавидим, похоронить – проще, согласись. Я хочу, чтобы ей было проще. Легко не будет, проще – да… Потому, что она очень гордая… Знаешь, какая в ней кровь? Впрочем, это сейчас неважно. Я рассказал это тебе, чтобы ты понял – пути назад у меня нет. Потому, что я не смогу с этим жить, значит, мне нужно умереть… Мне правда пора, Милош, это не шутка…
– Ну и натворил ты дел, Доктор… Что ж делать-то теперь, а? Что делать, скажи…
– Да особо ничего делать и не придется. Просто сегодня вечером ты введешь мне не обычную обезболивающую дозу морфия, а двойную – и все. Я засну и не проснусь. А утром ты позвонишь ей и скажешь. Она знает. Она ждет. Вот только не рассказывай мне, что это преступление, что ты не знаешь, что морфий на учете – не рассказывай. Мы оба знаем – как, потому что работаем в больнице всю жизнь. Это все. Ты понял? А теперь иди, мне надо побыть одному. И – спасибо, Милош, я не зря всегда полагался на тебя, почти как на себя…Тина подошла к машине, припаркованной на больничной стоянке. Уселась справа. Закурила. На водительском сиденье сидел высокий, моложавый мужчина. Он слегка повернулся к ней и внешней стороной ладони провел по ее щеке.
– Ты выглядишь измученной, дорогая… Что там? Хочешь рассказать мне?
– Подожди, – она мотнула головой, – У тебя есть выпить?
Она взяла у него из рук маленькую фляжку и сделала глоток. Поморщилась.
– Ненавижу этот сорт виски, черт… Думаю, он умрет сегодня ночью…
– Почему ты так решила?
Она усмехнулась.
– Я знаю своего мужа. Я знала, чувствовала, что он должен это сделать перед самым концом, и он – сделал.
– Что?
Она помолчала немного, сделала еще глоток из фляги и сказала:
– Он признался, что изменял мне всю свою жизнь… Что делал это просто так. Просто так… Что кается…
– А ты? Что?
– Я? Сделала вид, что поверила, как же иначе. Ведь он уверен, что теперь мне будет проще пережить его смерть.
– А это не так?
Она взглянула на него и отвернулась.
– Вы все – идиоты! Господи, какие же вы все идиоты! Ни один из вас, даже самые лучшие из вас не смогут понять, что это такое, когда женщина – любит. Я люблю его, понимаешь ты! Только его – одного. Все вы, все, кто был у меня, все, с кем была я – не стоите его седого волоса. Даже внешне – вы все похожи нанего, ясно тебе! Все, как один…
– Тина, успокойся…
– Заткнись! Ты слышишь, он умрет сегодня ночью! Без меня! Я не услышу, не приму его последний вдох, последнюю секунду его жизни… Сам того не понимая, он лишил меня последнего утешения – быть с ним рядом – сейчас… Он – единственный, кого я любила и люблю, и он не смог понять до конца, что для женщины любовь – не радость, а – страдание… И я вынуждена принять это, только чтобы облегчить ему – смерть. Он отнял у меня последнее, что я могла ему дать. Что у меня еще оставалось. Даже это… ты понял? Все кончается! Все! Всему рано или поздно приходит конец… и только она остается – одинокая, несчастная, никому не нужная – любовь…
Она заплакала…Назавтра, в восемь утра, ей позвонили из больницы. Она была готова. Она была – в черном…
Кувшин
Это – вымысел.
В то время, о котором речь, этого просто не могло случиться, а будущее еще не настало. Этого не было.
Но это – правда…
1. Когда тебе восемнадцать
– Говори, я так люблю тебя слушать, я всегда улетал от твоего голоса, от твоих слов… Ну, говори, я услышу…
Восемнадцать мне было очень долго.
Лет, пожалуй, до сорока.
А в сорок я влюбилась.
Так кончилась моя молодость.
Восемнадцать – это когда лежишь на траве, раскинув руки, вдыхаешь в себя небо и думаешь о былинке, которая щекочет тебе сгиб локтя.
И пусть по ней ползет детеныш божьей коровки.– Или пчела…
А ящерицы отбрасывают серебряные хвосты.
И нет такого слова – завтра.
Потому что сегодня длится вечно.
В этом долгом солнечном сегодня происходили счастливые и грустные события, защищались дипломы, игрались свадьбы, рождались дети, появлялись, исчезали и уходили друзья…
А травинка оставалась. И запах – летний, густой, пряный – был всегда со мной.
И вдруг я поняла, что повзрослела.
Лет в сорок… Пожалуй. И никто не виноват.– Конечно, никто. А кого винить – бога, судьбу, самих себя? Никто не виноват…
Человек, которого я полюбила, был гораздо старше меня. Банальная история. Эпистолярный роман.
– Красиво звучит.
Вернее, он начинался, как эпистолярный, а в какие дебри он нас завел и какое сумасшествие заставил испытать…
Я писала магистрат по античной литературе, собирала материалы по разным библиотекам мира, побывала в Греции, успешно защитилась, но от античности так и не смогла уйти – увлеклась не на шутку, и в какой-то момент времени поняла, что не смогу уже без этого жить.
Чтобы как-то упорядочить накопленные знания и оглядеться в поисках будущих перспектив, я решилась и, наконец, завела собственный сайт. Сайт античной литературы. Началось практически круглосуточное общение в сети с такими же фанатиками, кофе за полночь и долгие взаимоприятные разговоры ни о чем.
Вот именно в такие моменты оправданного безделья и увлечения собой и своей исключительностью и подкарауливает нас дедушка Фрейд – и я не оказалась исключением.Его звали Дан (сокращенно от Даниил), и был он чертовски умен.
Архитектор, занимавшийся в то время книгой об ионическом ордере.
Из недостатков – возраст (старше меня почти на шестнадцать лет) и проживание в западном полушарии. Тогда как я проживала в восточном, была счастлива в семейной жизни и имела достаточно оснований совершать исключительно благоразумные поступки.
Потому как неблагоразумные совершала крайне редко, познав еще в самом начале своей супружеской жизни одну непреложную истину – хорошо там, где нас нет, но дома все равно лучше.
За шесть месяцев ежедневного общения – сначала письма, потом телефонные разговоры, я поняла, что он – моя полная противоположность и, в то же время, моя потерянная еще внутриутробно – половина души.
Банальность… Ах, как я боялась банальности. Как я бежала от нее.
Бежала и падала в объятья надвигающейся беды по имени платоническая любовь.
Не надо быть Платоном, чтобы понять, что у платонической любви итог один – и тот далеко не платонический.
Наши встречи начались через полгода и продолжались шесть с половиной лет.– … Н-да… Ты по-прежнему – торопыга… Моя торопыга… Ну, не совсем… Шесть лет и шестьдесят один день.
Раз в год. Где-нибудь в мире, ставшем маленьким, каждый раз в другом городе, другой стране. Только время года почти не менялось – поздняя весна, либо – ранняя осень…
– Конечно, ты была – весна, я – осень… А пару раз мы встречались дважды в год – помнишь?
Встретившись впервые, мы сразу поняли, что продолжать жить в разных полушариях смерти подобно. И – продолжали жить.
У него была куча недостатков.
И как же я его любила – и за каждый в отдельности, и за все вместе…– Да, я знаю… я помню…
Он же – наоборот – любил мой идеал – даже называл меня Тала – от Галатея…
Он жил на берегу океана со своей семьей. Двое детей – мальчик и девочка, и женщина с большими серыми глазами. Я видела эту фотографию у него в портмоне.
И любил меня…– И любил – тебя…
Когда порвалась цепочка, и с моей шеи упал медальон, он попросил показать – что внутри.
– Наша мужская толстокожесть… Я причинил тебе боль…
Там была фотография моего мужа и дочери. Я поцеловала их и положила медальон на прикроватную тумбочку.
Ну и кто мы после этого?
– Как – кто? Мужчина и женщина. Всего-навсего. Мужчина – и – женщина… А кто же еще?
Когда человек тонет, в определенный момент времени он перестает сопротивляться.
И тогда идет ко дну.
После нашей встречи я перестала сопротивляться.
А дна все не было.
Была ежесекундная тоска по несбыточному.
И горячее – прямо под ребрами – счастье.
Я переполнилась своей любовью – как кувшин.
И любовь стала переливаться через край:
Мы любили друг друга так самозабвенно и горячо, так бескорыстно…
Что со временем начали меняться.
Это был удивительно, упоительно и странно…– Это было – необыкновенно…
Привычки, словечки, мысли, интонации – мы обменивались друг с другом – собой, чтобы слиться еще плотнее, еще больнее, еще беспощаднее.
– Какой же сладкой была эта боль…
Пожалуй, это было два кувшина, тяжелых, теплых, переполненных божественной влагой, в самый важный момент времени не вынесших собственного счастья и опрокинувшихся, и перелившихся через край.
Воды смешались, и уже стало не отличить Адама от его ребра, ласточки от гнезда, солнца от моря.
Я стала им, а мой любимый стал мной.
Мы стали – одно.
Срослись, как сиамские близнецы.
Исчезли его недостатки и разница в возрасте. Привычка и раздражение обыденным нам не грозили, и – так получилось – что победила любовь.
– Ей повезло – мы встретились…
2. Когда погаснут огниВремя, если и не лечит, то, по крайней мере, расставляет все по своим местам.
Прошло двадцать лет счастья.
Дан умер.
Потом еще двадцать лет безмолвия.
Говорить было не с кем и не о чем.
Вы спрашиваете – жили ли мы вместе?
Нет.
И даже не виделись больше никогда.А разве это что-то меняет?
Сейчас я живу в доме для престарелых и молчу, глядя в окно.
Мне снова восемнадцать. Особенно летом.
Особенно в предзакатные часы.
Вот только бессонница…
С темнотой приходят ветер и беспокойство.
Мне кажется, что он рядом – стоит лишь протянуть руку – и я коснусь его щеки.
Если б вы только знали – что для меня значит этот миг… Иногда мне чудится его профиль в окне напротив.
А один раз я увидела там женщину – она сидела и расчесывала перед туманным зеркалом свои длинные черные волосы.
И каждый вечер я ворочаюсь в кровати, сбиваю в жгут простыни, отталкиваю от себя подушку.
Мне восемьдесят шесть, у меня прекрасная память и я все время зову его. По имени и всеми уменьшительными прозвищами, которые мы давали друг другу раньше.
А сон все не идет.
Может быть, когда погаснут огни в доме напротив, я усну.
Но ни за что раньше.
Ни за что.
3. ОжиданиеЯ не знаю, что с этим делать. Не знаю даже сейчас. Я прихожу сюда – в этот дом напротив и смотрю. Молча, потому что меня все равно нельзя услышать. Но она – слышит. Она умеет читать мои мысли – спустя двадцать лет – до сих пор… Даже отсюда.
Моя Гала…
Я боюсь подходить слишком близко – чтоб не умереть от счастья, хотя, разве можно умереть дважды? Если я скажу – да, вы удивитесь, но это – правда. Потому, что снова начинает биться сердце, и делаются теплыми руки – от близости – ее. Оживает то, чего давно уже нет, потому что нет – меня. Но она – здесь, а значит и я, как же иначе? Хотите, назовите это любовью, хотите, судьбой – это ничего не изменит.
Просто есть нечто – и какая разница, в котором из миров, моем или вашем, если единственное, то, в чем смысл и боль и – все, вот оно – в доме напротив, смотрит сюда и продолжает звать – всегда.
И все точно так же, как тогда, в самый первый раз, когда мы увидели друг друга, в самую первую минуту – глаза встретили глаза, рука встретила руку, а сердце – сердце.
Потому что, что такое – двадцать лет, если перед нами – вечность.И я знаю – уже скоро…
Белый тюльпан
Жидкость, жидкость, жидкость…
Кровь. Плазма…
Угроза шока.
Антибиотики.
…Четырехмесячная беременность.
Пострадавшая – врач, только-только получила диплом. Двадцать четыре года. Свадебное путешествие в… неважно куда. Автобус перевернулся в горах. У мужа – ни царапины, а она… Обе ноги раздавлены – почти раздроблены.
Ей сказочно повезло. Если это можно назвать везением… Оно оказалось бортом МЧС, возвращавшимся домой из очередной заграничной командировки с врачами и всем, что было ей так необходимо именно сейчас. Мы буквально упали с эшелона на зажатый в ущелье горный аэродром, куда ее должны были доставить с минуты на минуту на местной «скорой». Едва успели развернуться в торце полосы для обратного взлета, как прямо к аппарели подкатила машина с красным крестом. Ее мгновенно перекинули на наши носилки, бегом закатили их вовнутрь, и мы взлетели.
– Не повезло, – еле улыбается синими губами.
Очнулась. Дышит пока сама, но я боюсь как бы не пришлось интубировать.
Ниточка монитора мечется – пульс слишком быстрый
– Ребенок потерян? Да?
– Я не знаю, – честно отвечаю и стараюсь отвлечь ее.
– Тебе чудо, как повезло… И страховка есть, и борт тебе специальный. И домой летишь.
А то вон – в местной больнице тебе уже приготовились обе ноги оттяпать.
– А у нас думаешь – что?
– У нас – спасут. Спасут твои ноги. Про ребенка – не знаю. А ноги точно – спасут.
– А я не хочу ноги. Я хочу малыша. Попроси их, ладно? Попроси. Ребенка – в обмен на ноги.
– Перестань. Тебе не разговаривать сейчас, силы беречь…Она закрывает глаза. Проваливается в черноту. Боль. Боль. Чем больше боли – тем легче дышать. Потому что если дать чуть больше обезболивающих – заснет слишком глубоко и дышать сама перестанет – тогда трубку в горло – да как можно нежнее и проворнее – но все равно давление упадет, и просто жидкости в вену уже не хватит – шок – адреналин – быстрей, быстрей и….
Если ребенок еще жив, то последнее, что он почувствует – разрывающее грудь биенье материнского сердца.
Хотя какой там ребенок. Так – комочек. Многие такие комочки не задумываясь выскабливают, как упаковку йогурта…– Долго еще?
– Скоро. Потерпи. Муж-то где – следом летит?
– Летит… – Кусает губы.
– Больно? Терпеть можешь или?
– Могу. Пока могу. Только говори. Говори со мной. Не хочу опять в эту черную яму… [1]
…Мне тридцать восемь. Я не умею плакать. Я не просто врач, а врач МЧС. Вы знаете куда и когда нас посылают. В последние годы все чаще и чаще. Но сейчас это неважно. Сейчас мне необходимо пробить скорлупу ее жуткого одиночества, одиночества боли и неизвестности.
Я беру ее за руку, и ее пальцы рефлекторно цепляются за мои.
…Она была моя студентка. На практике. Мы встретились год назад. А расстались… Да и не расставались мы… Просто у каждого своя жизнь. А между тем и этим произошло то, что произошло. То, что не стоило счастья и спокойствия наших близких.
А ребенок…
Что ж… Она сказала будущему мужу, что беременна. Свадьбу решили не откладывать, чтобы успеть насладиться свадебным путешествием еще до рождения малыша. Вот и насладились…
А я промолчал. Ни моя жена, ни двое наших мальчишек не были готовы к такой сногсшибательной новости.– Это Б-г меня наказал… За все…
– Что, Рита? О чем ты? Опомнись!
– Я знаю. Я и мужу так сказала… Когда меня увозили… Прости…
– Да что ты. Неважно это сейчас. Совсем…
– Не знаю. Может быть. Если мальчик родится… назову твоим именем… Можно?Зуммер вызова по внутренней связи. Голос командира.
– Олег, как там твоя подопечная? Довезем?
– Если ты не угробишь – довезем…
– Во-во, в этом-то и дело. Понимаешь, кругом засветки, сплошной фронт… Если бы на посадку и взлет время не потеряли, успели бы проскочить. А теперь все закрылось – ни назад ни вперед. И верхом не пройти, наковальни местами до двенадцати тысяч. Хреново все, понимаешь… Минут через десять-двенадцать может такое начаться… Короче, сам все знаешь, который год летаешь. Ты подготовь там все на всякий пожарный, трясти будет так… Мы, конечно, постараемся, но тут уж – сам знаешь – все от бога…И это началось… Огромную реактивную машину швыряло во все стороны, где-то в фюзеляже что-то грохнулось – не успели или забыли закрепить, но все это не шло ни в какое сравнение с тем, что происходило снаружи… разряды, светящиеся от атмосферного электричества плоскости, которые неизбежно должны были вот-вот просто отвалиться, рев двигателей…
У Риты были совершенно безумные, потерявшиеся от страха и боли глаза, она смотрела на меня, я видел, как шевелятся ее губы и ничего не слышал, потом все вдруг куда-то провалилось, я обо что-то треснулся плечом так, что искры из глаз, упал на нее, закрывая своим телом и понимая только одно – конец… Самолет падал… Это продолжалось долго – часы, дни, годы, всю жизнь… Когда все это внезапно прекратилось, и я увидел в иллюминатор кусок голубого неба…
Минуты через две – все уже начали приходить в себя, не веря, что живы, снова вызвал командир.
– Олег, ну как? Полные штаны?..Твоя как – жива? Не зря хоть это все, а? Полтора километра высоты потеряли за считанные секунды – спасибо Илу – вывез родной… Я уж думал – труба…Мы ее довезли…
Отделение интенсивной терапии. Знакомые лица врачей. Принимайте ценный груз. Потом – белое лицо мужа…
…Операции, осложнения, операции. Недели и месяцы…Мальчик родился в срок и абсолютно здоровым. Муж… Впрочем, не о нем речь.
Мы встречаемся раз в месяц. Гуляем по набережной, заходим в кафе. Долго сидим близко-близко друг к другу и говорим, говорим, говорим…
Рядом, в коляске, лупит по погремушкам Олег Олегович.
Счастье, которое можно потрогать руками.
Странная парочка – думают про нас. Абсолютно седой, хотя и не старый еще мужик. Прелестная девушка в инвалидном кресле…А потом – на прощанье – легкий, почти невесомый поцелуй и эта тупая непроходящая боль в груди, наверное, уже до конца…
Не захлебнуться тишиной…
Она перекатилась на живот и поцеловала Марка в губы. Поцеловала легко-легко, буднично так.
– Ты меня погубишь…
– Ты ошибаешься, я это уже сделал. С удовольствием. И продолжаю делать это каждый раз, когда вижу тебя. И буду продолжать делать это до тех пор, пока…
– Пока – что?
– Пока мы вместе, Лора… Вот и все. Но учти, что это будет долго, может быть, очень долго…
– Ты настолько меня любишь? – Она отодвинулась от него и оперлась на локоть.
– Я очень тебя люблю, ты даже не представляешь – как… У меня никогда не было такой, как ты… И, думаю, не будет. Просто потому, что второй такой – нет на земле… Иногда мне кажется, что ты можешь вернуть мне – музыку…
Он провел рукой по изгибу ее бедра.
– Даже внешне ты похожа на нее…
– На кого, Марк?
– На королеву музыки, на виолончель.
– Скорее, на королеву-мать. Не забывай, я на… почти пятнадцать лет старше…
– Правильно, ты ведь виолончель, созданная старым мастером, стало быть тебе должно быть никак не менее… ста пятидесяти-двухсот лет, – он улыбнулся, – но зато как звучат твои струны, и какое наслаждение извлекать эти звуки…
– Твои слова – боль и блаженство… Они стоят всей музыки мира. Кроме той, которая еще не написана… Твоего концерта для виолончели. Виолончели с оркестром. Для меня – с оркестром… Я буду твоей музыкой, твоим инструментом, твоей нотной бумагой, всем – пиши… Пиши – моей любовью к тебе.
…– Ты мой последний мужчина… – она лежала на боку и смотрела на него без грусти. – Когда я увидела тебя впервые, я это сразу поняла. Потому-то все и произошло так быстро… Я ведь уже большая девочка…
– И ты так спокойно об этом говоришь? Послушай, ты ведь очень красивая женщина, Лора. Скажи, сколько у тебя было мужчин? Хотя бы тех, кого помнишь, кто не прошел просто так…
– Зачем тебе знать, любимый…
Лора потянулась, выгнула спину, потерлась щекой о его плечо.
Теперь солнечный свет танцевал на ее животе и бедрах.
Где-то хлопнули ставни. Прозвенел колокольчик убегающего трамвая, зашумела встревоженная ветром листва.
Музыка была совсем рядом…
– Я же сказала, ты – мой последний. Какое мне дело до других – и тех, кто был, и тех, кто не будет уже никогда… Это же так просто, Марк. Ты заслонил их всех – и все…
– Ты хочешь сказать…
– Я хочу сказать лишь то, что сказала.
– Но ведь ты все еще так молода, так хороша собой, так упоительна, Лора…
– Дело не в этом, совсем не в этом… Просто я знаю, что только с тобой я смогу исполнить то, что должна… Те, что были раньше, были просто поисками – тебя. Я искала. И, наконец – нашла. Мне кажется, что вся моя жизнь была ожиданием этого утра, ожиданием – тебя…
– Ты вся – тайна, Лора… Ты так же таинственна и бесконечна, как музыка, которую я потерял.– Она вернулась, твоя музыка, разве ты не… Ну, прислушайся… Слышишь, как задышали струны, как лег в ладонь смычок. Слышишь?
Он приподнялся, опершись на локоть, и сказал:
– Я знаю, кто ты, ты – виола. Viola de l’amour…
– Почему именно она?
– Однажды мне пришлось увидеть два инструмента Гварнери – скрипку и виолу. Он создал их вместе, не помню, для какого-то дожа… Так они и лежали рядом в футляре – юная девушка и женщина… А как они звучали! Ты напомнила мне эту виолу… Твое тело, его линии, и звучишь ты так же, особенно в низком регистре… Дай,, дай мне… услышать… еще раз… еще раз… еще……– Послушай… Послушай, она и в самом деле вернулась! Лора, она здесь, здесь… Она льется… Я слышу, я чувствую ее… в тебе… Каждую… ноту… каждый… звук… Все вместе и… всю… тебя… Ты полна ею, ты вся – она… Ты и есть – она, ты и есть – она,, ты и есть – она…
…Вслед за первыми скрипками вступили вторые и третьи, и все остальные инструменты, повинуясь невидимой дирижерской палочке, достигли вершины и – захлебнулись тишиной… Звук виолончели ворвался в упавшую пустоту, заполняя собой все вокруг, и замер, и длился, и смычок был бесконечен и нежен, и груб, и беззащитен, рождая – Музыку…
…Низкое, вибрирующее, нарастающее «А-а-а-а-а…» возникло, взмыло в крещендо и, затихая – длилось, длилось, длилось… без конца…
– Марк, вы смели все авторитеты. Вы написали нечто такое, что не укладывается ни в какие каноны. Законов гармонии больше не существует… Прежних законов, потому, что вы их уничтожили и создали – свои… Ваш концерт… А почему у него такое странное название – «Viola de l’amour»? Это же концерт для виолончели… Да, она предшественница, конечно, но это необычно, странно… Н-да… Вы знаете, надо заказать партитуру для оркестра. Я думаю, через три-четыре недели мы сможем начать репетиции…
…Она не пришла. Ее место на премьере так и осталось пустым. Он искал ее – недолго. Скоро он забыл ее совсем.
Но иногда, в те вечера, когда он оставался один, и тишина становилась невыносимой, к нему прилетал чудесный, живой голос виолончели. Он говорил, шептал, трогал листы нотной бумаги и исчезал, оставляя на них – в верхней части, только три слова – «Viola de l’amour»…Во имя отца и сына, и святого духа…
– Что значит, не совсем умер? Как это – не совсем?
– Простите, – говорю я, – я просто неправильно выразился. – Дело в том, что в настоящий момент времени жизнедеятельность всех его органов поддерживается нами искусственно. Поэтому, с формальной точки зрения, он – вроде бы – жив. Но мозг его мертв. Он пострадал необратимо. К сожалению… Он не в состоянии выполнять свои функции, и, как только аппараты будут отключены, органы его тела перестанут функционировать, и оно умрет. Повторяю – тело… Поскольку, практически, только оно и осталось, как человек, как личность, он уже не существует.
Я говорю, как робот. У меня сейчас ничего не выражающие глаза и отсутствующее выражение лица. Потому что каждый день – ну, почти каждый – передо мной одна и та же, похожая картина. Горе. И часто это горе приходит к людям вместе со мной. До того они могут хотя бы надеяться, а я эту надежду у них – отнимаю. Совсем. Несу им – смерть…
– И как долго вы еще будете… поддерживать?
– Столько, сколько необходимо, до принятия решения об извлечении его органов, в качестве донорских, для пересадки тем, кто в них нуждается…
– А кто… принимает это решение?
– По закону, если сам пострадавший не оставил на этот счет никаких распоряжений, то его ближайшие родственники. В данном случае – жена, вы…
– А если я не соглашусь?
– Тогда мы отключим его от аппаратуры сразу же.
– Но – почему?
Я смотрю на нее и терпеливо повторяю:
– Потому что его мозг уже умер, понимаете? Ваш муж умер от кровоизлияния в мозг. Его мозг залит кровью. Он не очнется никогда, понимаете? Это невозможно… Мозг умер…
– Умер?… Я все-таки таки не понимаю. Она сжала виски ладонями. – Вы говорите умер… А почему же он дышит?
Я вижу, что она на пределе. Бледное, осунувшиеся лицо, дрожащие губы, красные, воспаленные глаза…Но у меня нет выхода, мне нужен ответ и по возможности быстро, прямо сейчас…
Вы все об этом слышали – о людях, безнадежно больных, тех, у которых осталась единственная надежда – на чужую смерть. Их много, их очень много, и на всех все равно не хватит – да, но хоть кому-то, пусть хоть им. Хоть детям… Мне нужен ответ…
Ее муж умер внезапно, этой ночью. Абсолютно здоровый молодой мужик… Лопнула аневризма – такой маленький мешочек, наполненный кровью. И рядом была совсем другая женщина…
А жена примчалась рано утр ом к нам в отделение и – когда узнала – принялась выть – по-звериному. Потом замолчала, только глаза опустели…
Я так и не понял, осознала ли она, что ее муж умер даже не «у» – а «в» другой женщине…
А «другая женщина» – совсем еще молоденькая, испуганная девушка – сидела в коридоре и смотрела прямо перед собой сухими глазами.
Она сидела тихо и старалась быть незаметной, но почему-то все вокруг постоянно натыкались на нее взглядами и – отводили глаза…Когда приехала его дочка – тощая, вся в пирсинге, лет четырнадцати, первое, что она сказала, подойдя к матери, было:
– Сашка не придет. Он сказал, что… Сказал… В общем, что у него нет больше отца, и он не придет прощаться… И на похороны тоже…
Сама она вот уже третий час сидела рядом с кроватью и держала отца за руку.– А органы? Его что же… Будут… резать?
– Чтобы извлечь органы, необходимо произвести разрез – да – но впоследствии все будет аккуратно зашито и абсолютно незаметно на похоронах.
– На похоронах? А, ну да… Я должна… подумать… Я должна… Я не знаю… Я не знаю – как бы он сам… Сережа…
…Я уже ничего не знаю. Мы прожили вместе шестнадцать лет, а я вот, оказывается, не знаю. И уже не исправить ничего. И даже упреки – тоже некому… Да и кому они сейчас нужны… Все… Уже – все, понимаете… Жизнь – мою, детей… Господибожемой, да берите вы все, все, что хотите, делайте, режьте, зашивайте! Все!
Дочка смотрела на нее ошалевшими, полными слез глазами, даже не замечая, что до крови впилась ногтями в отцовскую руку. Она лишь смотрела на мать и, как сомнамбула, качала головой – справа налево, справа налево, шевеля губами и не произнося ни слова… Наконец, с трудом выдавила:
– Ты… Папа… – и, отвернувшись, упала головой на его тело. Мать перевела на нее глаза, увидела их руки, увидела выступившую кровь и, указывая на нее, прохрипела:
– Живой… Он же живой… А мы……– Пожалуйста, подпишите вот здесь и здесь.
– Что это?
– Это ваше согласие на извлечение легких, сердца, печени, почек. А вот это – на извлечение роговицы.
– Роговица – это что же? Это глаза?
– Не глаза, а передняя прозрачная оболочка глаза.
– Вы хотите забрать у моего Сережи глаза?!
Я вздыхаю.
– Не глаза, это – не глаза. Ничего не будет заметно. Просто спереди есть такая тонкая пленочка…
– Нет.
– Что нет?
– Я не согласна.
– Именно на роговину?
– Я не согласна. Это его глаза. Вы не понимаете… Его – Сережины… Я их… Нет, нет…
…– Оставьте меня все, отойдите от меня… Я люблю его… Не хочу, чтобы глаза… Как же он ТАМ – без глаз?!И девушка в коридоре, наконец, заплакала…
Птицеловы
Как позволить себе говорить о любви?
Не просто абстрактно, рассуждать мы все мастера, а – о своем, о том, что внутри, и живет в тебе двадцать четыре часа в сутки без перерыва на обед. И не просто живет, а так и рвется наружу, как фонтан, как гейзер, и говорить об этом – о любви – хочется, потому что это – как спасение собственной жизни, иначе – затопит с головой…
Вот например – птицу поймать…
Птицу поймать непросто, но еще сложнее – решить – что с ней делать…
Любоваться, треньканье слушать и с руки кормить – да, пожалуйста – только она в клетке, чуть приоткроешь дверцу – не дай бог – улетит. Да и треньканьем наслаждаться – в лесу, на свободе, совсем другое дело. Приручить – много сил и времени на это уходит – но опять же – гарантии никакой – пролетят мимо братья, сестры, любовники, упорхнет от тебя – лови, попробуй…
А еще, можно так сильно ее желать, что взять и съесть. Только это больно быстро выходит – пять минут и все удовольствие. И уже не услышишь никогда……Колечко, которое я присмотрел, было не то что бы шикарным и очень дорогим, но необычным и запоминающимся. Как раз, как она любит. Вот завтра вытащу из кармана и коробочку с ним на открытой ладони прямо ей протяну. Она, конечно, мне на шею, а я в глаза ей посмотрю и замуж позову…
– Выходи – скажу – за меня…
Только вот, замужем она уже, такое дело… Да и вообще, банально это все – одну клетку на другую…
И не согласится она – на клетку то… Ей бы, птичке моей, летать – всю жизнь. Куда ей снова замуж. И потом, быт. Любовь наша – хрустальная, не для того мы ее так бережем и лелеем, от постороннего глаза укрываем, чтобы – р-р-раз – и окунуть с головой во все эти мерзости бытовой неустроенности и серости семейных будней – вот тебе, ешь, ешь.
Она мне:
– Макароны не забудь купить и яйца. А то кроме пива, толку от тебя…
Я ей:
– Ты вчера вон еще юбку купила, зеленую, и кофточки… две. И так уже в шкафу места нет, скоро в холодильник складывать начнешь…
Нет. Не хочу.
И она не захочет.
Муж у нее – музыкант, когда-то в оркестре играл. Она рассказывала – талант был редкий, каких мало, альтист. И альт у него был дорогой очень, особенный, чуть ли не Вильом или Альбани. Но – пить стал. Дальше вам ничего объяснять не надо, правда ведь? Сами все понимаете. И еще он на двенадцать лет старше ее, так что же вы хотите… Она говорит, что косится он на нее в последнее время, словно догадывается. И не разговаривает почти…А у нас – уже год почти, представляете? Год счастья, не семейного, а обычного, человеческого, почти каждый день. Когда счастье – и каждый день, вы такое видели? Абсолют, понимаете…
…Дело не только в сексе, с этим как раз все нормально. Ну, то есть – улет… Но об этом я не хочу и не буду, это только наш с ней секрет и формула блаженства. Только ради этого уже стоило родиться, чтобы такое познать и испытать…
Я о другом – об Абсолюте. О поисках его. О том, как жить в одном городе – врозь и вместе – сразу, без быта, без боли, без усталости друг от друга… Ну вот любовь – нетто, понимаете…
…Подарю колечко и скажу:
– Просто так, любимая, просто так. Во имя нашей любви…
Хотя… А как же это она мужу дома объяснит колечко-то мое? Может – нашла… Конечно. А что? Что в этом такого – нашла… Повезло человеку один раз в жизни. Ну, вообще-то, не один. Но речь не об этом…
…Зато как ловко сидеть будет у нее на пальчике. Как она его теребить будет, так и сяк поворачивать, вспоминая обо мне…Оказывается, когда бьют – в лицо, не по лицу – от любви, а – в лицо и «за дело», это ужасно больно и унизительно.
И унижение это настолько страшное, что слезы – не соленые даже, а – горькие, и не льются, а брызжут – мгновенно. Вот – удар, как взрыв, и – жар. Кожа, мякоть, кости – впечатываются, врезаются в тебя. Нет, не так, ты сама – врезаешься – в себя, чтобы убить – себя же… И – горячо, и горькие, горькие слезы…
Только это и помню – жар и горечь. И унижение…
Потом пришла боль, а все остальное – просто перестало быть…Муж пришел с цветами.
Молчал. Ушел. Цветы лежали на подоконнике, пока не завяли совсем.
Любимый мой приходил – поникший, понурый. Не надо, милый, не надо. Это просто плата. За любовь. За наш Абсолют. Ведь за все надо платить, ты же знаешь, правда? Хороший мой…
И пусть. И пусть……Просто ты не знал, как сладок быт, когда вместе, если – любовь… Не знал. Боялся узнать… Ну, да я тебя на-учу…
Я ведь, если чего сильно захочу… А если что не так – ну мало ли, что в жизни случается-то…
Только не в лицо, любовь моя. Только не в лицо…
…А колечко – бог с ним. Бог с ним, говорю, с колечком.
Перед тем как ударить, он его с пальца у меня сорвал и отшвырнул. Закатилось оно куда-то. Наверное, за футляр от альта его. Найду. Не тревожься. Потом найду, ты не беспокойся, не надо. Главное – не в лицо…Я навещаю ее по субботам. Раз в месяц. Уже целый год.
Чаще – никак не получается. Работа, то, се…
К тому же, женщина у меня теперь. Познакомился у друга на свадьбе, вот уже два месяца вместе. Расписаться собираемся. А после – еще труднее будет выбираться.
Да и не узнает она меня…«…Закрытая черепно-мозговая травма в результате удара тупым предметом. Перелом нижней челюсти. Множественные кровоподтеки».
Это я в истории болезни увидел. Не понимаете? Сначала он ее – в лицо, а потом – по голове. А лицо у нее было… Как же это можно было – в лицо…
В отделении у нее весь персонал, нянечки там, сестры – женщины, она привыкла к ним, а тут санитар один из мужского отделения зашел случайно. Искал он кого-то, или что – не знаю. Наверное показалось ей… И невысоко вроде, второй этаж, люди, бывает, с такой высоты падают, и – ничего… А она – прямо о ребро тротуара, тем же местом…
«Только не в лицо» – кричала…А колечко мое только один раз и примерила. Вот…
Быть богом
– Остановка сердца! – старшая сестра кинулась к дефибриллятору.
Это произошло тридцать секунд назад.
У меня есть шесть с половиной минут, чтобы спасти его жизнь. Именно через это время мозг Однорукого умрет.
Шесть с половиной минут – до его смерти…
Само взрывное устройство было не очень большим и тяжелым – обычный термос, набитый взрывчаткой по самую пробку, и самодельный детонатор. Основной вес приходился на ржавые гвозди, гайки, болты и просто куски металла, которые должны были разлететься при взрыве, увеличив количество жертв многократно. Все это вместе весило килограммов пятнадцать и оттягивало его плечи и лямки старого, штопанного-перештопанного рюкзака.
Он даже спросил у Инженера, что будет, если они не выдержат, и все это упадет на землю прежде, чем он доберется до цели. Выводя провода к нему под куртку и закрепляя их на груди, тот ответил:
– Аллах велик. Положись на него и не сомневайся. Сегодня ты станешь шахидом, забравшим жизни неверных…В реанимации – семь коек, у каждой своя история, часто – свое прозвище. У тех, кто на них лежит, иногда тоже.
У этого – Однорукий.
Моя команда обступила его и ждет указаний…Оживлять – такое занятие… В общем, если получается, чувствуешь себя немного богом.
Получается где-то – пятьдесят на пятьдесят… Ну и, конечно, все зависит от слаженности действий.
Указания, больше похожие на приказы, все двигаются быстро и ловко – больной розовеет – одно удовольствие так работать……60 секунд…
– Шеф, мы готовы… Шеф!
…Шесть минут до его смерти…Он хорошо знал дорогу. Много раз видел ее на экране монитора и слушал объяснения Инженера.
Как не вызвать подозрений.
Как дойти до цели.
Как затесаться в людскую толпу.
Произнести слова молитвы.
Замкнуть цепь.
Взрыва не произошло…Он лежит у нас уже три недели. С того самого дня…
Ну, вы помните, целых два дня все газеты и все теле и радиопрограммы только об этом и говорили.
Кто-то первый произнес или написал: террорист – неудачник. Бомба взорвалась у него в руках, никого не убило – повезло, только одна женщина ранена осколками в живот. У самого оторвало правую руку, а также многочисленные проникающие осколочные ранения лица и туловища.
Только одна женщина…Времени уже не было, он это знал и сделал все, как научил Инженер. Недаром он так старательно тренировался. Он все запомнил, и руки сделали все сами.
Правая – в карман, там самодельная граната…
Левой – за кольцо, и…
Рывок!
Пять секунд…
Кругом люди, но даже те, кто близко, не успевают понять. Спокойные глаза и спокойные лица… А вот эта, она совсем рядом, с цветным пакетом в руках, смотрит на него с удивлением, не понимает тоже…
– Аллах акба-а-а-ар!!!Ее привезли в шоке.
Широко открытые глаза, сухие губы и развороченный живот.
Когда ей расцепили руки, увидели пластиковый пакет, а в нем – иссеченные осколками, окровавленные распашонки и смешной детский розовый комбинезон с заячьими ушами на капюшоне.
– Это… для… Настеньки… – прошептала она и, наконец, потеряла сознание.Я не знаю, почему не сдетонировал основной заряд, почему не разлетелась острая и ржавая смерть, которой был набит его рюкзак, почему не погибло, не осталось сиротами и вдовами еще множество людей. Им – повезло.
Не повезло только – ей…
…90 секунд…
…Пять с половиной минут до его смерти…Его привезла следующая скорая – минут через двадцать. Кто-то в толпе все-таки догадался наложить жгут… Крови он потерял столько, что, несмотря на переливание и жидкости, почки отказали уже на следующий день. Они лежали в соседних палатах…
…Утренний обход всегда начинался с нее.
Девочки-медсестры готовили ее к обходу с особенной заботой, она была чисто вымыта, руки и ноги смазаны смягчающим кремом, а каштановые волосы аккуратно расчесаны.
Шок. Сепсис. С каждым днем ей становилось хуже.Ее навещали родители и девочка лет семи – старшая дочь. Не помню, как ее звали. Младшая – та самая – четырехмесячная, оставалась дома, ее не привозили ни разу… Муж оставил ее еще до рождения второго ребенка. Может и приходил, не знаю…
Заканчивался обход всегда одинаково.
Я подходил к кровати Однорукого. Смотрел в медицинскую карту.
– Жизненные показатели в норме…
Потом бросал своему помощнику: – Закончи здесь без меня…
Я знаю, что было дальше.
Тот перепоручал Однорукого молодым врачам. А те – скорее всего – медсестрам.
Антибиотики, жидкости, диализ… Стандартное лечение. Вот только… Понимаете, мы всегда полагаемся на себя, на больного и на судьбу. И делаем для этого все необходимое. А с ним – только на судьбу, Ни того, ни другого не встретишь ни в одной истории болезни…
Вчера, в четыре часа, она умерла.
Однорукий вскоре пошел на поправку.А сегодня, еще и обход не начался – и вдруг старшая медсестра крикнула:
– Остановка сердца!
И вот мы – вся команда – сгрудились у кровати Однорукого.
Что-то там заклинило в его недовзорванном организме – и сердце остановилось.
Я должен его спасать…
…120 секунд…
…Пять минут до его смерти…
– Командуй, ну!!!
– Шеф! С вами все в порядке?Со мной-то в порядке.
Только меня со вчерашнего дня мучают вопросы.
Каково этим двум пожилым людям, в одночасье ставшим стариками – хоронить дочь?
Кто будет провожать старшую в школу? Давать ей с собой завтрак?
Кто купит Настеньке комбинезон с заячьими ушами?
И еще много других вопросов, на которые у меня нет ответа…
Пять минут…
Чтобы еще раз попытаться на несколько минут стать богом.
Знать бы только – что сам Он хочет от меня – на этот раз…
Самое страшное – какое бы я не принял решение в эту секунду – я буду проклинать себя за него всю оставшуюся жизнь…
– Адреналин!Инь и Ян
Инь
Сегодня – скажу. Все, хватит, расстаемся. Скажу. Сумею.
Амой любимый, мой горячо и нежно любимый, это – услышит.
Мы десять лет вместе.
Именно – вместе, хоть и встречаемся раз в месяц.
Двадцать четыре часа – раз в месяц. Помножить на сто двадцать – это сколько ж часов счастья-то получается.
Самое удивительное, что любим друг друга. Хоть в этом повезло.
Иногда мне кажется, что вся жизнь моя – только ожидание его рук, его ладоней, его прикосновений…
Нет, конечно, я вполне успешная женщина, с карьерой, взрослой дочерью и двумя бывшими мужьями.
Я привыкла командовать дома и на работе, и даже нахожу в этом удовольствие.
Я никогда не расслабляюсь до конца, и внутри у меня – ледяной стержень.
И все таки, это – не совсем я…
Потому, что стоит мне закрыть глаза…
Услышать его голос…
Почувствовать его руки…
Да что там почувствовать – только подумать о них…
И…
…Иногда руки говорят о человеке гораздо больше, чем лицо.
Лицо можно сделать. Выучить улыбку, подвести глаза, надуть важно щеки.
А руки, вот они – какие есть. Беззащитные.
Холодные, влажные, горячие, дрожащие, крепкие, сухие, волосатые…
По рукам всю подноготную о человеке можно узнать.
Говорят, хорошие врачи по рукам диагноз умеют ставить.А я… Что мне диагноз?
Просто я – в его руках – не женщина, а – ветер, река, куст земляники… Срывай, ешь…
Может быть, поэтому, иногда, после нашей сумасшедшей близости, я эти руки целовать хочу.
И он об этом знает.
Он – все про меня знает.
Все десять лет, все эти годы, он открывает меня. Самой себе.Сегодня я скажу ему – хватит. Расстаемся.
Когда мы встречаемся…
О, как мы ждем этих встреч… Эта дрожь, это ожидание – лучший любовный напиток.
И – самый главный миг – первое прикосновение.
Он всегда сначала гладит меня по щеке. Просто прикладывает ладонь, крепкую, гладкую, теплую ладонь – к моей щеке и замирает…
А я… Я кладу руку ему на грудь и слушаю – сердце…
Мое-то – скачет, как у зайца. А у него – всегда, всегда, что бы ни произошло – ровный, нормальный ритм.
Если б не руки и глаза, можно подумать – и не скучал по мне целый месяц.
И, как вам объяснить это, не знаю, но именно то, что пульс его спокойный и ровный – заставляет меня желать его еще больше, насколько это может вынести мое сердце.
А то, как он смотрит, и что говорит.
Нет мне жизни без него…И сегодня я скажу – хватит. Расстаемся.
Он всегда читает мои мысли – по глазам, по первым фразам, по улыбке. Знает, чего ожидать – а что – и у нас всякое бывает, мы же, считай, семья…
Я и боюсь его угадывания, его проникновения в мою суть, и желаю – больше всего на свете. Поэтому и не скрываю никогда и ничего – знаю, что бесполезно.
Сегодня – в первый раз.
Еще тридцать ступенек.
Двадцать секунд.
Ключ – в замке.
В первый раз – совру…
Скажу, надо расстаться, снова замуж выхожу.
И бог даст – он мне поверит… Потому, что правда – это…
Правда – это диагноз…
ЯнЯ всегда приезжаю первым. Жду ее прихода, укладываю в холодильник продукты, неторопливо вытираю пыль, ставлю в вазу цветы.
Мне нравится ее – предвкушать…
Раздвигать шторы, распахивать окна. Впускать – жизнь.
Она до сих пор любит белые розы.
Двенадцать букетов в год.
Десять лет.
Я всегда знал, что однажды все закончится. Просто потому, что кончается все и всегда. И с этим ничего не поделаешь.Я знал, что однажды скажу ей, что больше не приду. И не приду…
И все. И никаких объяснений. Потому, что обида поможет ей пережить необратимость происшедшего. Другого средства я не знаю, или его нет вовсе.
И я слишком хорошо знаю ее…
Когда я почувствую, что уже не… Ну, что я должен объяснять?
Между нами – сумасшедшее влечение и разница в двадцать лет. Все эти годы мы пьем друг друга по капле. Этих капель уже – океан. Океан счастья. Но и у него есть берег, и он приближается, как ни меняй курс и ни пытайся плыть против ветра.
Я просто хочу остаться для нее мужчиной – вот и все. Правда просто?Я никогда не плачу. Ну, то есть, ребенком – да, разумеется, дети плачут все. Пока ты маленький, мир большой, и между миром и тобой – те, кто защищает, охраняет, любит – можно себе это позволить. Но это – недолго. Потом ты растешь, а мир делается все меньше, пока не становится таким маленьким, что целиком умещается у тебя внутри – в твоей памяти, твоем сердце… Тогда слезы возвращаются. Иногда, изредка. Не из жалости к себе, а из-за боли за тех, кто рядом, кто дорог, кого – любишь. Потому, что знаешь, что у них впереди…
Н-да… Зачем я все это говорю… Нет, мне пока рано. Еще – рано. Но месяц назад, в последнюю нашу встречу, я понял, каково это, всего на несколько минут, когда случайно уронил ее сумочку на пол. Она была в душе, а я стал собирать неимоверное количество разных женских мелочей и безделушек, среди которых была одна единственная бумажка, сложенная вдвое. Я развернул – это было направление на химиотерапию, в онкологический центр. На несколько минут она вдруг перестала быть. Ее не стало. Я остался один, а мир стал крохотным. И я понял, что плакать можно не только в детстве…
Конечно, я не подал виду…
Скорей бы она пришла…
Инь и Ян– Здравствуй, милый…
– Здравствуй, девочка моя… Здравствуй, хорошая моя… Ну…
– Погоди, погоди, дай мне отдышаться…
– Ну, что с тобой поделаешь. Дыши…
– Я так спешила, мне казалось, что эта пробка никогда не кончится. А потом вдруг пошел дождь…
– Главное, что ты уже здесь, а дождь – это чудесно, правда?
– Конечно правда – раз это говоришь ты. Разве может быть иначе? Просто понимаешь, я когда к тебе тороплюсь, начинаю говорить с тобой заранее, болтаю про себя всякие глупости, а когда вижу тебя, тут же все сразу забываю.
– Ну, значит ничего важного.
– Иногда – да. Но не сегодня. Сегодня у меня, на самом деле, есть новости… Для тебя…
– Ласточка моя, мы не виделись – сколько?
– Как сколько? Месяц… Почему ты спрашиваешь?
– Не месяц, не месяц…
– А сколько же?
– Мы не виделись – вечность. Я не видел тебя – вечность. А ты – меня. Поэтому, давай все новости оставим на потом, а? Тем более, что я все равно всегда заранее знаю, что ты хочешь мне сказать……– Понимаешь, я не могу к этому привыкнуть. Каждый раз – как первый… Как ты это делаешь? Хотя, зачем я спрашиваю, пусть это останется тайной. Но то, что ты знаешь о женщинах…
– Я ничего не знаю о женщинах. Я знаю – о тебе.
– Обо мне ты знаешь больше, чем я сама знаю о себе. Расскажешь кому-нибудь – не поверят. Я и сама, когда думаю об этом – не верю…
– Вот и не верь. Главное – что я знаю… И что нам – хорошо…
– Понимаешь, я хотела тебе сказать… У меня… Я… Видишь ли…
– Ты уверена, что сейчас – время говорить об этом? Ну, подумай. Именно сейчас…
– Но ты не знаешь!
– Только что ты утверждала обратное. Так знаю или не знаю?
– Ты смеешься, а я хотела – серьезно. Это не шутка и не игра, это – жизнь…
– Ты не веришь, что я и на этот раз знаю все? Хочешь услышать? Хотя, наверное и в самом деле, время настало, зачем откладывать… Только прижмись поплотнее… Еще… Вот так, да… В общем, ты хотела заморочить мне голову какой-нибудь несусветной глупостью, чтобы убедить меня с тобой расстаться… Так?
– Господи… Господи… Ну в самом деле, откуда? Откуда ты это знаешь? Как ты догадался? Скажи…
– Это неважно, хорошая моя. Важно другое. Я знаю, что с тобой случилось. Я знаю, что тебя ожидает в ближайшие несколько месяцев… Видишь, и на этот раз… Запомни – все будет хорошо, и мы пройдем весь путь вместе – до самого конца. Поняла? Вместе и до конца…
ЭпилогВот интересно, как все – в том числе и автор – ждут хорошего конца…
Ах, как хочется пойти на поводу собственного благодушия и не убивать Ромео над свежей могилой Джульетты.
А неудавшееся удушение Дездемоны превратить в… сексуальную забаву.Чувство умоляет пощадить влюбленных и дать им, ну, хотя бы, десять лет – обретенного счастья. Вдвоем.
Но Разум усмехается и захлопывает мышеловку – как крышку гроба. Нет…
Да и что такое десять лет по сравнению с вечностью, говорит он.
И он прав…
Потому, что иначе – как быть со смертью жены главного героя, всего два месяца спустя, измученной десятью годами любви, ревности и боли… Женщины, когда-то любимой им и любившей его – тоже…Любовь…
Пожалуй, только она смогла бы – победить? Усмирить – Разум и утешить – Чувство.
Есть ли она?
И если да – то готовы ли мы открыть ей свое сердце?
И впустить ее. И принять ее. И жить с ней…
Только вот – где она? Где…
Проклятая любовь…Эхо для двоих или не говорите – что осень
(Разговор на берегу)
Не говорите, что – осень.
Из-за тумана, с той стороны невидимой реки, длилась – тишина… Только два неслышных голоса шептали друг другу… Как два опавших листа или два майских жука. И не говорите, что – август…
– Что же мы – так никогда и не встретимся?
– Ну почему – встретимся – и даже обязательно. Только потом пожалеем о этом.
– Почему? Это грустно… Но я тебе верю – ты всегда все знаешь.
– Правильно. Верь мне. И тогда все будет хорошо.
– Ты говоришь – все будет хорошо – и от этих слов такой холод…
– Тебе не может быть холодно, маленькая врунишка. Я ведь с тобой, да?
– Ну да, ну да – не может – я просто преувеличиваю. Обожаю преувеличивать…
– А я обожаю тебя.
– Это славно – мне это нравится…
– Ну а ты? Нет, я не буду спрашивать, скажи сама, а?
– Я… А что я? И ты сам все знаешь. Давай лучше о другом…
– О чем моя сладкая? О чем?
– Расскажи – как все произойдет.
– Ну, ты понимаешь, все будет непросто… Совсем непросто. Так же, как у всех.
– Я люблю, когда непросто. Я люблю – когда адреналин.
– Гм-м… Адреналин будет, можешь не сомневаться.
– Вот ты сказал – будет непросто. Но я не хочу, чтобы из-за нас кто-то страдал.
– А что ты знаешь о страдании, душа моя?
– Иногда я слышу крики – оттуда – с правого берега. Я знаю, кто это кричит. Это души, которые страдают.
– Нет, ласточка моя, никто не будет страдать. Так страдать – нет.
– А если не так – то как же?
– Послушай, мы встретимся и уже не расстанемся, и никто вокруг не будет страдать – до крика страдать – никто, понимаешь? Потому что кричат от боли, а если ее нет…
– Но боль есть всегда…
– Ее будет совсем немного, чуть-чуть, и – целый океан счастья…
– Хорошо. Я тебе верю. Но будет ли нам хорошо вместе?
– Я тебе отвечу так – только вместе нам будет хорошо… Ну, ты ведь знаешь, только притворяешься, да? Скажи…
– А что будет потом?
– Потом… Какое странное слово – потом. Я боюсь, когда ты его произносишь.
– Ты не можешь бояться. Ты же душа. И не просто, а душа – мужчина. А страхи – это там – на правом берегу…
– Страх есть везде. И мой страх – за тебя, только и всего. А – потом… Потом – это дно пропасти. Но лететь туда – вечность. Так какая разница?
– Ты не понимаешь. Разница есть. Если ты мне скажешь, что на дне пропасти или вечности – как хочешь – нас ждет то же самое, что и всех – не разочарование, нет – нам это не грозит, я знаю… Я знаю, как переводится это нежное слово – Любовь – на наш язык.
Оно не переводится, оно просто не сходит с языка – как бесконечный вкус мороженого..
– Я боюсь другого: там – в конце, нас, как и всех – наверняка – ждет боль, болезнь, смерть.
– А значит – разлука, так?
– Это и есть страдание, которое там – на правом берегу…
– Да, все будет как у всех… Ну, конечно, мы могли бы умереть в один день…
– А дети? Ты не понимаешь. У нас могут быть дети. И они… Мир жесток. С ними может что-то случиться. Я не хочу об этом – но ты же все понимаешь, правда?
– Мы будем рядом – в боли. Мы будем рядом – в страдании. Я укрою тебя и расскажу сказку. Так, как я умею.
– Но это значит… Это значит… Милый, это значит – увидеть правый берег. А я не хочу…
– Но мы же должны встретиться!
– Должны, да… Должны…
– Просто за все надо платить, голубка моя. Ну, иди сюда, иди. Я хочу думать, что мы рядом. Я хочу представлять себе, что ты уткнулась носом мне в плечо и посапываешь – а слезы – если и были – уже высохли…
– А может…
– Что?
– А если все оставить – как есть?
– Ты хочешь остаться душой – навсегда?!
– Я и ты – навсегда… Вместе…
– Но я хочу до тебя дотронуться!
– Не хочу страдать…
– Но может – все обойдется?
– Нет. В мире слишком много зла. А за такую любовь, как наша, платить придется вдвойне…
– Любовь моя, не говори так. Не молчи так… Оставь мне надежду… Хотя бы надежду, ладно?
– Надеяться – странное занятие. Те, кто надеялся, где они сейчас? Слышишь их крики?
– Значит ты… Ты… Ты…
– Я с тобой любимый. Я с тобой. Мы будем разговаривать. Но не проси большего. Никогда не проси большего…
– Хорошо. Я все понял. Я сделаю как ты хочешь…
– Один только вопрос… Скажи…Не говорите, что – осень. Из-за тумана, с той стороны невидимой реки…
Право на возвращение
Часть первая
– Ну и что ты мне подсовываешь? Неужели ты думаешь, что у меня есть время, чтобы читать всю эту писанину?
– Я не знаю. Я думала…
– Неправильный ответ. Хочу тебе напомнить – времени нет, не было и не будет.
– Прости…
– Прощаю. Хотя – нет. Пока не прощаю… Ну, сколько там у тебя?
– Дюжина
– Хоть интересные?
– О, да…
– Я люблю душещипательные…
– Я знаю.
– Откуда?
– Потому что – знаю. Ты мне снился…
– Опять твои сны. Такие, как ты, не видят снов, я же объяснял тебе. Ты – непорочна. Ни снов, ни сожалений, ни секса.
– Мне снилось и то, и другое, и…
– И?
– Неважно. Давай займемся делом.
– Ну вот, теперь ты злишься…
– Нет. Я не злюсь. Совсем не злюсь. Просто я… Мне интересно с тобой.
(Ну вот, сказала – и сама удивилась).
– Ин-те-рес-но? Вот как. Ну-ну… Что ж… Кхм-м-м… Такого, признаться, я еще не слышал… За всю длительность моего пребывания здесь, ты первая, кому интересно со мной. Обычно меня…
– Что?
– Понимаешь… Обычно меня принимают за некую темную силу, за этакое абсолютное зло, и – боятся…
– Странно… Как можно бояться – Разума?
– Вот и я всегда об этом говорю. Как можно? По-моему, такие, как ты – гораздо опаснее.
– Почему?
– Ответ прост. Я – Разум. Ты – Чувство. Я познал – все, ты – ничего. Твое знание равно нулю. Ноль – самая коварная цифра. Твой риск ошибки равен бесконечности. Мой… Я не ошибаюсь никогда. Практически – никогда. Глядя на тебя, я могу предугадать все мыслимые и немыслимые ошибки, которые способно совершить Чувство. И катастрофы, к которым это может привести. И – изменить ситуацию. Собственно, именно поэтому мы и работаем вместе уже… который срок?
– Я… Я не помню…
– Хм-м-м! Нда-а… Так вот, только поэтому, заруби себе на носу. Что бы там не воображала твоя вихрастая головка.
И что мне уж совсем непонятно – почему люди боготворят тебя и делают из тебя идола. И уверены, что так и есть. Неужели не ясно, что мы работаем всегда вместе, что бог – двулик. А так называемая божественная справедливость – просто результат наших споров.
Н-да… Какие все-таки они недогадливые – эти твои люди.
Ведь недаром говорят – по образу и подобию. Где ты видела человека, подобного мудрому старцу, с абсолютной добротой в кармане…
Да они – совсем, как мы. Те же постоянные споры и сомнения – ну погляди, как их колбасит…
– А что было раньше? Ну, до тех пор, пока я… Пока я не появилась?
– Появилась… Скажи лучше – свалилась мне на голову… Раньше – было скучно.
– Значит, тебе тоже интересно со мной?
– Хм-м…. Хватит разговоров, девочка. Доставай свои папки.
– Хорошо. Как скажешь…
Я опускаю голову и втихаря улыбаюсь. Строгий… А я не боюсь. И так тепло внутри, что улыбка становится еще шире, и голова кружится.
Совсем не боюсь. Его – не боюсь.
А себя?
Часть вторая
– История первая – «Есть Бог на свете».
– Что – вот так прямо и назвала?
– Да.
– Совсем по-людски. Странно – неужели тебя все еще тянет – туда?
– Не знаю. Наверное. Только это зависит…
– От чего?
– Неважно…
– Ну хорошо, все равно ведь не утерпишь – расскажешь потом. Итак…
– Эта история – про настоящую любовь.
– Ага. И что – я должен удивиться, что ли? Ты мне только про настоящую и рассказываешь. Все надеешься, что поверю, размякну и сделаю все по-твоему. А когда оно было по-твоему-то? Ну скажи, скажи – когда?
– Никогда. Ни разу. Пока – ни разу.
– Вот, то-то и оно… Ну и что там с ними?
– Они хотели дотронуться друг до друга. Не получилось. Умерли оба.
– Их было только двое?
– Еще жена. Страдание.
– Ну, вот и славно. Ты же сама все понимаешь, правда? Ничто не стоит страдания безвинного… В Ад.
– Кого из них?
– Как это, кого? Конечно – обоих!
Делаю вид, что удручена. На самом деле, я понимала заранее, что шансы пристроить обоих в Рай – ничтожны. Разум ни за что не согласится, у него – принципы! С другой стороны – ужасно не хотелось разлучать влюбленных. Пусть в Ад, зато – вдвоем. Моя маленькая победа.
– Ну, что там дальше?
– Вторая история называется «Звонок».. Жена погибает, попав под автобус – спешила к тяжело больному мужу.
– Муж?
– Любит другую.
– Жену – в Ад, остальных… Дождемся, когда и они – напомни мне – и туда же. Пусть втроем мучаются.
– Почему же несчастную – в ад?
– А ты будто не понимаешь… Она же специально ему лекарства не давала, чтобы речь к нему не вернулась. Чтобы он не смог любимой своей позвонить. Подло это. Разве – нет?Что я могла ему возразить? Сами понимаете…
– Третья история. «Неотвратимость».
– Ну?
– Самолет разбился. Сто тридцать два человека, шесть детей до двенадцати лет.
– Ну, дети безгрешны, сама понимаешь… И вообще, пассажиры здесь ни при чем. Они – по другому ведомству… Давай по делу.
– Пилот. Умер в момент посадки – тромб, закупорка легочной артерии. Тромб оторвался из-за того, что за два дня до этого спасал беременную женщину. Из-за физических усилий. Он бы, конечно, все равно оторвался, но в другой ситуации. И никто бы не погиб. Спасенная женщина и ребенок здоровы.
– Говоришь, здоровы?
– Да, здоровы. Так что, пилота – в Рай?
– Нет, конечно! В Ад! Ему туда прямая дорога…
– Ну а его-то – за что? Он же спасал…
– А ну-ка, чувствительная ты моя, погляди, что будет с этим ребенком дальше, лет этак через… тридцать пять-сорок, а? Видишь?
– Д-д-аа…
– Ну и как тебе это – нравится?
– Н-н-еет…
– В том-то и дело… За чей счет добренькой хочешь быть, а? Пойми, люди – они, как дети. А мы… Ну, мы – как взрослые, понимаешь? Даем детям необходимую степень свободы и смотрим, что из этого выйдет, а потом или наказываем, или поощряем. Так куда его?
– В Ад…
(Если бы вы знали, если бы вы только знали…)
Он сидел к ней боком, и свет, падающий из окна, на контражуре, обрамлял его профиль слепяще-белым нимбом. А она перебирала папки, откладывала в сторону, брала новые, говорила что-то ему в ответ, и только изредка их взгляды встречались. И золотистые искорки, мелькавшие тогда в их глазах……– Одиннадцать. «Инь и ян». Последнее на сегодня.
– Слава Богу! Тьфу ты, черт, что же я такое говорю… Что там?
– Жена. Умерла от любви к мужу, не вынеся его десятилетней любви к другой женщине.
– А за ней самой что-нибудь числится? Ну, что-нибудь, ты понимаешь…
– Нет, ничего.
– Совсем? Хм-м-м… Странно… Очень странно. Это редко, когда умирают – от любви. От любви чаще – убивают.
Ее – в Рай. Ну, что ты на меня смотришь? Я – Разум, но иногда и мне не чуждо…
(Что я такое несу?)…
Часть третья– Ну, скажи – ты довольна?
– Я… довольна, да. Наверное, довольна… Все-таки – не всех. Просто мне жалко…
– Ей жалко! Ты о чем, скажи мне, жалеешь? Целая одна душа попала в рай. Тебе этого мало, да? И еще три отложенных, ты забыла? Двое по делу «Звонок» и один по делу «Белый тюльпан», так кажется? Ну, который разобьется через… восемь месяцев.
– Он не разобьется. Он погибнет во время землетрясения, спасая девочку из-под завала. Но ты даже это не принял в расчет…
– Я же тебе объяснил, вихрастая твоя голова… Он мог осчастливить двух человек, но один из-за него лишился ног, а второй – чуть не лишился жизни, даже еще не родившись…
– Ну да, ты объяснил… Но мне все-равно жалко.
– Почему? Какое странное чувство – жалость… Но почему, почему? Погляди – благодаря твоим хитростям и моему… хм-мм… чувству к тебе…
(О чем я, Господи, о чем я, старый дурак… Какие чувства – у Разума…)
…– Короче, благодаря стечению обстоятельств, ни одна из влюбленных пар не разлучилась. Это ведь именно то, чего ты хотела, не так ли? Ну, а уж где они осточертеют друг другу – в Аду или в Раю – какая нам с тобой разница? Бог с ними…
– Нет, мне жалко не их…
– А кого же, глупыха ты моя?
– Нас…
– Почему же?
– Ты знаешь сам. Ты же – Разум. Ты знаешь, просто не хочешь себе признаться…
– Да, я знаю. Причем давно… И это ничего не меняет.
– Но почему, почему?
– Слишком много чувства. Я так не могу. Я не смогу дать тебе столько же, сколько ты хочешь дать мне. И даже половины не смогу. Я просто не умею. Я только использую тебя, понимаешь?
– Пусть!
– Не понимаешь… Я – использую тебя – в будущем времени. После – пустота…
– Пусть!
– Какое дурацкое слово – ПУСТЬ – в нем – ПУСТота… Да и не может быть того, чего не может быть…
– Нет! Ты забыл. У нас есть право на Возвращение.
– Ты сошла с ума! Впрочем – откуда у Чувства ум?
– Право на Возвращение – это право стать пылинкой на теле Земли. Его надо было назвать правом Невозвращения. Ты же помнишь, тому, кто использовал это право, вернуться сюда – невозможно.
– Я не хочу спорить. Но прежде, чем… Посмотри двенадцатое дело. Пожалуйста, посмотри… Вот.…—Ну, посмотрел. И – что? Какая-то осень… Зачем ты притащила сюда этот подслушанный разговор двух еще не родившихся душ?
– Про осень добавила я. Ну, мне захотелось – и все. Я же – чувство. Я хотела чтобы ты услышал…
– Услышал – что?
– О чем говорят наши с тобой души…
– Так это еще и – мы?!. Бог ты мой… Нет, нет, все-равно… Глупости. Глупости. Разум и чувство. Что хорошего может получиться из этого? Твоя авантюра обречена на провал.
– Пусть.
– Да что ты заладила – пусть, пусть… И потом, где гарантии, что ТАМ – мы встретимся?
– Я найду тебя.
– Да уж, кто бы сомневался, но не я. Ты, если чего захочешь – из-под земли достанешь. Пойми – пока ты меня найдешь, многое может произойти. Мы можем встретиться слишком поздно. Несвободными. Уставшими. Сломленными… И что потом?
– Мы… Наделаем глупостей…
– Ну уж – нет!
– Ну хорошо – как скажешь – мы просто встретимся…
– Это и будет самая главная глупость!…– Милый…
– Не зови меня так.
– Но почему?
– Мне… Мне… Больно… Вот здесь, в самой середине, когда я слышу твой голос…
– Это хорошо. Пока болит – ты небезнадежен.
– Ты – дуреха. Бедная моя дуреха… Что же мы делаем?
– Мне кажется… Мы рождаемся!
– Это грязно и больно…
– Это просто еще одна – тринадцатая история.
– Ну вот – я так и знал – чертова дюжина.
– Я найду тебя.
– Но как? Ты не знаешь ни моего имени, ни моего лица…
– Это просто, милый. Это просто. Я почувствую твою боль. Приду и положу руку тебе на грудь.
Потому что – Любовь…
И не все ли равно – что потом?Конец?..
Ню
Зеленая лампа
Меня зовут Магда.
Магда из сумасшедшего дома.
То есть это, конечно, не совсем сумасшедший дом. Но мой врач говорит, что таким, как я, безопаснее всего именно здесь.
Магда. Магда…
Как я люблю свое имя. Я помню, как его произносила мама. И как его вышептывали любовники.
Как напевал его Вик.
А вот больше ничего не помню…
Доктор рассказал мне, что я работала в издательстве, что у меня есть муж и взрослый сын. И правда, иногда меня приходят навещать двое – пожилой и молодой – очень между собой похожи, сразу видно – отец и сын.
Только я-то здесь причем?
Я их не знаю. Или не помню – какая разница…Это называется посттравматический синдром. Я упала. Шла и упала. Потому что – скользко. И ударилась головой. Скажете, с каждым может случиться. Гололед. Да. Но случилось – со мной. Вот только я и этого не помню.
Зато помню его – Вика. Еще больницу, конечно, но это уже потом… А вот его…
Доктор говорит, надо записывать мысли, все, что приходит в голову, и тогда обязательно что-нибудь выплывет и – может быть – потянет за собой остальное…
А я вот думаю, может потому и забыла, что это – остальное, не главное. Его-то ведь я не забыла…
Каждую осень я сижу вот так на веранде и слежу за тем, как падают наземь листья. Кружась и приникая к ней, словно в поцелуе. Так же и я приникаю к настоящему, которое почти целиком – уже и прошлое. О будущем я не думаю, потому что оно – это настоящее и он – Вик. Все прочее – остальное и за……Круг света от зеленой лампы. Стол. Мы напротив друг друга – Вик и я. Лицо в лицо, и я ловлю его мысли. Уже целых тридцать лет назад…
Я смотрю на нее и забываю свой возраст. И все остальное забываю тоже. Только ее лицо в круге света, и пальцы, без конца наматывающие прядку волос… Она поднимает глаза и застает меня врасплох – каждый раз. Ее глаза бездонны, как Марианская впадина. Однажды я сказал ей об этом, и она засмеялась – только и всего. Но… И я снова утыкаюсь в капеллу Роншан…
Странно… Я могу молчать рядом с ним – часами. И чувствовать себя на двадцать лет старше. А ведь все совсем наоборот – старше, почти на тридцать, как раз – он. И ему уже сорок шесть. И он почти мой отец…
– Скажи… А почему ты все время разглядываешь в своих альбомах одно и то же? Одни и те же чертежи, фотографии? Я давно обратила внимание – каждый раз – одни и те же. У тебя там даже закладки обтрепались. Или вот этого здания или еще одного. Вернее – церкви, да? И все. В них есть что-то особенное?
Он поднимает голову, и я вижу его губы с вертикальной складкой-ложбинкой на нижней. Потом он морщит лоб и произносит:
– Наблюдательная ты…
У него недовольное лицо, и он хочет казаться серьезным, но мне смешно, я-то ведь знаю его, как облупленного. На самом деле, он готов сейчас заурчать от удовольствия…
– Мне вдруг стало интересно, правда, скажи…
– Ну, это… Ты ведь знаешь, как настраивается музыкальный инструмент? Гитара, скрипка… А эти чертежи, эти фотографии настраивают – меня. Чтобы я был готов сыграть ту мелодию, которая во мне, понимаешь? Которую я должен исполнить. Не зря ведь архитектуру называют застывшей музыкой… А эти два здания – как камертоны, мои, личные. Я смотрю на них, и мой мозг, мое восприятие настраиваются определенным образом. Вот и все…
– Расскажи мне про них, а? Что это? И почему именно – они?
Он глядит на меня несколько секунд, потом вздыхает и говорит:
– Вот это, то, что ты видишь, это капелла Роншан. Маленькая католическая церковь во французской деревне, только и всего. Архитектор Ле Корбюзье, тоже француз… А вторая – церковь, неподалеку от Москвы, на реке Нерли. Она так и называется – Покрова на Нерли… Двенадцатый век… Я не знаю, почему именно они… Не могу сказать… Хотя… Ну вот, послушай. Это, конечно, только мое восприятие, но ведь ты об этом и спрашиваешь, да?
Я киваю. Оно-то мне и нужно – его восприятие.– Роншан – странная церковь. Совершенно непохожая на церковь вообще. Совсем. Ни на какую. Когда приближаешься, она выплывает на тебя из зеленого луга, как корабль. Луг, лес и вдруг – корабль. Белый. Сначала даже не понимаешь, что это. Что это – дом. А потом вдруг осознаешь, что так оно и есть – это не дом, как дом, как – церковь, как что-то еще, ну… привычное, то, что вписывается в твои представления, соответствует ожиданиям… Это – врата куда-то – в над… Ты входишь вовнутрь, и на тебя смотрит – Бог… И – свет. И ты чувствуешь воздух и Бога – в себе…
– Ты красиво рассказываешь… А та – другая?..
– Покрова на Нерли – совсем другое дело. Можно сказать, что Роншан и она – антиподы.
– Почему?
– Потому что она, как раз, соответствует всем канонам православной церкви. Абсолютно традиционная архитектура, традиционный выбор места – на высоком берегу реки, как и большинство православных церквей. Все, как везде. Но – не как везде, потому что это – церковь – женщина.
– Не понимаю… – Я смотрю ему в глаза, слежу за его губами, слышу его голос, и все во мне…
– Я и сам не понимаю… – Вик ухмыляется. – И никто не понимает. Если бы понимали, смогли бы построить еще такую же. Но вот – не построили… У нее уникальные по совершенству и изысканности линии. Она проста до гениальности. Понимаешь, все совпало, пропорции, природа вокруг… Она вся – простота, покой и нежность… И – вера. Церковь – женщина…
– А я?
Этого я не сказала……Каждую минуту, все время, жить – невозможностью любви…
Не помню, когда это началось. Или делаю вид, что не помню… Или не хочу вспоминать. Или – делаю вид, что не хочу вспоминать…
…Они плавали вдоль берега и незаметно оказались около гряды камней, выступающих из воды метрах в семидесяти от нас. Магда и кто-то из ее подруг. Мы даже не поняли сначала, что происходит – две девчонки просто играют, плещутся, размахивают руками. Потом я услышал ее крик:
– Вик!!!
Мы успели. Их, конечно, побило о камни, но могло быть гораздо хуже. Могло быть… А крика кроме меня не слышал никто…
…Я несу ее исцарапанное тело, и она обнимает меня за шею. Глаза дикие. Прижимается и дрожит – вся. Потом, уже лежа на расстеленном полотенце, пока я промываю ее раны пресной водой, вдруг расжимает ладонь и шепчет:
– Гляди, что я нашла…
На ладони маленькая круглая раковина нежного розового цвета, похожая на ухо.
– Правда, похоже? – она отбрасывает в сторону мокрую прядь волос и показывает мне ухо.
И мне начинает жечь глаза, словно в них попала соль…
И запах моря – от ее тела.
С влечением можно бороться. Как бороться с нежностью, которой – задохнуться…Я до ужаса несовременна. У меня мало подруг и много книг. Я не пробовала наркотики, но исподтишка покуриваю. И боюсь, что об этом узнает Вик. Он меня опекает, и мне это нравится. Чувствовать на себе его взгляд, ощущать его беспокойство, и видеть, как он хмурится, если что-то не так. Он думает, что знает все лучше меня, и я не мешаю и слушаюсь, как маленькая. Знаете, почему? Мне просто хочется его слушаться. Вот просто… Даже факультет мне выбрал он. Интересно, мы так и будем молчать весь вечер?
– Вик! Вик, пойдем в кино. Или погулять и в кафе, а? И дождь уже кончился.
Он качает головой, даже не глядя на меня.
– Нет, сегодня не могу. Завтра, с самого утра, мне нужна свежая голова, а после прогулок с тобой там путаница… – Он качает головой и снова погружается в свои чертежи.
Я иду ва-банк.
– Меня звал Макс, а я не пошла…
– Куда?
– Да в кино же, в кино!
– А-а-а-а…
– Вик, а он тебе – как?
– Кто?
– Да Макс же!
– Э-э-э… А я его видел?
– Он заходил к нам на прошлой неделе. Мы вместе пили чай…
– Ну, я… не помню.
Врет. Он все помнит. Все и всех. Он моих ухажеров знает и оценивает ого-го как.
Раз говорит, что не помнит – значит, не очень. И шансов у Макса, стало быть – минус ноль. Но, в общем-то, он и мне – не так, чтобы… Честно говоря, мне они все – не так, чтобы. Потому что…Ну, чего я упрямлюсь… Время ведь не остановить, и этот вечер – тоже. И себя. Или себя – можно? И ближайшую тысячу лет – по обе стороны от зеленой лампы…
…– Ну хорошо, идем… – я встаю из-за стола.
Она визжит от восторга и бросается мне на шею. Я кружу ее, не касаясь руками. Главное – не касаясь руками…
…Мы сидим плечо к плечу, и я ничего не вижу. Что-то там мелькает на экране, Магда иногда хихикает, а я чувствую ее узкую ладонь в своей, и у меня совершенно пустая голова. Она говорит, что у меня теплые руки. Вот как…Ужинать я увела его в кафе. У меня был особый расчет: во-первых, не надо будет посуду мыть, а во-вторых, у меня к нему разговор серьезный, а в кафе разговаривать легче.
– Все-таки очень вкусная у них лазанья.
Вик пожимает плечами.
– Что ты хочешь, итальянцы всегда знали толк в еде.
– Вик…
– Что?
– Ничего…
Он замирает на секунду с поднятой вилкой и смотрит на меня.
– Ну говори, говори, я же вижу, что-то есть…
– У меня проблемы с учебой…
– Продолжай, – и он возвращается к еде.
– Я не справляюсь…
– Угу.
– Ну, что ты угукаешь?
– А что мне прикажешь делать?
– Мне нужен совет, а не ругачесть…
– Я уже давно тебя не ругаю…
– Как же… Ты просто так смотришь, что мне стыдно…Я смотрю на нее и… Господи, дай мне сил…
Чтобы скрыть свое смущение, я делаю вид, что подавился и начинаю судорожно кашлять. Магда похлопывает меня по спине, и я с трудом успокаиваюсь. Цирк, да и только…
– …Ты взрослая, Магда. Ты умная.
Если ты не справляешься, значит тебе неинтересно. Это я настоял, чтобы ты пошла на этот факультет. Значит, есть и моя вина. Скажи, чего ты хочешь, и мы поступим, как ты хочешь. Можно перейти на другой или…Чего я хочу… Иногда мне кажется, что я не хочу ничего. Просто сидеть – вот так – и говорить, говорить…
Я знаю его лицо до мелочей. Его губы с ложбинкой на нижней. Его спокойные руки. Его плечи и его походку. Его дыхание. Запах его одеколона и его пота… И как он морщится. Я знаю его женщин. Он никогда не приводит их домой, но меняется его запах и его взгляд. Едва-едва, неуловимо. Становится чуть более рассеянным. Тогда я бешусь.
Это никогда не длится больше месяца, да и случается нечасто. Но я – бешусь…
Вот как сейчас, потому что он спрашивает, чего я хочу.
А я не могу ему сказать. Потому, что все сказано уже так…
И так ясно…
Уже поздно, и мы идем домой. Он ведет меня за руку…
…Перед сном я прихожу пожелать ему спокойной ночи. Он по-прежнему сидит над своими чертежами. Прямые плечи, аккуратный затылок.
– Вик…
– Что?
– Спокойной ночи.
– Спокойной ночи, заяц…
Мы никогда не целуемся. Даже обычный чмок в щеку – никогда.
Я просто подхожу сзади и обнимаю его за плечи. Прижимаюсь щекой к его щеке и замираю. Вик не шевелится. Молча ждет, когда я уйду, и я понимаю, что мешаю.
– Вик…
…?
– Мама смотрит на нас… Видишь?
Он едва заметно кивает. И молчит…Фотография на столе, прямо перед глазами – темные волосы, счастливые глаза… Мама… Моя мама и его – Вика – жена. Его женщина. Они поженились, когда мне было десять, и я все помню. И как они смотрели друг на друга – тоже. Потом она умерла, а мы – остались.
Прошло уже целых пять лет.
Мне восемнадцать. И каждый час, как день, каждый день – как год, я живу – невозможностью любви…
Ах, эта зеленая лампа, которая всегда…Ее звали Тирца. Она была моей женой три с половиной года. Последние пять с половиной месяцев – неоперабельный рак поджелудочной железы. Это не лечится.
Каждый день я благодарю EFO за каждый день – с ней. Каждый день я проклинаю EFO за каждую минуту ее страданий.
Последнее слово, которое она уже не смогла произнести. Только одно слово. Одно имя – Магда… Потом она просто закрыла глаза и перестала дышать.
Мне понадобилось целых четыре года, чтобы научиться умирать от нежности к ней. И с этим – жить.На то рождество я заболела.
Озноб, температура под сорок и жуткий выматывающий кашель. И тупая боль в груди. Воспаления легких мне только и не хватало. Да еще двухстороннего. Крупозного. Возможны осложнения на…
Три дня я почти не помню, все было как в тумане. На четвертые сутки, ночью, я проснулась, вся насквозь мокрая от выступившего пота. И сорочку и меня можно было отжимать. Но грудь уже не болела, и хотелось есть. Вик лежал рядом со мной, поверх одеяла, одетый, и дремал. И огромная луна прямо в окно…
…Он обтер меня всю насухо и переодел, а потом принес бульон. А еще потом я забралась к нему подмышку и уснула… До утра.
Наша первая ночь – вместе…Та ночь… Она болела очень тяжело. Конечно, ее лечили, и все такое, но три дня она была почти без памяти. Я совсем не спал эти дни, все время рядом с ней, сон – урывками, не раздеваясь. На четвертую ночь я проснулся от яркого лунного света в окно и увидел ее глаза. Она растянула губы в улыбке и прошептала:
– Есть хочу…
Я принес ей бульон, она поела немного и уснула, прижавшись ко мне.
И ничего не случилось.
Кроме счастья, которое – рядом…А потом…
Она снова пошла учиться, вернулась в университет, и жизнь пошла как обычно. Через какое-то время появился… он. Все было как раньше, только ночами мы почти не спали – ни она, ни я. Я прислушивался через стенку к ее шагам, скрипу половиц или створок шкафа. К ее покашливанию, и как она негромко напевает себе под нос. Через полгода Магда переехала к нему. Еще через год они поженились. Я сам подвел ее к нему и вложил ее руку – в его.
Назавтра, накануне моего отъезда, когда уже стемнело, она пришла ко мне в спальню. Села на постель и взяла мою руку. Потом улеглась поверх одеяла, прижалась, и мы уснули. Посреди ночи я проснулся от яркого лунного света в окне. Ее уже не было. И хотя мы не сказали друг другу ни слова…Много лет я ни разу не оставался с ней вдвоем, наедине. Как-то не…
У них родился сын – Майк, и они переехали в другой город. Я навещал их раз в год, всегда на рождество. Она не приходила ко мне больше никогда. И всегда кто-то бьш рядом.
Потом позвонил ее муж, и я приехал. В то утро выпал снег. Мне сказали, что она никого не узнает. И я подошел к ней и взял за руку, и погладил по щеке. И она, как была, с закрытыми глазами, произнесла:
– Боже мой, наконец-то……Я многое забыла из прошлого – почти все. Зато я знаю все про будущее. И жду первого снега. С первым снегом он приедет и заберет меня отсюда. И я сразу увижу его следы – темные проталины на белом покрывале. Завтра…
– Магда, девочка моя, я пришел.
– Вик, Вик, Вик…
– Видишь, все как ты хотела – первый снег, посмотри за окно.
– Да, да, я знаю, я знала, что ты придешь именно сегодня.
– Конечно, милая, я ведь тебе обещал, помнить? Сегодня я заберу тебя отсюда. Теперь мы можем жить вместе, понимаешь?
– Я так рада, я ведь так долго этого жду, знаешь? Всю жизнь…
– Мы оба, любимая. Всю жизнь мы жили вместе, я и ты – невозможностью любви…
– И мама…
– Да, моя хорошая, она всегда была с нами – ты ведь помнишь…
– Скажи, а я все еще нравлюсь тебе?
– Конечно. Ты моя самая желанная. Ты моя любимая…
– Тогда уедем поскорее, ладно?
– Магда!
– Что?
– Скажи, а как твоя память?
– Т-ссс, не спрашивай. Никогда не спрашивай того, кто любит, и кого любишь ты. Просто – люби и позволь любить – себя. Беда придет сама, радость надо суметь вынянчить и вырастить…
– Хорошо, я сделаю все, как ты скажешь.
– Я так давно не была дома. Вик, а можно я тебя о чем-то попрошу?
– Ну, конечно.
– Тогда обещай мне.
– Все, что хочешь.
– Обещай мне жить долго. Ведь ты – моя жизнь, и если не станет тебя…
– Не беспокойся обо мне. Я буду жить, пока живешь ты… Ведь у меня просто нет другого выхода, правда? Я ведь должен заботиться о своей дочке, о своей Магде.
– И еще…
– Да…
– Я хочу… Я хочу снова сидеть напротив тебя. И чтобы стол и зеленая лампа посредине. И ты рассказываешь мне про Роншан и про ту, другую, церковь – женщину…
– Покрова на Нерли.
– Да, про нее. И круг света от зеленой лампы……– Ты, кажется, что-то говорил о невозможности любви?
Птичка-бабочка-зазноба…
– Ле-е-е-ш…
– Что?
– Ну что ты глаза-то закрыл? Мне сразу страшно так…
– Да нет, не бойся. Я просто иногда… устаю дышать, понимаешь?
– Нет, Леш, не понимаю – она сидит на неудобном больничном стуле и смотрит на меня. На лице беспомощность и страх. В руке носовой платок, глаза красные.
– Я вообще уже ничего не понимаю, ну вот – совсем…
– Почему? Что же тут непонятного? Ты спроси, я объясню…
– Да если б я знала – что спрашивать-то… Я… понимаешь, я раньше думала, что так болеют только старые совсем. А ты-то… Ты же молодой еще, как же это, а?
– Ну, видишь, иногда и молодые – тоже…
Я смотрю на нее, она – на меня.
– Ка-а-а-ать… Ты не нервничай, лучше налей водички, а… – пью…
…– Я знаю, что я эгоистка, ужасная эгоистка…
– Да нет, почему же…
– Потому что боюсь не только за тебя, а и за себя тоже… Что ты умрешь, а я… останусь одна… Я все время об этом думаю, все время, слышишь?
– Не бойся. Я не умру…
– Так ведь врачи…
– Они ничего не знают, запомни. Ничего…
– А кто же, если не они? Кто? Ты только скажи, я найду, привезу кого хочешь, откуда хочешь, Леш…
– Кать, не надо никого привозить, никого искать. Знаем только мы. Мы с тобой, ты и я… – Я чувствую, что уже не хватает дыхания, не хватает воздуха, но…
– Я тебе расскажу… Вот, только… Вот…
– Доктор! Доктор!!! – на ее крик, буквально через несколько секунд, в палату вбежала сестра и бросилась ко мне. Посмотрела в глаза, пощупала пульс, отвела взгляд…
– Да что же ты так орешь-то, а? Ну нельзя же так, все-таки взрослые же люди… В порядке он, запыхался немного, ты с ним разговаривай поменьше, дай дышать-то ему, и все нормально будет. Поняла? И не кричи, не кричи, люди же кругом, не одна ты тут…
…Когда такое случается, мне за нее стыдно. Она иногда такая… Ну вот – оторви и брось… Легкомысленная, порхает по жизни, просто как бабочка. Птичка-бабочка моя… Дунь – улетит… Моя жена – уже целых два с половиной года – целая жизнь… Ка-а-а-атя… Раньше – до свадьбы – я ее зазнобой называл. Птичка-бабочка-зазноба… Оказывается такое вполне может быть, вот только понимать это начинаешь, когда это случилось – с тобой. Что вся твоя жизнь умещается в два с половиной года. И вся любовь – тоже. Потому, что так… Но, даже и теперь, невозможно это представить: не видеть ее – больше никогда. Любовь-то, она ведь не уходит, не делается меньше. Почему-то совсем наоборот. И привыкнуть к этому…
Это страшное слово – рак. Его стараются не произносить вслух, избегать, потому что оно – как выстрел. Рак. Был – и нет.
И я – не произношу. Говорю просто – заболел. Но все почему-то сразу понимают – по ним же видно… Как улыбаются, как отводят глаза, как меняется тон…
…А сейчас я сам научился нас – таких, как я – узнавать. Да, есть те, кто выздоравливает. Только отпечаток все равно остается – на всю жизнь. Их видно. По походке, как держит спину, как несет себя… Словно высокую и очень хрупкую вазу, которую так страшно – уронить… Столько осколков – во все стороны. Столько осколков…
…Я выныриваю назад, на поверхность, в привычный мир, который пока еще – мой… Надо мной Катино лицо, и я изо всех сил пытаюсь улыбнуться. Наверное получилось, потому что она улыбается тоже…
– Леш, может, хочешь чего? Лучше тебе?
У меня по лицу трубочки, и я глотаю носом кислород. Он шипит, пузырится и щекочет ноздри, а вместе с ним в меня вливается липкое, сладкое, словно изжеванная жвачка – время. Прилипает ко мне – не отодрать. Живу… Она спросила, чего я хочу… Ее хочу. Воздуха – полные легкие, и никаких трубочек. Все – хочу. Умираю, как хочу – жить…Она шмыгнула носом и закрыла ноутбук.
– Ну вот, опять у тебя про грустное…
Как всегда без разрешения, влезла в мои файлы. Знает, что я этого не люблю, и все равно… Ах, бесстыдница. Хулиганка маленькая… Сколько раз говорил – бестолку, как будто не слышит.
– Катя, опять?
– Ну опять, да. У мужа не должно быть тайн от жены. Ну почему у тебя всегда кто-то умирает?
– Да не переживай так, маленькая, не умрет он, выживет, я обещаю…
У нее на носу веснушки, и я, уже в который раз, пытаюсь их пересчитать. Сбиваюсь и начинаю снова. И снова – сбиваюсь… У нее карие глаза, и сейчас в них стоят слезы, и она опять шмыгает носом. Это же надо, какие близкие у нее слезы…
Я присаживаюсь напротив нее на корточки и протягиваю ей носовой платок.
– На, птичка ты моя маленькая. Ну, не плачь. Смешно плакать по пустякам…
– Это не пустяки. И с чего это вдруг ты меня в пернатые записал?
– Почему – в пернатые? – я делаю удивленное лицо.
– Потому что – птичка…
– А-а-а-а… Нет, птичка – это не пернатые, это – пти-и-ичка…
– Какая разница. А вообще, ты меня раньше бабочкой называл. С цветными крылышками. И еще – зазнобой…
– Ну, правильно, ты и бабочка тоже. Ты – птичка-бабочка, вот ты кто. Птичка-бабочка-зазноба…Вот… Когда смотришь на любимую женщину… Нет, не просто на любимую, а которую – остро и все время любишь… И от этого временами боишься дотронуться, прикоснуться, причинить – даже ненароком – малейшую боль, как бабочке, усевшейся на ладонь. Шевельнул пальцем и сломал крыло. А она поверила и ведь именно – тебе. Потому и уселась… …А иногда – наоборот, хочется сжать, вмять в себя так, чтобы косточки захрустели, и ее запрокинутое лицо перед глазами… Птичка-бабочка-зазноба… Непросто тебе со мной. Потому, что – книжки писать… Нет, не подарок…
– Плакса ты моя… Катька…
– Катька – ага, но не плакса. Дело как раз в тебе. Мог бы написать что-нибудь веселое, чтобы приятно читать. Смешное или, на худой конец – фэнтэзи. А ты все – про жизнь…
– Ну, я как-то на худой конец – не умею… И не про жизнь – не умею тоже…
– Но ты мог хотя бы попытаться!
– Наверное. Но зачем?
– А затем, что иначе никто книги твои читать не захочет. И что – тогда? Для чего все это?
– Ты права. Тогда и впрямь – все впустую…
– Ну вот. Теперь ты обиделся.
– Ни в коем случае. Ты ведь знаешь, что я не умею на тебя обижаться.
– Ты так говоришь – да… А я вот на тебя – могу. Запросто.
– А я все равно не могу.
– Почему?
– Потому что у тебя веснушки. Как можно обижаться – на веснушки…
…– Леша!
– Что?
– А я знаю – почему…
– Ну, скажи…
– Потому что ты меня – любишь. Мне так кажется. Иногда…
– Пожалуй. Иногда…
– Я вот слушаю тебя, смотрю на тебя… Мы с тобой такие разные, а у нас – любовь… Хотя, наверное, и она тоже – разная, как ты думаешь?
Я смотрю на нее и… Как же она беспощадно, ну вот беспощадно – молода… Когда мы идем рядом, ее принимают за мою дочь, а меня – за ее отца. Часто… Но насколько же она иногда мудрее и старше меня. И мы оба это знаем…
– Знаешь, что… Отгадай слово. Отмирающее понятие, шесть букв. Встречается крайне редко между… почти стареющими писателями и легкомысленными порхающими существами противоположного пола… Например, бабочками…
– Ах, вот как ты обо мне? Ну что же, хорошо хоть – не бабушками. И на том спасибо… – Она закусывает губу, словно от обиды, но что-то в ее глазах… Потому что бабушкой я ее не вижу. Не быть ей бабушкой. Не быть и – все…Мы идем гулять. В последнее время мы гуляем недалеко от дома. Кислород – в специальной емкости, и ее приходится носить в рюкзаке за спиной или, прикрепив к инвалидному креслу. Но от кресла она наотрез отказалась, потому что мы любим – за руку…
Мы идем, и я тащу ее рюкзак.
– Ты похож на улитку с домиком, – смеется она.
Я улыбаюсь. Ей – своей птичке, своей Катьке…
Я несу за спиной ее кислород.
Потому что не могу отдать ей свои легкие.
Потому что у нас разная группа крови.
А все остальное…
– Нет, ну послушай, ну это невыносимо…
Катерина крутнулась в моем шикарном компьютерном кресле, и мы с ней оказались нос к носу.
– Ты пишешь, Леша, как будто зуб дерешь… Причем без наркоза. – Лицо у нее было зареванное и ужасно родное.
– Ты просто садист, понимаешь!
– Это почему же?
– Нет, это я тебя должна спросить – почему? Скажи, что было такого в нашей жизни, в твоей жизни, что ты так вот пишешь сейчас?
– Что, так плохо?
– Прекрасно! Здорово! Замечательно! Только читать – невозможно…
– Катерина, я не понимаю…
– Откуда ты все это напридумывал, Леша? Где ты такое видел? Мы же с тобой уже двадцать пять лет скоро, четверть века… Я же про тебя все, ну, почти все – знаю. У тебя совершенно обычная жизнь – и есть, и была… Успешней, чем у многих, и легче, чем у многих. Разве – нет?
– Может быть, ну и что?
– А – то! То, что не понимаю я… Ты вдруг оказался совершенно другим, незнакомым, непонятным, неизвестным. Ты и не ты. И твоя жизнь – не наша с тобой жизнь, а совсем другая.
– Ну откуда ты знаешь? Откуда ты можешь это знать? Или – я… Откуда? Что мы вообще про нее – про жизнь – знаем… Она, видишь ли, такая… Она – разная.
– Ну конечно, откуда мы можем знать? Это ты у нас – светило медицинской науки, врач милостью божьей, а я – простая домохозяйка предпенсионного возраста.
– Причем тут это, Кать. И потом – все в прошлом…
– И пусть. Но я понять хочу. Мне трудно иначе, пойми. Мы же с тобой нормально… За все это время никто не умер, не предал, не… Дети у нас… Что ты на меня смотришь? За такое надо бога благодарить…
– Так и ты пойми. Не знаю я… Может, переходный период, возраст такой подошел. Потому и смотрю…
Мы улыбаемся. И тогда я просто валю ее на диван, как будто нет этих двадцати пяти……Можно ли хотеть женщину после стольких лет, как в первый раз? Да, но как об этом рассказать… И как рассказать, что никого, кроме нее… Разве что… Но и об этом – не расскажешь. Да и нет ее уже давно на свете. Только – во мне. И пока я дышу, весь мой кислород, вся кровь моя – ей. Птичка моя… Птичка-бабочка-зазноба…
– Леша!
– Что, Катя?
– Обед готов.
– Ага, иду уже. Только последнюю строчку…
Не успел, потому, что запищал мой пейджер – и я помчался на работу.
Иногда мне кажется, что во мне живут два человека. Один из них – очень неплохой врач, который умеет быстро и – в общем-то – правильно реагировать на различные более или менее сложные ситуации. Второй – писатель, и за спиной уже… некоторое количество написанного, и даже – определенное признание, и, если хотите – соответствующее самоощущение… А вот как они, эти два человека, уживаются во мне, и как с ними обоими уживаются окружающие и близкие мне люди, у меня нет ни малейшего понятия. Я бы, скорее всего, не смог.
А еще очень интересно, когда мои пациенты превращаются в моих героев, или – наоборот. Такое случается нередко, потому что и тех и других объединяет – боль. Потому, что никуда от нее не деться, и это и есть – жизнь, что бы вы там ни говорили… А разным там философам, занятым поисками смысла жизни, я точно могу сказать – хотите понять жизнь, научитесь понимать боль. Вот и весь смысл. И не ищите…
Тут передо мной открылись ворота на подземную стоянку, и вольные размышления кончились, вызов в реанимацию – это ноги в руки, и – быстро. Не до…
Неужели есть легкие? Неужели все-таки…Закон за свою пятидесятилетнюю жизнь я нарушал дважды. Первый раз подростком, по глупости, по молодости. Не хочу об этом рассказывать, да и ни к чему. Давно это было, и у каждого из нас свои скелеты… А вот про второй раз – расскажу, потому что…
Есть такой закон в медицинской практике – нельзя, невозможно быть врачом близкого человека. Это – верно, потому, что принимать решения надо с холодной головой, а какая может быть холодная голова, когда плохо твоему ребенку или матери, или – любимой женщине… Поэтому отношения врач – пациент не должны переходить определенной границы. Не должны – и все. Если же это все-таки случилось – живые люди – ну, влюбились вы друг в друга безумно, то врачом его или ее вы быть уже не можете.
Просто. Но… А как понять, что – влюбился?
Есть симпатия, есть антипатия, есть – секс. С этим – все понятно. А если думаешь о человеке двадцать четыре, нет, двадцать пять часов в сутки. То есть – все время и еще чуть-чуть. Разговариваешь с ним мысленно, советы даешь, оберегаешь. Это влюбленность все еще или уже – любовь? И при чем тут секс, скажите на милость.
Если в ней сорок пять килограмм живого веса, и она первая в списке на пересадку легких. У нас вместо секса – кислород.
У кого бы спросить-то – люблю я ее или нет?
Впрочем, мне и так все понятно, и ответ не нужен.
Я останусь ее врачом – до самого конца…
Моя специальность торакальная хирургия. Она пришла ко мне впервые десять лет назад вместе с матерью. Прелестная восемнаддатилетняя девушка. Кистозный фиброз – только-только. Это очень поздно. Обычно болезнь проявляется много раньше – еще в детстве. И ребенок в ней растет, к ней привыкает и с этим – живет, пока… А у нее – в восемнадцать лет. И она вся внешне еще здоровая, смешливая и дурашливая. Ветер в голове. Школа – с медалью, умница, каких мало. Не повезло… В таких случаях не спрашивают, кто виноват, потому что… И что делать – тоже не спрашивают. Спрашивают, а можно ли – вообще – сделать что-то…
Тоненькая, гибкая, белокожая… Шарфик на ней был тогда. Шифоновый, яркий, то ли птички на нем, то ли – бабочки. Потому-то я и прозвал ее так – сначала – про себя – птичка-бабочка…
За десять лет много чего случилось. Хорошего ли, плохого, не знаю, как посмотреть. Но проросла она в меня, как дерево – всеми своими корнями. Прикосновениями, капризами, ласками – всем… Жизнь бы за нее…
Однажды я ей признался:
– Знаешь, Кать, а я ведь голову из-за тебя потерял…
А она… Сделала вид, что не слышала. Потому что мудрая она – и по-женски, и – вообще.А я – что же… Лечил других, старался лечить ее, как мог…
Книжки писал вечерами, дом, семья. Все, как у всех – обычно. Но в каждом моем рассказе, в каждой книге – она. То улыбка, то ветер, то шарфик ее пестрый. Птичка-бабочка-зазноба моя…
А последняя моя книга так хитро задумана… Как матрешка. Одно в другом, без конца. Чтобы мы с ней – главные герои – никогда не кончались. В любое время и в любом месте – мы и рядом. Не просто вместе, а – рядом. Чтобы не только мыслями дотронуться, душами, а и руками, и глазами… Всегда.
Вот я и пишу ее вечерами, в свободное от работы и дежурств время – отвернувшись от всего мира. А сегодня вот звонок срочный прервал, который может ей – Катьке моей – помочь. Потому что теперь помочь ей может только – чудо. Она у меня в отделении лежит уже три недели, и хуже, чем сейчас, уже не будет. Чтобы стало хуже, надо, чтобы было – потом. А его-то как раз и нет… Потом – только пустота…Тридцать лет. Здоровый, очень здоровый молодой мужчина. Летчик-испытатель. Пожар в воздухе, неудачное катапультирование… То есть, катапультирование как раз удачное. Но – не повезло… Самолет взорвался на полсекунды позже, сразу вслед за срабатыванием катапульты. Практически одновременно. И куском обшивки ему снесло полголовы. Все остальные осколки прошли мимо, не задев ни кресла, ни его самого. Дальше раскрылся парашют, и произошло штатное приземление. Парень – сирота. Родных и близких – нет. Наверняка с детства мечтал летать. И – сделал это, смог, добился своего. И положил на это жизнь – в прямом и переносном смысле…
Для Кати моей – чудо и единственный шанс, вероятность которого настолько мала… Но она его получила – из холодных, сильных рук этого парня и его неизвестных родителей. И молодой женщины, сидящей в комнате ожидания с белым лицом, обхватившей руками свой выпирающий живот, словно стараясь защитить. Нет, она не была ему женой, но разве это так уж важно для их ребенка, который скоро появится на свет… Я прохожу мимо и слышу, как какая-то женщина, обняв ее, повторяет без конца – Кать, ну, Кать…
…Она никогда не увидит тот браслет, который был на его запястье. «В случай моей смерти, прошу принять все меры для сохранения и транплантации моих внутренних органов». Он позаботился и об этом – тоже. Почему – кто знает. Но – иначе… Ей об этом не расскажет никто…
Зато – никаких особых формальностей, и его легкие…
…Бужу ее. Она совсем слабая и измученная…
– Катюша, слышишь… Проснись, милая, птичка моя, проснись, ну…
– Привет…
– Привет. Как дела?
– Лучше не бывает… А как наша книга?
– Отлично. Только одна проблема – нет у нее конца, понимаешь…
– И не надо и не надо…
– Катя…
– Что?
– У меня для тебя новость…
Она поворачивает голову и смотрит мне в глаза. А ее – пустые-пустые. А руки теребят простыню…
Больше всего на свете я боюсь, что сейчас она скажет, что устала. Такие случаи бывали. Человек устает бороться и сдается именно тогда, когда спасение – вот оно – близко. А она – Катя моя, в ней и силенок-то уже никаких не осталось…
– Ну, ну…
– Я поняла… Я готова. Только ты не плачь – если не получится, ладно? Пожалуйста. В книге-то в твоей я все равно – останусь… А значит…
Я подхватываю ее худое, невесомое тело, прижимаю к себе, вдыхаю такой знакомый и такой надоевший больничный запах.
На воле моя Катька так вкусно пахнет. А здесь – больницей, лекарствами, болью…
…Только не расслабляться. Еще – нет. Потом, потом…
На ее лице – одни глаза. Глаза и трубочки с кислородом. И еще – это выражение, промелькнувшее только что – и так давно в последний раз… Выражение – счастья. И если причиной этому – я, значит, уже не зря. Потому что мгновений таких у нее за эти десять лет – по пальцам одной руки…
Господи, если ты есть на свете…
Птичка-бабочка-зазноба…
Снег, повсюду – снег. В подъезде холодно. Наверное, я все-таки простыл. Медленно поднимаюсь на четвертый этаж, кашляю, дыхания не хватает. Точно – простыл. Нашариваю в кармане ключ, отпираю дверь. В передней темно, а из кухни – свет и запахи. Катькино царство.
На плите – кастрюля и сковородка. Все шипит и пузырится, и запах… Катя слышит мои шаги и оборачивается.
– Ой, ну слава богу… Леш, ну что долго-то так? Господи, все работа твоя. Посмотрел бы на себя.
Она чмокает меня в щеку и продолжает щебетать:
– Леш, ты знаешь, я сегодня по ошибке письмо твое вскрыла, ничего, а? Решила, что мне, а оказалось – тебе. Ты меня простишь, да?
Я опускаюсь на стул, ее слова – фоном… Хорошо бы горячего чаю с медом и баранками, и в постель. Да еще – Катьку мою под бок, и завтра чтобы выходной. Вот оно – счастье…
– Леш, на тебе же лица нет. Ты же больной, да? Совсем себя не жалеешь……Наконец я накормлен, напоен и уложен, Катька, на самом деле, под боком. Я обнимаю ее и просто кладу руку на нежный, податливый живот, и прижимаю к себе так крепко, словно боюсь, что она вылетит из моих объятий и из моей жизни… И вспоминаю про письмо.
– Кать, так что за письмо-то? Которое ты вскрыла?
– Из редакции, ответ про книжку-матрешку.
– И что там?
– Ничего. Ничего они не понимают в литературе…
– Они на самом деле ни фига не понимают… – я зарываюсь лицом в ее волосы. – Ну ни фига… Совсем…
И чувствую вдруг такое невероятное блаженство, которое бывает только в книгах.
Неужели это еще одна…
Книжку мою так и не напечатали. Сказали – идея хорошая, но создается впечатление незавершенности.
А мне как раз этого только и надо было – незавершенность. Разве можно нас с Катькой – завершить?
Мы же с ней не только до конца вместе и рядом, но и – после… И конца в этой истории нет и быть не может, как и в жизни…
Рука не поднимается точку поставить.
Птичка-бабочка-зазноба…Ню
1
– Я бы хотел тебя нарисовать. Можно?
– Легко…
Так я познакомился с Ню.
Ее звали Аня. Ню – потому, что рисовал я ее почти всегда обнаженной, вернее – голой, понимаете, в чем разница? У профессионалов не принято говорить – голой, принято – обнаженной, полуобнаженной… Завтра у меня обнаженка… Натурщицы голыми не бывают. Со всеми до нее – так и было. И со всеми – после. И даже – во время. А вот с ней… Она сидела на лавочке – маленькая, зареванная, совершенно одна. Куча народу проходила мимо, и никто даже не обращал на нее внимания, ее просто не видели. Ни опухшего от слез лица, ни рук, теребящих сумочку, ни высоченных каблуков ее туфель.
Знаете, с чего начинаются войны? С необдуманных поступков. То-то и оно…
Я не просто ее увидел, я – подошел. Но, почему-то, вместо того, чтобы спросить, не нужна ли ей помощь или, на крайний случай, протянуть носовой платок, я вдруг произнес вот это самое:
– Я хотел бы тебя нарисовать…
Так все и началось…Я звал ее по-разному, то Нюрой, то Нюшей, иногда просто – Ню. Ей было все равно. Кто-то думает, что рисовать обнаженную женщину – обязательно с ней спать. Это не так. Врачи тоже довольно часто имеют дело с обнаженным женским телом, но никому и в голову не приходит… Конечно – профессия. Конечно, бывает – все. И даже нередко, но художник – это тоже профессионал, и его отношение к натурщице – отношение профессионала. И тот свет, то чудо, которое потом все мы видим на полотне, это не отражение натурщицы, как таковой, а отражение того неуловимого – нечто, которым ее наделил художник. Это не она. Это – его ощущение ее. И это совершенно разные вещи. Ну и умение это нечто – изобразить.
Ню без одежды была неописуема. Она была – невероятна. Все эти рассуждения совершенно к ней не относились. Они любили друг друга – Ню и свет. Ее можно было рисовать в любой позе, при любом освещении и в любом ракурсе – свет всегда падал на нее, ложился на нее, обтекал ее – так… в общем, она начинала светиться – сама.
Каким образом я смог почувствовать это неким верхним чутьем и подошел к ней, и спросил, и – услышал в ответ… Не знаю.
Я почти никогда не просил ее принять определенную позу, она просто снимала с себя одежду, выходила из-за ширмы и вставала, садилась, или ложилась так, как хотела в данный момент – сама. И в мастерской становилось светлей.
А уж если она молчала во время сеанса…
В своем обычном состоянии она была ужасная болтушка. Аутист, который вдруг заговорил, и за все годы молчания… При этом – никаких авторитетов, никаких правил и совершенно точечный кругозор.
Но иногда мне удавалось упросить ее помолчать. Или у нее вдруг было такое настроение… И на два часа я чувствовал себя равным Рембранту или Босху, или – Леонардо…Любил ли я ее?
Я и сейчас ее люблю…
Но в тот год я, в своем отношении к ней, оставался прежде всего – художником. С ней я был способен на многое и понимал это. И желание, которое владело мной – положить ее на холст, написать ее. Написать ее так…
Ню стала моей моной Лизой, моей голубкой, моей девочкой на шаре. Моей мечтой – о себе…
2– Гоша, уже давно пора сделать перерыв, слышишь? У меня нога затекла. Левая… И в туалет. И рефлектор у тебя барахлит, почти не греет, холодно…
Сколько ни прошу не называть меня Гошей – бесполезно.
– Ну почему – Гоша?
– А почему – Нюша?
– Так ведь ты – Аня!
– Ну, а ты?
– А я – Марк, но логика у тебя – железная. Женская логика…
Может, она и в самом деле забывала, как меня зовут…
Вначале она приходила редко, раз в полторы-две недели. Плела что-то про строгого отца и занятия в институте. Я даже не помню наш первый раз. Наверное, тут же, прямо на полу, на брошенном на пол чехле от подрамника или в углу, на старом, продавленном диване… Как обычно. Девчонка – еще одна, только и всего…
Мне, на самом деле, было все равно и про институт, и про отца, и про личную жизнь. Она ведь тоже дистанцию держала и вполне со знанием дела, вполне. Она как ежик была, еще до меня, иголки наружу и в свою жизнь – ни-ни… Да и у меня ни времени, ни желания не было на нежности всякие. Натурщица – от бога, одна на миллион, а остальное… Главное и единственное – только бы она продолжала приходить. Чтобы снова увидеть игру светотени на ее груди и бедрах, прозрачность кожи, тень, заплутавшую в подмышечной впадине… И – рисовать, рисовать, рисовать…
Ее единственный каприз: с дороги – чай с баранками и сахаром вприкуску – чтобы похрустеть, затем сразу же за ширму, и – к станку…А потом… С началом зимы она стала появляться гораздо чаще, причем без всяких видимых причин – наши отношения остались прежними, но… В общем, я постарался и кое-что о ней узнал. Ну, хотя бы заботясь о собственной… безопасности. Аня, как оказалось, жила с бабкой, родители умерли. Год назад бросила институт и… Что может молоденькая девчонка в ее положении, и что вы об этом не знаете. А сейчас она встречалась с каким-то… и подрабатывала в ночном клубе. По крайней мере, пластика движений у нее была от природы – такая…
За это время я сделал с нее сотни эскизов – всем, чем только возможно – от угля до пера и акварели, и два портрета маслом, в довольно необычной манере. Думаю, что в этом все дело. За манерой я потерял – ее. Настолько был уверен, что само ее присутствие на холсте и есть – чудо, что чуда – не произошло. Не случилось…
Я прислонил к стене оба портрета, а между ними поставил – ее. И раздвинул шторы…
…Пока она бегала в магазин, я изрезал их на куски. Потом мы сидели за столом, и она смотрела на меня, как никогда раньше. На этом же столе, она впервые стала – моей. Я не оговорился, мы были любовниками уже несколько месяцев, но первый раз моей Ню стала именно – тогда…
Наутро мы уехали в Крым, к морю…
3Две недели мы жили в старом, покосившемся теткином доме, почти на самом берегу. Он достался мне в наследство, и я с самого начала не знал, что мне с ним делать.
Заниматься ремонтом – слишком дорого, продавать – слишком дешево. Я называл его: теткин дом. Так он и стоял…
Валялись на теплом песке, грызли семечки, покупали на рынке парное молоко и мохнатые персики. Вечером разводили костер и пекли картошку и молодую кукурузу. И – странное дело, Ню вдруг стала меня стесняться. Как только я это почувствовал, я захотел ее по-настоящему. Как не хотел женщину уже очень давно. Та чертовщина, которая возникла между нами… Не знаю, что это такое, может и…– А маленьких чаек я называю – знаешь как? Чаинками…
– Что? Что ты сказала?
– Я говорю, что маленьких чаек…
– А-ааа…
– А ты умеешь ловить ртом виноградинки?
– Я… не знаю. А зачем?
– Как – зачем? Чтобы поймать!
– Нет, не умею.
– А я вот – запросто. Гляди.
– Ню-ю-юш… Я сплю, Нюша……– Гоша…
– Что?
– А почему ты уже не ругаешься, когда я тебя Гошей зову?
– Привык…
– Вот и я – тоже. Если привыкну к кому – потом не отдерешь. Хорошо, что к тебе привыкнуть невозможно, а то бы я, наверное, влюбилась…
– Почему – невозможно привыкнуть?
– Так ты – разный. Вот, как море. Ах, Гоша, Гоша, море ты мое……– Скажи… А ты часто влюблялась?
– А я все время влюблена.
– Как это так – все время?
– Вот так – все время, а что?
– И сейчас влюблена?
– Конечно.
– В кого, можешь сказать?
– Да в парня одного. Так – ничего особенного.
– Ты спишь с ним?
– А как же. Тут самое главное – обмен жидкостями.
– Это как? Какими такими… жидкостями? – сон сразу, как рукой…
– Ну… всякими. Пот, сперма, слюна… Еще – вдохновение…
– А это еще что такое?
– Что-то типа оргазма, по-вашему.
– По нашему…
– Сложно объяснить, Гоша… Да и ни к чему тебе…
Она опустила голову на подушку и прижалась ко мне так крепко-крепко, и – уснула. Прямо в старой, вылинявшей футболке. Улыбаясь.
А я – только под утро……Луна глядела на нас потому, что на море ей уже, наверное, надоело.
Ню лежала рядом – обессиленная и нездешняя. И улыбалась как-то – вовнутрь.
А мне вдруг страшно захотелось узнать, о чем она думает, когда, как сейчас – сразу после…
Прежде мы никогда не спали вместе, в одной кровати рядом. Мы спали друг с другом, но – в другом смысле, по-другому. А когда – засыпать и просыпаться…
Я подумал, что рай, очень может быть, существует…
Когда она перестала быть для меня – обнаженной натурой? Телом? Ню?Иногда, сразу – после, мы болтали.
…– Гош, скажи… А вот ты, когда портреты мои резал…
– Ну?
– Ты сильно… переживал?
– Переживал…
– А как?
– Что – как? Переживал и все.
– Понимаешь, об этом лучше говорить…
– О чем – об этом?
– О смерти…
– О смерти? А кто умер? Не мы с тобой – это точно…
– Картины. Ты же их – убил. Значит, они умерли. А тех, кто умер, надо вспоминать, иначе они умирают на самом деле…
Я поворачиваю к ней голову и вижу только ее силуэт на фоне ночного неба. Ну вот – откуда у нее…
– Ты же не хочешь, чтобы они умерли – совсем?
– Наверное – нет…
– Тогда – говори…
– Ну… Как тебе объяснить… Было два момента. Первый – я никогда раньше не работал в такой технике. Очевидно, это в какой-то момент стало доминировать, а я не заметил. И получилось – техника ради техники… Это, конечно, упрощенно, но тем не менее… И потом – это не главное…
– А что – главное?
– Пожалуй, излишняя самоуверенность… Вот… ты приходила, позировала, я на тебя смотрел… Иногда – просто смотрел, даже ничего не делал, ни одной линии, ни одного мазка – ничего… Я тебя – впитывал, понимаешь… Ну, вот… Мне когда-то давно попались стихи, там строчка была такая, я ее запомнил. «Твоих мелодий гибельная суть, твоих шагов ленивое начало…» Лишь когда ты в меня входила и наполняла меня, и твои мелодии начинали звучать, и я слышал эти шаги, я принимался рисовать. И однажды мне показалось, что в этом уже нет необходимости, что ты во мне – всегда, что я могу в любой момент, не глядя, передать этот свет – тебя и из тебя. И эту твою мелодию… Иллюзия… Мне показалось, что я до конца познал то, что познать нельзя. Свет – неисчерпаем. Но оказалось, что и ты неисчерпаема – тоже… Слишком сложно, да?
– Послушай, Гоша… А хочешь, мы это повторим, ну, еще раз. Я тебе помогу, подскажу…
– Ты – мне? Что ты можешь подсказать?
– Что надо сделать, чтобы все получилось.
– Да? И что же?
– Ты должен… сам меня раздеть. Попробуй – раздеть меня – сам. Вот увидишь…
– Как ты сказала? Раздеть?
Но Нюша уже спала…
4Я все никак не мог на нее наглядеться. Вот – просто…
Даже подглядывал, надеялся увидеть нечто такое, чего еще… Потому что было всегда – мало.
Она была невысокого роста, ямочки на щеках, румянец, совершенно беззащитные плечи. Копна каштановых волос. И, самое главное, у нее были потрясающе правильные пропорции тела. Она вся была как золотое сечение, идеальная соразмерность во всем, и необыкновенный, только ее – оттенок кожи. А если до нее дотронуться. Положить на нее ладонь. Провести по ней… Порой мне было жаль, что я не скульптор, только потому, что передать не просто форму, цвет, тепло, но – чудо прикосновения к Ню…
Как-то раз она уснула на берегу, а к ночи у нее подскочила температура – она, конечно же, обгорела. Порывшись в теткиных шкафах, я нашел какую-то, на мой взгляд подходящую мазь, перевернул ее, сонную, на живот и стал осторожно натирать ей спину и плечи. И вдруг поймал себя – на нежности к ней. В эту секунду Ню – кончилась. Или наоборот – началась…
…Утром, двигаясь на мне, она наклонилась и поцеловала меня в губы, и произнесла только одно слово:
– Марик…
Мы начинались вместе – Ню и я…– А ты уже приезжал сюда с женщинами?
– Приезжал.
– А ты был уже женат?
– Угу, был…
– А хочешь – еще раз?
– Жениться? Нет…
– Вот и я – нет.
– Ты еще молодая… Но, вообще-то, и молодые тоже хотят – замуж. Все хотят…
– А я – не все!
– Это я уже успел понять. Так почему – нет?
– Это больно.
– Что – жениться?
– Да нет. Ты – балда… Больно потом, когда хорошее кончается.
– Обязательно кончается?
– А как же иначе? Оно всегда кончается. Это только плохое тянется, тянется и никуда от него…
– Но есть же на свете счастливые люди…
– Я не встречала…
Солнце палило. И ее горячий живот под моей рукой. А губы – вот они, наклонись и пей… И я – пил. Пожалуй, действительно, и я не встречал тоже…
Так что, очень может быть, она…Однажды, перед самым закатом, мы случайно набрели на заброшенный яблоневый сад. Покосившийся забор из прогнившего штакетника, и дыр больше, чем этого самого забора. Но сад… А какой там стоял запах…
Нюша носилась между деревьями, хватаясь за стволы и радуясь, как ребенок. Подбирала валявшиеся повсюду яблоки и ела. А они – хрустели у нее на зубах…
– Смотри, сколько их тут, – она повела рукой вокруг. – Они же просто пропадут и все, сгниют, жалко. Давай возьмем с собой, ну хоть немного, хоть на сегодня, а?
– А во что? У нас же ничего нет, Нюша…
– Я сейчас что-нибудь придумаю, подожди минутку…
Она шустро стянула через голову свою белую майку, простую, на резинке, юбку задрала до подмышек – получилось – платье. Не слишком длинное, до середины бедер…
– Вот, из этого можно сделать узелок, видишь?
– Вижу… – я смотрел на ее голые плечи. – Знаешь что, верни-ка юбку на место…
– Но я…
– Я сказал – верни юбку на место, слышишь…
Она стояла передо мной – смущенная, враз покрасневшая и почему-то – беспомощная. Я ее такой…
– Ну…
– Я… Я стесняюсь.
– Кого? Здесь же никого нет.
– Ты есть. Я тебя стесняюсь…
– Почему? Я что, тебя голой не видел?
– Это совсем другое, это работа. А сейчас…
– А ночью? Тоже работа?
– Ночью – темно…
– Ну и что? Что изменилось?
– Ты не понимаешь…
– Ну, так объясни.
Она подняла на меня глаза и несколько секунд молчала. Потом – отвернулась.
– Если ты часто будешь видеть меня голой, я тебе надоем… тело мое тебе надоест. Я ведь для тебя – тело. Ты его – рисуешь. Ты его… – она запнулась. – А я не хочу… надоесть. Хочу, чтобы ты каждый раз – удивлялся мне, вот…
Передо мной стояла – смущенная и покрасневшая, и вся целиком моя – Ню…
– Я понял. А теперь – верни юбку на место…
… Ню медленно подняла руки, ухватила ткань и потянула ее вниз. Ее глаза были полны слез.
– Еще, – сказал я. – Сними ее совсем…все сними… Вот так, да…
…– Что… дальше? – спросила она, хлюпая носом.
– Подойди к дереву и прижмись к стволу… И не хлюпай ты, дуреха. Чуть опусти голову и чуть – вправо… левую ногу… все… замри и не шевелись…Я знал ее тело. Я помнил каждый его изгиб и каждую ложбинку. И как она сказала: попробуй раздеть меня – сам… Я сделал это – ее руками, и все, в самом деле – получилось. Я написал ее «Портрет в солнечном свете», хотя солнца почти уже не осталось – закат, закат, закат… Но она – светилась. И техника была особая, уникальная. Когда все мазки выполняются одной единственной кистью – нежностью. Такой же слепящей и обжигающей, как… 5
Назавтра мы уезжали…
Умри мы вместе, одновременно в ту последнюю ночь, было бы легче потом, потому, что этого – потом – не было бы вовсе…Город ждал нас. И жизнь резво взяла меня в оборот, так, что уже на следующий день Ню оказалась почти призрачным существом, и жить без нее стало возможно. Не слишком весело, все-таки я к ней изрядно привык, но – возможно. Да и куда мне ее – в заваленную подрамниками и старыми холстами мастерскую с завтраками на этюднике. И отсутствие стабильного заработка… Даже при моем нездоровом отношении к светящимся женщинам. Правда, не светилась больше ни одна из… Ни как Нюша, ни – вообще…
Ее не было месяца три. На звонки не отвечала, сама не звонила, ее просто – не стало. Я, конечно же, мог ее отыскать, но когда представлял, как являюсь к ней нежданный-незванный… Возможно, застаю ее не одну, а с… В один прекрасный день она появилась и осталась аж на две недели. И, разумеется, это были совсем другие две недели, не те – крымские, морские, яблочные. Снегопад и сосульки…
– Нюша, где ты была все это время?
Она молча стояла, прижавшись ко мне всем телом и, по-моему, дрожала.
– Замерзла?
Несколько раз подряд судорожно кивнула.
– Ладно, потом расскажешь, проходи, чаю горячего, с баранками, да?
…– Ну? Теперь рассказывай все, слышишь? Все. Где была, что делала?
– Была…
– Я звонил, а ты не отвечала…
– Не хотела…
– Допустим. А что сейчас?
– Ничего особенного. Вот только… бабушка умерла. Теперь у меня – никого…
– Как это – никого, а я? – но этого я не сказал……– Слушай, Марик, можно я поживу у тебя недельку, а то мне пока некуда идти…
– Живи, разумеется. А почему – некуда идти? У тебя же, вроде, квартира была?
– Да. Там сейчас Алик…
– Кто это – Алик?
– Ну, тот парень. Который – ничего особенного. Помнишь?
– И почему он там, а тебе некуда идти?
– Не знаю. Не хочет уходить. Но я разберусь…
…Как-то само собой, мы оказались в постели, и резанула воспоминанием линия загара внизу ее живота… И нежность, тенью проскользнувшая на кончиках пальцев.
И вкус яблок на ее губах. И что – не моя. А может, все это мне только…Утро теперь состояло из омлета и кофе, день – из оформления очередной выставки в очередном доме культуры, вечер – из усталости, душа и легкого ужина, ночь – из Ню… Жизнь то ли остановилась, то ли еще не началась.
Чем она занималась дни напролет – я не спрашивал, но видно было, что дома не сидела. Не то чтобы меня это совсем не интересовало, но… Некое подсознательное мужское нежелание раздавать авансы… Чтобы – не подумала… Не строила иллюзий. Чтобы…
Встречала почти всегда одинаково – улыбкой и голыми плечами. Она знала мое отношение к ее телу и показывала мне его украдкой, словно – случайно, ненароком, дарила – себя. И я перестал ее рисовать – совсем…
Вечерами мы болтали, даже не помню – о чем. О ерунде.
– Нюш, скажи… А вот ты пришла именно – ко мне. Почему?
– А что, мешаю, да? – и сразу испуганные глаза – вот-вот рванется вещи собирать.
– Да нет, ну что ты в самом деле, я просто так спрашиваю, ну… Да живи ты сколько хочешь…
Она выдыхает и мгновенно успокаивается – верит.
– А что тебе непонятно-то? Что – почему?
– Ну… У тебя – своя жизнь, свои друзья. Мало ли. Неужели среди них – никого…
– Дело совсем не в этом.
– А в чем? Я и спрашиваю…
– Ты – хороший.
– Это ты ошибаешься, точно. Это не про меня…
Она уставилась на меня исподлобья, вот-вот полезет драться, защищать меня от самого себя.
– Ты добрый. Ты не врешь. Ты не такой, как другие.
– Я врун еще – как! И – часто. А доброта моя… Ну, может, зла прямо такого во мне и нет, но и доброты особой…
– Ты – мне не врешь, понимаешь? Мне. И все, мне достаточно. И со мной ты – добрый. И открытый. Я же для тебя – тело-картина-девочка. Не больше. Но и не меньше. И ты этого никогда не скрывал, не требовал от меня больше, чем получаешь. Не пытался взять больше, чем я отдаю. Ко мне ты добрый, а что еще надо…
Она пожимает плечами, и я утыкаюсь ей в шею. И думаю о том, как я буду жить без нее дальше, если она…
Когда она снова пропала, я затосковал.
Сначала я пытался завалить себя работой, потом поехал к ней домой – в ее квартире жили незнакомые люди. А потом работа закончилась, и я начал пить. Сначала – понемногу, но в одиночку, а дальше…
Весна пришла серая и слякотная, жить не хотелось.Ню появилась в конце апреля – исхудавшая и какая-то встрепанная, как воробей.
Влетела и повисла у меня на шее.
– Гоша!
И увидела пустые бутылки…
Она набрала полную ванну и засунула меня туда. Следом – и себя. Так я и отмокал – постепенно. А когда более-менее отмок и попытался ей улыбнуться – заплакала…
– Почему ты пьешь?
– Мне пусто.
– Что такое – пусто? Чего тебе не хватает?
– Тебя.
– Ты врешь!
– Тебе – нет. Тебе я не умею…
– Больше не пей!
– Больше – не уходи…
– Раз ты просишь – не уйду.
– Я хотел тебя найти. Я пытался…
– Напрасно. Раз не прихожу, значит – так надо…
– А что с квартирой? И этот, как его, Алик? Что с ним?
– Все в порядке, Гоша. Квартиру я уже продала. А Алик… Его я – убила…
– …?!– Что ты сказала?
– Что я его убила…
…– Нюша…
– Что?
– У тебя с головой – как?
– Как всегда. И вообще, теперь все хорошо…
– Теперь?
– Да. Теперь я смогу к тебе приходить, когда захочешь. Хочешь – рисуй, а хочешь…
– А раньше – нет?
– А раньше мне надо было долг вернуть. И много разного другого сделать…
– Вернула?
– Да, весь, до конца. И еще кое-что осталось, могу не работать. Так мне приходить?
– Нет, не надо. Не приходи…
– ?…
– Ты просто не уходи. Не уходи – и все. Совсем…
Она осталась…– Нюша, я сегодня поздно…
– Хорошо, я дождусь.
– Не надо, ложись спать, я тут сам…
– Хорошо.
Вернувшись, я находил ее спящей, свернувшись калачиком на узкой кушетке, прямо у входной двери. Рядом, на этюднике – клубника и плитка шоколада.
Я брал ее на руки и нес в постель.
– А шоколад-то зачем?
– Чтобы грустно не было…
– А клубника?
Улыбается…
– Клубника для запаха.
– А почему у двери, тоже, чтобы грустно не было?
– Нет… – смотрит.
– А почему?
– Чтобы, как собака – хозяина…
– Ох, Нюша… Нюша… ты…
И никогда ни одного вопроса. Ничего…
Такие бывает…
А летом мы снова уехали в Крым.
6Я не хотел брать с собой этюдник и краски. Потому, что не хотел – писать. В том числе и ее – Аню. А может быть, ее – прежде всего… Наверное, просто боялся, что если еще раз…
Она меня, конечно, уговорила. И даже тащила на себе здоровый, тяжелый, полный кистей и тюбиков с красками, этюдник до самого вокзала.
Я не мог ее рисовать, я не мог ее подчинить. Она никогда не спорила, покорялась во всем, глядя на меня снизу вверх или, наоборот – сверху вниз преданными, только что не собачьими глазами, и всегда все выходило – по ее. Я это видел, понимал и – ничего не мог поделать. Она была сильней. Я был ей не нужен. Она светилась – сама……А сад нас помнил. Мы навещали его раз в два-три дня, уносили с собой яблоки и этот дурманящий плодовый запах…
Дней через пять после приезда, ночью, пришла гроза. По крыше и стенам дома застучали капли, потом начался настоящий ливень. Мы проснулись. Аня встала, чтобы прикрыть окно, и в этот момент совсем близко сверкнула молния, на долю секунды осветившая все. Впервые за долгое время я увидел ее – снова. Снова и заново – другую Ню, Ню – незнакомку. Она вернулась ко мне в постель, прижалась и спросила:
– А теперь ты будешь меня рисовать, скажи?
– Может быть. Завтра…
– У тебя получится, все получится – вот увидишь.
– Откуда ты знаешь?
– Ты смотришь на меня – по-другому. И видишь – по-другому. Я и есть – другая. Попробуй, ну…
И я пробовал ее всю оставшуюся ночь – до утра…Я снова начал рисовать ее, практически постоянно. Везде. Дома, в саду, где-то еще… Словно не мог напиться – ею, собой, светом, который – вернулся. И в каждом наброске, в каждом эскизе, в каждом этюде, Ню была действительно другая – моя… …Потом еще три недели я писал ее портрет. Привез из города станок, холст, и она позировала мне до изнеможения – ее и моего. Практически, я построил ту же композицию, которую увидел тогда, в саду, в самый первый раз. Только смотрела она теперь с портрета – прямо в глаза. И – румяное, спелое яблоко в протянутой руке…»Яблоко Ню»…
…– Как ты не понимаешь, мы же не можем провести всю жизнь в этой развалюхе! И – на что? Денег хватит, максимум, еще на неделю-полторы… А что потом? На базаре яблоками торговать?
– А почему ты не можешь работать здесь?
– А что я буду здесь делать? В городе у меня мастерская, какие-никакие связи, возможности, долги, наконец…
– Ты забыл, я же квартиру продала, у меня есть деньги. Я могу отдать твои долги, и еще останется… Мы сможем еще довольно долго…
– Я никогда не возьму твои деньги, поняла? Никогда. И больше никогда не хочу об этом слышать.
– Почему?
– Потому. Ты – женщина, я – мужчина. С этим ничего не поделаешь. И забудь…
– Но…
– Забудь! И потом, я помню – Алика… Не знаю, что там у вас было и как, но – помню. И с этим тоже ничего не поделаешь…
– Это же никак не связано, я тебе расскажу, и ты поймешь. Ты ведь и не спрашивал никогда. Это совсем-совсем другое. Там – наркотики…
Я опешил. Некоторое время я смотрел на нее молча, а в голове прокручивались разные картины на эту вот тему – наркотики… и Нюша.
– Господи! Ты и туда влезла…
– Да нет, Марик, никуда я не влезла. Я к ним никогда даже не прикасалась, ни сама, и никак иначе – правда! А он… Понимаешь, он меня любил, мы долго были вместе – больше года. И помогал мне, когда… Ладно, неважно. Я просто очень долго не знала – что бы ты обо мне ни думал. А потом мне рассказали. И я стала следить – потому что не могла просто так – взять и поверить. И – убедилась. Сама убедилась. Увидела, что он, на самом деле, продает дозы. И – кому? Детям. Тринадцати-четырнадцатилетним детям. Я видела их лица… Однажды мы с ним были в гостях, он выпил и позвал меня на лоджию – проветриться. И я ему сказала, что все знаю, а он стал хвастать, что скоро купит виллу на Багамах, и мы будем там жить. Он был пьяный, уселся на перила, а я… просто толкнула его в грудь. Несильно, слегка. И он упал с десятого этажа. Вот и все. Меня вызывали на допрос, потом отпустили, сказали, что хоть и случайно, но, в общем-то, вышло по справедливости. Так ему и надо… Вот и все… – она замолчала и повторила:
– Я видела их лица, понимаешь. Этих ребят. Он не должен был – жить…
Через пять минут она уже спала и улыбалась во сне…Счастью всегда что-нибудь мешает. Всегда…
…Через месяц моя «Ню» прошла конкурс, и я выставил ее в престижной галерее. Вскоре пришло предложение выставить ее на… У меня появились заказы, клиенты, деньги, не было только Ню. С тех пор как я оставил ее в моем-теткином доме, я не знал о ней ничего. А может – не хотел знать. Потому что – проще. Потому, что за счастье надо платить. Потому что – всегда…
«Ню» попутешествовав по разным галереям и залам, вернулась ко мне в мастерскую. Продавать ее я отказался. Но и смотреть на нее, видеть ее изо дня в день тоже – не мог. Лишь изредка снимал чехол, ставил ее к стене и раздвигал шторы……Письмо я получил в начале августа. Текста не было, только фотография – Ню и два маленьких свертка у нее на руках. Слева и справа. Голубые ленты – мальчики… На обороте надпись: «Яблочки Ню. 17 июня.»
Счастливые глаза.
…И я бросился в аэропорт…Птицы летают выше
И все-таки мы выбрали маяк. Или он – нас…
Как ни крути, а безвыходные ситуации встречаются в жизни чаще, чем мы бы того хотели.
По сути, вся жизнь наша – безвыходная ситуация.
Можно либо закрыть на это глаза и просто дышать и получать удовольствие от маленьких радостей – зимнего голубого неба, легкой и приятной работы, нехитрого секса, наваристых щей.
А можно… Можно выбрать маяк…
Да, в этом нет ничего нового – знаю. Знакомая философия.
Принц датский с его вечным вопросом.
Но вот… В какой-то момент времени эта самая философия вдруг становится твоей молитвой, твоей верой и смыслом жизни, и тогда неразрешимый вопрос предстает во всей своей силе, страсти и неизбежности.
И ты – выбираешь маяк. А может, он выбирает – тебя…Сколько маяков на земле?
А сколько на земле влюбленных? Сколько – любимых?
И кто может измерить счастье? Да и – как? В каких единицах?
Вот и мы не будем. Хотели про маяк?
Слушайте…– Берт…
– Да, милая…
– Скажи, что мне все это приснилось.
– Что – все?
– Все, что вокруг – то, что я всегда так любила в той, прошлой жизни. И лазурное море и белый маяк с красной крышей, и чайки, чайки – без конца. И эти две с половиной комнаты, которые – наши, только наши, Берт. Скажи, это все – сон?
– Может быть.
– Нет, пожалуй, наоборот, я уверена, что сон, это все, что было до…
– Знаешь, я заранее согласен со всем, что ты скажешь…
– Как, ты же такой неисправимый спорщик.
– Был. Был. Здесь все иное. Все по-другому…
– Нет. А наши чувства? Они – прежние.
– Потому-то у нас и получилось.
– Да, но…
– Что, Бэлла?
– Скажи, никому не больно?
– Что ты имеешь ввиду?
– Ну… Оттого, что нам так тепло – никому не больно?
– Не думаю… Нет, просто наша боль уже позади, уже – позади…
– Пожалуйста, не вспоминай об этом, ладно?
– Хорошо, милая, не буду. Больше не буду. Хотя…
– Что? О чем ты, Берт? Я же – вижу. Ну…
– Видишь ли… Если забыть боль, сможем ли мы сберечь наше тепло?
– Я… Я не знаю…
– Тогда – зачем забывать? Давай…
– Берт, неужели, ты и правда хочешь?..
– Да. С самого начала. И тогда наш рассказ будет называться – наша…Две с половиной комнаты счастья
Иногда цветы распускаются вовнутрь. Как люди.
Пройдешь – и не заметишь.
Растет себе…
1. Домик в лесу
Однажды им приснился домик в лесу. Обоим – сразу. Одновременно. И они поняли, что именно в нем проведут Рождество. Потому, что если обоим – сразу, значит, так тому и быть…
Роберт поселился там заранее, в начале осени, все приготовил для встречи и стал потихоньку обживать две с половиной комнаты счастья.
Правда, ближе к декабрю он тяжело заболел. Астма. Вечный недостаток воздуха. А воздухом для него последний год была – она.
Ему было так плохо, что он даже не знал, доживет ли до первого снега.
С детства он любил подходить утром к окну и видеть, что мир – изменился. Почему-то первый снег выпадал всегда ночью. Чаще всего он исчезал еще быстрее, чем появлялся, таял, превращался в грязь и лужи. Но первый взгляд в окно…
Потом детство ушло, а первый снег остался. До сих пор.
Какой же он наивный в свои… с лишним.У нее же, в городе, напротив – дела шли как нельзя лучше. Вот бывает так, что все удается без всяких твоих усилий. Дома – мир и покой, на работе – успех и улыбки, массажист личный, косметичка…
Она хорошо умела ловить такие моменты, потому что знала – ну сколько может длиться белая полоса – неделю, месяц, а потом… А уж за год счастья со своим очередным возлюбленным она столько судьбе задолжала – и подумать страшно…
А потому безоглядно плыла в этой полосе везения, не думая о плохом, которое всегда подстерегает, чтобы в самый неожиданный момент… Ну – и черт с ним…
Да и возлюбленный нынешний тоже был не чета всем прошлым. Вроде бы ничего особенного, но вот… Влюбилась, просто как девчонка, так влюбилась, что даже страшно стало. Правда не сразу. Только – когда поняла. Уже потом, когда ничего не…Но сначала про сам дом. Дом как дом – ничего особенного. Крепкий каменный фундамент, фасад – грубо обструганные, потемневшие от времени доски, двускатная крыша, круглое оконце на чердаке. Крыльцо с четырьмя деревянными ступеньками… Таких тысячи или десятки тысяч, или – сотни. Но стоило представить, что совсем скоро она окажется здесь с ним, как тогда – почти шесть лет назад, когда поселилась в нем самом. Просто вошла и – осталась… Потому, что ведь когда вот-вот – и вместе, это целая вечность, которая даже еще не началась…
Раньше он думал, что счастье – признание и читатели. Потом – умные книги, музыка и умение любоваться чистым листом бумаги. А еще позже, когда уже почти… совсем, появилась – она. Пять, нет, почти шесть лет назад. И у счастья появилось имя – Изабель.
С тех пор вокруг него кружится весь остальной мир, потому что если нет – зачем оно тогда вообще?
Он знает это точно, потому что когда-то, ужасно давно, до той жизни, в которую вошла – она, у него была его бывшая, с которой стало отчего-то – незачем жить. Незачем жить вместе, если вместе холодно. Даже летом. Вот Изабель – другое дело, с ней, наоборот, жарко, всегда – и зимой тоже. Поэтому и домик на зиму и в лесу. Камин, жар и запах смолы от поленьев, и снег за окном. Жарко.
И эта его ежеутренняя молитва:
– Погоди еще… Не одевайся, ну…Скорей бы выпал снег, что ли… Доживу до первого снега, дождусь ее – точно. Тогда – дождусь. Приедет, наконец, надышусь ею вволю…
…Кто может сказать, что такое – время? Понятно – годы, века, тысячелетия – то, что мы читаем или слышим… Картина неизвестного художника, написанная в… веке. А вот то, которое в каждом из нас – внутри… Со дня смерти отца или матери… До встречи с… Изабель… До той минуты, когда пора – и тебе… Почти вся жизнь прошла, промелькнула, как тень ласточки по залитой солнцем стене…
…А у меня сейчас оно капает, как мед с деревянной ложки… С таким и сахар не нужен, и кофе с утра можно покрепче… Вкусно…
Он смотрит в окно и ждет. Кто или что – раньше. Она – или первый снег…Почти шесть лет вместе – много или мало? И что это – вместе?
Она хотела, чтобы он книгу свою писал, а она – на скамеечке у ног его… Засыпать и пр осыпаться – рядом. И лохматую собаку с грустными глазами…
Еще она хотела маяк, но тут им приснился домик в лесу, а значит…
Конечно, многого не случилось, но есть же на свете и невозможное – тоже. Ну, не оправдываться же ему, в самом деле. Да и перед кем, перед самим собой? Смешно…
…А может, все произошло именно так совсем не случайно, а чтобы исполниться в будущей жизни. Потому что, если верить и знать – зачем, она обязательно настанет. А он – знает. И потом, случилось все остальное. Столько лет счастья – это невероятно, несбыточно много. У многих и многих и полчаса за всю жизнь не набежит……Пожалуй, что и книжки-то мои уже – тоже… Вот критик один недавно прошелся – динозавром литературным назвал. И то ладно – хоть имя вспомнил, и что на свете… нет, нет, есть пока, пока – есть… Впрочем, даже если позади не год, не пять, а даже пятьдесят лет счастья, умирать не хочется точно также, как и… Нет, не хочется. А почему? Что страшит? Неизвестность? Страх за покинутых близких? Боль, что твои страдания кончились, а их – еще впереди… Тьма и покой, забвение… Нет, глупости, на самом деле все намного проще: холода боюсь, вернее – отсутствия жара. Ее жара. Потому, что только он и есть – моя жизнь и смысл ее. Ее лицо на фото…
– Погоди еще… Не одевайся, ну…
…Она приехала к самому Рождеству.
Это стало как паломничество – каждый год, в один и тот же день и почти в один и тот же час… Дома давно уже смирились и не…
…Раз в год – на Рождество. Она подходит по заснеженной дорожке к дому, отпирает скрипучую дверь, не раздеваясь, разводит огонь в камине.
Дождавшись, когда займутся поленья и станет тепло, скидывает с себя пальто.
Усаживается в кресло перед камином, открывает принесенную с собой бутылку брюта.
Наполняет два помутневших от времени бокала…
Делает глоток…Потому что пять лет назад…
Он умер перед самым рассветом, так и не дождавшись. А утром повсюду уже лежал снег. Пришла зима – первая из тех, которые он уже…
Она нашла его в спальне.
В руке была телефонная трубка. На тумбочке у кровати – ее фотография.
Пять лет – это много. И каждый раз, каждый год, возвращаясь сюда, она по-прежнему – надеется.
В ту самую секунду – подхватить его последний вдох…
И – еще один, еще, еще, еще…Успеть…
– И все это, действительно – было?
– В общем, да…
– И все пять лет, с того страшного Рождества, когда я приезжала в пустой дом – к тебе – ты был рядом?
– Да, ты же знаешь. Но я не мог до тебя дотронуться. Не мог ничего. Ты была как сон, который видишь, но…
– И мы, в самом деле, смогли это пережить…
– Конечно. Ведь мы выбрали – маяк…
– Я думаю, как же нам ужасно повезло…
– Хм-м-м… Не уверен…
– То есть, почему не уверен?
– Просто мы с тобой это заслужили.
– Чем, Берт, чем?
– Наша нежность оказалась – нежнее, а сила – сильнее.
– Чем – что?
– Чем боль и страх перед ней…
– Ты – сила…
– А ты – нежность…
– Как по-твоему, мы справимся? Я знаю, мы здесь не просто так.
– Разумеется. Таки было – с самого начала.
– С чего же мы начнем сейчас?
– С самих себя, Бэлла. Начинать надо с себя – всегда.
– Я понимаю, да…
– Тогда… Как ты думаешь, по-моему, пора звать гостей.
– И я даже знаю – кого, да? Я угадала?
– Разве может быть иначе? Но сначала… Сначала, дай я тебя поцелую…
– А сколько раз? Хотелось бы…
– Ах ты, чайка моя… Один. Всего один раз. Но каким же он будет долгим…Так все и началось.
Поцелуй длиной в жизнь, то есть – в вечность. Потому что…
2. Самый обычный день– Ну, кажется все. Мы все-таки успели.
– А как быть с собакой?
– Ну как с ней быть? Ничего, она нам не помешает. Скорее – наоборот.
– Герда, иди сюда, девочка. Давай, давай, не ленись, ну…
Огромный сенбернар, словно нехотя, поднимается и подходит к Берту вплотную. Заглядывает в глаза.
– Умница, – он треплет ее по огромной, тяжелой голове. – Место.
Герде уже тринадцать, но у нее все еще отличные рефлексы. Незнакомых в доме она не любит.– А музыка, Берт?
– Я думаю, Мендельсон подойдет вполне. Ты согласна?
– Если скрипичный концерт, то да, конечно… А пить будем, разумеется…
– Брют. А что же еще. Наверное, можно разводить огонь…
– Да, они уже в дороге……– Скажи, как ты себе это представляешь? Как это произойдет? Ведь не каждый день выпадает встретиться с самими собой. Правда, ты всегда любила острые ощущения… Ты ужасно легкомысленное создание, тебе известно?
– Мммм… Ну… Надо же как-то уравновешивать такого обстоятельного тугодума, как ты. Иначе я умру от скуки, а ты от того, что – я… И не притворяйся, я знаю, что ты любишь во мне – и это тоже…
Это правда…
В каждом моем желании, в каждом слове, в каждой букве – такая, какая есть – она.
Тепло…
– Берт, иди сюда, пожалуйста. Скорей, ну…
– Что, моя золотая, я здесь.
– Поцелуй меня. Мы так давно не…
И я – целую ее. И она…
– А теперь скажи, что ты хочешь на завтрак?
– Я бы предпочла… Пожалуй, как всегда…
– Это мне подходит. Это мне ужасно подходит. Больше всего на свете…
И значит, снова останется недописанной глава нашей книги. Выкипит чайник. Настенные часы перестанут тикать – только бы не спугнуть. А любопытные, только что срезанные пионы – вот он, куст, у самого крыльца – встанут на цыпочки и вытянут вверх шеи – ах, ах, какая ледяная вода в этой вазе…
А ведь день даже еще не начался…Что может быть естественней нескольких человек, сидящих у огня.
Мы с Бэллой и двое незнакомцев. Женщина лет сорока, с маленькими, холеными руками, которыми она постоянно отбрасывает со лба прядь пепельных волос. На левом запястье – тонкий, замысловатый браслет и больше никаких украшений. У нее привычка покусывать губы, а может быть просто хочет, чтобы они выглядели поярче – она без помады…
Мужчина – старше, много старше. Твердый взгляд, упрямый подбородок. Выражение лица – словно пытается что-то вспомнить.
И оба неуловимо напоминают…
Я смотрю на Бэллу – вот мы и устроили это. Оказались лицом к лицу – сами с собой. Ведь в безвыходной ситуации только ты сам и можешь помочь себе. Потому, что выхода может не быть, но выбор есть почти всегда… Вот только, чтобы понять это, требуется слишком много времени – целая жизнь. Иногда – даже больше…
3. Невозможный разговор– Как вы добрались? Дорогу нашли легко?
– Да, спасибо. Вот только – снегопад…
– Простите?
– О, прошу прощения, я оговорилась. Дорога легкая, и мы очень любим именно это время года – самое начало осени. Такая красота кругом, и это место – просто чудо…
– Нам оно тоже нравится. А этот дом построил Берт – сразу, как только мы поженились.
– Давно? Я имею ввиду, вы давно женаты?
– На этот вопрос трудно ответить точно… Время и чувство – не одно и то же, и счет у них разный. И разве они, она указала на настенные часы с маятником, способны показать, сколько счастья позади? А уж – впереди…
– Ну, на такой вопрос и сам человек не в состоянии ответить – мужчина озабоченно посмотрел на спутницу. А та – взглянула на него в ответ и будто расцвела. Неуверенность и пепельная грусть исчезли, а глаза – бог ты мой – как могут глаза вместить столько…
– Как сказать… – Берт поправил поленья в камине и уселся напротив гостей. – Все зависит от того, с какой стороны на это посмотреть.
– Это все – философия, а в реальной жизни все проще и жестче – мужчина пожал плечами. – Куда как проще. Да что там, вы и сами знаете – так ведь?
– Допустим… Только что вы называете реальной жизнью?
– Обстоятельства – вот что это такое. – женщина произнесла это тихо и нерешительно. – Обстоятельства, которые невозможно ни обойти, ни изменить. То, что называют обстоятельствами непреодолимой силы…
– Вот-вот, уже ближе…
– Знаете – она наклонилась вперед…
– Нет, погодите. – Бэлла засмеялась и потянулась к бокалу, – Так нельзя. Мы, разумеется, знаем друг про друга – кто и что, но, все же, представиться друг другу и выпить просто необходимо. Вы ведь не возражаете?
Она обвела всех взглядом и сказала:
– Я – Бэлла, а это – Берт, мой муж.
– Очень приятно. А мы – Роберт и Изабель.
– Ну что же, тогда – за знакомство!Брют был отличный и в меру холодный. Уже стемнело. …Герда дремала, время от времени лениво приоткрывая глаза и тут же смеживая их снова. Кругом все свои. И откуда-то тихо доносилась скрипка…
– У вас очень хорошая, воспитанная собака – улыбнулась Изабель. – Но она, по-моему, уже немолода. Сколько ей?
– Это – Герда. Ей уже тринадцать…
– Ну, вот вам и реальная жизнь, и обстоятельства, – криво усмехнулся Роберт. – Раз уж мы говорим о счастье. Вот у вас – собака. Вы ее любите, это сразу видно, и ей с вами хорошо. Да и атмосфера тут у вас… – он пощелкал пальцами в воздухе, пытаясь подобрать слова – Тепло… Но ведь она уже старая, а значит, скоро должна умереть. И с этим ничего не поделаешь. И вам будет ее не хватать, будет больно. И все здесь без нее станет другим. Как можно с этим бороться? Вот вам и счастье…
– А зачем бороться? Мы никак не будем бороться, тем более с тем, что еще вообще не произошло. Мы любим ее – сейчас. Вернее, не так… Мы ее – именно сейчас – не забываем любить, вот и все. Понимаете, что я хочу сказать? В чем разница?
– Если не забывать про сейчас – дольше не наступит завтра…
– Как? Как вы сказали? – у женщины даже порозовели щеки.
– По-моему, вы хотите рассказать нам свою историю… Я думаю, уже пора – сказала Бэлла.
– Да, вы правы – Изабель снова посмотрела на своего спутника и продолжила:
– Хотя не думаю, что мы можем вас чем-то удивить. Мне почему-то кажется – с вами такое уже было…
– Мы знакомы уже почти целый год. Оба уже… не дети. А я к тому же замужем…
Берт поднялся, взял с каминной полки два пледа, протянул один жене, другой – Изабель.
– Спасибо, – она кивнула, – я в самом деле мерзну…
– Таквот… Мы встречаемся тайком, а главное, такое чувство, что время уходит, ну, словно… шагреневая кожа, его с каждой минутой все меньше и меньше. Роберт все время шутит, что нам придется только лишь поэтому встретиться и в будущей жизни – тоже. А я хочу собаку… – она заплакала. Роберт пододвинулся к ней, обнял, прижал к себе…
– А на эту зиму мы сняли домик, небольшой, всего две с половиной комнаты… В лесу… Мы так мечтали провести хотя бы две недели. Вместе… Вы думаете – получится?
– Конечно, обязательно. Только не расставайтесь. Ни при каких обстоятельствах – это единственное условие. Хорошо?
– Но… А как же все остальные, моя семья, мои…
– Это наша забота. Их мы берем на себя. Согласны?
Они посмотрели друг на друга и кивнули – разом.
– Значит, мы сможем думать только о сейчас и ни о чем не беспокоиться?
– Разумеется. Вот только – Герда…
– Что?
– Она ведь, на самом-то деле, еще совсем щенок. Вы сами увидите. Не ругайте ее слишком, ладно? А вот балуйте – и друг друга, и ее тоже. А мы…
Берт берет Бэллу за руку, и они идут к двери……Звезды на небе иногда превращаются в снег. Снежные хлопья падают вниз, на землю, оседают на ресницах, на губах, забираются за воротник. И никто, почти никто не догадывается, что это – звездопад…
Роберт сидит в кресле и смотрит на погасший камин, но вдруг начинает судорожно кашлять и задыхаться – очередной приступ астмы, только сильнее, чем обычно. Изабель подходит к нему и целует его в посиневшие губы. Кашель прекращается, он начинает дышать ровнее, приступ проходит… Роберт обнимает ее и шепчет:
– Ты – мое дыхание, ты моя жизнь…
– А ты – моя…
Они негромко смеются.
На полу, около их кресла, спит пушистый бело-коричневый щенок…
Вечность по-прежнему – даже еще не началась…
4. Птицы летают выше– Берт, погляди! Море сегодня розовое…
– Да, я вижу.
– Но ты ведь даже головы не поднял!
– Я вижу твоими глазами – это же так просто…
– А тогда скажи, на кого я смотрю?
– На меня – я так думаю…
– Но почему?..
– Ты же спросила – на кого. А кроме нас с тобой…
– Ну, хорошо, а на что я смотрю сейчас? Скажи…
– Тоже на меня.
– Ну, допустим… А как ты узнал?
– Не скажу…
– Но так нечестно! Я вот тебе рассказываю все…
– Так уж и все?
– Все до капельки.
– Хм… Ну и правильно.
– Так что?
– Это ты о чем?
– Как ты узнал, что я смотрела на тебя? Ну?
– Я прислушался к твоему дыханию.
– И – что с ним?
– Оно участилось. Правда совсем немного…
– Ах, вот как…
– Именно, ненаглядная моя. Именно так…– О чем ты пишешь?
– О нас, милая моя…
– О нас – было в прошлый раз.
– И в позапрошлый – я знаю…
– А ты почитаешь мне сегодня?
– Нет, сегодня – нет…
– Ты уже так давно не читал мне вслух.
– Это с тех пор, как я стал писать о нас.
– Почему? Неужели это так серьезно?
– Как оказалось – да. Даже слишком. Это будет лучшая моя книга……– Берт, я…
– Погоди, не одевайся. Я хочу поглядеть на тебя при этом свете…
– Но уже темно. Солнце давно зашло, свечи мы не зажигали…
– Этот свет – внутри. Не шевелись, дай мне запомнить тебя такой…
– Почему ты так говоришь? Ведь мы не расстаемся и не умираем. Мы же…
– Мы – да. Мы – не кончимся никогда. Но этот мир вокруг нас……– Сегодня твоя очередь зажигать маяк.
– Да, я знаю, уже иду.
– А можно я с тобой, как вчера?
– Конечно. Маяк – он ведь и твой и мой. Он наш. Мы можем зажигать его вместе каждый вечер.
– Но я боюсь высоты, а это так высоко.
– Не бойся – птицы летают выше.
– Но мы же не птицы…
– Нет, мы не птицы. Мы – птица. Одна на двоих. Мудрая птица с розовым пером.
– Почему – с розовым?
– Ты – мое розовое перо…
– Ага, вот, значит как? Значит мудрый из нас двоих – только ты?
– Увы. Мудрость тянет вниз. Но – благодаря розовому перу…
– Так вот почему старый маяк стал снова зажигаться каждый вечер…
– Верно. Даже старые маяки помолодели с тех пор, как мы – вместе……– Скажи, откуда мы взялись?
– Что ты имеешь ввиду?
– Я не помню – с чего все началось?
– Мне кажется, все началось с маяка.
– И мы с тобой?
– Наверное, да. Точно – да. Посмотри, море сегодня золотое.
– Оно такое всегда. Каждый день.
– Да. Но сегодня – особенный день.
– Почему?
– Потому, что вчера я закончил нашу книгу.
– Так чего же ты молчишь? Я хочу ее прочесть. Я так давно жду…
– Бэлла, я ее сжег…
– Но – зачем? Зачем?..
– Чтобы все начать заново. Все – сначала……– Погоди еще… Не одевайся, ну…
Зазеркалье
– Геля…
– Да, милый…
– Геля, как же я скучал по тебе… Я все время скучаю по тебе… Даже – сейчас…
– Я знаю. Я знаю. Иди ко мне, милый мой… Иди… Я же вся – для тебя… Иди…
… – Как ты улыбаешься…
– Это потому, что ты…
– Скажи, а почему ты такая… покорная? Никогда ни одна…
– Т-с-с-с… Я не хочу про них. Их нет, никого из них. Уже…
– Уже…
– Понимаешь, покорность – единственный путь для женщины, если она нашла своего мужчину… Путь к победе над ним… Покоряясь – я побеждаю тебя…
– Для чего? Я же и так…
– Глупый… Чтобы покориться еще больше, еще сильнее…
– И что тебе в этом?
– Счастье…
– Геля…
– Что?
– Я погибаю от нежности – к тебе…
1Я выбираю его в списке абонентов.
– Серега, слушай, дело на миллион…
– Ну…
– Поговорить надо… Не по телефону… Ты часа через два освободишься? Я как раз с китайцами закончу.
– Через два… Лучше через три, боюсь, не успею. А что такое? Случилось что?
– Да нет, нет. Ничего такого… Приду – расскажу. Пока…
Ничем не примечательный разговор, а помню его – как сейчас…Мы появились на свет с разницей в семь минут тридцать два года назад. Родители назвали нас самыми обычными именами – Андрей и Сергей. Довольно скоро мы превратились в Андрюху и Серегу, потом… потом… потом… Короче, в какой-то момент нас стали называть по имени и отчеству, у нас появились жены, а у меня и ребенок – дочка Натка. Правда Серега быстро развелся. Но это, в общем, неважно. Главное, что за все эти годы мы не стали менее похожи. Различить нас удавалось только маме, отцу – лишь иногда, все остальные не имели ни малейшего шанса это сделать. Мы были и остались похожи, как два бильярдных шара одного цвета. В этом-то все и дело…
Серегин кабинет, Серегино лицо – как будто я сам в его кресле, за его столом. У сотрудников наших это тоже проблема – кто в данный момент на месте – он или я, босс или его зам. И вообще – кто есть кто? Смешно…
– Тут… В общем, мне помощь твоя нужна, понимаешь. На предмет нам с тобой – махнуться…
– Опять? Ну, а что сейчас? Или снова хочешь, чтобы я за тебя контрольную по математике написал?
– Брось. Можно подумать, что я не писал твои сочинения. Я серьезно. Слушай, давай по коньячку малек, а? У тебя еще французский остался? – я подхожу к бару, открываю и вытаскиваю бутылку и две коньячные рюмки. Наливаю.
– Ну, будем…
– Будем…
– Рассказывай, – Серега отламывает от плитки шоколада кусочек и пододвигает ее мне.
– Сам догадаешься… Ты мужик? Мужик. И я – мужик. Дальше объяснять?
– Детали. Суть я уже понял, не первый день на свете живу и брата-близнеца имею…
– У Натки через неделю день рождения, пять лет исполняется. А они с Иркой сейчас – как тебе известно – на море. Отдыхают…
– И – что? Я примерно помню…
– Я обещал прилететь к ним, вот в чем дело. А полетишь – ты…
– А-а-а-а… Ну, на этот раз ты, в самом деле – даешь… А что случилось-то? Сказать можешь?
– Только тебе и могу. Кому ж еще… Я, видишь ли, в последнее время с одной дамой, в смысле, с женщиной одной, в… довольно близких отношениях состою. Замутил я, понимаешь, по-серьезному, она – улет, такой у меня, может, еще не было… Никогда… А может – и не будет больше… Иногда даже мысли дурацкие в голову лезут… Ну, это – ладно. А вот дни рождения у них с Наткой в один день – представь! У меня уже и подарок для каждой припасен… Но не могу же я быть одновременно и тут и там… Слетай, а? На пару-тройку дней… Всех дел-то, паспортами поменяться… А потом сразу обратно.
Серега молча наливает еще по одной. Выпиваем…– Однако, крепко тебя зацепило… Советов давать не буду, да ты и не просил, но, надеюсь, сам понимаешь, что главное, а что – замутил… – он качает головой и смотрит в окно.
– И потом… Есть один нюанс…
– Какой?
– Ты говоришь – два-три дня, да?
– Ну, да… А что?
– А то! Мне с твоей женой спать придется. Как с этим? Абстрагироваться или как?
Оба молчим…
Понимаешь, – говорю я, – это, в общем-то, и не такой уж нюанс. Мое серое вещество еще пока фурычит. Я же знаю, что и ты не схимником на белом свете живешь… Я же тебя знаю, мы же – близнецы. Думаешь я не вижу, как ты временами на Ирку мою поглядываешь? Да не поглядываешь, а смотришь так, что иной муж на тебя бы с кулаками полез, как пить дать… За один только взгляд такой. А думаешь, она этих твоих взглядов не видит? Видит, не обольщайся. Сама мне не раз говорила. Женщины к таким вещам чувствительны особо, ты и сам знаешь, не вчера родился и не сегодня невинность потерял. Нюанс – в другом. У нас с ней… не очень, одним словом… Не знаю… То ли темперамент разный, то ли что… Раньше вроде все тип-топ было, а сейчас… Раз в неделю и – спасибо… Да дело не только в этом. Я же говорю, мне мысли дурацкие в голову лезут. Не просто так это… Слушай, давай по еще – и все, а?…– Хороший коньяк, да? Ну вот… Я тебе что хочу сказать… Знаю, что поймешь меня правильно, потому, что я – это ты, а ты – это я. Короче. Ты… Если ты с ней трахнешься, короче, я на стенку не полезу и не застрелюсь, что мой родной брат-близнец… Понял? На здоровье – и ей и тебе. От меня не убудет. Можешь ничего не говорить, я и так – по глазам вижу… Побежал я, Серега… Уже на двадцать минут опоздал. Пока… В конце дня позвоню, расскажу, что там, за великой китайской стеной…
…Мой первый шаг – в Зазеркалье…
2Все-таки он забыл сказать мне, с какой стороны спит… Я увидел, конечно, разные дамские штучки на тумбочке слева, но все же… Н-да…
…Я принимал душ, а она вошла в ванную комнату и были на ней только… Слава богу, хоть спит в ночной сорочке… Это Андрей мне рассказал. Ну, и не только это…
…А Натка бросилась мне на шею и сидела на руках, не слезая, до самого обеда… Я привез ей зайца, белого, пушистого зайца с кнопкой на спине. Нажмешь – ушами двигает, снова нажмешь – моргает… Я привез…Врать не буду. Я хотел это сделать и – сделал. Хотел ее – жену моего родного брата и – получил. Потому что – нам не дано предугадать… И когда ее губы… Ее бедра…
…А Ирка лежала на правом боку и смотрела – на меня?
– Ты сегодня странный и ужасно возбуждающий… И – чудесный… Уже очень давно такого… Вот как будто – в первый раз. Второй раз – в первый раз, понимаешь? Сама себе не верю… Я-то думала, уже… Господи, сладко-то как… И ты сладкий… Даже привкус у тебя какой-то… Знаешь, что? Хочу тебя – еще… Тебя – еще… Хочу……Три дня мы не вылезали из постели. Даже когда завтракали, обедали или ужинали. Когда ходили на пляж. Когда я сажал на плечи Натку, и мы шли вместе куда глаза глядят… Все время.
На вторую ночь я проснулся и, открыв глаза, увидел, как она, сидя на кровати, раскачивается взад и вперед и шепчет – тихо-тихо:
– Господи, что же делать-то, а? Что же делать…
На третий день я уехал…
3Его такси столкнулось с фурой. Пьяный водитель, горная дорога. Пропасть – сто двенадцать метров. Но убил его – я…
Не помню почти ничего. Ни опознания, никаквез его домой – ничего…
В глазах – туман, уши – как ватой… только последним, крохотным краешком сознания долблю в себя одно и то же слово – молчи, молчи, молчи… Потому что на табличке, которую сейчас воткнут в землю над его могилой, написано мое имя – Андрей… Потому что у матери – инфаркт. Мало мне Сереги, еще и ее? Близнецы… Хорошо хоть, отцу повезло – не дожил……Стою и смотрю, как мои жена и дочь хоронят – меня…
– Да упокоится душа раба божьего…
– Да будет ему земля пухом…
Комья земли о крышку гроба…
Двойные похороны. И никто не знает, что я хороню сразу двоих – себя-его и себя-себя. Сразу…
Никто. Кроме нее – Гели… Вон она – через две могилы от нас…
В черном……Такая горячая, гладкая и нежная. Такая близкая. Такая – моя… В этом все дело. Моя…
Обычно ведь – как? Даже если и случилось, повезло – встретились, нашли друг другая – вместе… Это – моя женщина, это – мой мужчина. У нас не так. Не так. Я знаю и говорю – моя женщина. И она – Геля – тоже… Не – мой мужчина, а – твоя женщина… Вот такая связка. Ты – моя женщина, я – твоя женщина… Принадлежать – самый большой талант на свете. Потому что – полная беззащитность. Абсолютная. И – нет защиты надежней.
Принадлежать.
Довериться.
Единственному мужчине – до конца, которого нет…
Быть – вещью его…
Ах, какие могут быть у женщины счастливые глаза…Никогда не думал, что Ирка…
У нее просто вдруг – подкосились ноги, и она упала, потянув за собой Натку. Потом, когда ее подняли, тихо-тихо, как молча – завыла…
Знать бы – по кому.
…Мы оставили его здесь и ушли…
И Геля – вот она – в черном. Как дыханьем……Я пытался. Правда – пытался. Жить, как жил раньше, до того, как оказался по ту сторону зеркала – в Зазеркалье. И увидел оттуда не свое отражение, а – себя. Его глазами. Иркиными. Да-да, и ее. Потому, что и она – знает. И за все сорок дней не сказала мне ни слова, даже глаза на меня не подняла. Натке лучше не знать вообще… И мама – тоже. Уже – девятины… Никого не осталось. И меня – тоже… Вот он – этот поворот…
– Геля… Геля-Геля-Геля… Ге-е-еля-я-я!!!….
…– Что, Андрюшенька? Что? Сон плохой? Я здесь… Слышишь? Я с тобой… Все хорошо, успокойся… Это только сон. Только – сон… – Нет, Геля, нет… Это не сон… Просто я только что – умер… Снова…
…Мы расстались с ней через год. Ни одна вещь не может служить вечно. Хотя бы потому, что тот, кому она принадлежит, не вечен – тоже… Дорога в Зазеркалье для нее – закрыта. Дорога оттуда – закрыта для меня… Вещь может быть платой, но не может платить сама. Она может только – принадлежать…
Этюд для троих с плюсом
…Солнце прямо в окно. Слепит. Лето. На подоконнике воробей крыльями мельтешит. Звонок в дверь. Открываю. Три человека в военной форме, офицеры. Двоих я знаю – Володины сослуживцы. У всех троих глаза – в пол. Снимают фуражки, поднимают на меня глаза. И я мотаю головой и кричу, кричу, кричу…
…Лоб мокрый, в горле – судорога, хорошо, хоть не ору, господи… Сколько же можно… Достал он меня уже, сон этот дурацкий, сил нет. Вот он, Володя, спит себе на правом боку, он всегда на правом боку засыпает – лицом ко мне. Я же точно знаю, что такого просто не может быть. Не может – и все. С Володей – никогда. У меня – интуиция звериная, я любую беду заранее чую, а тут… Перевожу дыхание, поворачиваюсь на другой бок – спать, спать, спать…
1. Ната
Ну вот, хотя бы – так…
– Нам надо поговорить…
И он поднимает глаза от книги и смотрит на меня, и морщит нос. И – молчит.
Я люблю его, он все еще часть меня. Я произношу:
– Нам надо расстаться, Володя. Я ухожу…
И ничего не происходит, небеса не разверзлись.
Мой муж смотрит на меня долго, очень долго, так долго, что я начинаю дрожать и кусать губы, и – плачу, плачу, плачу……А Сережа сказал как-то:
– У тебя такое тело… Небесное. Ты – мое небесное тело…
Я верю. Ведь он, Сережа, знает про небо – все. Он же летчик, как и мой муж. О небесных телах они тоже знают – оба. О моем-то – уж точно. Хотя…
Два друга, два летчика. И небо. И женщина, а как же иначе. Господи, что же еще нужно для истории со счастливым концом?– Ты слышал, что я сказала?
Он опускает глаза и после паузы говорит – очень спокойно:
– Да…
– И что теперь? Что ты…
– Что я собираюсь делать?
Я киваю.
– Ничего, уйду, вот и все. Ты – останешься. Только дай мне… немного времени, мне надо привыкнуть. Всего несколько минут…
– К этому можно привыкнуть?
Он пожимает плечами.
– Не знаю, я постараюсь. Я буду очень стараться – чтобы быстрее шло время.
– А… куда торопиться?
– Просто жить… Жить – без тебя. Это должно быть очень долго, вот поэтому.
– А что будет со мной?
Он снова поднимает на меня глаза и тут же опускает их снова.
– Уже – не знаю. Теперь… Но он – отличный парень и вы… У вас…
– Так ты все знал?
– Нет, не все. Я имею ввиду – про вас.
– А что же еще?
– Еще – про нас…
– Про нас – что?
– Ну, как тебе объяснить… Хрупко все было – очень. Слишком хорошо. Слишком хорошо, чтобы быть правдой.
– Но ведь – десять лет! Десять лет, Володя…
Он кивает.
– Вот я и говорю – целых десять лет. Хорошо. Слишком. Не надо, зачем ты плачешь, не надо…
– Я хочу тебе объяснить…
– Что объяснить? Да и – к чему? Ах ты, Натка… Не надо ничего объяснять. Мне – во всяком случае. Хотя… знаешь… Только одно – скажи, ты меня еще любишь? Хоть немного?
– Да…
– Тогда тебе будет тяжело.
– Мне уже тяжело…
– Но ты – счастлива?
– Ужасно. Безумно. Так не бывает, но – да.
– Вот я и говорю – тяжело. А уж если так, что и не бывает, то…
Он упал. Сморщил лицо и осел как-то вдруг и – набок. И умер. Я это сразу поняла. И когда приехала «скорая», я им…
Потом я не помню.
…Когда я вспомнила про Сережу, то оказалось, что и он – тоже умер. Для меня – умер…
Дальше – про это не надо рассказывать, про это и думать не надо.
Нет, не годится… Нельзя так. Так – нельзя……Господи, что же делать, а? Ну, кто бы мог подумать, предположить, представить такое… Как же мне теперь с ними, с обоими… И все равно, если вот сначала, если бы можно было – сначала… С первой минуты, просто счастьем по глазам. Счастьем – по – глазам… 2. Годом раньше
– Натуль, а этот сыр тебе – как?
– Да, хороший сыр, хороший, и оливки к месту. Ты все правильно купил.
– А ты что, холодец делаешь? Здорово, мы его с горчинкой, с хреном… Пойдет под это дело. А потом еще горячее. Ну, прям…
– Слушай, а Серега твой, он что, любитель «ну прям»? Или как ты – разговоры одни?
– Ну, как тебе сказать… Ты ведь не просто Натка – моя жена. Ты – жена летчика! А летчик, это такой человек… Летает он, понимаешь? Потому, что без этого – не может. Серега такой, и я такой. Мы с ним оба-два. Похожи мы, друзья мы с ним с самого первого вылета, с училища, почти с детства.
– Ага. Ну, тогда я спокойна…
– Ах ты, Натка, даже помечтать не даешь, крылья подрезаешь…
– Тебе подрежешь, как же…
Он вдруг подходит ко мне сзади и застывает. Не касаясь меня, близко-близко. Так, что я чувствую его дыхание на своих волосах.
– Ты знаешь… Ты единственная, кто может подрезать мне крылья. Вообще, единственный человек на свете, кто может это сделать… Ты – моя женщина, моя Ната… Понимаешь? Я сам себе до сих пор не верю. Что ты – и рядом. Что можно до тебя – рукой… Вот так… И – так… Иногда просыпаюсь ночью, слышу твое дыхание и…
И я оказываюсь к кольце из его рук, а он оказывается – везде. И сразу – тепло…
– Володя……– Мы с ним после окончания и виделись-то всего ничего. Его – на север, меня – сама знаешь. Потом – академия…
Он летчик от бога, а что с женой его такое случится… Кто же мог знать, правда? Молодая женщина и такое…
– У него двое мальчишек, да? Я правильно помню?
– Семь и шесть, погодки… Как он с ними один – не представляю. Ты, если что… Ну, ты понимаешь, все-таки женщина, а? Ладно? Три года мужик один с детьми. А когда Лена, жена его, умерла, они же вообще маленькие были. Совсем.
– Надо им подарки купить, мальчишкам, да, Володь? К приезду. И – не беспокойся, я помогу, конечно, как же иначе, как же может быть иначе…У нас с Володей нет детей. И не будет. Так случилось. Вернее – не случилось. Нашли у него какую-то редкую проблему, сказали, шансов – ноль. Летать на сверхзвуковых может, а детей иметь – нет. Сказали, ничего страшного, усыновить можно или от донора. Бывает… А я не хочу от донора, от чужого, от… Я хочу – от него, от моего мужа, моего Володи. Десять лет уже хочу. И ни от кого – кроме. Потому что, когда женщина любит…
Он оказался совсем не таким, как я представляла. Тихий, вежливый, хмурится часто. Дети ухоженные, чистенькие, неразбалованные. На отца смотрят, как на бога. Мы почти и не разговаривали с ним, они с Володей и правда оказались не разлей вода. А мы с мальчиками ушли, я им книжку читала, а потом они мне про самолеты рассказывали…
А назавтра он мне позвонил, я ему сама накануне предложила – если что… Не помню, то ли про прачечную спрашивал, то ли про магазины… Ну и благодарил, конечно. За встречу, за угощение, за мальчишек. И мы проговорили почти полтора часа. А через два дня мы начали встречаться…
Это было сумасшествие – с первого взгляда, с первой минуты. Я же говорю, счастьем – по глазам. Судьба…
…Вчера он сказал мне, что подал рапорт о переводе, что не может больше смотреть Володе в глаза. И мне придется – выбирать…
Целый год я пыталась и не могла это сделать, и вдруг это оказалось совсем просто – до смешного. Я спросила себя, могу ли я представить себе жизнь без Володи, и – смогла. С трудом, с болью, но – смогла. А вот – без Сережи… Меня словно не стало, кончилась я. И я поняла, что выбрала… То есть, что на самом деле выбора нет, а есть – судьба. Видите, как просто……И я снова сажусь напротив своего мужа и произношу эти самые слова: 3. Снова – Ната
– Нам надо поговорить…
И он поднимает глаза от книги и смотрит на меня, и морщит нос. И – молчит.
Я люблю его, он все еще часть меня, вот оно как…
Я могу уйти, но не могу, не могу, не могу сказать, что – ухожу…
– Давай… А что так официально?
– Да нет, просто хотела… Ресторан вчера был замечательный, и музыка живая, даже разговаривать можно было. Правда?
– Да… И – что?
– Ничего. Просто – говорю… Откуда ты про него узнал, мы там никогда раньше не были.
– Серега сказал… Они там с мужиками что-то отмечали недавно. Как-то ты… Случилось что-нибудь?
– Ничего, правда ничего.
На самом деле – ничего. Ничего не произойдет и ничего не случится – небеса не разверзнутся, и гром не грянет.
– Знаешь что… Иди ко мне. Ну, иди… Скучаю я по тебе, очень. Особенно в последнее время. Не знаешь, почему? Скажи… Натка…
Он протягивает ко мне руки, берет в них мое лицо…
– Володя, ну… Ну мне же уезжать надо, ты забыл? Ну, миленький…
Его губы и его лицо, и его глаза – рядом, близко, совсем-совсем близко. Ах, этот бесконечный сантиметр пространства между нами…
– Как? Куда уезжать? Когда?
– Уже сейчас. Я же тебе говорила, еще утром, ты забыл, ты просто – забыл… К Вере, она с ребенком просила посидеть, у нее сегодня дела какие-то вечером. Ну, вспомнил?
– Да, вспомнил… Что-то такое… Только не люблю я, когда ты на ночь глядя, одна и за рулем. И асфальт мокрый, ну… Давай, я тебя отвезу, а потом за тобой заеду, и все будет тип-топ. Давай? Иначе я волноваться буду.
– Вот и хорошо, и волнуйся, ты и должен за меня волноваться, кто же, если не ты… – я бормочу все эти слова, стараясь не глядеть ему в глаза и судорожно пытаясь вспомнить, куда же засунула сумочку – совсем голову потеряла, ну совсем, что же делать-то, ну что, скажите… Господи, скорее бы выйти, уйти, нету сил уже, нет, что мне – разорваться, я же живая, господи, господи боже мой… краешком глаза вижу его застывшую фигуру, опущенные руки, только не смотреть в глаза, вот плащ на вешалке, помоги пожалуйста, главное – повернуться к нему спиной, спиной, спиной, уйти, закрыть дверь, не видеть, не чувствовать глаз его, рук его, молчания его… Ага, вот сумка, под плащом, хватай же, ну, ключи – вот, теперь глаза – в пол, прижаться щекой… всего полсекунды, только бы не обнял, не задержал, не… Дверь… не могу, руки трясутся, как у припадочной… Открыть, захлопнуть и бегом вниз по лестнице, черт с ним, с лифтом, боже мой, неужели – вырвалась…
…Фонари мелькают слева и справа, это что же я, уже еду? Куда еду-то, господи… Вот если бы у нас с Володей были дети… Дети удержали бы, точно. А – так… Я не могу сегодня вернуться, не могу… Не могу… с ним. Только не сегодня. Я не хочу, не хочу, не хочу……Врать можно бесконечно, пока не перейдешь черту. Я свою – уже… Куда же я еду-то? Куда я могу поехать? Знаю только, куда не могу. Что я там Володе сказала, наговорила – что? У него ведь завтра полеты… И у Сережи. А – вдруг… И сон этот… Нет, не может быть, надо вернуться, иначе… Господи, да что же он так фарами, не видно же ничего… Ой, мама! Мамочка-а-а-а! Не-е-е-т!!!… 4. Снова – Ната. (Продолжение)
– Сергей, приехать можешь? Прямо сейчас, немедленно, можешь?
– Володь, ты? А в чем дело-то? Случилось что-то, или…
– Она разбилась. Ната – разбилась…
– Ты… Ты что… Жива?
– В реанимации. Ее час назад привезли, позвонили мне. Короче – приезжай. Если, конечно…
– Ты в своем уме? Какие если? Еду, уже еду……Очнулся от того, что Сергей трясет меня за плечо.
– Ну, как она? Что? Что врачи говорят? Ты говорить можешь?
– Могу… – я смотрю на него. Быстро, очень быстро доехал, торопился… – Операция идет, пока не знаю, никто не выходил. Позвоночник у нее… поврежден… Вот – жду, что будет.
– Как это случилось, известно?
– Знаю только, что машину занесло, асфальт мокрый, руки женские, ехала быстро… В общем, машину нашли колесами вверх и… Пока ее вытащили…
…Время тянется не торопясь, капая, как мед с деревянной ложки – минута за минутой. Сидим молча, час, два…
…Перед глазами – она, раздетая донага, на холодном операционном столе, волосы убраны под марлевую шапочку, во рту резиновая трубка, наркоз или кислород – не знаю. Точно как в кино. Жуткая картина – вижу, как режут ее голое, беззащитное и бесчувственное тело. У нее под правой лопаткой – родинка… Эх, надо было сказать, чтобы осторожнее… Только бы – не больно. Ей нельзя – больно, она же маленькая такая, слабая, нежная……– Женщина после автомобильной аварии… Родственники, кто-нибудь – есть?
– Есть, есть! – Вскакиваю, бросаюсь к вошедшему. Халат и шапочка не белые, зеленые, значит из операционной, хирург.
– Я родственник! Муж я… Как она, скажите… Как?
– Она жива, состояние пока тяжелое. Операция, в принципе, прошла удачно, но у нее большая кровопотеря, раздроблено несколько позвонков, перелом ключицы… По поводу двигательных функций – прогноз неясен, ну, вы и сами понимаете – позвоночник… Если все пойдет без осложнений, через несколько дней переведем в отделение, но об этом пока – рано…
– Она в сознании, доктор? Увидеть ее можно?
– Да, она проснулась. Увидеть можно, но только увидеть, не разговаривать, ничего. И только один человек. Буквально две-три минуты, не больше……Он входит в палату и я вижу его тревожные глаза и враз почерневшее лицо. И я…
Нет, не годится, снова не годится, господи… Что же делатъ-то? Что?
А может… Это же… Господибожемой…
5. Назавтра. Сергей– Ты? – я делаю шаг в сторону и даю ей войти.
Натка – она Натка и есть. Джинсы в обтяжку, маечка, челка. Женщина-девочка, женщина-весна, женщина-май… И вся, до кончиков ногтей – моя. Как просто все могло бы быть. Но просто – не бывает никогда. Потому, что просто – это счастье. Но оно – одно, а нужно – всем. И Натке и Володе, и – мне. А на всех – не хватает, а Володька – мой лучший друг, а она – его жена. Вот уже год, она и моя жена – тоже. Именно жена, не любовница, не любимая женщина – жена…
– Я. А ты думал – кто? Вот так просто…
– Если бы – просто… Проходи, ты же не в гости пришла, входи, ну… Что в дверях стоять…
– Не ждал ты меня, да?
– Я всегда тебя жду, и ты это знаешь… Дело совсем не в этом, и это ты тоже знаешь. Просто – тупик. Тупик под названием – жизнь…
Она была здесь восемь раз. То есть, мы с ней за год – всего восемь раз-то и… То, что вы может быть подумали – это не про нас. Занимались любовью – тем более. Потому, что… Ну как можно любовью – заниматься? Это она нами занимается, сначала милует нас, голубит, а потом – душу высасывает. И чувствуешь ты себя – подопытным кроликом. Уж если попался по-настоящему, без дураков – пиши пропало. Назад пути нет…
– А почему ты дома? Я думала… У меня же есть ключи…
– Ночные полеты были. Отдыхаю…
– Мальчишки в школе?
– В школе, где им быть… Давай хоть чаю сделаю, что ли… Не могу я с тобой вот просто так, не могу и все…
– Я сделаю, сиди. Сам же говоришь – не в гости…
…Голос из кухни:
– Ты какой хочешь, зеленый? Как всегда?
– Давай зеленый…
Она двигается привычно, знает, где и что, даже не глядя. Она – дома…
– Слушай…
Ната замирает. Руки, тело, по-моему, даже не дышит.
– Слушай…
Ее искусанные губы, ее морщинки, биенье жилки на шее…
– Слушай…
…Я и спал-то всего минут пятнадцать. А когда проснулся, ее уже…
6. Год спустя– Ната, ты где?
– Я здесь, Володя, в ванной. Мы – в ванной, нам по времени уже пора…
– Как тут у вас дела? Вовка – как?
– Да нормально все, все хорошо. Растем, кушаем хорошо, настроение у нас хорошее. А ты?
– И я, а как же иначе. Я вот только ненадолго, командировка у меня, понимаешь? На неделю примерно. Будем с другого аэродрома летать. Сегодня туда транспортный борт отправляют и нас с ним. Приказ… Я по-быстрому чемодан соберу и побегу – времени в обрез. Прилечу – позвоню.
– А что так неожиданно? – я выглядываю из ванной комнаты и вижу только его спину, он что-то достает из шкафа, командировочный чемодан уже открыт.
– Так мы люди подневольные, куда пошлют, там и будем родину защищать. И ни шагу назад. Ну вот и все… У нас это быстро. Натуль, побежал я, не провожай. Время пролетит и не заметишь… К Вовке не хочу с улицы… Пока!…Сережа приехал назавтра. Просто позвонил в дверь, я открыла и увидела. И он – вошел. И единственное, что я смогла – упасть ему в руки…
– Где он?
– Улетел…
– Да нет, не Володя. Вовка где – сын?
– Ты… Как ты… Откуда ты знаешь? Откуда ты можешь знать?
– Натка, милая, потом, все – потом. Ты мне сына покажи, ну…
…Потом мы сидели, и он не сводил с нас глаз. Долго. И говорил. Как позвонил Володя и рассказал… И я – заплакала, потому что была уверена, что он, Володя, не знает ничего, а оказывается… Мне стало страшно, а потом так хорошо… Мы поужинали, и я уложила Вовку спать, и Сережа был рядом, и……Утро. Солнце прямо в окно. Слепит. Лето. На подоконнике воробей крыльями мельтешит. Звонок в дверь. Открываю. Три человека в военной форме, офицеры. Двоих я знаю – Володины сослуживцы. У всех троих глаза – в пол. Снимают фуражки, поднимают на меня глаза. И я мотаю головой и кричу, кричу, кричу…
Париж – на ощупь
Вид с Монмартра обескураживает.
Будто ты птица, а летать забыла.
Стоишь на горе – вниз уходят голые деревья, солнце путается в их обмороженных кронах, стреляет в тебя солнечными зайцами из окон веселых домов, расставленных кое-как и случайно.
И – слава богу, совершенно нет ощущения старины, а только шумная, здоровая молодость и краски, краски, краски…
Будто все художники мира встретились и смешали свои палитры.
Совсем как мы с тобой.
То, что путешествие это неизбежно, стало ясно в самом начале нашего знакомства.
– Вы любите Париж? – спросил ты меня.
– Безумно, – ответила я не задумываясь, еще не обернувшись, еще не понимая, с кем говорю.
А когда обернулась и – поняла…
Первый раз я оказалась в Париже лет десять назад, мы тогда еще и знакомы не были. Всего четыре дня, но…
Не вернуться в Париж было невозможно, а возвращаться стоило только с тобой.
И мы – вернулись. Голодные, истосковавшиеся по ласке, бездомные влюбленные. И было нам… Нет, не хорошо.
Счастье…
Иногда я боюсь силы своего чувства. Нашего чувства. Потому, что оно одно на двоих. Потому, что безответная любовь никогда не сравнится по своей силе с любовью взаимной, когда бьет током ежесекундно.
Бесконечное короткое замыкание…
1
– Вы любите Париж?
– Безумно.
– А я вот, знаете – нет. То есть не то, что не люблю… Не знаю его. А ведь невозможно любить то, чего не знаешь, правда? Как вы думаете?
Он смотрел на меня в упор и вроде даже сердился.
– Способны ли вы полюбить что-то или кого-то, не имея о нем представления?
– Пожалуй, нет, – и мне вдруг стало ужасно весело.
– Ничего смешного я не сказал… Но улыбаетесь вы… Я вас приглашаю на чашку кофе и обязательно с пирожным, и не рассказывайте мне про фигуру – вашу я оценил. Одно пирожное вам не повредит.
Я молчала и глядела на него. И – ждала продолжения. Не хотелось ничего, даже кофе с пирожным.
Только стоять вот так, глупо улыбаться и слушать, слушать, слушать…
Это и было короткое замыкание.
Не дождавшись моего ответа, он просто взял меня за руку и повел вниз – в буфет.
Мы сели за самый дальний столик, и он снял очки, подышал на них, протер носовым платком, на удивление шелковым и цветным, просто вытащил его, как фокусник из нагрудного кармана, а потом спрятал – будто и не было ничего.
Затем снова водрузил свои очки на переносицу – это позже я узнала, что без них он почти ничего не видит – и принялся разглядывать меня в упор.
Я изучала его руки и молчала.
Мне всегда было интересно рассматривать не только предметы искусства, а и то – чем они сделаны. Чем сделаны шедевры, понимаете? Разве это не удивительно – небольшая ладонь, длинные пальцы, темные волосы… Эта рука, при помощи нехитрых, повторяющихся движений, создала нечто, чему суждено пережить и ее, и ее обладателя – надолго. Истлеет кожа, кости рассыплются и превратятся в прах, а полотно, с вроде бы небрежными, грубыми пятнами красок, нанесенными неумелыми мазками, или бурый обломок гранита странной формы – со временем, как дорогое вино – только поднимутся в цене.
– Вы левша? – спросила я.
– Да. А как вы узнали?
– Ваша левая рука… Она будто живет сама по себе.
– Вот как… А что еще вы можете обо мне сказать?
– Вы ужасный зануда. Самоуверены, но не с женщинами. Живете один, но не одиноки. Обычный набор гения.
– А почему вы решили, что я гений?
– Я… Просто увидела ваши работы.
– Вы кто?
– Я? Счастливая женщина…
– Счастливые не кричат на каждом шагу, что они счастливы.
– Я и не кричу. Я сказала только вам и по секрету.
– Зачем?
– Мне вдруг стало страшно.
– Из-за меня?
– Может быть. Мне показалось…
– Что? Говорите.
– Что я не так уж и счастлива, на самом деле… Знаете, человек доволен уловом до тех пор, пока не увидел, какую рыбу вытащил из воды его сосед.
– И как ваш последний улов?
– Я… Мне… Это вопрос слишком в лоб. А мы все еще держим дистанцию.
– Вы так думаете?
– Мне так кажется.
– А если я вас поцелую?
– Вы лишь узнаете мой вкус.
– Для художника это немало.
– Иногда единожды попробовать – значит пристраститься.
– А вы любите… пробовать?
– Очень. Но об этом нам тоже рано говорить.
– А нельзя ли презреть условности и сразу же перейти к делу?
– К чему торопиться? Прелюдия – это праздник.
– Так говорят женщины, не знавшие настоящего счастья. А вы сказали, что счастливы…
– Вот как? Еще немного – и я начну вам верить.
– У вас просто нет другого выхода.
– Это я уже поняла.
– И?
– Мне немного странно. Непривычно. Но чрезвычайно интересно…
– Для начала – совсем недурно.
И он, наконец, соизволил отвести глаза от моего тела и сделать заказ.…Мы пьем обжигающий, крепкий черный кофе и… Вот что, давайте, я вам его опишу.
Средних лет, примерно до сорока пяти, (потом я узнала, что ему сорок восемь). Невысокий, подвижный, живой. Нависшие брови, упрямые скулы, бритый череп почти идеальной формы. Глаза за стеклами очков – глубокие, зеленые, с ухмылкой. Мальчишка, сильный, уверенный в себе мальчишка.
В общем – совершенно не мой тип. Ничего аристократического, богемного. Ничего рокового. Держится нахально – талант.Совершенно тривиальное задание редакции – обзорная статья о выставке и интервью с автором. И вдруг…
– Ну и что там – про Париж?
– Париж? Его… можно описывать словами всю жизнь, но лучше приехать и потрогать самому.
– Потрогать… Почему вы сказали – потрогать, а не посмотреть?
– Но вы же – скульптор…
– И?
– Для вас главным должно быть осязание, прикосновение. Мир – на ощупь. Я ошибаюсь?
– Не задавайте вопросов, продолжайте…
– Понимаете, в ваших работах чувствуется жизнь. Они – теплые. Не камень, не металл, не глина – мир, такой, какой он есть, но и такой, каким его видите – вы.
– А – вы?
– Та скульптура, около которой вы меня…
– Мебиус?
– Да, кольцо Мебиуса. Она ведь страшная, эта скульптура. Полная безысходность, правда? Замкнутый мир, из которого не…
– Не совсем, выход там все-таки – есть. Ведь…
– Да, да, я увидела и поняла. Единственный выход, конечно – любовь.
– Конечно…
– Вот как вы умеете…
– Я умею… многое.
– Не сомневаюсь.
– А жаль.
– Почему?
– Тогда – я заставил бы вас поверить.
– А – так?
– Так… Все произойдет гораздо стремительнее.
– И вам заранее скучно?
– Нет… Нет… Это не скука. Это – предвкушение.
– На нас оглядываются.
– Это потому, что вы – красивы.
– Нет, это потому, что вы скандально известная личность. А я… Я такая, какая есть…
– Ваше тело умеет говорить. Мы с ним уже…
– Может быть…
– Нет, вы не знаете. Вы абсолютно точно не знаете. Но я вам покажу, я вас – раскрою…
– Раскроете?
– Да, как бутон. Бутон орхидеи…
…Той ночью я не смогла уснуть…
2Статью я назвала: «Гений – один из нас».
Я описала его в подробностях, таким, каким его видели и хотели видеть, к какому привыкли и о каком говорили.
И скрыла то, что предназначалось только мне – его магнетизм. Им я не хотела делиться ни с кем. Да и какое они все имели к этому отношение. Ведь сходила с ума от одного ощущения его близости – вот, протяни руку, коснись – только я. Просто не может быть, чтобы и все остальные…
Я попалась к нему на крючок. Теперь – лишь бы не сорваться.…Про Париж я могу говорить часами, про своего любимого – бесконечно. Короткое замыкание длиною в жизнь. Я предупреждала…
– Кто ты?
– ???
– Ну, кто ты по профессии? Чем ты зарабатываешь на жизнь?
Я поглядела на него с испугом и, на всякий случай, отодвинулась.
– Я… журналистка, мне тридцать восемь. Замужем. Одеваться?
Он захохотал и поцеловал меня долго и влажно в ямочку у основания шеи. Ямочке стало тепло.
– Ты меня удивляешь. А я давно не удивлялся…
– Удивляю? Но – чем?
– Беззащитностью.
– Хм… Я даже очень…
– Да знаю, знаю, господи. Молчи. Молчи. Смотри мне в глаза. Ты видела мои руки? Видела – я наблюдал за тобой, ты часто на них смотришь. А теперь ты их – почувствуешь. Сейчас – ты всего лишь глина, запомни. Моя мягкая и податливая глина. Материал. Я тебя – леплю. Вот так… Так… Да… Ты никогда не сможешь забыть мои руки. Других таких нет, глупышка, поняла… Других таких…
Дальше я уже ничего не слышала. По-моему, я просто потеряла сознание…
3Я оказалась в каком-то заколдованном пространстве. Куда бы я ни шла, чем бы ни занималась, с кем бы ни разговаривала – повсюду мне чудился его голос, его глаза, его прикосновения.
А самое главное, я знала совершенно точно, он испытывал то же самое.
Это встречается крайне редко – абсолютная принадлежность. Почти всегда мы хотим получить гораздо больше, чем отдаем. Но если, отдавая себя снова и снова, ты видишь, ты уверен, что тебя хотят все больше и больше… Это и есть – настоящее чувство. Не подделка и не каприз. Потому что, какой смысл притворяться перед самим собой…
Мы были так заняты друг другом, что просто не оставалось времени испугаться будущего. Наверное, это и есть счастье – кто знает…
Мы не анализировали, не думали про потом, не строили планов. Жили – от встречи к встрече. А они случались все чаще, были все безумнее, и, наконец, нам стало понятно, что мы никогда не сможем друг к другу привыкнуть.– Я подумал… Знаешь, все-таки хорошо, что ты замужем…
– Не знаю… А почему ты?..
– Иначе бы нам пришлось пожениться.
– Это плохо?
– Мы бы долго не протянули.
– Ты правда так считаешь? Но – почему, я не понимаю. Думаю, ты бы меня не бросил никогда, я – тем более. Никакой скуки, привычки, рутины. Круговорот наслаждения – творчество и страсть. Такого просто не бывает, вот единственно – почему…
– Да нет же, нет. Я не об этом. Мы бы долго не протянули в самом натуральном смысле. Мы просто бы умерли от излишеств.
– Каких излишеств, милый?
– Понимаешь… Эта совместная жизнь… Осознание того, что ты находишься рядом со мной всегда, каждую секунду, вот протяни руку и… Я бы тебя когда-нибудь задушил. От желания, от невозможности проникнуть еще глубже, от того, что ты вся – в моей власти.
– Но я и так – вся в твоей власти.
– Да… И это сводит меня с ума. Делает слабым и сильным одновременно. Я знаю, что могу получать тебя когда хочу, как хочу, больше и изощреннее, чем могу представить себе в самых сокровенных… Ох… Если бы я тебя не встретил, я бы тебя – вылепил. Я бы лепил тебя – всю жизнь…
4…Париж случился зимой, на исходе декабря.
Ты пришел и принес билеты на самолет и фотографию гостиницы. Трехэтажный, довольно старый особняк. Герань на подоконниках. Два крайних окна справа, на последнем этаже. Ты указал на них и сказал:
– Это наши окна. На четыре дня и четыре ночи. Тебе надо только сказать – да…
И мы оба уже…
Дома я сказала… На работе – тоже сочинила историю. Неважно. По-моему, окружающие чувствовали мое безумие и что сопротивляться – невозможно. Они и не сопротивлялись.
Все вышло слишком легко. Слишком – легко…– Сам бог – за нас…
– Да, я тоже все время об этом думаю.
– Мы с тобой всегда думаем одинаково, всегда…
– Мы просто одно целое, и я уже не удивляюсь.
– Расскажи мне про Париж.
– Это невозможно. Словами – невозможно. Когда ты увидишь его, окажешься в нем – задержи дыхание, коснись, почувствуй его кожей – на ощупь. И он подарит тебе поцелуй души, французский поцелуй. И все. Это случается – со всеми……Мы улетели. Мы улетели налегке. В самолете мы шептались, хохотали и тайком трогали друг друга, как подростки. Аэропорт и такси я не помню, первое осознанное воспоминание – огромное дымчатое зеркало в лифте и мои счастливые глаза. Потом – уже в номере, его склоненное над моим, лицо. А к тому, что я теряю сознание, мне уже не надо было привыкать…
– По-моему, это воробьи…
– Ага…
– Парижские воробьи. Слышишь, они чирикают по-французски. С прононсом…
– И грассируют – тоже.
– Я голодна.
– Еще бы, столько проспать…
– Это потому, что…
– Я тебя совсем замучил, бедняжка.
– Наоборот, это я тебя. Совершенно забыла, что ты уже…
– Что?
– Мужчина в возрасте… Не мальчик…
– А ну-ка… Ты у меня… Во-о-от…
– О-о-о-хх… да, да… милый мой… ну-у-у… да-а-а-а…
На третий день мы вышли в город…
5И настал – Монмартр.
Не появился, не возник – настал. Как праздник, как рождественский подарок, как – чудо. И неважно, что случится потом, этот, пронизанный солнцем город, небо над ним – навсегда. Уже – навсегда…– Помнишь нашу первую встречу?
– Конечно, разве об этом надо говорить?
Мы сидим в кафе, внизу, у подножья и пьем кофе. На тонком блюдце передо мной – крохотный бисквит.
– Ты тогда спросил про Париж – почему?
– Это трудно объяснить. Можно сказать, что ты мне его напомнила…
– Но ведь ты же никогда здесь раньше не был. Или?..
– Я – нет. Я нынешний – нет. Наверное, есть какая-то генная память, что ли, что-то сродни дежа вю, но из прежней жизни. У меня нет другого объяснения.
– И что же это было точно – скажи…
– Твоя шея. Ты стояла ко мне спиной, волосы забраны высоко, и совершенно открытый, беззащитный затылок. И детская шея. Ужасно детская шея… В эту секунду я понял про тебя все. Ну, почти. Твою слабость, твою уязвимость, а особенно – твою нежность. И – не ошибся…
– Хорошо… А – Париж?
– Я подумал, где-то я ее уже видел. Уже трогал. И увидел нас в мастерской и себя – у станка. Руки перепачканы глиной, и я даже помню то, что мне никак не давалось, ускользало…
– Правда? В самом деле? Ну, скажи, интересно, угадаю я или нет?
– Нет, маленькая хулиганка, ты не угадала… Я имею ввиду линию плеч. Понимаешь, когда они опущены от бессилия страсти. Когда ты вся безвольно повисаешь в моих руках. Она никак не хотела мне даваться… И это был – Париж…
– Знаешь, что? Мы здесь не случайно.
– А мы вообще – не случайно…И у нас еще целый один день впереди… 6
Иногда бывает и так, раз – и темно… И смысл жизни, как и она сама, течет, течет сквозь пальцы, застывает на ресницах – каплями дождя, а может – просто, от огромного парижского солнца сквозь неровную линию домов – слезятся глаза…
И наш последний день – в Париже.
Когда мне говорят, что Париж уже не тот, что в кафе не видно настоящих парижан, что на улицах грязно и шумно, и суетливо… У каждого в сердце есть свой Париж. У тех, кто в нем не был – тоже, хотя они сами об этом даже не подозревают.
Мой – не отобрать никому.…Мы просто шли, держась за руки, и целовались. И вот, открыв после очередного поцелуя глаза, я увидела веселую витрину китайской чайной лавки. Цветные бумажные драконы улыбались и шевелили хвостами. Они смотрели на нас так лукаво и настойчиво…
– Давай зайдем, а? Хочешь? – и ты потянул меня за собой вовнутрь.
Там было тепло и сумрачно, зато – запахи… Незнакомые, необычные, они плыли и обволакивали, и сулили. В глубине, на газовой горелке попыхивал тяжелый чугунный чайник, а хозяйку – старую, сгорбленную, с молодыми черными глазами, мы поначалу даже не заметили.…Зеленый чай, сушеная малина, бергамот, она суетилась вокруг нас, бесконечно кланяясь, с прилипшей к ее пергаментному лицу такой же пергаментной улыбкой и повторяла:
– S’il vous plait, monsieur… S’il vous plait, madame…
Ax, мой милый, люби меня – всегда…
…Мы вышли унося с собой две одинаковые чашки с крышками, белые, с тонкой китайской росписью по бокам.
– На будущее, – сказал ты мне, – На будущее…
Господи, помоги мне выжить. Счастье – это ведь так больно…– Это – брют. Ты любишь брют?
– Я люблю тебя… – я говорю это в первый раз в жизни.
– Конечно. – ты улыбаешься и щуришь глаза. – Без любви ничего не случается.
– А что должно случиться?
– Когда даешь цветку название – теряется запах. Что бы ни случилось, оно – прекрасно…В гостиницу мы вернулись покачиваясь и взявшись за руки. Париж смотрел нам вслед.
Утро началось с птиц и дворников.
– Вы любите Париж?
– Безумно…
7 С тех пор как мы вернулись, прошел год. Я не видела тебя ни разу. Как я… Впрочем, про это – неинтересно. И вот – письмо, обычный конверт, твой почерк. Я так боюсь его открывать…«Здравствуй, моя маленькая.
Поверь, мне непросто писать эти строки. Пожалуй, так же, как тебе – их читать.
Всю жизнь главным для меня была работа. Собственно, она и была моей жизнью. Моим безумием, наркотиком, моей радостью, всем. Все, что кроме – в том числе и женщины – проходило мимо. Оно было только средством и никогда – целью. Я всегда только брал, наполнялся живой влагой этого кроме и забывал, быстро и безболезненно. И возвращался в мастерскую, к моим работам.
Ты первая и единственная, нарушившая это равновесие, эту формулу моего бессмертия: тело – глина – вечность. Ты смогла стать чем-то большим, чем все, что было – до.
Ты ведь знаешь, у каждого из нас есть предназначение. Я исполнял свое легко и с радостью, пока не повстречал тебя. Ты затмила собой все, и я – испугался. Что эта маленькая, слабая, хрупкая женщина с поющим телом и счастливыми глазами, умеющая так принадлежать… Ты понимаешь. И я – ушел, молча.
С тех пор я не создал ничего. У меня внутри – пустота. Вернее, меня преследует все время одна и та же мысль, одна и та же картина – твое тело в моих руках, и – безвольная, поникшая линия плеч. Я ее вижу, чувствую, мне понятны сплетения мышц и ток крови, я смогу это сделать, но… Дело за малым, мне нужна – ты… Не для того, чтобы стать еще одной моделью или просто – еще одной. Ты и сама это знаешь, правда? Мне нужен твой Париж, его улицы, его воздух, его запах. И его прикосновение. Я хочу его – ощутить. Ведь что такое скульптура, как не любовь, которой можно коснуться, удержать в ладонях, любовь – на ощупь.
Я не прошу прощения, ибо – не виноват.
И я знаю, что ты поймешь, ведь ты – часть меня.
Скажи, ты все еще любишь Париж?»Из конверта выскальзывают два листка и, кружась как листья, падают на пол. Я их поднимаю и всматриваюсь в них. Это непросто, потому что, наконец, пришли слезы.
Два маленьких листка, два билета в Париж – на сегодняшний вечер.
Дата возвращения – прочерк.
Господи, только бы раньше времени не потерять со…Прилетела чайка
И эта невыносимая кромка берега,
которая – внутри…
Самолет теряет каждую минуту около трехсот метров, и с высоты восемьсот это дает мне около трех минут до момента соприкосновения с… Я понимаю, что на девяносто девять процентов уже мертв. Практически, даже на сто. Самолет маленький – Сессна, двигатель – один, да и тот заглох. Носовая часть и стекло кабины забрызганы кровью, а впереди виднеется застрявшая под капотом голова чайки. Больше тридцати миль до берега. Умереть из-за чайки… И только бы она не узнала, господи. Только бы – не узнала…
1
– И – пойми, ничего особенного между нами не было. – я посмотрел на нее не то чтобы строго, но… чуть исподлобья.
Она просто кивнула головой и…
– Слезы и все такое – пожалуйста, давай обойдемся без этого, думаю, ты и сама понимаешь… – яговорилвсе более раздраженно.
– Д-да… – она кивнула еще раз и отвернулась, потому что глаза тут же наполнились слезами.
– Ну, тогда… прощай…
– И – все?
– Можно пожелать друг другу удачи – я пожал плечами.
– Удачи… – повторяет она, словно эхо.
– И сказать, что очень жаль.
– Жаль…
– В общем, я пошел…
– Ага. Только… Завтра нечетный день – помнишь?
– Да. И что из того?
– Кому мне теперь звонить? Ну, завтра… – она смотрит в сторону, но все равно, как будто – в самые печенки, в самую душу. И перестает дышать…
Я беру ее за плечи:
– Дыши, глупая, дыши глубже, ну… – мне в самом деле нечего ей ответить, потому что…
– Я дышу, да… Ты, кажется, что-то сказал сейчас? Что-то странное…
– Не странное, не странное. Мы же с тобой уже…
– Сколько у нас еще времени?
– Минут пять. От силы…
– Давай помолчим.
– Давай…
…– Только вот, я не понимаю…
– Что?
– Да как же мне звонить – завтра? Нечетный день… В четный – ты, а в нечетный – я. Ведь – так? А – теперь… А остальное я и правда поняла… Вот все-все – поняла…
2
Дождь со снегом – самое то для субботнего утра. Только я глянул в окно, и сон вылетел из головы напрочь. Это меня еще бабушка в детстве научила – если плохой сон приснится – сразу, как проснешься, посмотри в окно, и – нет его, забыл…
…Про что он был-то? Ну да… Это я с моей Светкой расставался. Нет, мы – расставались, мы – с ней… Только вот – с какой из них, а? Обе – мои. Вспомнить бы лицо… Кто из них мне приснился, Светка – которая там, в кухне сейчас… Или просто – Светка? Кажется, про четные-не-четные дни что-то… Значит, просто Светка, просто – Светка… И ведь – не зря, не зря он часто так повторяться стал, да и сам я уже знаю, чего перед собой-то… И она – знает.
Просто неизбежность какая-то. Тупик. Только вот, кто первый заговорит, кто первый? Вроде бы я – мужчина, мне и рубить этот узел, но это значит, я ее – бросаю. Не могу я так… Больно все равно будет – очень. Так хоть пусть она брошенной себя не чувствует. Хотя бы…
…Все это вполне могло бы произойти. И дождь со снегом, и сон этот скверный, и разговор этот тяжелый и дурацкий, если бы… не произошло – уже. Уже двести двенадцать дней тому назад. И каждый из них был Днем Разделенной Любви. Это она так придумала – наоборот. Выдумщица она – бывшая моя Светка… У нее все всегда было наоборот. А почему, собственно, было? И есть. Только меня с ней нет. Уже. А ее – со мной. Нас – вместе…
Так вот… У нее свой взгляд, особенный. Что любовь, она одна на двоих, и они живут в ней и дышат в ней – вместе, вдвоем, как в облаке. И она, стало быть – неразделенная, одна-единственная и неделимая. А разделенная, как раз – наоборот…
Ее последняя, обращенная ко мне фраза:
– Каждый день без тебя – это День Разделенной Любви… Но я не стану тебя……– Свет! Ты где?
– Я здесь, в кухне, погоди…
Через минуту она входит, в руках крохотный поднос, на нем чашка кофе. Сама – без всего. Красивая, ухоженная, сорокадвухлетняя женщина – моя жена, моя Светка.
– Захотелось тебя побаловать… – она присела на край кровати. – Я угадала? Ну, скажи…
– А ты не знаешь? – одной рукой я беру у нее чашку, а другая в это время уже… И я вижу, как ее глаза темнеют и взгляд обращается вовнутрь, в себя.
– Не могу… не могу… привыкнуть к твоим… рукам… Андрюша…
Последняя отчетливая мысль перед тем, как ее волосы касаются моего лица – еще один день – без…
3– Знаешь, ты кто? Ты – чайка моя, вот ты кто…
– Ну, да. Я же – летаю…
– Нет, то есть – да, и поэтому – тоже. Но когда ты летаешь, ты – просто чайка, а когда, как сейчас, ты – моя чайка… Ты – моя – чайка…
– Я всегда твоя чайка. И когда лечу – тоже. Ты рядом, в правом кресле. Я даже с тобой разговариваю, даже иногда стихи читаю – тебе. Про чайку, про тебя…
– Какие стихи? Андрюшенька, пожалуйста, ты никогда мне не рассказывал… Я не знала даже, что… А что за стихи, чьи? Твои?
– Нет. Их поэт написал, а я не поэт. Я, как чайка, умею только летать…
– Летать – это не только… Послушай, почитай мне, а? Ну…
– Ладно. Только учти, что читаю я плохо, потому что только тебе и только там, в воздухе. И потом, понимаешь, они грустные, очень. И запомнил я их только потому, что и там тоже – чайка…
– Это неважно, пусть грустные, любые, читай же, ну…
– Знаешь что… Нет, не буду. Какой из меня чтец. Погоди, лучше я найду в сети… Сейчас, сейчас… Ага, вот они. Вот – читай… – я повернул к ней ноутбук.
Она читала, а я смотрел на нее, и когда она подняла на меня глаза…Потому, что все – банально. Очень. Нам не по двадцать и даже не по тридцать. Семья у нее, семья у меня. Дети… На нас двоих, аж целых трое. И дома у каждого – все в порядке. А ломать всегда легче, чем строить. Да вы и сами знаете… Тупик. А про то, что у тебя в организме происходит, когда ты видишь эти глаза, слышишь этот голос, целуешь эти губы… И когда все в тебе кричит, шепчет, молит: вот – твое и навсегда, бери, ну… – Андрей, здорово. Не помешал? Скажи, ты не смог бы завтра вместо меня слетать, Сессну перегнать на завод? Продление ресурса двигателя. Заодно удовольствие получишь от настоящего полета, а то ты все на Боингах, на реактивных. Забыл уж, как без компьютера летать… А мне, понимаешь, надо тещу на новую квартиру перевести, жена попросила… Ага. Ну спасибо тебе, за мной не пропадет. Увидимся, будь…
…Через двадцать минут после взлета:
– Танго-Лима-Браво, добрый день, Пулково-контроль…
– Пулково-контроль, добрый день. Танго-Лима-Браво…
– Танго-Лима-Браво, сообщите количество горючего на борту…
– 130 литров. Танго-Лима-Браво…
– Танго-Лима-Браво, имеете допуск к полетам над морем?
– Допуск имею. Повторяю, допуск имею, но самолет для полетов над морем не оснащен. Средств спасения на борту нет. Танго-Лима-Браво…
– Понял. Пулково-контроль…
Еще через три минуты:
…– Танго-Лима-Браво, ответьте. Пулково-контроль…
– Ответил. Танго-Лима-Браво…
– Танго-Лима-Браво, примерно в 80–90 километрах к западу от вас терпит бедствие частная яхта. На борту семь человек, есть женщины. От них получен сигнал «мейдей». Повторяю, получен «мейдей»… В том районе сильное течение. Вы к ним ближе всех. Приказывать не имею права, самолет сухопутный, но вы ближе всех. Пока спасательный вертолет долетит, их унесет и найти будет гораздо труднее, если вообще… А вы бы покружили над ними до прибытия спасателей, чтобы навести сразу… В пределах часа, не больше. Погода в районе бедствия – нижняя кромка 1000–1200, горизонтальная видимость без ограничений. Ваше решение? Пулково-контроль…
– Пулково-контроль, давайте курс, слетаю. Танго-Лима-Браво.
– Танго-Лима-Браво, ваше решение подтверждаю, спасибо. Курс… Эшелон… Контроль вторичный, подход доложите. Удачи…
4 Когда Андрей сказал, что нам лучше расстаться, я умерла в первый раз. Конечно, и ему было больно, но он старался говорить таким холодным, отстраненным тоном, казаться таким – чужим… У нас в самом деле не было выхода, это не могло продолжаться бесконечно. Мы оба уже поняли, что – тупик… Потому что страшно – причинить боль. Не себе, нет, не себе, а… И я стала с этим – жить. Потом мне на работу позвонил Леша, его друг, который рассказал… Я и не помню толком – что, потому что умерла во второй раз.Самолет нашли. Пустой. Андрея искали еще долго, целых две недели. А потом – перестали искать. И он – умер. На похороны я не пошла, потому что – все равно… Хоронили память о нем, а не его. Гроб-то ведь – пустой. И еще… …С тех пор я вглядываюсь в лица. Везде, на улице, на работе, в метро, в электричке – повсюду. Вслушиваюсь в новости и сообщения о происшествиях. И – жду. Потому, что ведь – не нашли. А значит, есть надежда. Хотя и у нее иногда опускаются руки. Тогда я вновь читаю те самые стихи – снова и снова, и вера возвращается. Но эта невыносимая кромка берега, которая – внутри…
На следующий год мы поехали в отпуск – всей семьей. Был уже самый конец лета – на Балтике в это время не слишком людно, почти – осень. Утром, в день отъезда, я спохватилась, что забыла бросить в море монетку – вы знаете эту примету. И отправилась на берег, и подошла к самой воде. И увидела – чайку. Она важно расхаживала по песку у самой кромки воды и делала вид, что не обращает на меня никакого внимания.
… Вдруг стало так легко, словно…
– Привет, – сказала я. – Давай поговорим?
Ей было очень грустно, этой чайке. Но она посмотрела на меня, склонив голову набок, и – взлетела…
И уже – не было выбора.
И я……Светка вскрикнула, больно ткнула меня локтем и мы – проснулись.
– Что? – спросил я. – Приснился страшный сон? Прижал к себе ее горячее и напряженное тело и почувствовал, как она расслабляется под моими руками.
– Ох, Андрюша, – она посмотрела на меня, – Какой-то кошмар приснился, даже – не верится…
– Забудь. Посмотри в окно и сразу забудешь, меня еще бабушка так учила.
– Погоди, погоди… – она уставилась в потолок, потом вскочила, отбросив мою руку вместе с одеялом и кинулась к столу. Открыла крышку ноутбука и забегала пальцами по клавиатуре.
– Очередная история приснилась, да?
Она не отвечала, продолжая печатать, а потом, закончив, откинулась на спинку стула, громко выдохнула и сказала:
– Да, но дело не в этом. Сюжеты снятся иногда, это – обычно. Но сегодня… Ты ведь знаешь, я уже почти год не пишу стихов. Они ушли и все. И не возвращаются. А только эти истории…
– Ничего себе – только эти. Да эти твои истории редакторы и издательства с руками оторвать готовы.
– Да нет, Андрюша, я не об этом, дело не в историях, просто они – это другое. Понимаешь, мне сегодня приснились – стихи. Впервые за очень долгое время. Был там какой-то сюжет – тоже, но его я не помню. А стихи эти… Ну вот я и бросилась их записывать, пока не забыла. – Она потянулась.
– Ну что, поваляемся еще, или как? – Светка бросила на меня прищуренный взгляд. – Мишка с Гришкой в школе…
– Нет, Светуля, нет, чайка моя. Мне уже через… три часа вылетать. Представляешь, в кои веки раз выпала удача на Сессне полетать. А то все Боинги, да Боинги… Я уже забыл, когда последний раз летал по-нормальному, без компьютера и кнопки нажимать…
– На Сессне? – Светка наморщила лоб, как-будто пытаясь вспомнить. – А это не опасно?
– Да нет. Просто перегоню ее на завод и все. Тут и лететь-то всего ничего, час – туда и час – оттуда. После обеда вернусь. Жди.
– Ладно. Тогда я пойду кофе по-быстрому, пока ты в душе…
– Ага…
Она исчезла, а я нашарил шлепанцы, встал и подошел к столу с открытым ноутбуком. И вот то, что она написала [2] , а я – прочел:Прилетела чайка
Прилетела чайка, сказала, что бога нет.
Соберу камней, оборву исхудалый куст.
Не затем ли осень – чтоб тысячи зимних лет
У груди баюкать жемчужную эту грусть.
Я запомню осень такою, какая есть —
С паровозным дымом и черною злой слезой.
То не свист и клекот – несется благая весть,
Наша боль – не вечна, не бойся, иди за мной.
Из разбитой тыквы течет желтоватый свет
Спрятан ветер в синие перья, в рубец межи.
Тормоши, балагурь, витийствуй, певец, поэт.
Прилетела чайка, сказала, что надо – жить…
Научи меня рисовать
1
– Как тебя зовут?
– Данила… То есть, Даниил.
– А как мама называет?
– Даня.
– Лет тебе сколько?
– Девять.
– Как по-твоему, зачем мама привела тебя ко мне? Пауза…
– У тебя собака есть?
– Нет. В прошлом году у меня крыса была. Белая. Она была мне как друг.
– А у кого-нибудь из твоих друзей в школе есть собака?
– У меня нет друзей.
– А почему?
– Я плохой… – закусив губу.
– Плохой? Чем плохой? Что в тебе такого особенного?
– Ко мне приходят голоса…
Я не подаю вида, что обескуражен. Голоса – это плохо, это – к психиатру. Болен мальчишка, тут просто психолог и даже не просто, а классный, такой, как я – не поможет тоже. Но лучше еще раз…
– А что они тебе говорят?
– Разное. Нехорошее. Крысу мою – убить.
– Ты их слушаешь?
– A-то как же? – недоуменный взгляд.
Точка. Теперь – его мать…
…Она садится на краешек стула, изможденное лицо, накрашена наспех, в глазах – тоска. И начинает говорить, долго, не умолкая ни на секунду и не поднимая глаз от пола, и я понимаю – почему, и не перебиваю. Ведь пока она говорит и не смотрит мне в лицо – она еще надеется. Но там, за дверью кабинета еще двое, и я больше не могу ждать…
…Дверь за ними закрылась, за этими двумя несчастными, которые друг для друга… Их мир – замкнулся.
Лица мелькают передо мной, как визитные карточки.
Детские – смущенные, виноватые, это всегда – пострадавшие.
Взрослые – растерянные или наоборот, уверенные в себе. Те, кто – виновен.
Восемь пациентов в день, пять дней в неделю – двадцать два года.
Они приходят за помощью и – получают ее. Иногда – в последний момент, не все – пусть, но…
Жалеть их я не успеваю, ну – почти. Да это и не главное, потому что если получается, то уже – незачем. А если нет, тогда думаешь о том, как помочь тому, кто придет следом…
Потому что, когда что-то случается, что-то необычайное, плохое или хорошее – неважно, и бог, судьба или жизнь испытывают нас, главное – оказаться готовым. Иначе – в щепки…
2Темные, почти черные волосы, круглая родинка на левой щеке, глаза на пол-лица – девчушка лет семи вошла и заслонила собой – все…
Поверьте, я уже давно научился держать себя в руках. Не давать волю эмоциям, не впадать в экстаз или отчаяние – такая работа, которая со временем становится твоим образом жизни. Но…
– Сейчас, Нюта, сейчас, я вот только поздороваюсь с доктором.
Я поначалу даже не обратил внимания на ее мать, она стояла напротив, смотрела на меня в упор и совсем не казалась удивленной.
– Здравствуйте, доктор. Вы не смущайтесь, я уже привыкла, что Нюта… Что все внимание на нее. Всегда. – И улыбнулась.
И я вдруг увидел, какая прозрачная у нее кожа.
Мы расположились как обычно, я – на своем месте, они обе – напротив меня и лицом друг к другу. Внезапно малышка встала, обошла стол и, подойдя ко мне, взяла за руку. Просто – взяла и все. Словно так и надо. А мать, глядя в окно, сказала:
– Вы ей понравились, доктор. – потом добавила:
– У вас тут хорошо, славно и река…
– Что – река?
– Непривычно смотреть на нее сверху. У вас ведь семнадцатый этаж, да? Я никогда не видела ее с такой высоты. Там, внизу, она дышит, а отсюда – еще и смеется…
Я напрочь отдал им обеим инициативу – они вели себя как хотели, делали что хотели, а я просто смотрел на это со стороны, и мне ничего не хотелось менять.
– В этом городе столько пробок, столько разных… – ее взгляд вернулся ко мне:
– Ох, простите, мы и так опоздали, а я еще болтаю, отнимаю у вас время. Пожалуйста, доктор, мы вас слушаем, спрашивайте. А просто поговорить мы сможем потом, если время останется, и вы захотите – с нами.
– С вами?
– Конечно. Вы не обращайте внимания, что Нюта молчит, она разговаривает, только не все ее могут услышать…
Девочка продолжала держать меня за руку. Она смотрела на меня серьезно, без улыбки, и, когда я попытался высвободить руку, лишь мотнула головой и ухватилась за нее еще крепче.
– Тебя зовут Аня?
Она снова мотнула головой.
– Ее зовут Данута. А Нюта, это… Она сама так захотела. Понимаете, Данута – Нюта… Вот такая связка получается. Но это она сама. Прямо так и сказала – Нюта. Она вообще за свои семь лет произнесла только два слова – свое имя, и еще у нее однажды случилось воспаление среднего уха, болело сильно, и она так и сказала – больно. Только два раза… Ой, доктор, я ведь и сама не представилась, простите еще раз, я снова заболталась и вас заболтала… Аня – это как раз – я. Анна… Да просто – Аня и все, без отчества. Нюта и Аня, вот. В общем, две Ани выходит – большая и маленькая…
– А большая, это – вы? – спрашиваю я, и они обе вдруг начинают улыбаться.
– Вы не зря ей понравились, доктор. Нюта – она никогда не ошибается…
Я смотрю на нее, и мне отчего-то приятно на нее смотреть. Не могу понять, какого цвета ее глаза… Золотистые… То ли это отсвет заходящего солнца, то ли – на самом деле. В уголках – легкие, едва заметные морщинки.
Девочка вдруг отпускает мою руку, возвращается на место и берет со стола карандаш, простой, остро отточенный карандаш. И смотрит на меня – выжидающе. Я достаю из ящика несколько чистых листов бумаги, пододвигаю, и она начинает рисовать. Анна хочет что-то сказать, но я прикладываю палец к губам – пауза. Мы ждем – Нюту…
Она поднимает голову и смотрит на меня.
– Можно? – я указываю на рисунок. – Можно посмотреть?
Она кивает, и я поворачиваю рисунок к себе. И – замираю, потому что…
Такое я видел только на рисунках Модильяни, Климта… Простая карандашная линия, даже не рисунок, а… намек, в котором правды больше, чем в законченном полотне иного мастера. Линия кажется случайной, неровной, изрытой, как… И именно такой, единственно такой, какой должна быть. Корявый человечек улыбается во весь рот, а вокруг – нечто, и я понимаю, что это – облака, небо…
Внезапно до меня доходит, что это мой портрет.
Ах, этот чертов профессионализм…
– Где же это ты меня нарисовала, Нюта? – сам не верю, что задаю этот совершенно идиотский вопрос, но уже поздно, и я – продолжаю:
– Я что – лечу? Тогда, где самолет или крылья? А если – иду или стою, то где земля, трава, цветы? Авообще-то, знаешь, ты молодец…
Но она принимается за рисунок снова, высунув от усердия кончик языка.– Ну вот, и вы тоже удивились, доктор. Все удивляются, все и всегда. А я – нет. Я знаю, что Нюта – необычный ребенок, может быть – гениальный ребенок. Нет-нет, не беспокойтесь, я уже столько раз говорила об этом с ней, что говорить при ней – с вами… Ну, ничего такого, понимаете? Знаете, что меня удивляет? Не то, что она так рисует, а то, что она при этом так весела и беззаботна. Гениальные дети – другие. С детства – другие. И, чаще всего, с детства – несчастны. Я знаю, я очень много читала – и воспоминания, и – вообще… Сначала я пыталась ее уберечь – от всего. От обид, от стрессов, от – жизни. А потом поняла, что невозможно. Невозможно запереть ее в клетку. Даже – золотую. Мне пришлось с этим примириться, ведь другого выхода все равно – нет, понимаете? И еще мне пришлось понять, а что – взамен. Изменить шкалу ценностей, если хотите. И оказалось, что ценностей этих – всего ничего. Доверие, чувство защищенности и – любовь. Остальное – излишки цивилизации. Вы назовете такое отношение к жизни эгоистичным – пусть. Я ведь не собираюсь переделывать мир, единственное, что меня волнует – судьба моего ребенка, наделенного необычными способностями.
Нюта выпрямила спину и, не поднимая глаз, положила на стол карандаш. Потом посмотрела на мать, затем на меня. И кивнула.
…Я на бумаге – ожил. Я – двигался, мои руки, ноги, даже – глаза. И небо двигалось вокруг – я летел. Я – летел…
…– Нюта, понимаешь, меня никто никогда не рисовал. А – вот так… Я даже не знаю, что сказать. Ну, то есть, ты потрясающе рисуешь… Скажи, я могу оставить этот рисунок себе? Я бы повесил его здесь, в кабинете. Или – дома. Можно?
Она кивнула и – улыбнулась.
Рисунок – ликовал. Это было…
Ну вот, представьте, вы смотрите на собственный портрет, и вас охватывает озноб.
Такими были рисунки Нюты.
Позже, я увидел их – все…
3– Свой первый рисунок она сделала в год и два месяца.
– ???
– Это правда, вы зря не верите. Верить – необходимо.
– Всем?
– Ну конечно. Как же иначе.
– Вас никогда не обманывали?
– Ну почему же, бывало – она смеется и теребит локон, а я… почти не слышу ее голос, вот смотрю на нее…
– Обманывали, даже один раз деньги украли. Цыганка одна… Я тогда рассердилась ужасно, ужасно, а потом увидела их еще раз – на вокзале, подошла и дала еще.
– Зачем, она же вас и так обворовала!
– Пусть. От хорошей жизни воровать не станешь.
– А вы – никогда не обманываете?
– Я не люблю обманывать… потом, это так хлопотно. Хотя, конечно – умею…
– А – Нюте? Ей вы тоже все рассказываете?
– Конечно. Все и всегда – как самой себе.
– Расскажите мне про ее первый рисунок, тот, в год и два месяца…
– Ей тогда первый раз попали в руки карандаш и бумага. И она нарисовала – небо…
– Просто – небо? Вы уверены?
– Да, у меня сохранился этот рисунок. Небо – облака, воздух, ветер…
– То, что вы говорите – удивительно. Я еще с таким не встречался.
– Мне иногда кажется – знаете, что? Что Нюта – ангел, который никак не может привыкнуть к нашей земной жизни и тоскует по небу. Отсюда – и рисунки…
– Почему вы пришли ко мне? Насколько я понимаю, вы не считаете, что ей нужна помощь психолога. Тогда – что?
– Это не я. Это из садика нас послали перед школой. А читать и писать Нюта давно умеет, она уже уйму книжек перечитала сама, она вообще – развитый ребенок, в шахматы играет… Вот не говорит только, но можно ведь и письменно на вопросы отвечать, правда?
– Можно, разумеется. Но ведь вы сами понимаете, в школе – свои порядки и законы. Кроме того, дети – иногда довольно жестокие существа. Приходится думать и об этом тоже.
– Я думаю. Нюта может учиться дома. А художественную школу она и так может посещать, без справки психолога, я там уже была, рисунки ее показывала. Ее возьмут в любой момент.
– Не сомневаюсь. Нюта – художник, у нее – талант, дар. Но вы не думаете, что не пытаясь помочь ей развить речь, вы лишаете ее чего-то очень важного. Ведь перед ней – вся жизнь, она же – маленькая еще.
– Нет, – голос ее делается почти ледяным. – Я живу, чтобы ее защищать и… я доверяю своему инстинкту. Мне предлагали сделать про нее передачу на телевидении, я – отказалась. Вырастет, сама решит куда и что. А пока – пусть летает.
Анна замирает, даже, по-моему, не дышит. Потом смотрит на часы и тихо-тихо:
– Простите, доктор, нам, правда, уже пора…
Как же хочется сразу перейти к концу моего повествования. К счастливому концу.
Захлопнуть ноутбук и выйти в сад.
Увидеть заходящее солнце и вспомнить, что главное в жизни – доверие, любовь и чувство защищенности.
И – согласиться…Аутизм – это не диагноз. Это – образ жизни. Человек концентрируется на себе, чаще всего – на своем необычном поведении, например, складывать предметы в строго определенном порядке, реже – на своих феноменальных способностях, отгораживается от окружающих, и, как результат – социальное одиночество. Такие дети не говорят не потому, что не умеют. Им просто неинтересно с нами. Сблизиться с аутистом, понять его – можно, но для этого есть только два пути – либо попробовать стать таким же, как он, то есть – им самим, либо понравиться ему, не прикладывая при этом ни малейших усилий. Врожденная симпатия – слыхали? Но ни в коем случае не пытаться его исправлять.
Нюта оказалась очень впечатлительной девочкой. Уж не знаю, что впечатлило ее во мне, но ее привязанность была необъяснимой, нелогичной и настолько явной…
Это не льстило мне, а давило своей непомерной ответственностью – я боялся не оправдать ее доверия – ни много ни мало.
Мой, более чем двадцатилетний опыт и… ее рука, ухватившаяся за мою при первой встрече. Мой портрет.
И глаза Анны, и морщинки, которые почему-то – не позабыть…
Да бог с ним, в самом деле.
Мы с Анной стали встречаться.
И я – совершенно слетел с катушек…
Скоро, очень скоро они переехали ко мне.
Не знаю, как это произошло, они обе вошли в мою жизнь, словно были в ней – всегда. Как дышать.
Просто дышать – и все.
И я – дышал. Полной грудью…Первые полгода я… Как выразить постоянное острое ощущение счастья и осознание того, что жизнь – полна. Утром, днем, вечером, ночью – всегда. Мир снова сделался большим, а радость – не кончалась. Я чувствовал себя мальчишкой, скрывающим от окружающих свой возраст. Тут-то все и случилось. Я вообразил, что так будет – всегда, и можно попытаться…
Мной овладела навязчивая идея разговорить Нюту.
4– Научи меня рисовать.
Она раздумывает, глядя на меня своими огромными серьезными глазами. Долго. Потом деловито протягивает мне карандаш, встает спиной ко мне, облокотившись на мои колени и начинает водить моей рукой по листу бумаги. Ее волосы щекочут мне подбородок и кончик носа. В конце концов она отпускает мою руку, забирает у меня карандаш, и мы делаем все наоборот – она рисует, водит карандашом по бумаге, а я, держа свою руку поверх ее маленькой ладошки, следую за движениями ее кисти и пальцев… Наконец, она вздыхает, снимает мою руку со своей, поворачивается и… только пожимает плечами и мотает головой. Вообще, это ее любимый жест, любимое движение – мотать головой. Быстро – волосы вразлет, в стороны, лица не видно и вдруг – стоп, и – серьезные глаза, которые видят – все…
– Нюта, у меня не выходит, – вздыхаю я. – Меня еще в школе дразнили, что я плохо рисую. С тех пор, представляешь? Вот если бы ты могла мне помочь. Хоть сейчас…
Она показывает на каракули – результат наших совместных усилий – и снова пожимает плечами.
– Я знаю, что так, как ты, я никогда не… Но просто иногда, вот очень хочется нарисовать что-нибудь, самолет, или как прыгун летит с трамплина… Понимаешь?
Она старательно кивает.
– Знаешь, что я подумал? Может, дело в том, что мне никто не смог объяснить, как это надо – рисовать? Вот если бы кто-то рассказал, и я бы услышал… Не все же могут научиться, глядя, как рисует другой, правда? И если я однажды услышу, я чувствую, что я… Как ты считаешь?
Она смотрит на меня несколько секунд, поворачивается и убегает……Она рисует за столом, и, как всегда, кончик ее языка… Я смотрю, стоя в дверях, молча, ничего не говоря, и только, когда она поднимает голову и видит меня, и улыбка у нее на лице…
– Нюта, у тебя новый рисунок? Можно?
Она кивает.
Два человечка, побольше и поменьше, летят над рекой, взявшись за руки, и река – улыбается.
– Послушай, у тебя же здесь река – смеется. Как же ты…
Теперь смеется она.
– А кто это? Ты и мама?
Мотает головой.
– Мама и я?
Снова – нет.
– Ну, я не понимаю тогда… Объяснить можешь?
Она пишет под рисунком – «МЫ».
– Кто это – мы? – говорю я. – Нас же – трое. Ты, мама и я. А тут – два человека. Это – не мы. Ты просто не хочешь мне объяснить… – делаю кислое лицо, поворачиваюсь и выхожу. Через минуту слышу топот ее ног. Она влетает в комнату и бросается ко мне, в руке – рисунок. Рядом с «МЫ» теперь еще – «Я И ТЫ».
– Нюта, ты – хитрюга, – хохочу я хватаю ее в охапку и кружу, и она хохочет – тоже, но – тихо-тихо, совершенно неслышно, молча.
Как удержать – счастье?
Но, боже мой, я все-таки сумел ее разговорить.
Я же – специалист. Лишать ребенка речи – это все равно, что лишать его – будущего.
А тем более – такого ребенка…
5Мы возвращались домой, как раз к ужину. Аня ждала нас дома, да и ушли мы недалеко. Я только что дорассказал Нюте очередную сказку, а она вертела головой во все стороны и ловила ртом падающие снежинки. И тут я увидел скамейку. Обычную деревянную скамейку, которая стояла на этом месте уже бог знает сколько лет, и мимо которой мы с Нютой проходили почти каждый день. Но именно сейчас я подумал…
– Нюта, подожди, девочка, дай я посижу немного, ладно? Всего одну минуту. Я сейчас… – я начинаю судорожно шарить по карманам, словно ищу что-то, что непременно должно там быть.– Сейчас, сейчас, не волнуйся, все будет хорошо, я только найду лекарство, оно же у меня всегда в этом кармане… Ну… неужели – забыл? Ах ты… Ничего, ничего… сейчас пройдет… не бойся, милая ты моя… не бойся, такое иногда бывает, пройдет… Сердце, понимаешь…
Нюта смотрит на все это сначала – с любопытством, потом – с недоумением, наконец – со страхом, и тогда я вынимаю из кармана телефон, с трудом набираю номер и, услышав Анино: «Алло», роняю руку вниз.
– Не могу… скажи ты… позови маму… Нюта…
Она смотрит на меня не мигая, берет телефон, подносит к уху и говорит:
– Мама, папе плохо. Парк, где всегда…
…Аня прибежала минут через пять. В наспех накинутой на плечи куртке и тапочках.
Я уже почти пришел в себя. Я уже улыбался, мог говорить, только вот глаза Нюты, которые видят все… Она смотрела на меня не отрываясь, и я ничего не мог с этим поделать.
– Она заговорила, видишь… – шепнул я склонившейся надо мной Ане и – подмигнул, и она отпрянула от меня, как… Подхватила Нюту на руки, и они скрылись за поворотом аллеи.
А я остался сидеть на этой чертовой скамейке… Скамейка-то – причем. Я поднимаю вверх лицо, подставляя его снегу. Хотя зачем он мне, если Нюта с Аней…
Да и нет его уже, снегопад – кончился. Кончился снегопад…
Нюта перестала рисовать и не начала говорить. Она просто враз погрустнела, и мне так и не удалось больше заглянуть ей в глаза. Аня… В ней что-то кончилось. Она опустела, стала – как все…
Счастье глядело на нас со стен, с развешанных там Нютиных рисунков. И мы были его частью, но стали ему неинтересны, и оно замкнулось, укрылось от нас – в самом себе. Аутизм счастья…
Потому что счастье – это такая болезнь, которой очень трудно заразиться и легко вылечиться, даже и стараться особо не надо, сама пройдет – без всяких лекарств…
…Остался только один рисунок, тот самый – первый. Когда Аня захотела снять и его, Нюта замотала головой, заплакала и убежала. Вот он – на стене, над моим письменным столом. Больше – ничего. Когда я смотрю на него, мне кажется, они вернутся – Аня и Нюта. И, может быть, вместе с ними вернется и…
Но, даже если – нет, то все равно, можно будет еще раз посадить Нюту на колени и смотреть на единственную девочку на свете, рисующую – счастье. И может быть, даже, набравшись нахальства – попросить:
– Научи меня рисовать…Евангелие от Лю
1
– Хочешь, я буду твоей книгой?
– Если только – карманной.
– Почему карманной?
– Чтобы трогать, когда захочу…
– Люсь, можешь подойти?
– Нет, сейчас – нет, не могу, а что? Срочно?
– Срочно, срочно, ну подойди, ну. Пожалуйста…
– Хорошо, хорошо, иду… – вытираю руки о фартук и иду к нему в кабинет.
– Что, Сань?
– Посмотри, почитай. Текст – мертвый. Совершенно. И я не могу понять, в чем дело. Хоть тресни…
– А я тебе уже говорила, но ты же не слушаешь. Текст не может быть живым, если неживые герои, которые в нем… обитают. А главный герой у тебя еще и человек плохой – очень.
– И пусть. Плохой совсем не значит – мертвый. И плохие герои должны присутствовать – как в жизни. А в данном конкретном случае, вообще непонятно, чем он тебе так не угодил…
– А зачем он Ирку бросил, а?
– Потому, что она ему по характеру – ну никак. Иначе и быть не могло…
– Ну да, конечно. Столько лет была – как, кормила, поила, обстирывала, да чего там, просто – ложилась под него и вдруг, видите ли – характер!
– Тебе не понять, ты рассуждаешь, как женщина…
– А я и есть, между прочим… Или ты сомневаешься?
…– Хм… Попробуй тут – засомневайся. Себе дороже…
– То-то же…
– Но оставаться вместе им все равно – невозможно. Что бы ты не говорила.
– И почему же это?
– Потому, что для этого смелость нужна и понимание, чтобы остаться – до конца, чтобы состариться – вместе… Ты знаешь, большинство разводов либо в самом начале, либо уже после сорока. Между сорока и пятьюдесятью – вот так. Человек просто пытается продлить свою молодость – пусть даже за счет другого. И с этим ничего не поделаешь. Только если двое смогли еще – до, создать и сохранить нечто такое, что поможет им преодолеть этот барьер страха, молодость – старость. Но ты и сама понимаешь, что так везет не всем. Неужели и с этим ты не согласна?
Я вздыхаю и соглашаюсь. Потому, что соглашаюсь – всегда. Пора уже привыкнуть за столько лет… Но есть же такое, к чему не привыкнуть никогда. Саня – муж мой, непредсказуем, упрям и слеп. Абсолютно. Ничего не видит. Я его боготворю и им восхищаюсь, хотя стараюсь не показывать вида. Иногда даже спорю и ругаю – специально. Но он, по-моему, все равно – догадывается. Интуиция у него…
Мы пишем книгу. Вдвоем. Уже и не вспомнить, кому из нас это пришло в голову, вообще-то, по идеям у нас главная – я. Саня говорит, что у меня эвристическое мышление. А то, что он говорит – закон… Не из-за того, что я такая бесхарактерная, вовсе нет. Не из-за того, что он – не видит. Зато слух у него – дай бог каждому, а уж – голова… Я с ним соглашаюсь потому…
Странно, вот дошла до этой фразы – и страшно стало. Не так, как бывает, когда подумаешь о чем-то и сама себе завидуешь – тьфу-тьфу, чтоб не сглазить. Неужели мне – и такое привалило. Нет. А вот… Мне это уже не в первый раз в голову приходит: а вдруг, это все – выдумка? Потому, что иначе – как такое возможно. И сразу страх, как хлыстом… Выдумка я его – и все. Просто. Ведь быть рядом с ним, с Саней, это же такое счастье, которого просто, ну не может быть. Потому, что не может быть – никогда. А тогда – что остается? И я молюсь про себя каждый раз, пожалуйста, любимый, выдумывай меня подольше, ведь сама-то я не существую – понимаешь. Нет меня без тебя…
2
Если очень долго крутить педали,
можно объехать вокруг земного шара.
А можно вместо этого смотреть на тебя и все.
Сколько хочу.
И тогда – зачем весь земной шар?
…Эта книга – про нас. А все потому, что мы с ним, с Саней моим, очень жадные. До жизни, друг до друга, до всего… Нам самих себя – мало. И мы, как наркоманы, подсевшие на самих себя, пишем про себя, чтобы улетать от этого – снова и снова. Чтобы про каждый вздох, взгляд, вскрик – словом, еще, еще… Потому что то, о чем мы пишем, слишком реально. И книга оказалась – западней. Оттого, что не осталось времени на самих себя. Да и есть ли мы – сами, живем ли? В книге ли, в жизни – уже не……– Только бы он говорил со мной, только бы я – отвечала.
– Люсь!
– Что, Санечка?
– Обед скоро у нас?
– Так готов уже… Накрывать? Где, на веранде?
– Исключительно. Исключительно – там. Потому, что – воздух…
Мы обедаем вдвоем и смотрим на заходящее солнце. Дети уже разъехались, друзья… Старые, настоящие, которых – раз, два – далеко и лишь изредка по телефону. Новые, не то, чтобы нет, но…
А солнцу – все равно. Оно встает и садится строго по часам. Правда, Саня его не видит. Вот уже десять лет. И уже десять лет – не летает. Он ведь летчик, Саня мой… А сейчас, его глаза, его жизнь, его небо – я. Только.
Эта книга… Она могла бы спасти нас, пожалуй. Его, Саню, а значит и меня, но как узнать, существую ли я на самом деле?
Я подхожу к нему и глажу его бритую голову, сажусь к нему на колени, прижимаюсь щекой к его невидящим глазам и молча плачу. Он целует меня в самый уголок рта. Ему – солоно… Солнце садится.
– Саня, скажи мне…
– Все, что хочешь…
– Скажи, есть ли я на самом деле?
Но в этот момент солнце садится и я слепну – тоже.
– Пойдем в дом, милая моя, уже прохладно, солнце село. Я же – вижу…
3
Ты пишешь книгу и не смотришь на меня.
А ведь твоя книга – это я…
Раньше у него было – небо. И глаза. И я, конечно, но я – потом.
Потому, что у мужчин – так…
Потом небо кончилось, потому, что кончились глаза. Есть такая болезнь – не помню, как называется, заболел, а лечения – нет… И зрение – ушло. Какие уж тут полеты. И я придумала книгу. Чтобы он выжил и жил дальше. Знала – меня одной ему мало. Потому, что у мужчин – так…
– Люсь… Слушай, я вот что думаю…
– М-м-мм?
– Ну, не спи, погоди немножко… Люсь…
– Ну, что? Ну?
– Я говорю, вот когда Герка выходит из дома и видит Алю…
– Сань, ты совесть имей, а…
– А что?
– Третий час ночи, вот что… Сплю я. Вернее – спала… Ну, чего?
Я сажусь на кровати и кладу комп на колени. Открываю файл и погружаюсь. Именно – погружаюсь, по-другому не скажешь.
– Так… Ну?
– А я себе все время вопрос задаю – вот почему он на нее внимание обратил?
– Не знаю… Может – запах?
– Какой запах? Причем здесь…
– Какой… Обыкновенный – запах и все. Как у животных, как у собак. Они от запаха – балдеют…
– Ты серьезно?
– Вполне. Вот ты помнишь, как от меня пахло, когда мы в первый раз встретились?
– Нет… Понятия не имею.
– А я твой одеколон – как сейчас…
– Это что же, это у всех женщин так, да?
– Про всех – не знаю… Но запах – это очень важно…
– Я понял… Н-да…
– Уже можно снова спать или как?
– А если – или как?
– А как – или как?
– Ну… Вот так… И вот так…
– Атеперь… ага… еще, ну…
…Существую, конечно. Иначе, откуда бы мне знать, что такое – блаженство?
4
– Я устала. Давай сделаем перерыв.
– Ну что же. Объявляю перерыв на блаженство…
Я старалась. Как же я старалась…
Чтобы все было, как раньше, чтобы – ни в чем и никогда.
Чтобы мой мужчина не знал, что я его – жалею. Потому, что…
Слышать его, слушать, слушаться – даже и стараться не надо было. Это было… вот, как – небо…
Я пыталась сделать нашу жизнь – земной. Раньше – до, во всем был воздух, синева, горизонт. Даже, когда мы ссорились, он говорил: – И дождь обрушил груши… А когда я плакала – Ну вот – облака налакались…
Теперь он перестал так говорить. И мы – перестали ссориться, а я – перестала плакать. Когда становится совсем невмоготу, впиваюсь ногтями в кожу – до крови. Иногда – помогает. Или бросаюсь лук резать. Я – хитрая…– Люсь, а Люсь! Представляешь, у меня тут самая кульминация! Иди сюда, помоги, а…
– Иду, иду, иду…
– Слушай, а бутербродик не сделаешь? А то на меня всегда в напряженные моменты голод нападает – ты же знаешь. И чтобы, как я люблю – сыр, колбаска… И чайку бы, а? Понимаешь, финиш, ну вот – финиш…
Я ворчу что-то про то, что не служанка, а сама – ужасно рада, ведь поначалу-то, когда – только-только видеть перестал – он ничего, вот совсем ничего не просил. Все – сам… Будто стыдился. Будто не было стольких лет – вместе. Будто не хотел, чтобы я была не только жизнью его, но и глазами – тоже. Потому что – страшно. От глаз ничего не скроешь. Особенно, когда они обращены вовнутрь. Особенно – своей собственной слабости.
Но – книга… Книга могла бы помочь…
5
– Сколько звезд на небе?
– Не все ли равно. Главное – в другом.
– В чем же?
– Хватит ли времени – все их пересчитать…
– У меня ничего не выходит…
– Что? Что не выходит?
– Ничего. То есть – все. Я не знаю, как ее закончить. А ведь концовка – самое главное. Без нее никуда. Помоги мне, Люсь, а?
Он никогда раньше так не говорил, во всяком случае – со мной. Никогда. Но с тех пор, как мы пишем книгу, он совсем перестал меня… стесняться. Сторониться… Он говорит. О своих страхах, о боли, обо всем. Пусть не напрямую, пусть через книгу, но – говорит. Настолько откровенным можно быть только с самим собой. Или с тем, кого любишь и кому веришь – как себе.
Значит, у нашей любви – второе дыхание?
Или все-таки он говорит сам с собой? И опять выходит, что меня – нет?
– Ну, вот. Давай поглядим вместе, Саня…
– Нет. Я не знаю. Это все бесполезно.
– Саня, такого слова – нет. Нет – и все…
– Откуда тебе знать?
– А вот – знать! Во всем есть свой смысл и своя польза.
Стоп! Ну, куда меня занесло. Сейчас, вот сейчас он произнесет эти непоправимые слова, и снова меня отбросит назад – от него, его рук, его губ, запаха… Господи, если ты есть, научи меня, как ответить – на эти его слова… Они вот-вот сорвутся с его языка…
– И какая же польза в том, что я…
Только бы… Ну…
– Даже в этом – в том, что ты потерял зрение – тоже – да! Вот в этом! – я хлопаю ладонью по крышке компа. – Это же на Букера тянет, не меньше, ты сам знаешь! Разве – нет? Ну – скажи…
И я обнимаю его и пью его запах, и обмираю – ну?
А он что-то там ворчит, но, вроде – улыбается. Опасность миновала, я – рядом, я – нужна.
Значит – я существую?
Чертовски это приятно – существовать… Попробуйте, а……Книга подходила к концу и я не знала, не представляла себе – что дальше.
– Люсь!
– Что, Санечка?
– Я спросить хочу, а? Насчет названия.
– Ну, это же совсем просто…
– А я вот застрял и ни туда, ни сюда. А ты что – уже придумала?
– Конечно. Это же у тебя роман в письмах, так?
– Да… И – что?
– А ты помнишь, как мы в молодости письма друг другу писали? И как их подписывали?
– Погоди, погоди… Что-то такое…
– Мы их подписывали – C-Лю… Саня – Люся – Любовь…
– А что, название – вполне… С-Лю… Слушай, годится! А тебе-то как – нравится? – он смотрит на меня удивленно-виновато и улыбается. И я улыбаюсь – тоже, потому, что вот и еще одна секунда счастья на моих песочных часах…
6
Время вовсе не идет вперед.
Время идет – по кругу.
Часы видели? С циферблатом?
Вот, примерно, так…
Первая наша книга была о летчиках. Ни о чем другом он в тот момент даже и писать бы не стал. Это было, как фантомные боли. Спасение было в том, чтобы об этом кричать, и я подала ему эту идею. Помогло. Мы написали ее за три месяца – повесть с хорошим концом.
Вторая была про врачей.
Дело в том, что я – врач. И не просто врач, а – глазной. Смешно, да?
Книга была про глазного врача, который теряет зрение. И от этого у него обостряются остальные чувства. И он начинает жить по-новому и воспринимать мир по-новому – через обоняние, осязание, слух. И жить становится ужасно интересно, несмотря на…
Третья книга должна была быть про нас. Она и была – про нас. Настолько, что нас – настоящих, становилось все меньше и меньше… Неужели мы все это только выдумали? И если – да, то кто мы на самом деле?
– Саня, тебе же холодно…
– Нет, ничего.
– Пойдем в дом.
– Нет, давай еще посидим в саду, а?
– Слышишь – летают светлячки?
– Слышу, да. Ты знаешь, я закончил нашу книгу.
– Я знаю. Я чувствую…
– Ну и как тебе?
– Лучше, чем жизнь…
– Тогда хорошо. Я тоже так чувствую. Все-таки, мы ее написали…
– Да, мы молодцы. Слушай, давай отметим, а? Хочешь?
– Еще бы!
Я собираю полную корзину еды, кладу бутылку красного сухого вина, и мы спускаемся к морю.
Саня идет уверенно, легко размахивая своей тростью и – улыбается… Я висну на его левой руке, заглядываю в лицо, прижимаюсь. Легкий ветерок нам в лицо. И я вдруг вспоминаю, что в детстве мне часто снился один и тот же сон – будто я иду по песку, как сейчас, а следов моих позади – нет. И очень страшно оглядываться.
Я вздрогнула и – оглянулась. Моих следов не было, только его. Одна длинная цепочка, уходящая в сумерки…
Я ничего не сказала. Да и что говорить, все уже сказано – в книге. И какая разница, где мы, каждый из нас, на самом деле. И есть ли я – вот сейчас – здесь, на этом берегу.
Если – вдвоем.
Если – вместе…
7
– Ну что, доктор? Как наши дела?
– Видите ли… Я не стал бы… тешить себя и вас утешительными прогнозами, но – в общем и целом… Все не так уж плохо…
– Но вы видите улучшение? Видите динамику?
– А вы?
– Понимаете… Мне трудно, уже – трудно ответить на этот вопрос. Я ведь целых десять лет с ней – другой… Иногда мне кажется, что ту, прежнюю Люсю, я начинаю забывать. Да и кто знает, была ли она – вообще? Я… Знаете, доктор, я привык – к этой… Елавное, она в безопасности, в тепле, в порядке. Ав каком она мире, своем или – нашем…
– Она в безопасности и в порядке, пока она с вами. Вы оказались правы, забрав ее из клиники… Н-да… Я ведь сомневался… Сейчас я, более-менее, спокоен. Но ведь и вам это все далось нелегко…
У каждого из нас свой отсчет. И время у каждого – свое. Вот и у меня последние десять лет длятся, словно они и есть – вся моя жизнь. А все, что раньше…
…Сначала ее положили в клинику. Сказали – там ей будет лучше, спокойней. И мне легче… Через месяц я ее забрал – каменную, никакую. Практически – неживую. Это было самое страшное – видеть ее, дотрагиваться до нее, а она поднимает на тебя глаза и говорит:
– Саня, привет, ты уже вернулся… Извини, не могу тебя встретить, меня ведь нет – ты знаешь… Кончилась я. Жалко, правда? Скажи…
Пришлось уйти с летной работы, благо до пенсии оставалось всего-ничего и летный стаж позволял. И началась эта самая – другая жизнь. Жизнь с ней – с Люсей моей.
Поначалу чуть сам с ума не сошел.
Спасла – книга.
Мы пишем ее все эти десять лет. Оба вместе, и каждый – отдельно. И нет ей конца… Не помню уже, чья была идея, да и неважно это. Главное – что пока мы ее пишем…
А было-то, на самом деле, просто. Очень.
…Вылетели тогда двумя бортами. Обычный рейс, обычное задание, обычная работа, свой экипаж… Мы взлетели первыми и в порт назначения пришли, соответственно, тоже – первыми. Погода была не ах, но – в пределах. Зашли, сели, на стоянку зарулили. И слышим по радио – следующий за нами борт – Витьки Шаповалова – аварийно садится. У него, оказывается, левая основная стойка шасси не вышла. Они еще пару кругов сделали, пытались выпустить аварийно, но… Рассказывать дольше получается, чем все произошло. Витька все правильно делал, зашел точно по оси, после касания, когда скорость стала падать, держал, сколько мог, обратным креном, но не его бьш день… Сгорели они, и Витька и экипаж его…
А Люська моя… Это теперь у каждого по мобильному телефону, да не по одному – звони не хочу. А – тогда… В общем, прежде чем я до телефона добрался, по телевидению уже все показали и она все это увидела. Они только, какой именно борт разбился, как раз и не сказали. А у нее фантазия всегда очень богатая была. Потому и звонил я ей из каждого порта и каждый раз. Знал ее, берег…
Через два дня я вернулся… Раньше не мог – погоды не было, порт закрыт, сгоревший борт на полосе. To-се… К телефону она за это время не подходила, дверь никому не открывала, а я вошел… Она сидит у окна. Подняла на меня глаза, посмотрела и говорит:
– А, Санечка, ты вернулся… Хорошо… А меня вот, нет уже. Я же ведь тоже там, с тобой вместе – сгорела. Ну ничего, главное, что мы опять – вместе…Аллах акбар
Облака плывут
Эта история начинается под оливой, старой оливой с грубыми узловатыми ветками и усталой пыльной листвой.
Она звучит во мне ломким гортанным криком птицы, позабывшей где ее дом.
Эта история длится и длится, и нет ей конца, потому что нет конца ни счастью, ни страданию.
А значит, и нам с тобой – тоже…
– Смотри, облака плывут. Как красиво…
Анат лежит в густой траве, ее голова на моих коленях, рыжие волосы рассыпались, как солнечные лучи. Я сижу, облокотившись на ствол, моя спина одеревенела, но я боюсь пошевелиться, боюсь потревожить – ее.
Нам по двадцать лет, и мы знакомы уже целых два месяца. Мы любим друг друга, и все остальное нас не интересует. Наша жизнь начинается с этого поцелуя и длится вечно, и так – каждый раз, потому что все что было раньше – неясный рокот далекой грозы, сумерки без дна, сухие губы пустыни – лишь предвкушение вечности.
– Облака, да… Знаешь, ты на вкус – словно ягода. Я все время хочу тебя пробовать. Нежная ягода – розовая мякоть, душистый аромат…
– А ты – колючий, как катус. У тебя щетина. Но я все равно тебя люблю.
Неужели это правда? Неужели эти слова говорит неприступная красавица, профессорская дочка, будущее медицинское светило? И кому? Мне – бедному пастуху, простому деревенскому парню? Не верю.
– Скажи это еще раз, Анат. Скажи, ты любишь меня? Ты пойдешь за меня замуж?
– Конечно, ну какой ты смешной. Разве может быть иначе? А потом мы уедем далеко-далеко, там я выучусь и стану врачом, а ты будешь… Кем ты хочешь быть, Асаф?
Я склоняюсь над ее лицом. У Анат чудесные ямочки на щеках и зеленые глаза. Ямочки лучатся радостью, а в глазах – столько света и столько жизни, и столько надежды… Даже сейчас, после многих лет, я вспоминаю их, я вижу их перед собой так же ясно, как в тот далекий солнечный день – зеленые озера счастья. И в каждом – мое отражение, вот он – я, влюбленный юноша, мальчишка, глупец…
…Я целую ее ладонь. Какая тонкая у нее рука. И кожа белая-белая, прозрачная кожа и голубая жилка в ямочке над ключицей. И…
– Я хочу строить дома. Знаешь, у нас в деревне все дома – одинаковые. И даже не во всех окнах есть стекла. Пожалуй, я хотел бы выучиться на архитектора…
– Как чудесно! Мы будем жить вместе, работать, у нас будет большой дом, трое детей и собака.
– Зачем – собака?
– А я люблю собак. Я всех люблю…
– Ты любишь – всех, а я люблю только тебя. Ты – мое счастье.Олива поливает нас тенью, солнце скатывается все ниже, нам пора расставаться. Пусть ненадолго, но это – невыносимо, и я вспоминаю слова Анат про далекую страну, дом, троих детей и собаку, и в первый раз думаю всерьез – а почему бы и нет?
Я уплываю в своих мечтах далеко-далеко. Я забываю про колодец своей души, где плещется непрозрачная вода цвета пустыни, я люблю свою Анат так нежно и бережно, как-будто глажу птенчика – доверчивого, любопытного, зеленоглазого птенца, вывалившегося из гнезда и, теперь вот, засыпающего на моей ладони. Она, и вправду, задремала на несколько минут в моих объятьях. Ее губы так красны от моих поцелуев, кажется, еще один поцелуй – и брызнет кровь…
Но это – закат.
Мы расцепляем руки. Мы расстаемся до завтра. Анат улыбается и прикасается пальчиком к моей груди, слева, где все время бьется…
– Я иду домой, но на самом деле, я остаюсь здесь, ты слышишь? Ты – чувствуешь? Это не сердце, это – я. Учти…
И она убегает, смеясь и отряхивая юбку, а я бреду домой. Бреду домой и боюсь заглянуть в колодец. И пустыня – поет мне, как всегда, чтовремени – нет
В молодости не веришь, что время существует на самом деле. О нем просто – не думаешь.
Тогда мне казалось, что встречи под оливой – это наша вечность. Но однажды Анат пришла и сказала, что беременна.
Мне показалось, что я падаю в колодец. И молчаливая, цвета пустыни, вода – ждет меня. Ждет меня, чтобы сделать свое дело. И слева вот-вот стучать – перестанет.
– Асаф, Асаф, ты что? Что с тобой? Ты где?
– Я здесь.
– У тебя было такое лицо…
– Какое?
– Как будто ты куда-то провалился.
– Глупости, вот он я. Ну, что ты еще выдумала.
– Ты слышал, что я сказала?
– Конечно. Я слышал, я понял. Я понял, что… ты беременна… и у нас будет ребенок.
– Это чудо! Ты представляешь, какое это чудо?
– Нет, я еще не… Я, вообще, пока ничего не представляю. Мне пока…
– И мне страшно, ну и что? Мы справимся, увидишь. Сейчас самое главное – поговорить с родителями, твоими и моими. И пока ничего не говорить про ребенка, только про нас. Что мы любим друг друга и хотим быть вместе. Они же еще ничего не знают – ни твои, ни мои. Никто не знает…
– Никто не знает, да.
– Ну, вот, пусть узнают. Пора уже. А про беременность расскажем потом, вот и все. Слушай, я узнала, какие документы нужны, чтобы мы могли уехать в Австралию. Вот…
И она с упоением начинает говорить – единственная дочь своих родителей, моя девочка, моя ягодка, мать моего будущего…
…Если бы – не любовь. Если бы не любовь, все было бы легче, гораздо легче.
Потому, чтоубивать – легко
– Убивать легко, – сказал Ахмед. Он сидел напротив меня и медленно и сосредоточенно жевал питу, время от времени, макая ее в оливковое масло. Оно лоснилось у него на подбородке и капало с пальцев толстыми, медленными каплями. Пальцы – крепкие и смуглые – шевелились, как тугие червяки. Он мой старший брат. Я самый младший. А всего нас – семеро.
– Ты непутевый. Всю жизнь был непутевым… Рисунки твои… Вечно в облаках витаешь, выдумываешь. Отца на тебя нет, он бы тебя – живо…
Наш отец стал шахидом, когда мне было семь. Он ушел из дома, даже не попрощавшись, и только назавтра мы узнали, что произошло. К нам в дом приходили важные люди, а мулла возносил молитвы за нашу семью. Мать днем радовалась и смеялась, а по ночам плакала в подушку, чтобы не услышали соседи. Я не хочу – об этом. Хочу забыть…
– Ты слышишь меня или опять думаешь о всякой чепухе? Слушай внимательно и запоминай. Твои братья все знают, и в деревне знают тоже. Знают все. Сроку тебе – неделя, не больше, иначе позор падет на всю семью. Что это такое – ты знаешь. И знаешь, что надо делать. Одним евреем меньше – хорошо, а если двумя – еще лучше. Вонзить нож лучше всего в шею, сверху вниз, и старайся попасть вот сюда, – он тычет пальцем в то самое место, где у Анат ямочка, а в ней – голубая жилка – та самая…
– Аллах акбар…
Ах, если бы не любовь, мне бы никогда не узнать, что это такое —Австралия
Я ведь на, самом деле, мог никогда ее не увидеть, а так…
– Па-а-ап, ну, пап… Ну, послушай же…
Ее зовут Хания, ей двенадцать. У нее зеленые глаза и черные волосы. Я держу ее за руку и мы шагаем – один шаг мой и два – вприпрыжку – ее. Она мне по плечо, она стройная и гибкая, как веточка молодой вишни. Она любит всех и этим напоминает мне Анат, мою Анат, которую я целовал в густой тени под оливой.
Моя Хания, моя дочь – дитя этой любви.
– Па-а-ап, а у нас в классе новый мальчик. Он симпатичный.
Еще у нас с Анат есть дом и даже собака. У нас обязательно будут еще дети, а у них – их дети, наши внуки и в них – мы и наша, только наша – моя и Анат – вечность… И вода в их колодцах будет чиста и прозрачна, и вкусна…
Я вспоминаю свою деревню, одинаковые дома и узкие пыльные улицы в белом мареве пустыни. Лицо матери, руки Ахмеда. Мои дети, как и я, никогда не увидят моих братьев и мою мать. Я даже не знаю, жива ли она. Может, она уже умерла – не знаю.
Просто никому кроме меня не удалось побывать здесь, в этой чудесной стране – никому из них.
Мой колодец высох, в нем нет больше воды цвета пустыни. В нем нет – ничего…
Но как это здорово, что здесь есть оливы. Даже в самую страшную жару под ними тень и прохлада, и —Анат. Моя Анат
День сегодня сухой и жаркий. Тишина, словно все умерло кругом, остались только мы. Анат спит, прижавшись ко мне и положив под щеку ладонь. На ней зеленая юбка в складку и оранжевая майка на тонких бретельках. Ее груди набухли и стали тяжелее, чем раньше. Она улыбается во сне и произносит мое имя – Асаф.
Я так люблю ее – что не хочу жить.
– Асаф…
– Что, любимая? Ты уже проснулась?
– Я бы спала еще, но мне приснился странный сон. Страшный.
– Не бойся, забудь. Я с тобой. Спи, у нас еще есть время…
Она снова улыбается и поворачивает голову, чтобы поудобней устроиться на моей руке……Меня зовет мой колодец. Там прохладно, и не помнишь ни о чем. Вода – молчалива.
Я тихонько прикасаюсь губами к ее волосам. Запах счастья и солнца. Тень ресниц на щеке. Щека – горячая и гладкая. Влажный рыжий локон на ее шее. Чуть ниже – вот она, эта ямочка. И жилка…
Я люблю ее больше жизни. Вот только жизнь я не люблю совсем.
Сейчас самое главное – не думать. Так сказал Ахмед – не думать ни о чем. Правда, я не умею. Я с детства такой – думаю о нескольких вещах одновременно.
Травинка щекочет ее лицо. Она смешно морщит нос и снова открывает глаза.
– Я не могу заснуть. Я чувствую твой взгляд и просыпаюсь. О чем ты думаешь?
– О тебе. Я всегда думаю только о тебе. Все время.
Еще я думаю о нашем неродившемся ребенке. О своих непостроенных домах и больных, которых не вылечила – ты.
Я думаю даже о нашей собаке, хотя – не люблю собак.
Я думаю, я все время – думаю, а Ахмед говорил, главное – не думать…
Прижаться к тебе – хотя бы еще один раз…
Еще – один…– Аллах акбар!
И я бросаюсь в молчаливую воду цвета пустыни. Алый закат заливает мои руки и траву, и даже тень от старой оливы…
Но это – не закат…
То, что раньше стучало и болело в моей груди, вот тут – слева – успокаивается и замолкает.– Па-а-ап, а что означает мое имя?
– Хания, значит – счастливая. Ты же у меня счастливая, правда?
Но мой колодец молчит в ответ…А ведь выбери я тогда – Австралию…
Последний посыл
Как же хорошо, что мы, лошади не умеем разговаривать.
Зато – мы умеем скакать. А скачка – это… Еще мы умеем видеть и слышать. Ну и, конечно, больше времени для размышлений…
1. Малыш
Малышом называл его только я. Еще Дина, конечно. Другим он этого не позволял. Просто делал вид, что его не касается или отворачивался – даже морковка не помогала. Вообще, лошадиные имена, это целая наука. От кого, через кого, инбридинг, кровь, линии, породы… Для знатоков – и то сложно бывает, да и знатоков-то настоящих по пальцам одной руки пересчитать, как и настоящую скаковую лошадиную элиту.
На самом деле, кличка у него была обыкновенная – Лабиринт. Не так, чтобы очень благозвучно, но для лошади – вполне нормально и на слуху. Зато у родителей его, имена были, что надо – Лавиния и Бинго. Правда красиво? Представьте – полные трибуны, музыка, зеленое поле ипподрома, и диктор объявляет – «По третьей дорожке стартует Бинго под седлом мастера-жокея…»
Нет, с Малышовым отцом дела мне иметь не пришлось, да и не проявил он себя особо, как спортивная лошадь, так средненькие результаты показывал, а к четырем годам, когда ясно стало, что в гладких скачках [3] ему не светит, сначала решили было его в стиппльчезы [4] , но не повезло ему и там – упал, повредил сустав и… отправили его обратно в завод, как производителя, кровь-то в нем самая, что ни на есть, скаковая. Полукровка – карачаевская и английская скаковая порода… А почему именно так, а не иначе вышло – кто знает. Иногда кроме крови, еще и характер чемпионский надо иметь. Лошадь, она в этом смысле, от человека ничем не отличается. Да и во многих других смыслах – тоже…
А Малыш, ну Лабиринт, то есть, с ним у меня такая история вышла…
Вы сами знаете, скачки – это тотализатор, то есть – деньги. Большие скачки – большие деньги. А стало быть, всегда найдется тот, у кого интерес не только и не столько спортивный. К чему я это говорю?
Я – жокей, понимаете? Я с лошадьми – с детства, я их люблю и нутром чувствую. И опыта у меня достаточно, и чувства пейса [5] . Я – жокей… А вот, оказалось, недостаточно всех этих качеств, чтобы… войти в элиту, что ли. Туда, где лучшие лошади, лучшие ипподромы, лучшие, лучшие, лучшие… Ну и призовые, а как вы думаете? Но надо, чтобы не только ты всего этого захотел и был достоин, а чтобы и тебя там захотели – тоже. Как везде… В общем, я на хорошем счету был, победы уже были, заметили меня, лошадей стали доверять, ставки делать. И вот, в один прекрасный день, перед стартом, подходит ко мне один наш… близкий к определенным кругам сотрудник, отводит в сторону и тихо говорит:
– Догадываешься, кто меня послал?
– Догадываюсь – говорю, – а что?
– Раз догадываешься, – отвечает – то велено передать… Короче, в последнем повороте возьмешь на себя, понял? Не пожалеешь…
Для непосвященных – перевожу. Это он мне так предложил перед выходом на финишную прямую придержать лошадь. Зачем и почему именно – мне и именно – тогда? Очень просто, лошадь, на которой мне в тот день предстояло скакать, была явным фаворитом, и ставки, соответственно, были в основном на нее. А представьте, что вместо фаворита первой приходит другая лошадь – темная и сколько тот, кто на нее поставил, может в этом случае получить…
Конечно, за этим следят, результаты скачки могут аннулировать, жокея – дисквалифицировать, даже уголовное дело открыть, но… Ведь те, кто такие дела делает, они тоже с мозгами и – неплохими. Почему – именно последний поворот? А там самая рубка и начинается – каждый хочет перед финишным броском позицию получше занять, чтобы не затерли, не задели, не помешали. И происходит маленькая давка между лошадьми и жокеями за место под солнцем. Попробуй, угляди тут, ты взял на себя, или тебя взяли в клещи…
…Послал я его. Правой – на пол… Жокей, как и лошадь, перед скачкой на взводе, и уж коли кто или что мешает…
…Скачку я выиграл, да и не я, в общем, лошадь сама за меня все сделала, мое дело было – не мешать, ну я и не стал… Класс – он и есть класс, что тут скажешь. И лошади и всадника…
Н-да… А карьеру жокейскую свою, выходит – проиграл. То, что мне в тот же вечер… Это – ладно, конный спорт – занятие не для слабых. Но вот, назавтра, получаю я командировку на конезавод – молодняк отбирать, жеребят перспективных. Это в разгар сезона! Классного жокея отправлять за тысячу километров от скачек, в горы… Я, конечно, сразу все понял, вот, как вы сейчас. Понял и – поехал. А что прикажете делать? В милицию (тогда еще по-старому было – милиция) идти – жаловаться?Конезавод, это такое место… Место, где начинается – все. Вся лошадиная жизнь, весь конный мир начинается – там. Рождение классной скаковой лошади планируется специалистами на годы, на поколения вперед. Ни одной случайности, ни одного непродуманного шага. А настоящая конная романтика, это табуны. Весной, летом сотни лошадей отправляются на пастбища, в предгорья. Свежий, горный воздух, мягкая молодая трава, свобода… Там-то они и растут, силу нагуливают, класс свой кровный, характер.
…За полторы недели мы с начконом отобрали положенное количество жеребят-полуторалеток, и все бы на этом и закончилось, вот только… На второй день я обратил внимание на одного пегого жеребенка – с большими белыми пятнами по крупу, по шее, из-за этого у него даже уши разные были, одно – белое, другое – черное. По кондициям своим он, вроде, ничего особенного не обещал и в призовые скакуны не метил, дело в другом. Не отходил он от меня, понимаете? Когда и где только было возможно, как тень. Сначала-то, издалека, а потом уже и поближе, и совсем близко. А однажды утром увидел меня, подошел просто и голову мне на плечо положил. И так мне тепло стало… Ну и люди кругом тоже ведь видят. Был там один старик – табунщик, вся жизнь его в табунах прошла, профессор в своем деле, живая легенда конезавода. Он мне и сказал однажды:
– Тебе, парень, с этим конем расставаться никак нельзя. Вы – друг для друга. Я такое за всю свою жизнь только два раза видел, понял? Так, значит, наш лошадиный бог захотел, так тому и быть. Если не возьмешь его, плохо будет. И – ему и – тебе…
Мне нечего было ему возразить. И к списку отобранных жеребят добавился……Знаете, на самом деле, речь-то ведь, совсем-совсем не об этом пойдет, не о лошадях. Начал я с них, с Малыша, потому, что… переплелось все слишком – не отделить одно от другого, да и понять одно без другого тоже – никак.
Что может быть проще и сложнее – любви? Если и вас она не обошла стороной, считайте – вам повезло, многие этого чувства так и не узнают, и не поймут. Но все равно – хотят и, вроде бы – стремятся. А когда она им, наконец, встретится…
Ну, вот, как мне – Дина…
2. Чувство женщиныЕсть такое чувство – чувство лошади. А есть – чувство женщины.
Главное здесь – не соврать. Самому себе и, как результат – ей. Научить этому – нельзя…
Вот, чувство лошади – это способность всадника ощущать ее движения и ее желания. Это ее физика и физиология, ее рычаги, ее плечо, ее скаковое тело и ее характер. Но можно сидеть в седле и просто… ну, еще пятьдесят пять килограммов лишнего веса, и – будь она хоть трижды элитная чистокровка… А иной и неказист, вроде, а в седло сядет, словно сросся с лошадью – не расцепить, и нет его и ее, есть один организм – гармония движения, гармония души, гармония скачки. Ей и посыл не нужен, она – сама…А чувство женщины… Это вот, когда потребность ее касаться становится – непреодолимой. Вдруг понимаешь, если сейчас, сию минуту не дотронешься – погибнешь…
Если бы мне кто-нибудь такое раньше сказал – я бы не поверил. Ну что, в самом деле, мало я их трогал? С удовольствием, с трепетом, с дрожью даже. А вот, чтобы такая появилась – никогда. Никогда – раньше…
Познав такую женщину – свою женщину, начинаешь чувствовать ее даже на расстоянии. И не только мысли, а малейшие движения души и потаенные желания ее узнавать. И падает на тебя целый новый мир, и ты понимаешь вдруг, что – не один. И только одно желание – быть одновременно и внутри ее и снаружи. Везде. И всегда. И сразу так хорошо – жить……Мы возвращались с утренней проминки, я вел Малыша под уздцы, а он время от времени фыркал и тыкался теплыми губами мне в ухо, словно желая пощекотать.
Кстати, может, так оно и было на самом деле. Очень даже допускаю…
Неожиданно, по другую сторону от него, раздался женский голос:
– Простите, вы не подскажете, как пройти к пятому отделению?
Я остановился, Малыш – тоже. Девушка была худенькая, миловидная, светловолосая. Подмышкой – большая картонная папка.
– А вы к кому обращаетесь? – спросил я в ответ. – Ко мне или вот – к Малышу? – и похлопал его ладонью по морде. Тот снова фыркнул и затряс головой.
– К обоим, – улыбнулась она. – А его правда Малышом зовут или это так… ну, ласкательно? А почему у него уши разные?
– Да как вам сказать… Э-э-э…
– Дина…
– Юрий… Уши разные, говорите? Пегий он потому что. Пегой масти. Так у него в документах написано.
– А – Малыш?
– Ну, это только между нами. Он и я. А больше он на это имя и не откликается никому, только – мне.
– Правда?
– Хотите убедиться? Пожалуйста… – я достал из кармана куртки полморковки и протянул ей.
– Держите. Это его любимое лакомство. Он за морковку… Но и это не поможет. Не отзовется он…
– А как проверить?
– Просто. Вы отойдите в сторону, позовите его по имени и протяните морковку. Вот и все. Сами увидите. Не возьмет…
Она отошла чуть в сторону, метра на два, неуверенно вытянула руку с морковкой и сказала:
– Малыш… На, Малыш, на…
Малыш повернул голову на ее голос, сделал шаг, вытянул шею и – взял…
И Дина вошла в нашу жизнь…– Юр, Юра…
– Что, заяц?
– Ну, а сейчас, скажи, о чем ты думаешь?
– О том же…
– О чем – о том же?
– О нас.
– О нас с тобой?
– Угу…
– И что?
– А я вот думаю… Что было бы, если бы Малыш тогда у тебя морковку – не взял…
– И что бы было?
– Страшно даже представить…
– И мне…
– Н-да… Правильно мне тот старый табунщик сказал. Вы – друг для друга…
– И это про нас?
– В общем, да. И про нас – тоже. Про все…
3. Про счастьеНа самом деле – все просто.
Для того, чтобы дать человеку почувствовать состояние абсолютного счастья, бог пускается на всяческие ухищрения.
Здесь и случайные – якобы – встречи, и необычайные – на первый взгляд – совпадения. А еще бывает, редко правда, цепочка мгновений, слипшихся, слившихся воедино. Так, что глаза слепит – от незабываемости их.
Кто придумал, что за все надо платить?
Правильно придумал.
Иначе бы люди умирали – от счастья. Хотя, иногда и такое бывает. Но – представляете такой диалог:
– Хороший был человек…
– Да. Жаль, что так внезапно…
– И отчего же?
– Да, от счастья, говорят…
– А-а-а-а… Хоть не мучился?В то лето я понял, что когда-нибудь – умру… Потому, что такие мысли приходят только когда есть, что терять. А Дина…
Я не читаю любовных романов. Я и вообще не слишком к таким вещам привык. Вот, насчет пейса, как лучше лошадь до кондиции скаковой довести, взять от нее ровно столько, сколько она может дать и даже чуть больше – это да, мое. А – романы… Но, если после двух суток любви, едва расцепив руки и губы, испытываешь звериную тоску и голод по тому, другому телу… И лишь одна мысль – почему, ну, почему мы не сиамские близнецы…
– Который час?
– Не знаю. Сейчас посмотрю… Девять, вроде, девять вечера. Почему ты спрашиваешь?
– Хочу запомнить…
– Запомнить – что?
– Хоть что-нибудь, хоть – время…
– Зачем?
– А вот, буду когда-нибудь умирать, совсем уже ослабею и соображать ничего не буду, и вдруг, захочется вспомнить что-нибудь хорошее.
– Ну?
– Ну, вот ты мне и шепни на ухо в этот момент – девять вечера…
– Но – почему?
– Потому, что я запомню эту минуту, как минуту абсолютного счастья… Ты шепнешь, и я возьму на себя, задержусь на целую бесконечную секунду, и умру – счастливым…Что вы понимаете в любви?
Что понимаю в ней – я?
Да и не любовь это – мутация, неутолимая жажда. Ежесекундная потребность видеть, слышать, трогать. Образ жизни – как страх, страсть, пристрастие, зависимость…
А вы говорите – любовь…
4. Осенние листьяДни летели, похожие на осенние листья…
Все было, как обычно – тренировки, диета, скачки, пустая, холостяцкая квартира. Только одно было не как всегда, вернее – как никогда. Чувство ее постоянного присутствия.
То, что между нами произошло, то есть – происходило, было так… ново и необычно для обоих, что необходим был почти постоянный выброс эмоций, нас – зашкаливало друг от друга… Словно коня, получившего последний посыл и последний вопль всадника перед самым финишным створом – прямо в ухо, и так уже летящего полным махом и вовсе не к этой полосатой штуковине, врытой в землю слева, а потому, что пейс – в крови……Поэтому, я все время пропадал на ипподроме, иногда даже ночевал там в каптерке, вместе с конюхами и сторожами, возвращаясь домой только к ее приходу – Дины. А она, помимо учебы в Строгановке, (помните папку у нее подмышкой – там рисунки были и лошадей – тоже), набрала кучу какой-то халтуры, что-то где-то оформляла, мы, в основном, перезванивались, встречались вечерами два-три раза в неделю и только по субботам она приходила ко мне и оставалась…
А воскресений я – не помню. Часто мы даже не вылезали из постели. Соприкосновение наших наэлектризованных тел стало таким же необходимым условием существования, как сон или восход солнца…
Смешно, но после ее посещений, целых два дня я мог не думать о диете. У нас знаете, как? Пятьдесят пять килограмм вместе с седлом, все остальное – это проигранные секунды. Даже поговорка такая есть: на завтрак у жокея – сырое яйцо, на обед – его запах, на ужин – воспоминания о нем… Если ты маленького роста, еще куда ни шло. Недаром есть целые жокейские династии, в которых маленькие женятся на маленьких, чтобы следующие поколения… Были даже случаи, когда жокеи вырезали ненужные для скачек мышцы, чтобы уменьшить вес. А мне с моими ста семьюдесятью пятью сантиметрами роста… По жокейским меркам – великан. Дина все время пеняла мне, что у меня кожа да кости, непонятно, где во мне мужик прячется. Ну, на это у меня ответ всегда один был…
И вот – парадокс, несмотря на постоянное, острое желание быть рядом, мы совсем не стремились жить вместе, хотя и препятствий особых для этого не наблюдалось. Мы были одиноки, ничем не связаны, но прорастать друг в друга, раздвигать чужую жизнь своими корнями, казалось – слишком, потому, что и у счастья есть пределы – так мы думали. Как же можно еще больше, если и так уже…Ближе к зиме, что-то между нами… сломалось, что ли. Заболело…
Началось это как-то незаметно – Дина сделалась задумчивой, тихо вздыхала. И прижималась крепко-крепко, словно боялась, отберет кто. Так и говорила – чтобы никто не отобрал…
Жила она довольно далеко, за кольцевой, снимала там квартиру пополам с подругой – не любила по общежитиям. Училась, я уже говорил, в Строгановке, то ли дизайн интерьера, то ли… Не знаю точно, не разбираюсь я в этом. И все время рисовала животных, любила это дело страшно. Только портретов Малыша собралась у нее целая галерея. Один я даже в рамку вставил и на денник его повесил…
…Почему-то она стала на меня обижаться из-за пустяков, приходила усталая, грустная. Любил я ее теперь нежно и бережно, как будто боялся разбить. И от этой боязни, от этого страха причинить боль, начал по-настоящему сходить с ума. Дотронешься до нее – вся подается навстречу, а я обниму ее, прижму и – замираю. Пусть на – мгновение, но замираю…
А потом я заметил, что она похудела. А – потом…– Юра, привет!
– Привет. Как дела, моя маленькая?
– Ты знаешь, я сегодня не приду, не смогу…
– Почему? А – когда сможешь?
– Ну… Может, через неделю…
…– Дина, скажи… Ты… Ты меня больше не хочешь?
Знаете, чего мне стоило задать этот вопрос…
– Нет, совсем нет… Дело не в этом… – и она, наконец, заплакала в трубку……Она открыла мне дверь, и я едва успел ее подхватить. Я гладил ее вихры, запавшие щеки, губы – сухие, в трещинках, голодные, соленые…
…– Юра, у меня такое чувство, что… Ну вот есть обрученные – когда перед свадьбой, а есть – обреченные, понимаешь? Обреченные друг на друга. Это – мы с тобой. И даже не на всю жизнь, а навсегда…
Она – заболела…
5. Категория любвиБолезнь – это всегда и обязательно излишек – тромб, опухоль, гнойник. По крайней мере, это так выглядит. Мы боимся себя растратить, растерять внутреннее тепло и в отместку разгораются угли, и начинает гудеть пламя – жар, судороги, пепел…
– Скажите, доктор, насколько это… серьезно?
Я хотел сказать – опасно, но вовремя спохватился – чисто подсознательное стремление спрятать голову в песок.
– Это… серьезно. Лейкоз – это всегда серьезно… – в его глазах усталость и грусть. А может, просто привычное выражение лица.
– А – точнее?
– Точнее? Точнее… – он опускает глаза и постукивает шариковой ручкой по столу. Скольким он вот так же объяснял, что жизнь уже почти…
– Точнее, ей может помочь пересадка костного мозга. В принципе, это дает довольно высокую вероятность… благополучного исхода. В противном случае, ну… несколько месяцев. Может быть – год…
Он поднимает на меня глаза. Я молчу.
– Я знаю, какие вопросы вы хотите задать, потому, что их задают – все. Почти – все. Поэтому или запишите, или запомните, у меня не будет времени объяснять это второй раз… Теоретически такую операцию можно сделать и у нас в России, но… лучше все-таки не здесь. Обычно мы рекомендуем Германию, Израиль. Там очень неплохая статистика таких операций, а общее состояние медицины… Ну, вы понимаете. В Израиле это несколько дешевле, хотя общий уровень вполне… сопоставим. Примерная стоимость порядка… тысяч долларов. Если у вас есть такая возможность в принципе, лучше не откладывать этого в долгий ящик. Поиски донора иногда занимают немало времени. Необходимые анализы и выписки мы вам подготовим. По-моему, все…Ее белое лицо на белой больничной подушке. Испуганные глаза. В них – небо и вся моя…
– Юра, Юрочка, а почему ты не на работе? А? Ты за меня не беспокойся, я в порядке, я себя вполне нормально чувствую. Ну…
На ее тумбочке горка из апельсинов, наверно друзья из института…
И я почему-то не могу на них смотреть, как на солнце. Слепит, и такой яркий свет – режет глаза…
Как же нам быть теперь, когда счастье кончилось, а любовь – только-только началась…
Я наклоняюсь и прижимаюсь к ее щеке – не хочу, чтобы она видела…
– Ты меня совсем не слушаешь – я чувствую по тону, как она неуверенно улыбается. – Ты у врача был? И что?
– Тебе можно помочь. Тебя можно вылечить, слышишь? Это он так сказал – доктор. А значит – так оно и будет, и чтобы никаких сомнений, понимаешь? Никаких… Вопрос только в деньгах, а значит – вопроса нет. Деньги будут. И будет столько, сколько надо. Просто поверь мне и все. Если поверишь, все будет хорошо – я обещаю. Да?
И я чувствую, как она кивает своей, плотно прижатой к моему плечу, головой, и от этого с нее сползает косынка, прикрывающая…
– Все будет хорошо, малыш… Все будет – замечательно……Я уже знал, где взять деньги, уже понял. И сразу – возненавидел себя.
Сомневался ли я? Ни одной минуты.
Ведь страсть – категория звериная и ее – пропасть, у которой нет дна.
А на самом-то деле, всего-навсего – категория любви…
6. Верхом на метлеЯ его нашел, того, которого – правой – на пол… Помните? За час мы не только договорились, но и систему разработали определенную, и по датам скачек, и даже о процентах условились. Профессионалы…
По прикидкам выходило – месяца за четыре-пять можно реально рассчитывать на нужную сумму. Риск, разумеется, но выхода-то ведь другого все равно нет. Так что, на эту тему можно было не думать. Ну, а если уж очень невмоготу – вспомнишь Динины глаза и сползшую косынку…
Возможности у них, конечно были серьезные. Ведь вариантов-то всего два – или прийти первым, когда от тебя этого не ждут, или проиграть на фаворите – другого нет. Если делать это все в лоб, тебя уже на второй-третьей скачке возьмут за жабры, и всю оставшуюся жизнь будешь на ипподром ходить только через кассу – как все. Когда выйдешь. Поэтому стратегию таких событий умные люди давно разработали, и она действовала. Сбои, само собой, случались, ну а где их нет. И потом, выхода не было все равно – я ж говорю……Через пять недель необходимый аванс был у меня в руках, еще через четыре дня некое лицо перевело на счет израильской клиники требуемую сумму и, как говорила в свое время одна популярная личность, процесс пошел…
…Я смотрел вслед креслу-каталке, на котором ее увозили к самолету и… Да, конечно, я надеялся, я даже – почти верил, но видеть ее – Дину – такой и не испытывать сомнений… Не думать, что может в последний раз вижу ее – живой, вижу – вообще… В тот момент и слезам бы не удивился… Но я стоял, как каменный истукан и смотрел вслед самолету, рулившему к началу взлетной полосы, смотрел, как он разбежался и взлетел, смотрел, когда он уже исчез в небе и, наверное, стоял бы еще не знаю сколько, если бы меня не взяли за локоть, и я не услышал:
– Юра, пора. До начала два часа. Пока доедем…
В этот день я чуть не проиграл скачку. Попался один упрямый, такой же, как я когда-то, и я знал, что уже сегодня вечером ему… Но не в этом дело. А вот бока у моего коня были изранены шпорами и ходили ходуном. Михалыч, конюх, набросивший на него попону победителя, покачав головой, бросил мне:
– Ну, Юра, загнал ты его сегодня, загнал… Ему после такого не отдых нужен, лечение… Я-то думал, ты к ним – с сердцем. А ты…
Я промолчал……Иногда я говорил с Диной по телефону. Оставалось меньше недели. Ее уже готовили к операции, которая должна была состояться в ближайший понедельник, был найден подходящий донор, какой-то молодой мужчина. Когда она мне об этом сказала и добавила, что они познакомились, и он очень симпатичный, я даже… В общем, глупости, конечно, но я почувствовал, что все то – ради чего, обретает какие-то реальные очертания. И – не то, чтобы отпустило, но я снова начал… ощущать мир вокруг.
Сама операция была уже оплачена почти целиком. В воскресение – скачка. Президентский приз – главный приз сезона. Я получаю и перевожу очередную сумму, в понедельник – операция, а дальше – послеоперационный период и… ремиссия – мне Дина по телефону это слово сказала, что-то вроде времени, необходимого для полного исчезновения симптомов болезни. Конечно, если все пройдет…
Но об этом мы с ней не говорили……– Все отменяется, все! Понял? У нас менты на хвосте, ты можешь это понять? Сесть хочешь? Скажи спасибо, что тебя вовремя предупредили, а то бы… Ты нас не знаешь, мы тебя не знаем, ясно? Кому-то из дирекции мало показалось, что ли… Короче – все. Мы всех своих лошадей со скачек снимаем, а ты можешь – хоть верхом на метле…
Вот и все. И все – зря…
7. Спаси и помилуй– Юра, вставай, слышишь! Просыпайся, ну. Ты уже тут до вечера долежался, хорош. Вставай…
Михалыч трясет меня за плечо и приговаривает:
– Это же надо, так нажраться, а… Я тебя таким сроду не видел, ты же вообще непьющий, ты же жокей, каких мало, тебе надо форму держать. Тебе – нельзя…
– Можно, уже можно. Теперь уже – все равно… – я спускаю ноги на пол и сажусь. Та же каптерка, тот же топчан, стол, на котором…
– Про все равно мы потом поговорим. А пока – вот… – он достает из-за пазухи небольшую флягу и наливает в стоящий на столе пустой стакан на два пальца. – Пей, ну! А теперь ступай в душ. Вернешься – поговорим про твое все равно……– Я же тут уже больше тридцати лет при лошадях. Я и про ипподром и про лошадей наших все знаю. Думаешь, я не видел, как ты последние месяцы удачу оседлал? И не знаю, как ее зовут? Знаю… Только я думал, что ты это все из-за денег…
– Так из-за денег и есть…
– Нет, раз такое дело, женщину свою спасаешь… Тогда расклад совсем-совсем другой.
– Все, Михалыч, нет больше никакого расклада. Нет у меня лошадей больше, сняты они все, понял? И я снимаюсь. Не на метле же мне скакать…
– Ты, Юрка, жокей от бога, а – дурак. Пейс ты понимаешь, а жизнь – ни хрена. Лапки вверх задрать и нажраться, как сегодня, это ты можешь. А мозги напрячь и работать заставить…
– Так. Если есть, что сказать – говори. А лекции твои…
– Да пожалуйста! Ты сказал, тебе не хватает… – он называет сумму. – Так?
– Да, так. И что?
– Если бы все по-прежнему, сколько скачек тебе еще надо было взять, чтобы эти деньги заработать?
– Три-четыре… В зависимости от… Сам знаешь.
– А ты возьмешь те же деньги сразу. За один раз, понял! Жокей…
– Михалыч, не понимаю…
– Не понимаю… Ты сколько отстегивал с каждого приза? Вернее, сколько отстегивали – тебе?
– Ну… двадцать пять-тридцать процентов… И – что?
– А призовой фонд на Президентский приз – какой? И делиться тебе ни с кем не надо. Плюс – ставка… Усек?
– Усек… Но у меня же лошади нет…
– Мозгов у тебя нет, я говорил уже. А – Малыш?
– Да, господи, он же… Он же ни одной победы за всю свою лошадиную жизнь не одержал. Кровь – да, но он – не чемпион…
– И слава богу, что не чемпион! Значит, на него и не поставит никто! А он выиграет… Ты понял? Ты не только эти деньги заработаешь, у тебя еще останется, чтобы мне бутылку поставить. И не забывай, между прочим, что лошадь к победе, к финишу, на себе везти надо. Это ты его, Малыша своего, на своем горбу привезешь, а не он тебя… – Он помолчал и добавил:
– А ставку за тебя сделают, не беспокойся. Есть у меня…Как сделать – пусть даже из чистокровки с прекрасной родословной – будущего чемпиона за четыре дня… Не знаю. Более того, точно знаю, что невозможно. Не стоит и пытаться. Я и не пытался. Я просто вспомнил… один давний рассказ одного старого жокея.
Позанимался я с Малышом – да. Но не усердствовал особо, за такое время и в самом деле – невозможно ничего изменить. Общий тонус, ветосмотр, с кормом не переусердствовать, суставы, сухожилия, копыта, подковы. Правую переднюю пришлось подковать заново. На этой же ноге на сустав – компресс. Пару-тройку галопов на кругу, чтобы дыхание открыть, и чтобы дорожку вспомнил – и все, пожалуй. Он, конечно, сразу понял, что к чему, все признаки налицо – скачка… Разумеется – и у лошади нервы, да еще какие. Есть особо чувствительные, так они за несколько суток психовать начинают, кроме своего конюха никого не подпускают, храпят, кружат на одном месте, как заведенные – без перерыва. А жокею вообще в это время к лошади лучше не приближаться, увидит, решит, что вот сейчас – на круг и перегорит. И всю работу подготовительную – начинай сначала. Да жокею, вообще, лучше лошади глаза зря не мозолить – только перед самой скачкой, перед стартом… С Диной пару раз сумел поговорить. Она совсем слабенькая уже стала, девочка моя, ей как раз перед операцией химиотерапию делали. Но держалась молодцом, шутить пыталась, чтобы я, значит, себя соблюдал и от нее – ни-ни. Что костный мозг у донора уже взяли и все в порядке. Что не мешало бы и в голове что-нибудь тоже пересадить, потому, что совсем поглупела от любви ко мне. Что скоро вернется…
Накануне скачки я домой не пошел. Лег в той же каптерке, на том же топчане, заснуть, конечно, не могу. Голова пустая, мыслей нет. Знал бы – как, помолился бы. Но я – не знаю и тоже поздно, ничего уже не изменить. Вот только единственное, что приходит в голову:
– Спаси и помилуй, Господи! Спаси и помилуй нас обоих – и ее, и меня. Не жить нам друг без друга, Господи, обреченные мы. Друг на друга и – навсегда… Будь милостив к рабам твоим. Спаси и помилуй. Спаси и помилуй. Спаси ипо…
8. Посыл…Мы все движемся друг за другом соответственно номерам в скачке и пока мы шагом и рысью, не спеша, проходим вдоль главной трибуны, голос диктора представляет по одному:
– Под первым номером стартует… под седлом мастера-жокея международной категории… Под вторым номером стартует…
…Ну, международной категории у нас нет и, скорее всего, не будет, но это мы с тобой как-нибудь переживем, Малыш, да? Не это главное в жизни, не это…
– Под пятым номером стартует Лабиринт под седлом мастера-жокея Юрия…
Всю нашу скачку я, само собой, изучил и просчитал еще накануне, все лошади и их всадники были мне знакомы, кроме одной темно-гнедой кобылы и паренька на ней. И лошадь и всадник были мне неизвестны, от таких как раз не знаешь, чего ждать… Может, пустышка, а может… Движется, вроде, ничего так. И парнишка сидит неплохо. Стремя очень уж высоко, коленями до подбородка достать можно – молодой еще, под знаменитых жокеев работает. Ладно, поглядим…
Голос стартующего:
– Занять стартовые позиции!
Для лошади совсем неприятно втискиваться в тесноту стартовой кабины, она узкая – если раздвинуть носки сапог наружу, то в стенки упираешься. Тут внимание нужно, лошадь вылетает из кабины, как пуля из ствола. Упаси бог задеть ногой. В лучшем случае, сломаешь ногу, в худшем – голову…
– На старт!
Одновременно с выстрелом стартового пистолета открываются створки ворот и – первый посыл……Мы качаемся в седлах, вернее сказать, в стременах, седел мы даже и не касаемся, жокейская посадка – высокая. Чем выше стремя, тем меньше ты мешаешь лошади, меньше ограничиваешь ее естественную свободу движений. По сути дела, ты все время стоишь, согнувшись, на стременах, которые движутся со скоростью сорок-пятьдесят километров в час и, при этом ходят под тобой в такт движениям лошади. Поэтому главное в умении сидеть на лошади – баланс, постоянный и доведенный до абсолютного автоматизма.
Двенадцать лошадей в скачке. Мы уже почти прошли первую прямую, но никто не рвется, не пытается взять на силу или на ура, все друг друга сторожат, ждут, кто первый проявит свои намерения. Малыш скачет спокойно, ровным широким аллюром, и у меня перед глазами его разноцветные уши. Как Дина спросила тогда – почему у него уши разные? Стоп! Думать только о скачке, внимательно, не прозевать рывок, не отпустить слишком далеко, не дать себя зажать в повороте… Хорошо бы занять бровку…
Умный какой, все хотят… Ну вот, а я так… Все, бровка – моя… Передо мной одна лошадь, остальные справа и сзади… Если обходить справа, ловить просвет… А для чего же я здесь сижу… Не спать же я сюда пришел… Ничего, ничего, есть у меня пара сюрпризов в запасе… Поглотайте пыль-то мою… Молодец, Малыш, молодец мальчик… Сам, как в табуне, со всеми вместе, без посыла, без хлыста, без ничего… Вот она – кровь…
Краем глаза вижу, чувствую какое-то движение сзади-справа. Неужели кто-то уже… Нет, не должны на силу брать, тут финишеры одни, до последнего будут ждать, сидеть, сторожить, чтобы в последние секунды «выстрелить». Это я их брать буду, как они и не ждут… Делать их буду… Пошли второй круг. Полдистанции уже… Ничего, Малыш, хорошо…
Так, уже нужно приготовиться потихоньку, после поворота еще метров двести и – пора… Просвет нужен… срочно просвет… полцарства за просвет… Ну!!! Посыл!!!Малыш уходит из-под меня, значит посыл принял, я уже вровень с лидером скачки, он смотрит на меня, как на дурака – куда-мол лезешь, еще ехать и ехать… Это тебе ехать и ехать, а мне… Дину спасать… Вперед, вперед! Работаю шенкелями, через два темпа добавляю хлыстом… Мальтттт хльтста не пробовал еще никогда, поворачивает голову, смотрит на меня с упреком… Терпи, мальчик, терпи, терпи… Я впереди уже на корпус, и разрыв растет, увеличивается… До последнего поворота еще пятьдесят метров, вот рубка начнется, только без меня, я по бровке, чисто, в одиночку… Три корпуса разрыв, не меньше. Все пока, как надо, как хотел… Ах, если бы все всегда, как хотел… Да знаю, я мальчик, что ты устал, знаю… Сейчас они тебя доставать начнут и – достанут, чудес не бывает… Ну, что делать – не родился ты чемпионом, не родился, зато я родился жокеем… я жокей – от бога… Я эту скачку еще до старта выиграл… Главное – не проигрывать больше корпуса… Больше корпуса – нельзя, никак нельзя… Вот они сзади, уже почти вплотную… Выход из поворота и – финишная прямая… Стук копыт, дыхание лошадей, крики жокеев… Наступают уже на пятки… Я засовываю правую руку в рукав левой и рву то, что там приклеено клейкой лентой… двести метров до финишного створа! Не отдавать больше корпуса, не отдавать бровку, ну, родной, давай!!! Шпорами, хлыстом на каждый темп, Малыш устал, хрипит, справа меня уже обошли на полкорпуса… Ничего, ничего, еще не время, рано, рано… Ну… Семьдесят метров, шестьдесят, почти на корпус он впереди, этот, на гнедой кобыле… Вот она – темная лошадка… Ну, Малыш, пора, прости… И клеммы маленькой, плоской и очень мощной батарейки впиваются в покрытую потом лошадиную шею…
…Малыш ответил на посыл… Я и сам не ожидал такого, он ушел из-под меня с такой силой, что я чуть не вылетел из седла. Оставшиеся метры он пролетел в три гигантских прыжка, распластавшись в воздухе, как в шпагате и, просто потому, что весь вытянулся в струну, смог, успел высунуть вперед полморды… Даже не полголовы – полморды, фотофиниш определил точно…
Кто сказал, что лошади не умеют говорить?
Ну, не все, конечно, но у некоторых – получается. Конечно, если – захотеть. Или, если есть, что рассказать…
Я тут уже почти полгода. Трава тут мягкая, вода вкусная, свежий воздух. Все, как раньше, когда я был еще молодым, полтора года тому назад. Можно скакать без седла, в свое удовольствие. Хотя, с тех пор, как на меня надели чемпионскую попону, тогда – помните, мне это занятие не очень по душе. После той скачки ко мне в денник приходило много разного народа и он – тоже. Каждый день приходил, морковку приносил, сахар, разговаривал со мной. Потом… Потом я оказался здесь – снова… И еще одно, я этого никому никогда не рассказывал, только – вам. Я начал видеть сны, разные. Их – много. Но есть два, которые снятся чаще всего. Первый – это та самая скачка, когда он… Тогда я начинаю ржать и кружиться, и бить копытами от страха. А второй – самый мой любимый, самый-самый… Я еще совсем молодой и солнце, и она протягивает ко мне руку с морковкой и говорит:
– Малыш… На, Малыш, на…
И я – беру…Примечания
1
«Черный тюльпан» – во время войны в Афганистане, так называли транспортные самолеты ИЛ-76, перевозившие назад в СССР, тела погибших советских солдат. Для тех, кто уже не знает…
2
Стихотворение Лады Миллер включено в текст рассказа с согласия автора
3
гладкие скачки – скачки, не связанные с преодолением препятствий;
4
стиппльчез – скачки на дистанцию 4-10 кмс преодолением естественных препятствий;
5
чувство пейса – способность на глаз с высокой точностью определять темп движения лошади и общее понимание происходящего во время скачки. В контексте рассказа – чувство скачки.


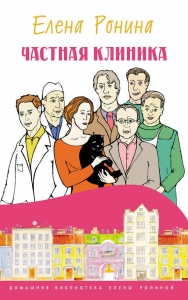
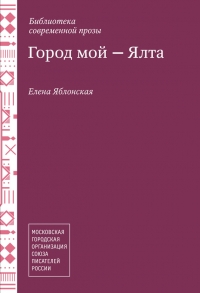




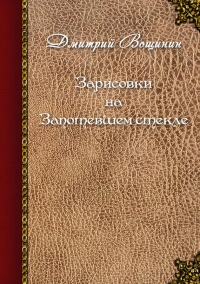


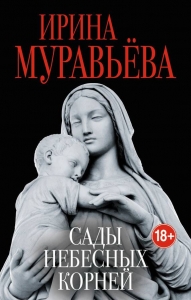

Комментарии к книге «Ню», Борис Берлин
Всего 0 комментариев