Виктор Меркушев Голос моря
Голос моря
Море кипело, пенилось и бурлило, выбрасывая из своих глубин белый холодный дым.
Но неспокойной была не только его вздыбленная равнина – неспокойной была и сама невозмутимая доселе океаническая толща, которая вращалась тяжёлым телом подле хрупкого основания Земли, образованного из пористой окаменелой лавы.
Дремлющая стихия долго молчала, оставаясь неподвижной, словно бы вовсе не замечала того бестолкового шумного мира, что зацепился за её прежнее дно, заботливо выложенное многочисленными слоями осадочных пород, которые она собирала по своим бескрайним просторам долгие миллионы лет.
Человек не слышал сурового голоса разгневанной стихии, но что-то неспокойное и тревожное поселилось и в его душе, будто бы он случайно обронил исключительно нужную для себя вещь и она предательски закатилась в гиблые щели всепоглощающего небытия.
Человек даже не вполне понимал и осознавал свою нечаянную потерю – всё вроде бы оставалось на своих местах, разве что он никак не мог вспомнить, как он когда-то отвечал на неожиданно возникшие перед ним вопросы: для чего жить, что ты умеешь и каков от тебя прок. И куда бы он не взглянул – везде перед ним, как зловещая грёза, пенилось и изрывалось тёмными гибельными валами бушующее море. Он внимательно смотрел себе под ноги, но так и не замечал того, что потерял. Он заглядывал в своё прошлое, однако там почти невозможно было что-либо ясно различить. Он видел светлые города, залитые солнцем, добрых улыбчивых людей, спешащих к нему навстречу, а, может быть, и нет, просто это ему грезилось тоже – и улыбчивые люди, и светлые города…
Он оглядывался вокруг себя и нервно прислушивался к окружающим, словно пытался уловить малейший намёк на произошедшие вокруг перемены от его злополучной потери.
Но мир по-прежнему беспечно шумел, внешне никак не обнаруживая своего беспокойства, и совсем не помнил, как однажды уже был поглощён тяжёлой водой, пришедшей к нему отовсюду.
А разбуженное море пело, но не злыми голосами диких сирен, а всей своей взволнованной массой, твёрдо решившей прирасти неблагоразумной землёй. Его грозная песня, минуя слух, проникала во всякую живущую в воде или на суше тварь, заставляя её озираться по сторонам и глубже заглядывать к себе в душу, чтобы всё-таки вспомнить: для чего жить, что надобно уметь и каков от этого всего должен быть прок.
Человеку порой даже казалось, что он слышит голос моря, поскольку он каждой своею клеточкой чувствовал его приближение, непокой преследовал его, ведь он не мог не догадываться, что это по его вине проснулись тёмные волны, обращённые своей дремучей силой к суетливой земле.
Впрочем, он не особенно корил себя за рассеянность и беспечность, полагая, что во всём повинна его человеческая стая, не придающая значения таким важным вещам, от которых зависит вселенское благополучие и мир.
– Ну что я? – Успокаивал он сам себя. – Сначала я привык к безразличию этой стаи, полностью смиряясь с её равнодушием и безответственностью, затем сам научился быть безразличным, считая себя ничем не обязанным тем, кто не слышит и не замечает меня. Наконец, я и вовсе ощутил себя абсолютно независимым и свободным. Только что-то, пожалуй, я опустил и не заметил, уронил и не оглянулся, раз подобно жуткому наваждению вырастают передо мною тёмные волны, и стелется под ногами белый холодный дым, имеющий солоноватый запах моря.
А голос моря всё креп и ширился, проникал в огромные меха невидимого небесного органа, из которого, многократно усиливаясь, добирался до самых затерянных уголков обречённых материков. Только слов его гремящей песни, приведшей в смятение всю обитаемую твердь, не разбирал никто. Впрочем, теперь всякий мог сожалеть о том, что имеет неабсолютный слух, поскольку была эта песня исключительно о том, как жить, что надобно знать и уметь, и какой во всём этом заключён смысл.
Диминуэндо
Какая хрупкая и звенящая сушь стояла на всей земле! Знойные травы были чреваты музыкой залётных ветров, а глянцевые, наполненные солнцем, листья таили в себе хрустальные звоны случайных соприкосновений.
У Марина был великолепный голос, хотя отдадим должное всем остальным, не только у него одного. Возможно, так казалось оттого, что стоило кому-нибудь начать песню, как всё окружающее пространство отвечало ему не только чарующим и звенящим эхом, но и подхватывало эту мелодию звонами, переливами, вибрациями своих чутких горячих тел, настроенных как камертон.
Марин пел цветущим долинам, и в плотном, спрессованном жарой, воздухе звуки его голоса доносились до самого неба, где соперничали с ораторией звёзд, вечной и величественной, но медлительной и почти неслышимой из-за громких песен и звучаний земли.
Могущественное небо не могло не замечать, что в песнях земли было больше радости и красоты, чем в привычных его слуху звуках, которыми полнился небесный эфир.
– Зачем земле столько разнообразных и мелодичных песен, – решило небо и послало земле моросящий дождь, медленный и непреходящий, как сама небесная оратория.
Марин по-прежнему пел долинам, утопающим в цветах и травах, только его голос был слышен лишь ему одному. Песня вязла в бесконечной влаге, струящейся с неба, в наполненных дождевой водой травах, в отяжелевших от капель упругих древесных листах… Нельзя сказать, что Марин потерял свой чудесный звенящий голос, как нельзя сказать, что природе не нравился чистый, питающий всё живое, непрекращающийся дождь.
Вскоре туман, наполнивший землю, поглотил любые звуки кроме шума упрямых вод и дробного, настойчивого перестука однообразного дождя. Природа забыла и звонкие песни Марина, и то, как отвечала ему долгим, переливчатым эхом радости и торжества. Природе теперь стали не нужны его песни и его чудесный голос.
Буйная зелень разрослась по всей орошённой земле. Она тянулась всё выше и выше к небу. Но всё равно не могла слышать не только гибнущих во влажном воздухе песен Марина, но и вечной и величественной музыки звёзд, к которым она почти прикасалась своими телами, полными небесной влаги и могучей жизненной силы.
Сначала…
Когда его покинули последние друзья, он, наконец, почувствовал себя совершенно счастливым.
Это случилось так естественно и так непринуждённо, словно было продиктовано насущной необходимостью или жизненной требой, заставляющей принимать свои жёсткие правила и не имеющей обыкновения что-то объяснять. Но он никогда и не жалел того, что могло быть легко утрачено и имело свойство теряться при любом опрометчивом или неосторожном движении. Такую неверную, ускользающую перелётность он воспринимал как самый надёжный ценностный критерий, который за всю его жизнь ни разу не давал повода усомниться в своей истинности. Недавно обретённую свободу потерять было невозможно, поскольку это состояние никак нельзя утратить или потерять, от свободы можно только отказаться. Он был свободен и это ему нравилось. Нет, пожалуй, не так. Он был абсолютно счастлив.
С чего бы это вдруг – подумает всякий, кого ни на секунду не оставляют тревожные мысли о своих родных и близких и кто ни за что не может представить себя спокойно стоящим на берегу и смотрящим в море.
А он сколько угодно мог стоять на берегу, слушать клёкот крикливых чаек, дышать свежим морским бризом и любоваться огромным утренним солнцем, ощущая трепетное ликование суши и воды.
Время, которого раньше хватало разве что для того, чтобы куда-нибудь опоздать, теперь стало его единоличной собственностью, и, осознав это, он перестал куда бы то ни было спешить. Наверное поэтому он стал подмечать и обращать внимание на то, что раньше ускользало, не попадалось на глаза или попросту оставалось невидимым.
Прежде он никогда не замечал, что горы утром похожи на хрупкий полупрозрачный коллаж из папье-маше, а вечером напоминают тяжёлую, до своей последней поры наполненную водой губку.
Он и представить себе не мог как клубится в ущельях туман, и собираются в стаи облака, цепляясь за горные вершины.
Он не знал, что тишина может иметь тысячи оттенков. Он не видел какими многоцветными могут быть тени, переливающиеся разнообразными красками, и не чувствовал насколько долетающие со всех концов земли ветры наполнены ароматами нездешних трав, далёких лесов и цветущих лугов. Как, собственно, многообразна и интересна жизнь, когда она не принадлежит чужим заботам и не требует ни с кем делить свой досуг и свой быт.
Он будто бы вновь попал в безоблачное детство, когда впервые ощутил свою отдельность и независимость, подолгу наблюдая из-за родительского забора, как на детской площадке резвятся и играют дети.
Душа рвалась и стремилась в этот мир, но было немного страшно и где-то глубоко таилось смутное чувство, что перешагнув через порог, он тотчас утратит то, что только недавно сумел обрести: самостоятельно мыслить, сознавать свою исключительность, и поступать, сообразуясь лишь с собственной волей и своими интересами.
Теперь он будто бы снова в волнении стоял у того же забора и ему приятно было смотреть как солнце бросает свои косматые лучи в этот удивительный, сверкающий мир. Он жмурился от солнечной щедрости и не мог оторваться от той красоты и совершенства, что являл собой каждый лепесток, всякая травинка, поднявшаяся от земли. Мир звал его, манил своим великолепием, но он так и не решался сделать ему шаг навстречу. Он не хотел выйти туда, где гомонила и шумела оживлённая улица, не желая потерять в цепком людском хороводе тысячи оттенков тишины, краски переливающихся теней и запахи трав и лугов, которые приносили на себе прилетающие из далёких земель ветра. Он отпрянул от калитки, пересёк двор и вышел за ограду через вечно закрытые старые ворота в глубине сада. От них по пустынному берегу быстрой реки струилась узенькая тропинка почти до самого берега моря. Он шёл среди звенящих трав, подвижных теней и тягучего зноя, а над ним блистало это огромное удивительное солнце, рассыпающее повсюду свои косматые лучи.
Последний
Жизнь так бы и казалась ему одним днём, если бы вдруг свет не начал меркнуть, предваряя тем самым грядущую ночь.
За свою долгую жизнь он успел привыкнуть к свету, более того, он и представить себе не мог, что когда-нибудь сделается темно, ибо был одним из тех, кто в непросветлённые времена начинал строить светлое будущее и истово верил в него.
Оно предполагалось прекрасным и гармоничным, и жить в нём должны были благородные люди, наделённые светлым разумом и такой же светлой и чистой душой.
Всех тех оптимистов, мечтателей и строителей этого «светлого завтра» давно уже не было на свете, и он, пожалуй, оказался единственным, кому случилось дожить до окончания величественного долгостроя.
«Светлое будущее» и в самом деле оказалось светлым, но лишь в буквальном смысле, не переносном. Его обитатели считали себя праведниками, несущими в душе Свет и живущими по благочестивым предписаниям Света.
Его раньше как-то не настораживало, что вера тем и отличается от иных свойств человеческой природы, что обязательно обращена всей своей сутью к иррациональному, незнаемому. И вовсе необязательно, что под незнаемым всегда должны были подразумеваться бескрайние горизонты науки, а под иррациональным – то, что никак не укладывалось в привычные рамки обыденного сознания. Оттого все технические достижения и возведённые постройки, воплотившие в себе самую передовую научную мысль, чем не переставали гордиться его сверстники, теперь ржавели и рассыпались, источали радиацию и ядовитый газ.
Праведники отрицали науку и не знали что им делать с остатками прежних цивилизаций. Они проклинали непросветлённость предков, и всё время твердили о конце света.
А он думал о конце истории, которая и начиналась-то с пустяка, когда кому-то вдруг вздумалось прогуливать школьные уроки, на которых учитель рассказывал о том, как предотвращать коррозию и превращать радиацию в электрический свет.
«Композитор от Бога»
С некоторых пор он стал замечать, что время принялось бежать как-то особенно быстро, заплетаясь в воронки и увлекая за собой всё, что случалось наметить и запланировать на будущее. Это совсем не относилось к его основному занятию, музыке, только все вещи, что её не касались, уже нельзя было рассматривать как вероятные события, поскольку для них, скорее всего, просто не находилось времени. Он писал музыку и писал очень хорошую музыку, если не сказать более. Только это самое «более» никак не вписывалось в контекст его жизни. Хотя он не был классическим неудачником, ибо на мысли о своей неуспешности у него тоже никогда не оставалось свободной минуты.
Однако как-то само собой, исподволь, он стал ощущать давление своей неосуществлённой жизни, которая развивалась параллельно в его воображении, где он не был непризнанным странноватым музыкантом, а был лёгким, жизнерадостным человеком, чутким и внимательным к своим близким. Да собственно, он бы и жил этой второй жизнью, радуя близких и наслаждаясь великолепием мира, в котором всё же оставалось место и для красоты, и для гармонии, если бы музыка не звучала у него внутри. Музыка везде преследовала его, он доверял её бумаге, перелагая на ноты, и там она как-то успокаивалась, замолкала, переставая давать о себе знать, и освобождала у него в душе место для новых мелодий и иных звучаний. Музыканты не знали о его существовании, но даже если бы это было не так, никому всё равно не пришло бы в голову взяться исполнять его произведения, несмотря на то, что им ли было не оценить того, что жило во всех этих хитроумных переплетениях скрипичных ключей и пестроте нот. Музыканты дули в свои медные трубы совсем иные мелодии, пробовали на вибрацию струны скрипок и виолончелей, и время у них шло строго по расписанию, согласно гастрольного графика и плана обязательных репетиций. И не было музыкантам никакого дела до странного композитора с четырнадцатого этажа типовой многоэтажки, которого не знали не только они, но и его соседи по лестничной клетке.
А между тем у неизвестного композитора была в наличии не только настоящая музыка, но и вполне осязаемая человеческая жизнь. Которой с каждой секундой становилось всё меньше, и было непонятно, чего же всё-таки добивалось время – лишить его обычных радостей земного существования или выманить у него как можно больше мелодий, чтобы впоследствии торжественно причислить их к небытию, ставя на них свои беспощадные резолюции тления или утраты.
Его время убывало, но не это расстраивало и заставляло тревожиться, а сознание того, что он ничего не в состоянии сделать для тех людей, за кого он отвечал перед своею совестью. Музыка владела им безраздельно, вытесняя всё остальное из его жизни. Только его близким совсем не нужна была музыка, а нужны были его внимание и любовь.
«Потом, потом», – думалось композитору, только это «потом» так никогда и не наступало, а вместо этого на свет являлась какая-нибудь фуга или оратория и горькое сожаление, что нечто очень важное и значительное опять передвинулось на неопределённое время, или что вернее, так и не состоится никогда.
Время несло его по жизни настолько стремительно, что он едва успевал замечать за краями своей нотной тетради события и лица, мелькающие пейзажи и города. Жизнь за краями его тетради бурлила и тоже была полна звуков, только он их почти не слышал и внимал окружению разве что тогда, когда ставил точку под очередной своей музыкальной композицией.
Часто его жизнь непосредственно соприкасалась с жизнью других: кто-то подходил к нему с вниманием и интересом, кто-то с нежностью и надеждою на взаимность. Только чем он им мог ответить кроме музыки? Музыки, которую они не понимали и в которой не видели никакого смысла.
Вот толстый мальчик в клетчатой рубашке зачем-то принёс ему из дома самые лучшие игрушки в надежде поиграть с ним. Только толстый мальчик пришёл не вовремя, поскольку юный музыкант был целиком поглощён разучиваемыми гаммами, и его невероятно заботила правильность записанных нот только что сочинённого этюда.
Вот весёлые юноши куда-то зовут его, окликают по имени, но он только нервно отмахивается от них, просит следовать без него, дабы успеть записать в блокнот набежавшую мелодию, от которой теперь уже не осталось никакого следа, поскольку её дано безнадёжно затёрло и затеряло время.
И очень может быть, что он так и не заметил бы светловолосую девушку, никак не решавшуюся приблизиться к нему, если бы огромное весеннее солнце случайно не заблудилось в её волосах. Он смотрел в ясное ликование весны и видел как струятся живительные лучи от её лица, и как её осторожная тень пересекает всю землю с востока на запад.
Люди приходили, уходили, оставались рядом и неподалёку, только никто из них так и не услышал ни единого звучания, ни одного такта, которые самозабвенно записывал композитор в свои нотные тетради.
«Композитор от Бога», – говорили люди, не вполне понимая, что это такое.
«Как это, пожалуй, правильно, – думал он. – Только Он и я и могут внимать этим мелодиям, только для Него я и наполняю нотами эти бесконечные тетрадки, ревностно уничтожаемые временем. Будь я композитором для людей, мои параллельные жизни бы неизбежно сомкнулись, и я наверняка бы нашёл там всех, кого досадно не разглядел, не одарил своим вниманием, не приветил, не оценил…»
Статус «композитора от Бога» совсем не защищал нашего музыканта от времени. Оно беспощадно расправлялось не только с его мелодиями, но и с ним самим, заставляя всё ниже пригибаться к земле и лишая подвижности пальцы, ранее такие удивительно быстрые и чуткие.
Его композиции, несмотря на все старания времени, нисколько не становились хуже.
Напротив, они проникались его неосуществлённой, параллельной нереальной жизнью и звучали всё оптимистичнее, торжественнее, как будто бы звуки непосредственно обращались в чувства, а паузы – в светлые размышления. Из хитроумных переплетений скрипичных ключей и пестрящих нот, назло непримиримому времени, к нему вновь возвращались весёлые друзья, толстый мальчик в клетчатой рубашке и снова, вместо солнца в самом центре весны оказывалась светловолосая девушка, соединяющая своей осторожной тенью бледный восток и бесприютный запад.
Композитор внимал этим мелодиям словно воспоминаниям о неслучившейся жизни и сознавал, что ничего нельзя противопоставлять реальности, и его гениальную музыку тоже.
Ноты чернели у него на бумаге словно собственные следы, и по ним он мог возвращаться даже туда, куда обычно не возвращаются. Пожалуй, это была единственная привилегия, которую предоставлял ему неразъяснимый статус «композитора от Бога». Если, конечно, не считать того, что искра Божия, некогда затеплившаяся в его сердце, сумела создать свою маленькую вселенную, которая по замыслу, совершенству и внутренней гармонии намного превосходила ту, где неумолимо убывало его время, и пестрели, как обречённые ноты, его собственные следы.
Поклонница
Он стоял между этажами на лестничной площадке, курил и размышлял о том, что не так уж плохо ощущать себя прекрасным принцем, во всяком случае, ничуть не хуже, чем актёром эпизода N-ского театра, в котором служил без малого тридцать лет. Ему трудно было себе и представить, что у него может быть такая очаровательная юная поклонница, незаметной тенью следующая за ним повсюду. Он совсем не помнил эту девушку, словно её никогда и не было в зрительном зале. Хотя, по правде говоря, в зрительный зал он смотрел редко. Нет, это не было пресловутой боязнью сцены, просто ещё с училища публика воспринималась им болезненно, причём болезненно в самом буквальном смысле. Пришедшие на спектакль зрители неизменно давали о себе знать лёгким покалыванием век и каким-то неуютным ощущением в подмышках; особенно это было заметно, когда зрительный зал был полон. Оттого он не любил театральную публику и обычно в зрительный зал не смотрел.
Наша же героиня, напротив, глаз не сводила со сцены. Она ждала его выход с таким волнением, что у неё немели кончики пальцев, и кровь так сильно приливала к лицу, что начинало стучать в висках. Она уже не замечала ни кулис, ни сцены, ни зрительного зала – только его, даже не слышала те немногие реплики, что он произносил со сцены. Она не слышала их, ибо смысла в них для неё не было никакого. Важен был только его голос, который проникал в само её существо, переплетался с внутренней речью, и у них возникал чуткий, трепетный диалог, который уже не оставлял её до самой ночи.
Девушка долго не могла заставить себя подарить ему цветы. Когда опускался занавес, её тело совсем переставало слушаться, наливаясь какой-то подлой, отвратительной тяжестью. Тяжесть не позволяла двигаться, не давая возможности поднять руки, и только сердце билось в такт овациям зала. Она следила за своим единственным актёром и отчего-то думала, что только здесь он живёт своею подлинной жизнью, рядом с её учащённым сердцебиением и холодком на кончиках пальцев.
Ему очень редко доставались цветы, а если и случалось такое, то он, подобно другим актёрам, не приносил их домой. Хотя это было бы совсем нелишним, по крайней мере потому, что в квартире ничего не говорило об актёрской профессии хозяина, даже книги большей частью составляли библиотеку фантастики и приключений. Ни жена, ни дети театром не интересовались, и это было, пожалуй, хорошо – сцена для него кончалась сразу же за тяжёлой дверью служебного подъезда.
Для его же поклонницы всё было как по
Шекспиру: весь мир был театром, разве что театром одного актёра.
Она не знала, отчего этот немолодой мужчина так прочно вошёл в её жизнь, вырвав её из среды сверстников, обрушив все прежние связи, все былые привязанности и оставив её исключительно наедине с собой. Со стороны казавшейся такой одинокой и неприкаянной, она находилась постоянно рядом с ним, в мыслях ли, в грёзах ли, в реальности – это неважно, ведь реальность это, прежде всего, то, во что веришь. А она не могла не верить в него. Он был, он существовал, и что может быть прекраснее и убедительнее этого. Её жизнь была наполнена тем особенным светом влюблённости, в сиянии которого все вещи вокруг теряют свои значения, своих хозяев и принадлежат только двоим избранным, существуя лишь затем, чтобы им лучше было понимать и узнавать друг друга.
Этот свет, к сожалению, не касался его души. Ромео он был никакой, да ему и не доставались никогда подобные роли. Однако такое обстоятельство совсем не расстраивало и не задевало его. Взамен яркой театральной карьеры он имел относительно спокойную и комфортную жизнь, жизнь без всевозможных интриг, без зависти, без тайного или явного недоброжелательства.
Жил он тихо и незаметно, не принадлежа ни к неудачникам, ни к баловням судьбы, его обходили стороной не только беды и неудачи, но и то, чего так страстно ждут люди: ни любовь, ни счастье ни разу не наведались к нему в гости. Только там их и не особенно ждали. Для большого чувства в его жизни попросту не хватало свободного места. Он даже не помнил, как так получилось, что рядом с ним появилась неуклюжая смешливая блондинка, которой всякий раз щедрый апрель дарил целые солнечные россыпи золотистых веснушек.
Потом он оказался с ней в огромной квартире с тяжёлым чугунным балконом, с цветущей геранью на окнах, шумным водопроводом и высокими лепными потолками. Жизнь словно бы притормозила, остановилась – он почти не чувствовал её течения, только звуки выдавали непрекращающееся движение бытия, словно во всех этих позваниваниях лифта, скрипах детской коляски, гулких шагах по лестнице и была заключена его жизнь, которая неизвестно как подвела его к собственному юбилею. Юбилей случился так внезапно, так неожиданно и так грубо, будто бы кто-то долго молча бежал след за ним и, наконец, выбившись из сил, резко его окликнул.
Он обернулся и увидел себя в большом опальном зеркале на фоне мутного, подслеповатого окна и выцветших обоев в крупных золотистых веснушках. Он не привык видеть себя так им, постаревшим и осунувшимся, но более всего его изумляло – как могут уживаться на одном лице лучистые морщинки возле глаз и упрямая, суровая складка у рта, странная податливая полуулыбка и такой колючий, пронзительный взгляд прищуренных глаз, в которых, казалось, ни разу не светилось озорство и веселье. «и когда только я научился так нелепо щуриться», – думал артист, не припоминая, когда у него могла появиться безобразная, не замечаемая ранее дурная привычка.
Но не только это удивляло его и расстраивало. Как не пытался он вглядываться в своё отражение, он так никого и не увидел рядом с собой, ни единой живой души, даже той тихой девушки из зала, что неотступно и всюду следовала за ним. Странно, что он её там не увидел. Могла же она как-нибудь дать знать о себе: неясным контуром, промелькнувшей тенью…
Правда, в его жизни она открылась позже, ровно за полчаса до того момента, когда он стоял между этажами на лестничной площадке, размышляя о своей жизни и стряхивая пепел с сигареты в консервную банку, привязанную к шпингалету оконной рамы.
Она позвонила в дверной звонок, которым не пользовался никто и никогда. Звонок пронзительно отозвался ей рваным дребезжащим фальцетом, поражаясь и своему нескладному голосу и тому, что кто-то, наконец– таки, о нём вспомнил. Квартира вздрогнула от такого необычного звука, непохожего ни на позвякивание лифта, ни на скрипы детской коляски, не шелохнулись разве что неуклюжие цветки герани на окнах, и золотистый выцветший горошек на старых обоях.
Дверь открыла жена, артист же смотрел на гостью, показавшуюся в проёме, из-под руки жены, надёжно скрытый от глаз своей поклонницы полумраком прихожей и пыльной одеждой, тесно развешенной у входа.
Хлынувший из подъезда свет так тесно обтекал фигуру девушки, что она сделалась совсем тоненькой, почти неразличимой и казалось, что сделай она шаг через порог, то попросту сольётся с полумраком прихожей и перестанет существовать вовсе. Как она не слышала слов артиста, так теперь он почти не слышал её слов. Зато он хорошо слышал голос жены и доносившиеся откуда-то с нижних этажей гулкие одинокие шаги, похожие на глухое, невнятное бормотание какого-то страшного бездушного существа.
Он не понимал, что случилось в его судьбе, что произошло в жизни этой странной влюблённой девушки, но всякий раз, выходя на сцену, он пристально и с незнакомым ранее волнением смотрел в зрительный зал.
Смотрел наперекор самому себе и своей судьбе, лишившей его чего-то очень значительного, исключительно важного, непонятного и манящего. Нет, боль никуда не исчезла, просто она переместилась с кончиков его век куда-то глубоко в сердце, туда, где вопреки всей науке и медицине у человека должна находиться его бессмертная человеческая душа.
Короткие уроки перед большой переменой
I
До чего же своенравна и избирательна память! Стоит только оглянуться назад, как ты тотчас обнаруживаешь в себе иного, незнакомого человека, способного останавливаться на таких вещах, до которых тебе, сегодняшнему, нет никакого дела. Мысленно возвращаясь туда, куда невозможно вернуться, ты словно оказываешься посредине тесного моста, соединяющего две непохожие и противоречащие друг другу жизни, для которых не существует ни времени, ни общего пространства, а есть только застывшие навсегда морозные утренние поезда, тусклые окна унылых многоэтажек и сиреневые сумерки городских окраин, где тебе всегда найдётся свободное место, поскольку оно по определению отведено именно для тебя. Как давно это было и было ли вообще, только отчего так часто бьётся встревоженное сердце и так остро отзывается душа на всякую отболевшую скорбь, пережитую утрату, былые сожаления и прошлые досады? Бог весть!
* * *
Как бы я не вглядывался в фотографию своей бывшей школы, я всё равно не могу её узнать. Теперь мне кажется странным, что вот в этом маленьком двухэтажном здании, расположенном на самом краешке волнистого ковра болотистой лесотундры, прошла вся моя юность и часть детства, отсюда я шагнул в непредсказуемую взрослую жизнь, где не бывает лёгких домашних заданий и строго спрашивают за любые невыученные уроки.
Приехав с юга, я так и не сумел принять и полюбить север. К чему бы я не обращался, и куда бы ни был направлен мой взор, всё тяжелело и становилось неразличимым от вязких и назойливых прилагательных: «унылый», «безмолвный», «невыразительный», «суровый»… Лишь южный ветер, который, как казалось, приносил запах морского прибоя и свежий аромат альпийских лугов с далёких Кавказских гор, наполнял всё моё существо необъяснимой радостью и фантастическими грёзами, от которых таяли снега и на месте проснеженных бесконечных равнин вырастал буйный колхидский лес. Мой Геленджик! Тебя я пронёс в своём сердце через все мои школьные годы, я всегда мысленно возвращался туда, и в своей радости, и в минуты грусти. Впрочем, я всегда живу там, где меня нет. Только эту истину мне удалось осознать значительно позднее.
Новая школа, в которой мне предстояло учиться приняла меня холодно и строго, под стать нраву здешней суровой природы. Девчонки меня дичились, а ребята дразнили и задирали. В этой травле не принимал участие только один молчаливый рыжеволосый мальчик, которого тоже, по неизвестным мне причинам, не принимал коллектив. Однако друзьями мы не стали, хотя вскоре и он, и ещё два моих тёзки, составили вместе со мной периферийную группу, периферийную, поскольку в классе, безусловно, доминировала группа рослого красавца и круглого отличника Саши Ланева. Я до сих пор не могу объяснить себе – отчего я не был в школе круглым отличником, имея такое отчаянное желание им быть. Ведь много позднее, будучи студентом, мне нужно было сильно постараться, чтобы не получить отличную оценку, поскольку обладал исключительно цепкой памятью, да и учёба всегда давалась мне непринуждённо и очень легко.
Достоверности ради замечу, что мои товарищи по периферийной группе были заурядные троечники, можно сказать даже – троечники классические, в то время как я был классическим неудачником, ну а Ланев напротив, совершенным счастливчиком. Мы с ним сходились только в одном, в том, что наша форма полностью не соответствовала нашему содержанию. И это касалось абсолютно всего. К примеру, наши оценки никак не зависели от уровня знаний: часто зная гораздо больше Ланева, я всё равно не получал отличной оценки. Какую бы интересную историю я не пробовал рассказывать одноклассникам, меня никто не желал слушать, притом, что любая плоская шутка Ланева воспринималась ребятами с одушевлением и неподдельной весёлостью.
Ланева ставили в пример, им восхищались, его любили, его внимание и расположение ценили как школьники, так и учителя. Сказать, что одноклассники меня не любили, было бы неправдой, меня они попросту не замечали.
«А за что тебя любить? – спорил я сам с собой. – И неужели так важно, что в поле всеобщего внимания вертелась не красивая, с аккуратной стрижкой, голова Ланева, а твоя вихрастая голова? Кому как не тебе знать, что это несправедливо. Но только несправедливость к этой истории не имеет никакого отношения. Это просто неправильно!»
«Но как же, – возражал я тому, кто единственно был готов меня слушать, – ведь самая великолепная, вырезанная на уроке труда, снежинка была моя, и это я, а не Ланев, положил Мешковой в портфель варежку, которую искали всем классом, это я не дал разбиться горшку герани, который Зархин специально выставил на край, дабы лицезреть падение цветка от случайного прикосновения, это я…»
«Это неважно – перебил меня тот единственный, кто обычно выслушивал меня до конца. – Ты думаешь не о том, хотя всё, что ты говоришь, ценно не для других, а важно в первую очередь для тебя. Для других важно совсем не это. Посмотри не на тех от кого ты ждёшь признания, поскольку этого не случится никогда, а на тех, чьё внимание обращено к тебе и кто надеется и хочет считать тебя своим другом. Посмотри внимательно на них, только через них и можно изменить что-нибудь по-настоящему. И тогда будет не нужно думать о том, что изменить ты просто не в силах».
Как же всё неправильно и странно устроено – не давала мне покоя поселившаяся в моём сознании навязчивая и неуютная мысль! и это неправильное и странное устроение я с утра до вечера пытался разглядывать со всевозможных ракурсов и различных точек зрения. Удивительно, но такая, по сути, совершенно взрослая мысль приходит с особенной силой и остротой именно в детстве. Именно в детстве она звучит убедительнее всего. Ты никак не можешь принять то, что есть, искренне надеясь, что возможно всё изменить, переделать, и ничто не сможет этому помешать. Разве что откладываем это мы обычно на будущее, на нашу предстоящую взрослую жизнь, которую мы особенно ждём исключительно затем, чтобы уже там всё исправить и всё изменить.
Мы не догадываемся, что взрослая жизнь – это изнурительный и бесконечный компромисс между свободой и несвободой, между чужими желаниями и своими возможностями, между вечными «нет» и неуловимыми «да».
Только в детстве мы всего этого не знаем, не знаем и слава Богу!
II
Наблюдая детей, взрослые ошибочно думают, что идея равенства так же органична для них, как идея безусловной познаваемости мира. И верно – дети никогда не бывают агностиками. Только вот их равенство не предполагает сознательного или бессознательного анализа прав и обязанностей по отношению к себе подобным, поскольку всякий ребёнок соотносит себя не со сверстниками, а со всем остальным миром, взаимодействуя с ним как с равным. И неважно что этот мир протянулся во времени и пространстве из бесконечности в бесконечность, ребёнок сам в каком-то смысле носитель бесконечности, ибо все событийные ряды настоящего и будущего не имеют и не могут иметь для него никаких определённых точек сходимости.
В детстве принцип разделения людей на те или иные группы представлялся мне никак не связанным с какими-то определёнными категориями и казался делом совершенно случайным. Если бы кто-нибудь тогда попытался убедить меня что люди, порой, разнятся более, нежели элементы в периодической системе, я вряд ли бы этому поверил. Скорее, я бы даже не понял о чём, собственно, речь, ибо был убеждён, что попади я в эту школу с первого класса, то моей дружбы бы искали все мальчишки, а девочки хотели бы сидеть со мной за одной партой. Но всё сложилось, как сложилось, и это, наверное, тоже хорошо, потому что ничего не бывает навсегда. Детство не признаёт закрытых дверей или дверей, задрапированных нарисованным очагом, здесь даже путь из Страны Дураков к собственной мечте вполне может оказаться короче и проще, чем привычный путь от дома до школы.
Я не знаю зачем, только после первых летних каникул в новой школе, меня пересадили от Вити Ткачика к Тоне Капитоновой. Раньше я никогда не сидел так близко к девочке и поначалу меня это очень смущало.
Я привык воспринимать сидящего рядом как источник постоянной опасности, и весь мой предыдущий опыт красноречиво свидетельствовал в пользу моей чрезвычайной осторожности. Начиная с самого первого школьного дня, со мной сидели только мальчишки и нередко их учебники, тетради и портфели находили в пространстве мою вихрастую голову, не говоря уже о том, что пинки и тычки под партой вообще не прекращались никогда. Конечно, в определённом смысле я был особенный ребёнок, мало походивший на остальных – бегать, прыгать, бодаться, орать и дурачиться мне не хотелось. Я любил тишину и порядок, ревностно оберегал своё личное пространство и не привык нарушать чужое. Но при такой странной отягощённое™, паинькой я всё же не был. Хотя дразнилку «паинька-пая» приходилось непрерывно выслушивать от моего соседа слева. Он был также знаменит тем, что очень метко стрелялся жёваной бумагой, однако в качестве патронов у него использовался и горох, и крупа, которой он давал короткие очереди, и даже, подчас, в дело пускались крупные ягоды черники, что особенно были опасны для девических белых передников. Но всё-таки пре-следователь-сосед ошибался, трезвый расчёт и способность верно предугадывать последствия во мне парадоксальным образом сочеталась со склонностью к опрометчивым поступкам и рискованным авантюрам. Но это были мои игры, в чужих же затеях я участия не принимал никогда.
* * *
На каникулах мне случилось прочитать Грина, и я сразу оказался в плену его обворожительных героинь. Как мне тогда казалось, Капитонова Тоня очень походила на милашку Дэзи из «Бегущей». И не только потому, что подобно племяннице Проктора, первой обратила на меня внимание и сделала своим попутчиком, а, скорее всего, оттого, что соответствовала Дэзи внешне, во всяком случае, только так я мог представить себе Дэзи: смуглой и круглолицей, с вьющимися, непокорными локонами и ясными, карими глазами. Не говоря уже о том, что так же, как и у гриновской героини, её доброта непостижимо уживалась с дерзкой смелостью, решительностью и совершенной открытостью, в то время как я совсем не был похож на Томаса Гарвея, и если и не представлял по отношению к нему полную противоположность, то уж точно был человеком скрытным и излишне предусмотрительным. Тоня, однако, как и полагалось настоящей Дэзи, нисколько не конфузилась от такого несоответствия, продолжая общаться со мною просто и непринуждённо и, пожалуй, была на тот момент моим самым верным и самым надёжным другом.
Она была из местных и очень любила север. Её незамысловатые коротенькие рассказы о глубоких горных озёрах, о найденных в ущельях фиолетовых кварцах, нефелиновых пустынях и белых стремительных речушках, в которых водится хариус и радужная форель, дополнялись моей фантазией и сведениями из многочисленных книг по истории здешних мест. В каком-то смысле я стал маленьким краеведом, правда, моя известность не выходила за узкий круг библиотекарей и продавцов из двух существующих в городе книжных магазинов. Тоня почти помирила меня с севером. Я по-прежнему радовался тёплым ветрам с юга, но смотрел на здешние сопки и болота уже иначе, без привязавшихся к ним бесцеремонных прилагательных «тоскливый» и «унылый». Это не могло случиться без самого непосредственного участия той, которой волею случая суждено было оказаться рядом. Всякая её мысль тотчас становилась моею, и я очень хотел увидеть всё то, о чём она рассказывала и говорила. Мне казалось, что это я с ней, а вовсе не с отцом или Витей Ткачиком заглядывал в глубокие горные озёра, старался отыскать аметисты в каменистых ущельях, пересекал зыбучие нефелиновые пески и следил за хариусами и форелями в быстрых речушках предгорий Хибин.
Скажете, я придумал свою кареглазую Дази? Если да, то я употребил не более воображения, чем вы, когда придумывали себе тех, кого любили и тех, кто вам был близок.
Вряд ли кто-нибудь и она сама в том числе, догадывался о той незримой связи, которая объединяла нас. Тот, кто осуждает меня и пеняет на мою нерешительность, сам не в курсе того, о чём пытается размышлять. Многое можно перезабыть в жизни, только то, что испытывал я тогда – забыть невозможно. Ни через пять, ни через десять, ни через сорок лет. Конечно же, никто не знал о том, что творилось в моей душе. Мне представлялось, что поделиться с кем-нибудь моей тайной означало бы потерять её, отдать даром тем, кому она совсем не нужна. Как же я был впоследствии не согласен с Пушкиным, с которым потом всю жизнь вёл заочную полемику, когда он в «Евгении Онегине» написал, явно не меня имея в виду: «…Зато и пламенная младость Не может ничего скрывать.
Вражду, любовь, печаль и радость Она готова разболтать…»
Может, ещё как может, дорогой Александр Сергеевич!
Тоня так и осталась в моей душе милой маленькой Дэзи, несмотря на то, что будущее оказалось совсем не таким, как в романтической феерии Александра Грина. На следующий год моей соседкой по парте уже была Галя Григорьева, а Дэзи, окунувшись в неразбериху и сумбур вечного школьного праздника, одела жёлтое карнавальное платье загадочной Биче Сениэль, в котором её было так легко перепутать. «Она несла в руках отвратительные, тревожные желтые цветы. Черт их знает, как их зовут, но они первые почему-то появляются в Москве. Нехороший цвет…»
Говорят, что в жизни не бывает случайностей. Это верно. Но только в том случае, когда случайности связаны между собою причинностью и лежат в одном смысловом поле. И даже в детстве, в котором ничего не бывает навсегда.
III
Школа, пожалуй, не дала мне ничего, кроме впечатлений. Учителя не воспринимали меня как способного мальчика и щедро одаривали меня своим равнодушием. Лишь Вера Михайловна Тепукина, учитель химии, противясь всему педсовету, не разделяла мнения коллег о моей бесперспективности. Я был благодарен Вере Михайловне, но совсем не сердился на остальных учителей за их педагогическую близорукость. Уверенность в том, что моих знаний будет достаточно, чтобы поступить в любой вуз, была сильнее даже юношеского максимализма, который, как известно, постоянно вынуждает его носителя заявлять о своей исключительности. Я полагал своё образование делом приватным и ничего в этом смысле не ожидал от школы. Особенно после того, как физик Борис Петрович вывесил возле своего кабинета адреса заочных физмат школ и подготовительных отделений вузов. Теперь учебный процесс окончательно перестал меня интересовать, тем более что из Питера начали приходить отличные отзывы на все мои выполненные работы. Как часто любил повторять мой отец, самый верный способ споткнуться и упасть – это смотреть себе под ноги, вместо того, чтобы смотреть вперед. Разумеется, это прекрасный принцип, особенно если не заглядывать слишком далеко.
Но был среди моих учителей и тот, кого я по-настоящему любил. Он был в моём воображении воплощением мужественности и достоинства, мудрости и жизненного опыта.
Это был учитель труда с совершенно банальной фамилией Фадеев.
Команданте «Фа», как я его называл.
Отчего команданте? Потому что я, как и многие мальчишки моего времени, был увлечён идеями добра и справедливости и знал, что против вселенского угнетения, зла и невежества сражаются пламенные команданте, в числе которых, безусловно, находился и наш учитель труда.
Но команданте «Фа» меня недолюбливал. На субботниках он давал мне самую тяжёлую лопату, на уроках, где на операцию отводилось фиксированное время, у первого отбирал поделку, да и спрашивал строго, всячески придираясь и устраивая всевозможные каверзы. На автоделе, которое он преподавал в старших классах, команданте никогда не просил у меня изложить теорию, он знал, что в теории я разбираюсь гораздо лучше других. Он обычно давал мне какую-нибудь практическую задачку, чтобы мои руки испачкались в смазке и машинном масле. Он понимал как никто другой, что я страшно не люблю машины, всяческое адреналиновое вождение и другие подобные игрушки и забавы для взрослых. Только это нисколько не снижало градус моего обожания команданте.
Я очень рано приобщился к книгам и во многом именно им обязан своим воспитанием и мироощущением. Оттого и не требовал от окружающих тотальной любви и выделения собственной персоны на как не-то особые роли для избранных. Нелюбовь я полагал делом обыкновенным, заурядным, совершенно банальным. «Причём здесь книги и упомянутая тобой нелюбовь?» – спросите вы. А притом, отвечу я, что даже в самых объёмных романах, для прочтения которых необходима железобетонная сила духа и феноменальная память, дабы не заблудиться во множестве действующих лиц, лишь только двое любят друг друга, а все остальные только тем и заняты, что им мешают. Возможно, я литературу понимал слишком буквально, только нелюбовь команданте казалась мне вполне естественной, поскольку ему было кого любить: мало ли было в классе мальчишек, подобно ему, обожавших автомобили и всяческие жужжащие механизмы. Я совсем против этого не возражал и не ревновал его к ним. Разве что-то могло помешать мне восхищаться команданте, подпитываться силой его духа и вдохновляться его нравственным примером?
Надо сказать, что внешность команданте была весьма незаурядна и сильно не соответствовала его простоватой фамилии. В профиль команданте чем-то походил на Пушкина, однако в трёх четвертях и в фас его облик напоминал Ноздрёва с ксилографированных Бернардским рисунков Агина. Только никаким Ноздрёвым и, тем более, Александром Сергеевичем мой пламенный команданте, разумеется, не был. Его сдержанность и рассудительность не давала оснований для подобных сравнений, а отсутствие малейшей склонности к бессмысленному фантазёрству уже полностью исключало какую-либо внутреннюю похожесть с вышеперечисленными. Команданте «Фа» обладал олимпийским спокойствием, был немногословен и горделив, и легкая, чуть заметная полуулыбка никогда не покидала его открытого и благородного лица. В этой полуулыбке было сокрыто столько мудрости и глубины, что перед ней меркли мои мелкие неурядицы и недоразумения, отступала бестолковая суета и нелепая разбросанность по пустякам, мне грезилось что-то возвышенное, горнее, достойное этой приветливой безмятежности посвящённого.
Вглядываясь в его лицо, мне даже казалось, что я слышал какие-то обрывки фраз, медленный речитатив и словно шелестящий шум летнего дождя – чуть слышимый стихотворный рефрен…
«Скучна теория мой друг, а древо жизни пышно зеленеет…»; «…ничего не желать – вот блаженство богов…»
Или: «Достойный делает много, но не хвалится сделанным, совершает заслуги, но не признает их…»; «если бы ты ведал, из какого источника текут людские суждения и интересы, то перестал бы домогаться одобрения и похвалы людей…» Я был уверен, что всё это было известно мне оттуда, от той мудрой буддийской полуулыбки, а вовсе не от книг философов и гуманитарных мыслителей, которых я прочитал гораздо позднее.
Разумеется, команданте был для меня, как сейчас это принято говорить, исключительно значимым взрослым. Через него я видел не только истинный мир, который мало походил на тот плакатный муляж, что смотрел на меня со стен учебных кабинетов, но и изнанку этого мира, где зачастую приходится пачкаться смазкой и липким машинным маслом.
Когда меня теснили мрачные предчувствия, страх перед несправедливой вселенной и вечной борьбой за выживание в предстоящей мне взрослой жизни, я будто бы случайно открывал дверь кабинета труда, чтобы хоть мельком увидеть неколебимую полуулыбку моего команданте.
– В чём дело, мальчик, – спокойным голосом окликал он меня. Команданте никогда не называл меня по имени, хотя кто бы упрекнул его в плохой памяти!
– Нет, нет, всё в порядке, – лепетал я. – Я с Вами, мой учитель!
В эти минуты я очень хотел, чтобы его большая суровая ладонь опустилась на моё плечо, защитив меня, отгородив от моих страхов, однако этого никогда не случалось. Но он единственный знал, как надо поступать с мнительными рефлексирующими подростками, подверженными приступам меланхолии.
– Пойдём со мной, – говорил он, и мы шли в школьную подсобку, где он вручал мне лом и лопату, дабы я какое-то время мог чистить лёд и снег подле крыльца нашей школы.
Дробя лёд и отбрасывая снег, я думал о вечности, о пространстве и времени, о судьбе и призвании, о своей миссии и о миссии всего человечества. и чем больше я набирал в лопату снега, и чем дальше отбрасывал его за школьный тротуар, тем яснее становилось моё лицо, пока, в конце концов, на нём не появлялась блаженная полуулыбка, почти такая же как у моего команданте.
– Я с Вами, мой учитель! – Хотелось крикнуть мне не только на весь школьный двор, а на всю эту несправедливую вселенную, заваленную льдом и снегом. Но благоразумие не позволяло мне этого сделать, и я, как мантру повторял про себя: «Я с Вами, мой учитель! Я с Вами!..»
Не знаю, от этого ли, от хрустящего ли снега или от бодрящего мороза, но всё моё существо наполнялось бодростью и весельем, и душа, вопреки злокозненному мирозданию устремлялась ввысь, в морозное снежное небо…
Было отчего-то радостно и безумно хотелось жить.
IV
С несколькими мальчишками и девочками из нашего класса я за все годы обучения так и не обменялся ни единой фразой. Объективно мы с ними существовали в разных мирах, которые пересекались только в системе физических координат, в координатах же гуманитарного измерения мы были безнадёжно разделены. Самое удивительное, что мне это не казалось странным тогда и, тем более, не представляется чем-то особенным теперь. Я никак не мог быть вовлечён в их жизнь, и они никак не могли объявиться в моей, какие бы обстоятельства тому не способствовали.
В числе моих друзей неизменно оказывались те, кто не принадлежал ни к тому, ни к иному миру. Они могли свободно перемещаться туда и обратно, не ведая никаких границ, и не зная ни о каких пространственных преобразованиях, ни по Гельмерту, ни по Лоренцу. Для меня они были своеобразными проводниками, сталкерами, благодаря которым я имел возможность окунуться в чуждую для меня среду.
Чуждую, поскольку я не сумел бы в ней жить. Привычные слова там означали что-то совершенно иное, многие важные для меня вещи попросту теряли вес, а некоторые, полезные с моей точки зрения предметы, например книги, отсутствовали напрочь. Их место занимали уродливые мраморные ело-ники, трёпаные карты и засаленные костяшки домино, какой-нибудь массивный бильярд с разноцветными шарами, вышитые подушки и обязательные кружевные салфетки на тумбочках. Всё это, пожалуй, могло бы существовать и в моей квартире, разве что смысловое наполнение всех этих предметов было бы совершенно иное. Оттого мои расхождения с людьми оттуда, носили не столько эстетический или культурный характер, сколько характер метафизический. Вся их жизнь воплощала в себе торжество рациональных и материалистических ценностей, в то время как мои ожидания и стремления никак не соотносились ни с материальным достатком, ни с привычным пониманием успешности. и тем более находились вне какой-либо социальной иерархии, которая, уже в моей системе мер и весов, была намного легче даже самого маленького секрета, честно выведанного у Природы.
Однако наша очевидная инаковость нисколько не мешала нам находиться вместе, и даже, порой, с симпатией относиться друг к другу. Только симпатия эта, если она возникала, определённо носила отвлечённый, чисто визуальный характер и не переходила ни в какое иное качество ввиду несоответствия свойств наших пространств и разности их измерений.
Один древний мудрец считал, что существует три типа людей. Одни участвуют в Олимпийских играх, вторые на них смотрят, а третьи наблюдают и за теми и за другими. Я «от детства», как лебядкинский таракан, принадлежал к последним. Только не надо думать, что «третьи» – это обязательно премудрые пескари, бегущие от жизни. Просто такие люди никогда не живут «первыми» мыслями, им свойственно детально обдумывать даже то, что кажется само собой разумеющимся и держать чёткую дистанцию с любыми аморфными структурами, навязывающими свои душные ближние порядки. И неважно, будут то узкие группки по интересам или же навалится всё общество в целом, которому всегда есть до тебя дело.
Я считал, что наряду со мной к клану «третьих» принадлежит вполне себе независимая троица: Володя Анацкий, Маша Турчанинова и Витя Фокин, которого наш разношёрстный квартет вполне бы мог избрать себе старостой, несмотря на известную асоциальность такого типа людей. Такой странный союз мы с достаточным на то основанием могли бы считать аналогом «союза вольных каменщиков», хотя в наших рядах никогда бы не оказались его знаменитые апологеты: Вильгельм Оранский, Моцарт или Патрик Гордон. Но фартук и отвес, линейка и циркуль, несомненно сгодились бы и для нашего герба, если б в гербе том была какая-либо необходимость.
Поведенчески нам в классе противостояла группа «юных наполеоновцев», возглавляемая Галей Фахрутдиновой. Их девизом были слова великого полководца: «Сначала в бой, а там посмотрим!» Правда, мы сосуществовали с ними мирно, несмотря на то, что другой великий полководец, уже из нашего лагеря, имевший обыкновение обдумывать всякую мелочь, недобро косился из тьмы веков на весь этот весёлый бесшабашный клан. Хотя какая мысль на самом деле жила в его хитроватом монгольском прищуре – Бог весть!
Когда мы пытаемся понять чью-то жизнь, мы её неизбежно упрощаем. В этом нет ни уничижения, ни недооценки чужих возможностей, чужого образа мыслей и иного правила быть. Просто это, пожалуй, единственный способ объяснить себе то, что лежит за пределами собственного опыта.
Жизнь любого человека сложна, запутанна и уязвима даже тогда, когда кажется со стороны защищённой, благополучной и вполне себе обыкновенной. Оттого надо очень бережно и осторожно относиться к любой жизни, и, может быть, совсем необязательно пытаться подбирать слова там, где они не будут услышаны или неправильным образом поняты. Пусть лучше они так и останутся не сказанными. Тогда, по крайней мере, остаётся вероятность соединения разнородных миров посредством случайного чувства, определённо не поддающегося никаким мыслимым пересчётам – ни по Лоренцу, ни по Г ельмерту.
А бережность и предупредительность по отношению к другому прежде всего проявляется в уровне взаимодействия. Не нужно приводить в свой мир тех, кому там будет неуютно и тесно, или того, с кем ты не желаешь его разделить.
Сейчас я жалею, что не вполне понимал тогда свою ответственность не только за попутчиков, но и за всех тех, кто поверив мне, пошёл следом. Моя дорога лишь вначале казалась утоптанной, широкой и ровной. Мне и самому верилось, что она удобна и годится для всех, кому по пути. Правда впоследствии, дорога изогнулась и заузилась так, что стала тропою только для одного. Вообще идти за кем-то – дурной выбор, ибо никто, за исключением впереди идущего, не даст ответа на самый главный вопрос: «Куда идём и зачем?»
Сойти с чужой дороги ещё хуже, нежели споткнуться на своей. Такие обычно оказываются на монотонных гариевых кругах нелепого стадиона судьбы, где не существует ничего, кроме бестолкового и бессмысленного бега.
Ты можешь бежать медленнее или быстрей, только никогда не выйдешь за унылую геометрию кругов и не преодолеешь ноющего однообразия гариевой полосы. Здесь нет ничего единичного, здесь существует только множественное число, как нет и ничего частного, приватного, поскольку над всем доминирует общее, тотальное, монолитное, неразличимое…
И если ты, подобно моим друзьям, принадлежишь обоим мирам одновременно, то тебе, как никому иному, придётся горько пожалеть о своём легкомысленном дуализме. Всех, кто хотя бы раз открыл своё сердце стремлениям постичь природу вещей, понять логику явлений, ещё не раз окликнет этот мир, полный загадок, надежд и волнующего поиска истины. Этот мир так просто не оставит тебя и будет ещё долго звать в неведомое, дразнить непонятым, манить несбывшимся.
Никто пока не придумал, как превозмочь неодолимую геометрию гариевой полосы и не сформулировал для неё чудесных преобразований: несчастья в счастье, промахов и неудач в успешность и состоятельность, а потерянного времени в новую, полноценную жизнь. Вы скажете, что на помощь всегда может придти Его Величество Случай? Но только Случай имеет дело не с произвольными разнородными величинами, а привык выбирать из множеств, конкурирующих между собой значениями и смыслами. И если серьезно задуматься, то он не применяет в своей практике теории вероятностей, всегда отдавая предпочтение банальной реализации необходимостей.
Если тогда я был бы так же умён и рассудителен, как я привык о себе думать, то не тащил бы всех за собой. Поступи я иначе, никто из моих друзей, возможно, никогда бы не оказался на проклятых гариевых кругах. Я очень часто думаю о вас, мои дорогие друзья детства, только все эти размышления отчего-то заканчиваются мыслями о несправедливости и одиночестве. Да, таких предметов у нас не было в школе. Хотя неплохо было бы ввести для нас урок несправедливости и факультатив одиночества. Но подозреваю, что мало бы кто обратил внимание на такой необычный факультатив. Наверное, лишь несколько моих одноклассников и обменялись бы понимающим взглядом, только так бы и не пришли в тихий вечерний класс, где их ожидал, вслушиваясь в глухие шаги опустевшей школы, старый учитель. Он молча посидел бы в безлюдном кабинете полтора часа, потом поплёлся в свою пустую квартиру и, включив телевизор, долго бы слушал весёлого диктора с грустными глазами, бодро рапортующего о том, что никакого одиночества не существует, а есть лишь бодрая спайка счастливых людей, объединённых глубокими духовными скрепами. Жаль только, что диктора с грустными глазами никогда не слушают дети. Для детей точно не бывает одиночества, несмотря на полное отсутствие у них всяких духовных скреп.
Если эту дополнительную факультативную нагрузку в принципе мог взять на себя всякий школьный учитель, то вести урок несправедливости мало бы кому оказалось под силу.
На мой взгляд, это самый важный школьный предмет, который первым необходимо включать в аттестат зрелости.
Мне рассказывала бабушка, что у них в гимназии подобный предмет был. Впрочем, само её присутствие в гимназии уже было величайшей несправедливостью. Она, в отличие от иных гимназисток, была из простого народа, её как раз и выбрал тот самый своенравный Случай, оплатив обучение из кармана местного купца. Несправедливостью было также то, что оказавшись в привилегированном учебном заведении случайно, она превосходила остальных в науках и языках, рисовании и музыке. и даже отмечалась хорошими манерами, которые плохо давались детям дворян и богатых горожан.
Закон Божий не шёл у них первым предметом в аттестате об окончании, но атмосферою этого урока было пронизано всё обучение гимназисток.
Бабушка утверждала, а я с ней, пожалуй, соглашусь, что легче всего урок давался тем несчастным из притчи о работниках на винограднике, что нанялись трудиться за один динарий первыми. Те же, которым почти не приходилось работать, урока не понимали, но охотно принимали его на веру. Впоследствии, уже в двадцатых, бабушка, будучи школьным учителем, была в рядах самых непримиримых борцов с религией. Ей очень хотелось, чтобы самым главным предметом в программе стал урок добра и справедливости. Но приблизившись к столетнему рубежу и пережив две свои страны, она говорила, что, наверное, уроки несправедливости были бы много полезнее. Особенно там, где мало кто стремится осваивать науки и языки, музыку и рисование. И совсем не желает приобретать те хорошие манеры, за которыми так ревностно следили классные дамы-француженки у неё в гимназии. Всё это должен заменить единый урок несправедливости, действительно способный помогать таким людям.
Что-то мешало мне согласиться со старым и мудрым человеком, прожившим такую долгую и сложную жизнь. Возможно потому, что где-то в глубине души, вопреки здравому смыслу и всему этому беспощадному мирозданию, мне тоже бы подсознательно хотелось преподавать уроки добра и справедливости, как некогда она, в далёких и великих двадцатых.
V
Никто и никогда так и не объяснил мне: зачем и для чего жить. Всё, что я слышал от взрослых относительно этого вопроса, поражало меня своей фальшью и надуманностью. Я отчего-то полагал, что взрослые либо обманывают, считая меня недостаточно готовым к восприятию суровой правды, либо сознательно не желают обсуждать эту тему, ввиду недетского характера проблемы, её масштабности и глубины. То, что они не знают, мне как-то совсем не приходило в голову.
Догадка об их неведении впервые посетила меня в результате сопереживания совсем незнакомой девочке, с которой я столкнулся лицом к лицу в пустом школьном вестибюле. Девочка бесшумно плакала, она смотрела прямо на меня, но я был почти уверен, что она меня не видит. Её, ВОЗМОЖНО, кто-то обидел, а, может быть, какое-нибудь несчастье успело задеть её крошечную жизнь. Так случается, что сочувствие внезапно открывает особенное духовное зрение, способное замечать всё. Даже не знаю, кому из нас тогда было больнее, поскольку до этого мне не приходилось испытывать подобного сострадания. Я не знал, что с ней случилось, и что стало причиной её слёз. Но я был твёрдо уверен, что в её несчастье виновны взрослые, не сумевшие защитить, уберечь, оградить… Для меня в заплаканных глазах девочки отразилось даже не столько поразившее её горе, сколько всё несовершенство мира, сопряжённое с нелепостью и ущербностью бытия. И ещё беспомощность взрослых, не знающих, что им со всем этим несовершенством делать.
Ответ на мой неразрешимый вопрос напрашивался сам собой. Они бессильны и не могут здесь никому помочь, ни себе, ни нам, они слабы и беспомощны и не в состоянии ничего изменить. Это было, пожалуй, первой трещиной между мною и миром взрослых, если не сказать миром вообще.
Я подозревал, что над этим вопросом размышляли многие из моих сверстников, только обратиться с сомнениями к ним было много сложнее, нежели к взрослым. Наверное оттого, что для детей эта тема имела множество различных смыслов и трактовок и не укладывалась в сугубо практическую плоскость. Хотя нам заранее было ясно, что кроме нас полно на этот вопрос не ответит никто. Мы задавали его взрослым ещё и потому, что глядя на них, мы желали жить иначе и верили, что это возможно.
А между собой мы говорили совсем о другом, в основном о девчонках, в то время как они говорили о нас. Не знаю почему, только я совсем не отличался подобной откровенностью и выпытать у меня кто из класса мне нравился, было нельзя. Чем старше я становился, тем запретнее становилась для меня эта тема. Хотя мне было что рассказать.
Мою первую юношескую любовь предваряло головокружительное состояние непроходящей влюблённости.
Пожалуй, что я не разделял тогда мир на внутренний и внешний, поскольку не подозревал о столь удобном и рациональном делении. Для меня существовал тихий молчаливый мир и мир настырный, агрессивный, не умолкающий ни на минуту.
Первый ошибочно я полагал своим, второй противостоял мне, всечасно выказывая свою враждебность и недобрую напористость. Я не знал откуда исходит свет, озаряющий мой молчаливый мир. Только света здесь было никак не меньше, чем в первозданном саду, далёкой прародине человечества. Свет лучился, собирался в тугие пучки, одаривая блеском великолепия и преображая всё, что попадалось на его пути. От ярких пятен света текли цветные тени, не глухие и холодные, как принято о них думать, а лёгкие и подвижные, лишь усиливающие и поддерживающие свет. У обитающих там молчаливых безмятежных душ, разумеется, никаких теней не было. Впрочем, у них и не должно быть тени.
Этот мир был воистину великолепен, настолько убедителен и гармоничен, что противостоящий ему настырный и болтливый мир казался по сравнению с ним сущим недоразумением, не имеющим права на существование. Зачем человеку столько красок и света? Зачем этот бодрящий воздух, пахнущий озоном, зачем улыбающиеся ему цветы, дома и деревья если он всё равно не будет там жить? Тому, кто скажет, что во всём тут повинна органическая химия – я ни капельки не поверю, ибо знаю о предмете не меньше, нежели мой предполагаемый приземлённый скептик. Единственно, с чем мне придётся согласиться с моим материалистическим всезнайкой, что блуждающий по такому феерическому миру свет неизбежно должен сфокусироваться на той единственной, из-за которой цветут радугами подвижные тени и пахнет озоном наполненный лучами воздух. И действительно, вскоре так и случилось, хотя она давно уже была рядом, только разглядеть её случилось лишь благодаря торжествующему свету, преображающему всё.
Любовь отучает человека от эгоизма. От извечных вопросов, будоражащих сознание и ставящих в тупик разум. «Зачем жить», – снова спрашивал я сам себя, а мой молчаливый мир без всяких слов отвечал мне, радуясь и ликуя. Отвечал мне ёмко и кратко, убедительно и величаво. Ажурной снежинкой, зацепившейся за край рукава, изогнутой веткой, пустившей к себе целую стайку взъерошенных воробьёв, оранжевой полоской неба, зардевшейся на востоке, длинным голубоватым шлейфом падающей звезды…
Бог – есть любовь, сказано в одной из мировых религий. Очень правильно сказано, особенно если правильно это понимать.
Первая любовь всегда самая запоминающаяся, самая яркая, особенно когда она прячется за молчание и выдать себя ничем не может. Часто она рождается в душе вопреки всему и светится, озаряя своим искрящимся светом целый мир. Такая любовь – исключительно человеческая особенность, и благодаря ней, так легко и просто отвечать на всё тот же извечный детский вопрос: зачем и для чего жить.
Курортный роман
Она уже была когда-то в этом приморском городе, но помнила его плохо. При мысли о нём на память приходили какие-то утлые зонтики на берегу, бесконечные прибрежные кафе, откуда частенько приходилось вытаскивать мужа, и унылые, словно рельсы, серые бетонные буны, привычно уходящие в море…
Все эти воспоминания не имели совершенно никакой эмоциональной окраски, словно принадлежали вовсе не ей, а просто пришли неизвестно откуда, движимые легкомысленным морским бризом. Единственным ярким отзвуком того далёкого лета была сочинённая для неё песня, написанная незнакомым юношей где-то на окраине этого курортного городка. Всё произошло тогда неожиданно и случайно, но не было у неё другого, более дорогого и милого сердцу воспоминания, чем это, поскольку в него вместились не только пережитые мгновения ничем неомрачённого счастья, но и все желания, все мечты, наполнившие её существование миром, любовью и неуёмным желанием жить.
В тот памятный день была мутная, тяжеловесная жара. Бледный город шумно дышал смрадным зноем, цепляя её липким асфальтом и кружа по пыльным улочкам, чреватыми грязными дворами и нелепыми тупиками. Хлипкие домики теснили её, кирпичные заборы преграждали путь к морю, не зная о том, что она никуда не спешит и не предполагает никакой цели. Ей нравилось бродить неведомыми путями, не имея ни намерений, ни маршрута, не следя за циферблатом и никому не объясняя «зачем» и «почему». Только так она могла ощущать себя свободной, не подвластной обстоятельствам и обретать душевное равновесие. Но случай, изменивший всё, распорядился иначе, ворвавшись к ней не коварно с чёрного хода, а бесшабашно с балкона второго этажа.
Она уткнулась в тот дом точно невесомая льдинка в неодолимую преграду, остановилась и так и оставалась стоять, окружённая кипарисовыми аллеями и этим облезлым двухэтажным домом с грузным балконом и высокими окнами в ветхих потемневших переплётах.
Возможно, она и дольше могла бы неподвижно простоять перед обшарпанным фасадом, если бы вопрос юноши с балкона не заставил её поднять голову и посмотреть вверх:
– Девушка, вы здесь зачем?
Странный, почти глупый вопрос. Обычно она не щадила самолюбие душных приставал, отвечая им остро и дерзко. Но здесь перед ней стоял тот, который заставил её забыть не только слова, уже налипшие на языке, но и её собственное имя.
Она обязательно бы узнала его, даже будь он не так близко как теперь. На неё смотрел кудрявый темноглазый красавец, прекрасный, словно античный герой, только его красота не была столь безупречно отвлечённой, вынесенной за скобки привычного бытия и лишённой прозаического обаяния. Напротив, между ней и внезапным юношей вовсе не было никакой внутренней дистанции, поскольку он находился даже ближе её собственной тени, будучи извечно там, где билось сердце и хранила все его отражения её чуткая человеческая душа. Он был воплощением её навязчивой грёзы с тех самых лет, когда она начала мечтать о любви. Его облик был узнаваем и неуловим, он был похож на ускользающий романтический сон и одновременно на ясную предутреннюю полоску на заревом небосклоне. И как он был не похож на тех, кем гордились её подруги, о которых судачили знакомые, и на тех, кого она видела вокруг себя и среди которых ей предстояло находиться и жить.
Сколько потребовалось сил, терзаний и работы души, чтобы примирить себя с обыденностью, принять действительность такой, какова она есть, и жить подобно другим – обыкновенно и просто, не мечтая о несбыточном, не желая невозможного. и не думать о том, кого она поселила в своей душе, создав его из собственных фантазий и представлений о настоящей, подлинной жизни, жизни, которой, как ей казалось, она была достойна.
Теперь она уже жалела об этом приобретённом опыте.
На неё смотрели тёмные, глубокие как море глаза юноши, и она, не отрываясь, могла бы бесконечно смотреть в них, смотреть так, как смотрят в морскую даль, любуясь её неприступной красотою и ощущая гордое величие стихии.
Юноша заметил это, и его лицо озарилось лёгкой полуулыбкой, которая если не вернула её к реальности, то уж точно вывела из оцепенения.
– Как жаль, что вы сейчас там, а я здесь, лучше, если было бы наоборот. Джульетте уместнее находиться на балконе и слушать, как внизу поёт для неё влюблённая мандолина. – У него был ровный негромкий голос. Она вполне могла бы полюбить этого юношу только лишь за этот чудесный голос, за этот вежливый тон, за доверительную интонацию, за мягкий, неповторимый тембр, заставлявший её дрожать и трепетать всем телом. Разумеется, она всегда знала этот голос, он часто разговаривал с ней, и его звучание всегда было нежным и трогательным, словно прикосновение.
Она задержала дыхание, чтобы сбить волнение и ответила ему, стараясь выглядеть как можно более непринуждённо.
– Ваш балкон, конечно, ничуть не хуже балкона Джульетты, только мне он совсем не подойдёт, поскольку я её значительно старше. Но вы вполне смогли бы сойти за Ромео.
– Обижаете. Я тоже его старше. Но очень не хочу разочаровывать вас и попробую развлечь мою неожиданную Джульетту сентиментальной сальтареллой. Полагаю, она не могла не быть в репертуаре Ромео.
Он принял театральную позу, стремясь, очевидно, изобразить влюблённого молодого нобиля из итальянской Вероны.
– Скажу вам по секрету, что Шекспир совсем забыл сообщить о виртуозной игре Ромео на мандолине и о том, что он прекрасно пел. Почти как я.
Она засмеялась и захлопала в ладоши. Юноша на секунду скрылся и вновь показался на балконе, но уже с гитарой.
– Это, конечно, не мандолина, но для нашей сальтареллы вполне подходящий инструмент.
Он снова театрально откинул назад свои тёмные вьющиеся волосы и накрыл струны ладонью. Постояв так немного, юноша вновь принял обычный вид и спросил её:
– Слова нашей сальтареллы должны быть особенными. Подскажите мне тему.
Она опять засмеялась и почти воскликнула:
– Пусть песня будет о рыбаке, в чьи сети попадается не рыба, а красивые девушки!
– Отличный сюжет, попробую подобрать слова.
Он задумался, опёрся ладонью о край балкона и посмотрел в небо. Наверное, он знал, что в такие минуты бывает особенно красив. Она, улыбаясь, любовалась им, будучи не в силах сдержать этой своей красноречивой улыбки. В нём всё было обворожительно, смущало разве что бесвкусное золотое колечко на среднем пальце в форме двух слипшихся сердец.
Юноша беззвучно шевелил губами, закрывал глаза и чуть слышно перебирал струны, нащупывая мелодию намечающейся песни.
Наконец он повернулся к ней, поднял руки, словно требуя тишины у многолюдного зала и негромко запел:
«Не сетуй, рыбак, что пусты твои сети,
Не в толще морской, а средь весей земных,
Немало красоток по жизни ты встретишь, Которые будут в тебя влюблены…»
* * *
По сути слова песни были простым прямоговорением, без дробления смыслов, без вибраций пауз, без сложных рифм и изысканных поэтических конструкций – то есть без всего того, что ей так нравилось в стихах и из-за чего она предпочитала поэзию прозе.
Но всё равно ей понравилась песня, и она запомнила её наизусть, запомнила не только все слова и нехитрую мелодию, но и каждое движение, всякий жест, выражение глаз и этот невероятный окружающий их воздух, наполненный цветными тенями и солнечным светом, воздух, в котором их тела, как ей казалось, сделались невесомыми…
* * *
Земное тяготение к ней вернулось не сразу. Они ещё долго кружились словно мотыльки и над старым домом, и над кипарисовыми аллеями, и над всем этим бледным, пропылённым городом. Занятые только друг другом они не замечали ни влажных голубых гор, ни бликующего зелёного моря. Им было так чудно и странно говорить без слов, осязать не соприкасаясь, чувствовать и понимать, даже не зная имён друг друга. Хотя кого из них это могло удивить, если само время и пространство потеряли всякий смысл и значение, отчего обнулилась память и свернулись все внутренние и внешние измерения.
Каким же парящим и невыразимым предстало её внезапное счастье! Оно оказалось милее мечты, проще слов и прозрачнее мысли, дышать этим счастьем, пожалуй, могли разве что олимпийские боги, сходя к своим возлюбленным в виде облака или проливаясь с небес золотым дождём. Как же ей не хотелось возвращаться оттуда! Но реальность уже трясла её за плечи, будила, крича ей в лицо что-то странное и надуманное, вспоминая о какой-то ответственности к неизвестно чему и взывая к непонятному чувству долга, который зачем-то она обязана помнить.
Она отбивалась, закрывала лицо руками, отводила глаза… Но сознание постепенно овладевало ею, наполняя её тяжестью земли, предопределения и памяти. Она плакала, что-то бормотала от отчаяния, осознавая своё бессилие и невозможность что-либо изменить. Наверное, не осознавая, что с ней происходит, она выкрикивала слова о том, что уже два года как замужем, что завтра улетает отсюда в далёкий северный город, где мало солнца и вообще не растут кипарисы, что ей уже никогда не будет так хорошо и что она безумно любит этого кудрявого темноглазого юношу…
Он же не мог понять что с нею произошло, ему было вовсе невдомёк, что всё услышанное было обращено вовсе не к нему, а к судьбе, к жестокому мирозданию, к той угрюмой равнодушной силе, которая не позволяет человеку летать, не даёт ему возможности ощущать себя свободным и счастливым.
Её лицо горело, тело била нервная дрожь, мысли путались и самообладание, которое так отличало её от остальных – начисто покинуло её. Она осознавала, что куда-то бредёт, что мимо неё медленно плывут деревья, ограды, дома. и что поблизости давно уже никого нет, что она потеряла того, кем было заполнено всё её время, время между явленным и несбывшимся, и заполнено всё её внутреннее пространство, в просторечии именуемое душой…
Вопреки её собственным ожиданиям она смирилась с такой данностью необычайно легко. Только вовсе не потому, что ей удалось разлюбить своего темноглазого юношу, напротив, он заменил для неё весь окружающий разноликий и многоголосый мир, соединив в себе все концы и начала, все следствия и все причины. Её мысли, её мечты и надежды были обращены только к нему, отчего ей казалось, что все горизонты начали сходиться в одну точку, а время перестало её тревожить волнующим ощущением новизны, более не влияя на события, поскольку всё самое важное в её жизни уже случилось.
Никто толком не мог понять, что с ней произошло, а она не желала никому ничего объяснять. Доселе такой прочный и уютный мир, с любящим мужем и надёжными подругами, стал ей тесен и невыносим и его заменил иной мир, иллюзорный, но оттого не менее осязаемый и тоже, как и прежний, наполненный жизнью. Разумеется, в центре этого мира находился её темноглазый юноша. Она подбирала ему различные имена, только никакое из них ему не подходило. Но он откликался на любое из них, отвечая ей своим ровным, негромким голосом, заставлявшим её замирать и трепетать всем телом.
Наблюдая за нею со стороны можно было бы подумать, что её прежняя открытость сменилась недоверчивостью и равнодушием. Однако это было, конечно же, не так. Любовь и радость переполняли её, но делиться этим своим богатством она не могла, прекрасно осознавая, что ни в ком не сможет найти ни сочувствия, ни поддержки.
Наверное, где-нибудь в глубине души и пробовало появиться сомнение в невольной вине всех отвергнутых, всех увлечённых и любящих, оставленных ею без тени надежды, без частички душевного тепла и участия. Однако сознание противилось такой мысли, поскольку кто мог соперничать с совершенным воплощением её самой чаемой мечты? Разумеется – никто!
* * *
Как же всё-таки бесшумно и неуловимо время! Оно пленяет нас ощущением движения и обновления, завораживает своей вязкостью и текучестью, способностью замирать, ускоряться, разбиваться на разные периоды и отрезки. Только ему позволительно так легко обманывать нас, убеждая, что всё ещё впереди, всё успеется, всё будет хорошо, и мы заживем по-новому, беззаботно и счастливо.
Время словно ветер врывается в наши души, наполняя их свежестью и чарующим ароматом будущего, потому как у времени не существует ни вещественных воплощений, ни закрепощающей силы тяготения.
Наша героиня и сама не понимала, зачем она вновь, после стольких лет, приехала сюда. В город, в котором где-то на окраине стоял старый двухэтажный дом с тяжеловесным балконом и кипарисовыми аллеями вокруг. Аллеи отгораживали его от остального мира, позволяя там накапливаться восхитительным цветным теням и беспечно резвиться солнечному свету. Она ни на минуту не забывала об этой частице благодатной земли, наградившей её долгим эхом безоблачной любви и желанного счастья. И что ей после этого весь наполненный суетой и погружённый в низменные заботы простоватый мир! Разве что вновь случайно набредёт на ту заповедную территорию утраченной Вероны, где, не переставая, поёт влюблённая мандолина и откуда-то сверху, с балкона второго этажа, слышатся знакомые и трогательные слова о любви.
Но прежний город жил уже совсем иной жизнью. Окраины встречали её головокружительными высотками, отражая в зеркальных витринах первых этажей её стройную фигуру и красивое лицо, которое совсем не исказили годы, а лишь добавили ему выразительности и строгости.
Искала ли она своего темноглазого в пыльных джунглях из стекла и бетона? Пожалуй, что да, иначе зачем бы ей было осторожно заглядывать в лица встречных мужчин, искать глазами тёмную зелень кипарисов и вздрагивать, замечая балконы на уцелевших старых зданиях.
Мужчины нередко застывали, провожая её взглядом, делали ей комплименты, пробовали заговорить. Только она не останавливалась, безразлично улыбаясь уголками губ и смотря куда-то вдаль, наверное, туда, где лежит её благодатная земля и плотно в два ряда растут кипарисы.
* * *
Как-то она забрела на длинный мол у торгового порта, по которому взад-вперёд сновали такелажники, портовые рабочие и медленно разъезжали гружёные электрокары. Она сама не могла понять – зачем забралась туда, где все заняты делом и где любой праздный человек смотрится дико и неуместно. Как ни старалась она держаться обочины, ей всё равно не удавалось не мешать общему движению и работе людей, занятых на погрузке.
– Женщина, вы здесь зачем? – услышала она глухой грубоватый окрик.
«Неужели нельзя было схамить как-либо иначе, – этот человек не имел никакого права говорить так». – Подумалось ей. От обиды она закусила губу и с ненавистью в упор посмотрела на того, кто посмел потревожить её память, касаться которой не имел никакого права.
Только это ничуть не смутило говорившего. Он, нагло ухмыляясь, безобразно пялился, и взгляд его был грязным и раздевающим. Она почти физически ощущала как он, опуская глаза, переходил с её груди на бёдра и дальше к незащищённым платьем коленкам… При этом что-то влажное и липкое оставалось на её теле, словно не было никакого расстояния между ней и этим грузным лысоватым волокитой, по-видимому, считающим себя импозантным и неотразимым. Он вновь криво понимающе усмехнулся и что-то черкнул на засаленном бланке старой товарной накладной. Это был номер его телефона.
Через несколько дней она, сама не зная почему, позвонила…
* * *
Перед сменой он приходил под окна её пансионата и ждал, пока она не появится в окне. Завидев её, он принимал нелепую позу и начинал быстро-быстро перебирать руками, имитируя игру на гитаре. Эта глупая повторяющаяся шутка, очевидно, казалась ему очень забавной и оригинальной. Круглое лицо его лучилось гордостью и довольством от содеянного, потом он изображал короткие корявые па и, приплясывая, удалялся прочь. А вечером он ждал её в своей маленькой комнатушке, используя в качестве романтического инвентаря огарок стеариновой свечи, помещённый в стеклянную банку из-под кабачковой икры.
Она возвращалась от него окольными путями, стараясь держаться подальше от оживлённой набережной, где гуляли счастливые пары, и звучала весёлая музыка. Она шла и громко плакала, не замечая вокруг себя никого. Редкие прохожие провожали её сочувственным взглядом, каждый по-своему объясняя причину её слёз. А она горячо убеждала себя никогда больше не появляться в этой убогой комнатёнке с похотливым самцом, но всякий раз приходила, нарушая все свои прежние клятвы и обещания.
Она ненавидела себя.
«Всё, это в последний раз, – говорила она себе, – из-за этого плешивого пошляка я совсем перестала слышать моего темноглазого».
Она шла берегом моря и видела, как молодые люди с гитарами провожают песнями уходящий день, и ей захотелось снова услышать свою песню. Она прислушалась к себе, но внутри было тихо, лишь слабо потрескивал огарок свечи на дне банки из-под кабачковой икры.
Она вспомнила, что в углу знакомой неприютной комнаты со свечой видела старую гитару, украшенную широким голубым бантом.
«Вот и прекрасно! – Решила она, ускорив шаг. – Пусть он сочинит для меня песню».
И это было убедительным оправданием перед своей совестью для её последнего визита туда.
* * *
Он, глупо улыбаясь, предложил ей тапки, но она не снимая обуви прошла в комнату и села на край кровати.
– Что-то случилось? – спросил он её. Его лицо стало серьёзным, и она к удивлению своему заметила, что прежде, в молодости, он, возможно, был очень красив.
Она нетала, вытащила из захламлённого угла гитару, украшенную голубым бантом, и сунула ему в руки.
Он, недоумевая, посмотрел на неё, неуверенно провёл рукой по струнам и накрыл их ладонью.
– Сочини для меня песню! – В её голосе звучали такие резкие и повелительные интонации, что он только виновато и обескуражено мялся на месте и не знал, что ей на это ответить.
Она снова села на кровать и требовательно похлопала в ладоши:
– Маэстро! Попросим.
– Помилуй! Но о чём же мне петь?
– А спой мне о рыбаке-неудачнике, в чьи сети попадается не рыба, а несчастные наивные девушки!
Он сделал странное движение головой, словно хотел откинуть назад мешающие ему волосы и начал чуть слышно перебирать струны. На его мизинце тускло отсвечивало пламенем свечи золотое колечко в форме двух слипшихся сердец.
– Ну да, об этом мы можем, такое, помнится, уже сочиняли однажды. – И он без паузы и подготовки запел:
«Не сетуй, рыбак, что пусты твои сети,
Не в толще морской, а средь весей земных, Немало красоток по жизни ты встретишь, Которые будут в тебя влюблены…»
* * *
Она не дослушала и вышла прочь.
Солнце уже коснулось края воды, одаривая оставляемый им мир своими последними лучами. Аучи скользили по краям её невесомой фигурки, выжигая за ней бесконечную чёрную тень.
Виктор Владимирович Меркушев





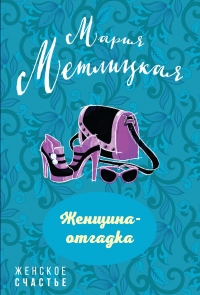
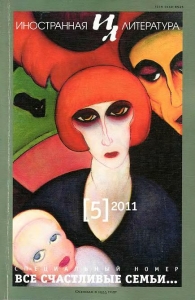


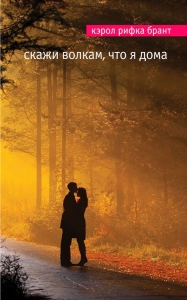


Комментарии к книге «Голос моря (сборник)», Виктор Владимирович Меркушев
Всего 0 комментариев