Фактор джокера не позволяет заранее предсказать развитие.
«Самоорганизация систем»
Роман
1
Потом уже я осознал, что ждал прихода этого рыжего с неясной тревогой — принимая ее за раздражение: опять опаздывает. Договаривались на одиннадцать, приближалась уже половина двенадцатого, я собирался еще в магазин, дома не было даже хлеба, хозяйничал без жены. Наконец он объявился, представился в домофон невнятно, вчерашняя жвачка во рту, я скорей догадался, чем разобрал. Надо было, наверное, его не впускать, я мысленно уже проговаривал воспитательные сарказмы, пусть придет в другой раз. Нет, хватит уж одного, я и так жалел, что согласился на эту пересдачу. Не хотелось оставлять невытащенной какую-то занозу. И раз уж ректор просил.
Лишь открыв ему дверь, я увидел, что парень прикрывает нос и рот окровавленным платком, на лбу и скуле слева наливалась цветом обширная ссадина.
Что случилось? Упал, ударился? С кем-то подрался? Мычал сквозь платок нечленораздельно. Пришлось провести его в ванную, направляя, придерживая за плечо — беднягу пошатывало. Я пустил из крана холодную воду, сам наклонил ему голову, смотрел из-за спины, как он осторожно, отфыркиваясь, обмывает лицо. В раковину стекала подкрашенная вода. Поискал взглядом, какое полотенце попроще ему дать, чтобы вытерся, — не успел, тот вслепую уже сам протянул руку, нащупал немецкое, махровое, испачкал пятном Бранденбургские ворота. С этим рыжим не соскучишься. Выпрямился, задрал голову, осторожно проверил пальцами, идет ли еще из носа кровь.
— Извините, — прогундосил сквозь пальцы, — я сейчас… все объясню… реферат… вот, новый, — извлек, не глядя, откуда-то из-за спины, из обширного кармана бездонной своей безрукавки сложенные вдвое листы, протянул. На листах оказалась кровь, я принял их двумя пальцами. Не позаботился и на этот раз хотя бы положить в файл. — Ночью вдруг пошло…
— Хорошо, хорошо, сейчас все расскажете, объясните, — я вслепую пристроил листы на какую-то подвернувшуюся плоскость, взял его за плечо, — только давайте лучше не здесь, да? Пройдем сначала в комнату. — Полотенце стекло на пол (ладно, подниму потом сам, все равно в стирку). Студент сделал шаг, пошатнулся опять, пришлось снова его поддержать. Что у него пошло ночью? Пьян, что ли? Этого еще не хватало. Я повел ноздрями, попробовал уловить дыхание. Нет, запаха вроде не было. Провел парня в комнату, усадил в низкое кресло. Лоб, бровь, скула слева набухали, становились все более сизыми. Где он так, однако, приложился? Может, сотрясение мозга?
— Вызвать врача? — предложил полувопросительно.
Нет, замотал головой, нет, нет. Пожалуйста, не надо. Рыжая шевелюра на лбу потемнела от воды, на воротнике светлой рубашки кровь. Речь становилась замедленной. Извините… я все объясню. Уже почти в норме… сейчас пройдет. Извините…
— Принести, может, кофе? — вспомнил я.
— Кофе?.. Может, кофе... а? — Помотал головой, словно что-то стряхивая. — Кофе… Ай да Пушкин, ай да сукин сын! — Хохотнул коротко, затрудненно. — Как я сумел от них оторваться, вы бы видели!
— Вас кто-то преследовал? — Я все еще пытался понять. На машине грохнулся, как сразу не пришло на ум? Он и вчера опоздал на машине. Эти студенты теперь не на метро ездят. Не вписался в поворот, задел какой-нибудь столб. Хорошо, если не человека. И где машина? — Может, позвонить в милицию?
— Нет, пожалуйста… это не надо, — студента словно передернуло. Что-то с ним было не в порядке. — Пожалуйста, нет… Я сейчас сам...
Я все больше убеждался, что парень не вполне адекватен, расспрашивать сейчас бесполезно. Ушиб ли сказывался, нездоровое возбуждение? Где-то я недавно такое видел… плывущая речь, блуждающий взгляд, дрожащие пальцы… опять мотнул головой…
И тут же вспомнил: в фильме про наркоманов. По телевидению. Такое вот сдвинутое выражение, искаженная, неточная улыбка. Наркотики, ну конечно. Вот почему он так испугался милиции. Наглотался какой-то дряни. А если что-то еще завалялось в карманах, найдут — тут не дорожным разбирательством пахнет, похуже.
Не хватало еще этого. Вот с чем я никогда не имел дела. Левый глаз все больше заплывал, правый, как бы в согласии с ним, тоже становился щелкой, почти слипался. Как в таких случаях поступают? Наташа вызвала бы врача, но знать бы, чем это обернется. Или попробовать в самом деле кофе?..
Вышел в кухню, включил чайник. Кофе оставался только в пакетиках, положу ему два. С сахаром или без? И сахара нет, надо же сходить в магазин. Ну дела! — усмехался я сам себе, выбирая чашку побольше. Преподаватель угощает кофе студента, который пришел к нему пересдавать зачет. Домой, как в старые времена. А студент для бодрости накачался по-своему, не рассчитал, и как его привести в чувство?
Когда я вернулся с подносом в комнату, студент в кресле уже сопел, уронив здоровую щеку на плечо. Бессмысленная расслабленная улыбка на слюнявых губах. Капельный остаток крови вытек из ноздри, засыхал. Стоило бы обработать ссадину, только найти чем. Была бы дома Наташа. Легонько потормошил юношу за плечо. Тот пробормотал что-то нечленораздельно, пузырек слюны вздулся на губах. Брезгливость мешалась с невольной жалостью. Почти мальчик, девятнадцати еще, наверное, нет, первый курс. Родители, я уже знал, в отъезде, один, некому позвонить. Незнакомый, в сущности, человек, почему согласился принять его дома? Евгений Львович, ректор, уверял, что парень очень способен в какой-то своей области, математической или компьютерной. Хорошо, но зачем такая срочность с пересдачей? Я уступил ректору, ничего еще не понимая. Ладно, пусть потом разбирается сам, у него к мальчику странная слабость, это я успел почувствовать. А пока полежит, оклемается, рано ли, поздно. Хотя не вызывать врача, наверное, легкомысленно. Если бы не мысль о наркотиках. Сколько, интересно, это может длиться? В магазин же надо.
Я еще не представлял, как попался.
2
Еще год назад я и думать не мог, что снова займусь преподаванием. От тех же курсов по тем же конспектам (Чехов—Толстой—Тургенев, перхоть пожелтелых бумаг), от кафедральных склок, унизительной зарплаты ушел сначала на министерскую синекуру, сочинять какие-то методические руководства, ненадолго задержался на другой такой же, освободился наконец на пенсию.
О преподавательской работе я жалел меньше всего. Когда-то связывал свое будущее с наукой, любил в молодости усмешливо поболтать о том, что литературу, ее полноценное, так сказать, измерение создают не столько творцы первоначальных, исходных текстов, сколько филологи, толкователи, биографы, комментаторы. Это они наполняют неразработанные, не до конца оживленные строки соками многомерных смыслов, обнаруживают в них связи, культурные, мифологические соответствия, переклички, о которых отчетливо не подозревали сами авторы. Не их ли почти двухвековым соавторством был создан — и продолжает до сих пор создаваться Пушкин? Разве современники Шекспира, едва замечавшие его при жизни, могли понять, вычитать у него столько, сколько читаем теперь мы, и он все еще не перестает обогащаться, расти — тоже благодаря нам, почти безымянным, не претендующим на бессмертие? Иронизируйте сколько хотите — но что такое, в конце концов, Библия без теологии? Что-то в таком духе.
Надолго этого молодого тщеславия не хватило, имени в науке не заимел, докторскую диссертацию не дописал (Чехов и Серебряный век, восприятие, неприятие, культурный контекст… о господи, было, было). Последнюю статью в «Ученых записках» напечатал лет пятнадцать назад, сами «Записки» надолго прекратили существование, уж не вспомнить когда. Уверял себя, что на досуге доработаю, додумаю недодуманное, некоторое время кропал кое-что для себя, угас. Обычное дело. Прирабатывал популярными публикациями, все больше к культурным юбилеям, отоваривал неиспользованную мелочишку. В одном из глянцевых журналов начальником оказался мой бывший студент, никогда мне еще так не платили, основные деньги в дом приносила жена — хватало.
Состояние полудремотного спокойствия можно было назвать возрастной усталостью. И не сказать, чтобы обрюзг, расслабился, — нет, об этом тоже было кому позаботиться. С Наташей вообще не на что было жаловаться, нечего было желать. Новинок читать не тянуло, общение угасало, былые собеседники уходили, кто из жизни, кто из страны, переписка не складывалась, с новыми не сближался.
(Повторяющийся сон: станция или полустанок, спускаешься из вагона купить у набежавших торговок вареной картошки из кастрюли, укутанной ватником, в аппетитном горячем масле, надо теперь вернуться в свой вагон, но путь к нему оказывается загорожен другим, подошедшим поездом, пока его обходишь, твой успевает куда-то деться, ушел или перегнан на другой путь, ищешь долго, невпопад, безнадежно, как бывает во сне, пока не заставляешь себя с облегчением проснуться: никуда тебе на самом деле не надо, и Наташа под боком, теплая.)
Если и подступало иногда неясное чувство, похожее на тоску, я с ним умел справляться, способность к иронии не исчезла. Пока не произошел этот сбой. Шли к дочке посмотреть квартиру после ремонта, возле мусорного бака против ее подъезда я увидел сваленные кучей книги, подался взглянуть поближе. Рефлекс, пора уже было привыкнуть к зрелищу книг на помойке, Наташа удержала за локоть. Померещилось что-то, не успел на расстоянии рассмотреть. Соня со сдержанной гордостью демонстрировала усвоенные уроки дизайнерского журнала: арочный проем между комнатами вместо убранных дверей, малогабаритное джакузи в стиле техно, массивные, мягкие, размягчающие кресла. Наташа ахала, я поддакивал рассеянно, а взгляд по привычке выискивал книги. Они теперь ютились в разных пазах, наряду с бокалами, вазами, сувенирами. Путеводители по европейским достопримечательностям, красочные обложки, незнакомые имена, комплект «Cosmopolitan». И будто все медлил осознать, что ищу и не могу найти, не давал проясниться воспоминанию о замызганном картонном переплете с геометрическим силуэтом птицы. Возле мусорного бака, в начинавшихся сумерках. Но уже знал, что не ошибся. Дешевая школьная серия, единственный сборник Чехова, к которому когда-то написал предисловие. Соня получила эту книгу в подарок, когда была еще школьницей. Открывала ли она ее хоть однажды, прочла ли сентиментальную надпись? Скорей всего, просто про нее забыла, и не в надписи было дело. Дома снял книгу с полки, листал, казалось бы, знакомое, самим написанное, начинал читать — и не мог. Не узнавал, не проникал в смысл.
Как описать этот странный, болезненный сдвиг? Время назад появились такие картинки: чтобы в наборе беспорядочных пятен обнаружить осмысленные очертания, нужно было особым образом настроить глаз. Собьешься, утеряешь настройку — опять рассыпается бессмысленным конфетти. Оптический эффект. Мы еще увидим небо в алмазах. Соединял слова непонимающим, не своим взглядом. Все оторвано и исчезло, точно сгорело.
3
Еще не болезнь, нет, сейчас-то я знаю, как это бывает по-настоящему. Невнятное состояние мозга, грань депрессии. Испытавшие поймут: не можешь читать больше двух-трех страниц подряд — выталкивает, музыка обтекает слух, убаюкивает, не задерживаясь, о телевидении не говорю. Появился еще Интернет, я подключился к нему запоздало, не сразу. Бродил очередной раз без направления, забрел на дискуссию о кризисе цивилизации, нечаянно задержался на перекличках с собственной полузабытой мыслью.
Не впервые, читал я, меняется не просто культура — возникает особая, небывалая прежде реальность. Каждое время вправе считать себя переходным, но никогда еще перемены не были столь быстротечными. Только что за происходящим можно было хотя бы уследить, приспособиться, обучиться. Время уплотнилось, в ушах шум, не успеваем оглянуться, перевести дух, переварить перемены. Знания, которые не успевают передать, остаются невостребованными, как усовершенствования скоростареющей техники. Добытые премудрости оказываются не нужны — не потому, что опровергнуты или превзойдены, они просто остались в прошлом. Как останутся когда-нибудь в прошлом музейная живопись, классический балет, литературный антиквариат… Когда-то я сам подумывал написать на близкую тему, нужные слова ускользали.
Подвернувшийся попутно стишок подтолкнул мысль. Человек былых времен наблюдает с беспомощной грустью, как разрушается, приходит в упадок страна, культура. Изваяния повалились, замыты песком, заросли бурьяном… попробую вспомнить… Для нынешних они истуканы, а были когда-то боги. Да. На глазах вырождается, угасает цивилизация, привычная, естественная, как сама природа, сменяется чем-то еще неясным, чужим, и не из-за насильственного вторжения — от внутренней усталости, изжитости. Прежний язык позабыт, мне на нем говорить уже не с кем… Как будто мои слова. Пережил свое время, попал в чужое… И дальше о древних мистериях обновления. Обновления природы, жизни — и обновления памяти… как там?.. Беспамятство невыносимо для духов, они не хотят исчезнуть, дают о себе знать… Кажется так. Будут исподтишка мстить, покуда о них не вспомнят, не восстановят единство, чтобы жизнь могла продолжаться, выздоравливая и обновляясь. Выздоравливая и обновляясь… поэт, ничего не скажешь.
Нечаянно сложилось что-то вроде статейки. Древние, писал я, не просто умом сознавали, чем чревато забвение. Они знали о духах, готовых мстить, когда ими пренебрегают. Нельзя допустить разрыва, пропасти между унаследованными ценностями, которые наши предки, может, не зря считали основополагающими, вечными, и тем, что формируется на наших глазах, еще не совсем различимое. Должен существовать хотя бы узкий круг хранителей, способных поддерживать связь, напоминать об основах, жизненно необходимых для здоровья культуры, а значит, для самого нашего существования. Общественное неблагополучие, моральный распад, потребительская паранойя, немотивированная преступность, все, о чем толкуют сегодня газеты, больше, чем мы сознаем, связано с умственным разбродом, недодуманностью, несогласованностью. Сопротивление не может не остаться потребностью, хотя бы на уровне самосохранительного инстинкта. Какие-то механизмы, природные ли, духовные, исподволь начинают работать. Иначе — разложение, вырождение, упадок.
Ну и что-то еще в таком вот высоком стиле, сам от себя не ожидал. Показывая свой опус в журнале, я заранее готов был к подслащенному отказу: не наша тема, для популярного издания слишком, как теперь говорят, интеллектуально. Нет, приняли без эмоций, предложили подать статейку в виде отклика на дискуссию в какой-то радиопередаче, там недавно вроде бы обсуждалось что-то такое. Название передачи (как и радиостанции) я слышал впервые, никакой записи или распечатки мне найти не смогли, от предложения я с недоумением отказался. Что там могли наговорить? Не уследил.
Неловко теперь вспоминать, но я всерьез ждал отклика, месяц, другой. Все умственные построения рано или поздно становятся общим местом, это я сам знал. Но неуютное все же чувство: думал, вынашивал, подыскивал слова, показалось, будто выразил что-то важное, — все тут же глохнет, гаснет, в пустоте или в поглощающей вате, безразличный шум неотличим от безмолвия.
Тем неожиданней было однажды услышать: «А я вас читал!» — да еще от незнакомого человека, и вовсе не литератора.
4
Случилось это на торжествах по поводу вручения очередной литературной премии. Царьков, журнальный кормилец, бывший студент, устроил мне приглашение. Возможно, решил, что теперь, после статьи, я смогу написать для них не только что-нибудь юбилейное. Прежде меня на такие тусовки не звали: отставной старомодный филолог, о текущей словесности не пишет и не особенно ею интересуется. Когда-то в пылу окололитературной болтовни меня назвали эмигрантом не в пространстве — во времени, таким подавай выдержку не меньше лет пятидесяти, а лучше семидесяти. Нет, я и в нынешних авторов заглядывал — как-то надолго не вдохновлялся. Может, не на тех попадал. Новый язык порой приходилось для себя переводить. Но свежеиспеченного лауреата читать все же начал, вдруг в самом деле нашлось бы о чем написать.
Действие у него происходит на территории громадного заброшенного предприятия. Там обосновалась своего рода община — что-то вроде заповедника советских времен. Вождь-идеолог, отставной сотрудник спецслужб, обеспечивает справедливое распределение благ счастливым бомжам. Поддержание порядка требует, однако, ритуальных жертвоприношений, живодерские процедуры на первых же страницах живописуются подробно, со смаком. Я обычно предпочитал не смотреть прессу, покуда не дочитаю сам, но тут не удержался, заглянул. Критики с готовностью теоретизировали о постсоветской травме, о ностальгии по тоталитарной ментальности, о сакрализации насилия. Словарь новомодных интеллектуалов. При желании найти в тексте можно что угодно (как на школьном уровне можно было отмечать в сочинении композицию, эпитеты, метафоры), и ведь не опровергнешь. Мне расшифровывать сконструированные аллюзии не хотелось, читать становилось неинтересно, местами противно, бросил на первой трети — не знаю, чем там сюжет завершился.
После торжественной процедуры я неспешно дрейфовал по шумному фойе с бокалом вина в руке. Лауреат беседовал с журналистами. Массивный, пухлый, обильная черная шевелюра, безволосые женские щеки — как совмещалась эта вполне уютная внешность со страстью к смакованию извращенных насилий? Так ведь и не надо было ничего совмещать, и страсти никакой искать не стоило — слова есть слова, конструкция есть конструкция. К нему подходили с ритуальными поздравлениями, чокались, изображая улыбки. Накануне в интервью лауреат говорил, что отечественных современников не читает, другие, подозреваю, могли сказать о себе так же. Одиночки, разрозненные ревнивые гении, предпочитавшие зря не раздражать чтением печень. Лишь двух-трех я мог узнать в лицо — по фото на книжных обложках, телевидение этими людьми теперь мало интересовалось. Не успевшие занять места за столиками чревоугодничали, стоя с бумажными тарелочками на весу, гул слитных разговоров обтекал слух, как ровная неясная музыка со всплесками то восклицаний, то группового смеха.
Я собирался уже уходить, когда кто-то окликнул меня по имени-отчеству. Царьков, мой покровитель-редактор, дожевывал за одним из столиков шашлык. Толстеющий, лысый, с тонкой дугой усиков, он казался старше меня, хотя был младше на четверть века.
— Ну как, осваиваетесь в литературной среде? — отер салфеткой блестящие жиром губы. — Это наш автор, тот самый, — представил меня седому худощавому мужчине напротив. — Мы о вас, — пояснил, — только что говорили.
Услышав мою фамилию, мужчина заинтересованно приподнял кустистую бровь.
— А, очень приятно! Я вас читал.
Его звали Монин, Евгений Львович. Скоро я уяснил, почему лицо показалось знакомым. Давно, когда я еще смотрел телевизор, этот человек иногда появлялся на экране, в ток-шоу на экономические темы. Профессор какого-то университета, одно время занимал высокие должности, кажется, даже был замминистра. Лет десять назад он с экранов исчез, а значит, для таких, как я, перестал существовать. Здесь этот Монин представлял, как я уже начал понимать, спонсоров премии. Человек другой, денежной сферы, чем его могла заинтересовать моя статейка?
Он охотно стал говорить сам, не дожидаясь вопроса. Мой опус показался ему вариацией на тему вольтеровского гурона, естественного человека, который вдруг попал в странную цивилизацию, озирается, озадаченный. Повторяется в разные эпохи по-разному. Сейчас так фантазируют об инопланетных мирах: попытки проникнуть в коды непонятной, чужой реальности, приспособиться, жить в ней, рядом с ней…
Царьков заскучавшим взглядом уже неприметно отыскивал среди публики кого-то более подходящего, скоро отошел, извинившись. Но я тут же подумал и о другом, продолжал Монин, когда мы остались вдвоем. Не высокомерие ли это: себя, то есть нынешних стариков, нас с вами, считать естественными, как хотелось бы думать, людьми, носителями, наследниками настоящей культуры? Может, это скорей вправе сказать о себе молодые, новые? Моему внуку недавно пришлось выручать меня из очередного компьютерного тупика, застрял не пойму как. Для него это с младенчества — как для нас детские кубики с буквами, помните еще такие? Хотя вы, кажется, помладше меня. Лет на десять? Даже на одиннадцать! Ну, в этом возрасте разница несущественная…
У стены освободился столик, где можно было сидеть, мы переместились к нему, бокалы перенесли с собой, обособились. Вот ведь подарок: встретить человека, который не только тебя прочел, но понял, и как заинтересованно. Может, в чем-то лучше, чем ты сам. Мы оба незаметно захмелели, доброжелательно, весело. Неожиданно нашли даже общих знакомых, общие воспоминания, могли встречаться на квартирах, где провожали когда-то очередных эмигрантов, читали те же машинописи по слепым копиям, да и перед Белым домом в памятном августе могли столкнуться. Времена, когда в курилках НИИ день начинался с разговоров о новинках толстых журналов, заученными наизусть стихами перекликались как кодами взаимного опознания, по ним находили друг друга — как еще можно было определить интеллигента? Не по университетскому же значку. (Технарь, а Вольтера читал.) С пониманием, согласно друг другу кивая, помянули идеализм тогдашней интеллигенции, инфантильные иллюзии, неизжитые, впрочем, до сих пор (и совсем ли безвредные?), поговорили о невостребованности нынешней, о тех, кого стали теперь называть элитой, вот ведь слово, вконец опоганенное телевидением, политиками, шоу-звездами, бизнесменами… тут я, впрочем, вовремя спохватился: не примет ли это Монин на счет людей своего круга? Хотя что я знал о его круге?
— А ведь нужна же категория людей, которые задают обществу систему ценностей, духовных, интеллектуальных, политических, нравственных, — на ходу вдохновлялся я. — Что-то вроде новой аристократии…
Чокнулись, потом еще, подходили официанты, подливали в бокалы, закуску я не заметил. Говорили, веселея все больше, главным образом я. О культуре в эпоху рынка, о мечте создать островки духовной опоры для ищущих друг друга, об утопии в духе Гессе. Но гессевскую Касталию хотя бы содержали, субсидировали структуры типа монастырских — кто станет это бескорыстно, из высших соображений делать в нынешние времена? Треп на известные темы. Евгений Львович больше слушал, понимающе кивал головой.
Потом мне казалось, что прямо тогда же, по ходу разговора, у него и возникла идея ввести для студентов-экономистов, будущих финансовых, банковских деятелей, бизнесменов, хотя бы небольшой курс, назвав его, скажем, «Культура переходного времени». Что-то в таком духе. Хотя на самом деле идея висела, можно сказать, в воздухе. Этот Евгений Львович оказался не просто бывшим министром, но ректором только что созданного Нового экономического университета. Университет был негосударственный, его финансировали структуры не бедные, они уже обзавелись нестандартными курсами вроде социальной антропологии и даже лингвистики. Руководство хотело, чтобы и преподаватели были самого высокого уровня. Я подвернулся точно по заказу, вот ведь как.
О, эта утраченная радость интеллектуального общения, это хмельное чувство внезапной близости! Даже, помнится, на прощание облобызались. Подвыпили, что говорить.
5
Стоило бы, конечно, обоим хоть на другой день протрезветь, признать, что предложение было мне сделано по пьянке, неловко потом показалось переигрывать. Сам я отмахивался, не всерьез, но ведь не отказался. Соблазнился предложенными деньгами? И это, конечно, сыграло свою роль, что лукавить. Всего за два академических часа в неделю, не сравнить с тем, что я получал на своей последней доцентской должности, — цифра льстила самолюбию, прибавляла к самому себе уважения. Была, пожалуй, надежда высказать недоговоренное, оказаться услышанным, уловить заинтересованный отклик — но больше, может, оживить что-то угасающее в себе. Как и та наивная статейка, если честно подумать.
До начала семестра я листал давние записи, обнаруживал забытые, неожиданные для самого мысли, перечитывал разное. Смешно сейчас вспоминать, как было размечтался вначале. Отойти от привычного литературного курса, привязанного к именам, хронологии, повести свободный разговор на темы, которые занимали меня в разное время, не научить, но пробудить интерес. Реальность отрезвила достаточно скоро.
Занятия проходили не в основном университетском здании (старинный особняк, украшавший своим изображением официальные бумаги, пока реставрировался, отчасти достраивался), а в панельной постройке школьного образца. Во двор, огороженный узорной чугунной решеткой, с будкой охраны, въезжали навороченные, раздутые машины, мерседесы, лексусы, джипы, я и названий всех не знал, и из машин этих выходили студенты. (Сам я приехал, как всегда, на метро, быстрей, машиной пользовалась Наташа.) Будущая деловая элита, менеджеры, финансисты, экономисты, я не знал, как их определить точней. Вообще, оказалось, не очень их себе представлял.
Кучка молодых людей дожидалась меня перед аудиторией. Двое, с затычками в ушах, пританцовывали под слышную лишь им музыку, каждый, надо понимать, под свою, обошлись бы и без нее. Коридорный полумрак, запах свежей мастики, натопленных батарей, на полу сумки, у девушки под расстегнутой кофтой на черной майке открылись крупные буквы. Прочитывалось лишь «СПОР», «ЖИЗ», остальное домыслить было нетрудно. Что-то вроде «спорт — это жизнь». Красное на черном. Напротив нее выделывал виртуозные коленца парень спортивного вида. Грубоватое лицо, черная рубашка навыпуск, челка на лоб, в ухе небольшая серьга, на губах уверенная усмешка. А рядом, чуть в сторонке, притоптывал, подергивал ножкой тот самый рыжий. Взлохмаченная шевелюра, поверх свитерка серая безрукавка со множеством карманчиков и карманов. Он танцевать явно не умел, и флешки при себе не нашлось, но ему хотелось участвовать, быть с ними. То есть с одной из них, это было очевидно.
Девушка, разгорячась, вдруг легким движением сорвала с себя кофту, вскинула над головой, на груди открылось полностью: «ИСПОРЧУ ЖИЗНЬ». Я задержался невольно. Она поймала на повороте мой взгляд, улыбнулась, но не остановилась. Оголенные руки над головой, как гибкие змеи, вскинутые дуги бровей, блеск зрачков в полумраке, и эта улыбка…
Задержанное, растянутое надолго мгновение. Беззвучная для меня музыка, магия неслаженного на вид танца, жаркий запах, полумрак — а может, еще и укол не сразу осознанной памяти о том, как я точно так же впервые подходил к аудитории в Педагогическом институте, начинающий преподаватель, свежеиспеченный кандидат наук, и меня озарила та же улыбка вполоборота. Соединится потом. Даже черная обтягивающая майка такая же, только без надписи, конечно. Тридцать лет назад. Поправила что-то на затылке… Нет, в это мгновение вместилось что-то большее, не поддающееся словам, чему еще лишь предстояло раскрываться, развертываться, вместе с чувством или догадкой о том, как связано в жизни все: отдельная для каждого музыка, ничего не значащая улыбка, ревность, наделяющая силой и способная обессилить, соединения нейронов в мозгу, игра закодированных, неявных систем, необъяснимость выбора, который называют судьбой, как будто он не совсем зависит от нас, во всяком случае от нашего понимания, и поэзия неосуществимого, невозможного…
Лиана. Имя было, надо полагать, восточное, но словно специально для нее созданное, оно змеилось, льнуло (гибкий побег обвивает, едва коснувшись, еще, еще). Крупные удлиненные серьги в ушах, темные камни, загадочный свет изнутри. Лиана Измайлова. Из семейства, можно было понять, непростого, приезжала и уезжала с охраной на черном громадном майбахе, двое чернявых, с усиками, дожидались ее в вестибюле или в машине, с легкой шубкой из неизвестного мне серого меха. То, что девушка из такого семейства могла появиться в безрукавке с такой надписью, означало, что ей многое было позволено — пусть до известного предела, пусть на один день, больше она в этой майке не приходила. Но и одного такого раза достаточно.
Я не знал, всерьез ли собиралось семейство приобщить девушку к бизнесу, посылая ее в этот университет, просто ли ради престижного диплома, в южных краях это всегда ценилось. Но меня она приходила слушать из личного интереса, я потом мог убедиться. Занятий не пропускала, единственная записывала за мной от руки, в тетрадке. Посмотришь, одна из тех добросовестных студенток, у которых к экзаменам всегда найдутся конспекты, потом дают попользоваться другим. Право, точь-в-точь как моя Наташа тридцать лет назад. Но с Наташей я уже успел узнать, что первое впечатление бывает обманчивым. Если я нечаянно встречался с девушкой взглядом, она каждый раз отвечала мне улыбкой, приходилось за собой следить. На переменке, перед зеркалом в туалете, как-то поймал себя на том, что пробую себя увидеть ее глазами. Подтянутый, без брюшка, седоватые виски без лысины, щеточка благородных усиков, право же, моложавый. Серый костюм, прилегающий пиджак с галстуком, в тон седине, покрой самый модный. Наташа купила мне его специально для этих занятий, и о белоснежной рубашке заботиться не забывала… ну, что об этом…
Двое молодых людей притаскивались на мои занятия, скорей всего, ради нее. Усаживались все трое в дальнем конце аудитории, хотя места впереди были пустые. Спортивного, в меру накачанного парня звали Пашкин, Станислав Пашкин. Черную рубашку навыпуск лишь такой несведущий в моде человек, как я, мог считать небрежной, она стоила, наверное, дороже всего моего костюма с галстуком вместе. Мягкая ткань с отблеском консервной банки. И прикатывал он в университет на тачке не какой-нибудь, а бентли. Чем-то мне было неприятно его грубоватое, неинтеллигентное лицо с челкой, эта серьга в ухе, надо было от себя отгонять недопустимое для преподавателя предубеждение. Слишком в него вникать не стоило — обнаружишь вдруг что-то вроде возрастной ревнивой зависти. Нет, нет.
Рыжий, Роман Тольц, выглядел довольно нелепо рядом с этими уже вполне зрелыми молодыми людьми. Вчерашний школьник, не до конца оформившийся подросток. Бедный смешной влюбленный, он был мне, во всяком случае, понятен. Ему я мог скорей посочувствовать. На занятиях он и с репликами вылезал то и дело, старался произвести впечатление — не на меня. Выпендривался, как сказали бы в наше время.
Так сложилось, я сразу выделил для себя эту троицу. Зачем ходили другие, с разных факультетов, и сейчас сказать не берусь. Может, потому что хоть один гуманитарный курс в университете был обязателен, и вдобавок существовала какая-то накопительная система оценок, учитывались не только экзамены, зачеты, письменные работы, но и посещаемость. Приходилось выбирать хоть что-то, мои занятия показались не самыми обременительными. А может, надеялись услышать что-нибудь занятное, не сразу поняли, не разобрались. Держали перед собой раскрытые ноутбуки, не знаю, за мной ли записывали или занимались чем-то своим, играли в закрытые от меня игры, — я предпочитал не выяснять и прогулов не отмечал.
На первом занятии попробовал заговорить с ними о классике, должно быть, осточертевшей всем в школе, о том, зачем она все-таки нужна. О ее способности создавать общее культурное пространство для разрозненных, разбредшихся групп, объединять одиночек, позволять им при встрече хотя бы опознавать друг друга по общим позывным, перекликаться на языке, заложенном младенческими считалками, детскими сказками (все ведь вспомнят Курочку Рябу, Колобка), строчками Грибоедова или Крылова (даже если забыли или не знали источник), пока он не совсем вытравлен компьютерным и прочими сленгами… Оживление в заднем ряду вынудило меня прерваться. Молодые люди рядом с Лианой неприлично фыркали, девушка отмахивалась, смуглые щеки порозовели.
— Вам что-то непонятно? — спросил я. — Я что-то сказал забавное?
— Она не знает, как писать Курочку Рябу, с большой буквы или с маленькой, — охотно пояснил рыжий. — Она вообще первый раз про нее слышит.
— У них там в детском саду начинали с покемонов, — добродушно осклабился Пашкин.
Лиана подняла на меня смущенный, как будто виноватый взгляд. Улыбка стала еще прелестней. В детском саду. В Баку или Махачкале. (В Баку, потом уточнил.) Успела вырасти без русских сказок, в другой стране. Как я когда-то в Германии понял, что не смогу уже по-настоящему полюбить раскрашенных толстеньких гномиков в чужом саду, только свое. Что такое покемоны, мне самому пришлось еще выяснять, понимания это не прибавило, наоборот, лишь разрасталась область, укрытая тайной, которой до конца не дано проясниться. Испорчу жизнь…
Объяснить ли, почему, едва оказавшись дома, я устремился нетерпеливо к Наташе, хозяйничавшей в кухне, накинулся на нее, как в молодые времена, среди бела дня, не дав закончить салат, удивив ее, ошеломив, восхитив, сам восхищаясь все больше, бормоча ей в ухо бессмысленные, превосходящие смысл слова, — не желая самому себе ничего объяснять.
6
Слова, почему-то не подоспевают вовремя нужные, вспоминаешь потом, запоздало, и что с них толку? Без слов, кажется, понимал больше, не по отдельности, когда приходится ставить в связь Курочку Рябу, гномов за чужим палисадником, шоколадные скульптуры в витрине, называть сокращение лицевых мышц улыбкой, объяснять ее действие игрой веществ, называемых гормонами, выстраивать для себя доступный пониманию, условный мир, приспосабливать безмерное к ограниченным возможностям мозга. Вдруг что-то в мозгу сбивается, перемешивается, не знаешь, как что назвать, — а понимание разрастается, набухает. Смотришь замерши на потолок, сквозь его туманную белизну, пока создание в небесно-голубом одеянии подсоединяет тебя к капельнице, исчезает, успеваешь лишь ощутить, не видя, посланную с высоты улыбку и думаешь о загадке женской улыбки, женской способности обходиться без объяснений, без слов, знать нужное до них, поверх них — возвращаешься опять к Наташе, к Наташе…
Двенадцать лет — невелика разница, с годами она сглаживалась, становилась все несущественней, да я никогда ее всерьез не ощущал. Чужеродное вторглось в нашу жизнь, как зараза, ничто ее не предвещало. Неясное, смутное брожение, бурление в умах, чувствах, слово «перестройка» зачем-то предлагает себя, как будто что-то может пояснить. Заезжий немец, славист… как его звали?.. Клаус его звали, да, Клаус… расспрашивал меня о происходящем, оценил, выхлопотал приглашение на конференцию в Германию, тогда еще Западную, ФРГ. Происходящее доходило замедленно, воспринималось, как шум в голове: визит в потустороннее учреждение, называвшееся забытым уже словом «райком», райком партии, к которой ты никогда не имел отношения, но она все еще медлила расстаться с правом определять, решать судьбы. Неулыбчивые бесполые существа, помяв, пожурив, с неохотой, со скрипом разрешили открыть двери, выпустили в другую страну — а там другие двери открылись, беззвучно раздвинулись перед тобой сами. Теперь и у нас такие в любом магазине — но впервые! Другой мир, до тех пор ты даже не представлял — реально, не умственно — насколько другой. Другой свет в аэропорту, другой воздух, другие тротуары, дороги, другое выражение лиц, а уж витрины! В первый день особенное впечатление на меня почему-то произвела одна, с громадными фигурными изделиями из шоколада — как на деревенского мальчика. Не потому, что с трудом представилось, как люди здесь могут лакомиться таким скульптурным обилием, находят способ отломить кусочек от этих непомерных гладких объемов, — от удивления, что такое бывает. Смешно вспоминать. Забываем самих себя, какими были совсем недавно.
Ну, и успех, если это можно так называть. Никогда я ни прежде, ни потом не испытывал ничего подобного, просто даже не знал, что такое успех. Разумеется, он больше был связан с интересом к экзотичному приезжему из непонятной, пробуждавшей недостоверные надежды страны, тогда я этого не сознавал. Новое состояние охмеляло. Хотя и в моем докладе, может, что-то было. Ирония у Антона Чехова и у Томаса Манна. Чеховский способ смягчать жесткое, жестокое соприкосновение с реальностью, усмешка без глумления, юмор, позволяющий в этой жизни держаться. И аполлонийская отстраненность у другого, взгляд с иронических высот как способ уклоняться от выбора, от окончательных, обязывающих решений — до поры, пока фашизм не навязал позицию, не вынудил определиться без оговорок.
Было охмеление, похожее на ошеломленность, был всплеск восхищения, могло показаться, взаимного. Была женщина, да, конечно, как же без женщины. Гизела, жена… опять выпало его имя… Клауса, да, жена Клауса, из русских немок. Казалось, она поначалу больше оценила во мне собеседника. Кто в этой стране мог с таким пониманием слушать ее рассказы о ссыльном казахстанском детстве, о колючей проволоке, к которой она приблизилась, чтобы нарвать цветов, о полупризрачных фигурах за ней и лицах, повернувшихся к девочке, о глазах, уставившихся на нее? С ней и о Чехове можно было поговорить. О мире его женщин — это она мне напомнила про героя рассказа, который просил жену перевести его на свой язык. Умная, в этом ей не откажешь.
Клаус, думаю, знал, что она приходила ко мне в гостиничный номер. Скорее всего, знал, Гизела, возможно, сама ему про это рассказывала. Я отгонял чувство неловкости, говорил себе, что у них здесь отношения свободные. Ему наши разговоры не интересны, с ним у Гизелы не могло быть такого понимания. Спортивная, коротко стриженная, она казалась скорей суховатой, ровная матовая кожа явно создана стараниями косметологов, но эта улыбка! Да, это про нее потом я где-то прочел: всего лишь автоматическое, отработанное сокращение группы лицевых мышц, направленно, для тебя, сознаешь это, но колдовского ее воздействия не объяснишь. Вдохновение наливалось, твердело, она легко с себя скинула удобно, словно для этого случая устроенную одежду, я коснулся ее…
Не хотелось это вспоминать, с чего вдруг понесло? Стыдно, и как объяснить? Но пальцы вдруг ощутили в нежном месте, на ягодицах, непривычно шершавую кожу. Непривычно, может, это меня в первый момент смутило. Мне нужно было привычное, вот что я стал тогда о себе понимать. Мой опыт до Наташи был невелик, но подобного со мной прежде не случалось, да и не помнил я уже никого, кроме нее. Можно было потом себе говорить, что ничего я по-настоящему и не хотел, обычный мужской порыв пополнить коллекцию впечатлений. Не побед, увы. Если бы побед! Повторилось, когда Гизела пришла ко мне в номер еще раз. Неживой свет, стерильный, без запахов, воздух, аккуратно застеленная двуспальная кровать… до тоски аккуратно. Хорошо, что на другое утро пришлось улетать.
Я мчался в Москву с мыслью о Наташе, и всю дорогу мысль эта сладостно, утешительно во мне наливалась. Все у меня было в порядке. Я могу любить только ее, считай это особенностью своего устройства. Как не могу жить в другой стране, надо было слетать в Германию, чтобы это понять. И подтвердить, что не хотел бы сюда переселиться, не обошлось и без этой мысли, кого она тогда не навещала? Может, думал, и хорошо, что не получилось. Стыд стыдом, зато можно было говорить себе, что ничего не было, не изменил. Любимой, единственно любимой. Не сумел…
Ох, лучше бы не вспоминать дальше, зачем? Ведь умел же укорачивать ненужные воспоминания, мысли. Но проверено опытом: раз уж позволил им вторгнуться, лучше прокрутить до конца, освободиться. Соня всю неделю оставалась у бабушки, моей мамы, Наташа ждала меня, одна. С дороги понадобилось только заглянуть в ванную, освежиться. В своем отсеке шкафчика я увидел яркий красно-зеленый тюбик, почти выдавленный. То ли польский, то ли французский мужской крем, забытый за ненадобностью или по рассеянности. Зачем-то понюхал, запах показался смутно знакомым. Жирный мясной запах...
Лучше было, наверное, сразу потребовать объяснения, устроить скандал, изойти, успокоиться в крике, в физическом срыве, потом я об этом думал. Помешала ли мысль о собственной измене? Пусть не удавшейся — это тем более не делало мне чести. Выбрасывать тюбик не стал, брезгливо, двумя пальцами, положил в кухне на подоконник, возле горшков с Наташиными цветами, она их по утрам поливала. Не видел, когда он исчез. Ни она, ни я не сказали о нем ни слова, до объяснений так никогда и не дошло.
Списать ли остальное на усталость с дороги, запах ли не отпускал, лишил силы? Долго не удавалось его смыть с пальцев. К вечеру поднялась температура, выяснилось, что я просто болен. Запаренная тетушка из поликлиники присела, только чтобы выписать мне больничный лист, даже рук мыть не стала: вирусная инфекция вокруг, чего тут выяснять. Мы спали с Наташей в разных комнатах. Кажется, на третий день она перед сном принесла мне лекарство, я лежал, отвернувшись к стене, она захотела сама положить мне таблетку в рот, наклонилась. Прямо перед губами оказался ее сосок, пупырышки вокруг него напряглись, проступили. Излечение совершилось без слов, как я в молчании и проболел.
Все, хватит об этом. С чего вдруг всплыло? Зигзаги мысли могут казаться случайными, самовольными, что-то неявное, на глубине, глядишь, проявится не сразу, нечаянно. В неупорядоченном воспоминании больше подлинности. Да я ведь не для кого-нибудь вспоминаю. Так получается. Все. Дальше не надо.
Только объяснить бы еще, почему цветы на подоконнике после моего возвращения завяли. Запах ли держался, мешал, вызывал воспоминание о человеке, с которым Наташа танцевала на кафедральной вечеринке? Смеялась, он вел ее легко, элегантно. Я так танцевать не умел. Модный запах бекона, запах настоящего мужчины, обаятельная улыбка. От всегдашней утренней яичницы стало тошнить, пришлось отказаться. Если бы я его совсем не знал, не видел их еще потом вдвоем, если бы воображению не представлялись их объятия, ласки, и как она сравнивает… о-о! Наташе было проще: она не видела другую. Грешно сказать, мне стало легче, лишь когда я узнал, что этот танцор погиб в автокатастрофе.
7
Все, действительно все. Устоялось, перебродило, уравновесилось. Надо было это пережить, чтобы понять, как я на самом деле люблю Наташу. И убеждаться с годами все несомненней, что любить могу только ее, — можно ли было желать большего? Я с ней жил, то есть с ней мог чувствовать себя полноценно живущим, вот что значило это слово, пусть другие называют это, как хотят. Жил, когда мы дополняли друг друга до целого, соединяясь, и можно было не думать о том, о чем не хотелось думать, не вспоминать о том, о чем не хотелось вспоминать, это все становилось несущественным. Не говоря о том, что она избавляла меня от домашних забот, повседневной докуки, даже от необходимости водить машину — предоставляла мне возможность ощущать себя возвышенным интеллектуалом, немного не от мира сего. (И самой ведь нравилось быть женой непростого человека, пусть не профессора.) Я мог всему знать цену, мог сколько угодно иронизировать над собой, но не просто с ней — через нее ощущал я реальную, не умственную связь с этим миром, с людьми. Даже с собственной дочкой.
Соня с годами, что говорить, неизбежно от нас отдалялась, детьми пока не обзавелась. Ее муж, недавний комсомольский, а может, еще какой-то функционер, теперь упитанный гладкий бизнесмен, казался мне человеком чуждым, даже не просто чуждым. Альберт. Глубокая бороздка под носом, черные после бритья щеки, запечатленная усмешечка в уголке губ казалась почему-то обращенной ко мне. Вы тоже ведь, я знаю от Сони, стояли тогда, в августе, перед Белым домом, да? К кому же теперь могут быть претензии? Что сделали, то сделали. Нет, я не лично о вас, что вы! Тогда на самом деле мало кто понимал, в чем участвует, кому готовит почву. Интеллигенция, как всегда, меньше всех. Кто понимал, тот смотрел из окошка, сверху, слегка отодвинув занавеску, усмехался выжидательно. Другие их не очень-то знают, даже вряд ли догадываются, кто играл в какую игру. У кого теперь реальная власть, это дошло потом, да? Нет, не то чтобы заранее все было рассчитано, важно запустить процесс, так чтоб он дальше уже, как говорят, самонастраивался. Представлять, как реально все происходит. Не по телевидению, тем более, простите, не по художественной литературе. А там лишь аккуратненько в нужных случаях подправлять, для других незаметно. Следить внимательно за потоками. Как за какими потоками? За денежными, глубокоуважаемый Леонид Ефимович. За перетеканием собственности. Нет, я тоже не сразу ухватил, не вполне сориентировался, иначе мы бы сейчас сидели с вами не в такой квартире, а хотя бы в пентхаусе… Наташа придерживала меня за рукав. По родственному старшинству я мог говорить ему «ты», он мне «вы» и по имени-отчеству. Чем больше выпивал, тем все сильнее потел, мог подпустить иной раз матерщину, для рифмы. Наташа махала на него рукой, Соня смеялась.
Наташа и в этом Альберте что-то находила. Он, оказывается, разбирался в венгерской кухне. Провел в этой стране полтора года, сам неплохо готовил, поделился с ней рецептами. Выбор нашей девочки не должен, не мог быть неудачным. Мне оставалось полагаться на нее. Она со всеми умела найти общий язык. Я без общения мог обходиться, она, кажется, не выпускала из рук мобильник. Вся была в разнообразных хлопотах, в разъездах, опекала в каком-то своем благотворительном центре девочек-сирот, которых выпускали из детских домов в незнакомую жизнь, совершенно к ней не приспособив. Им давали бесплатно квартиры, не научив искать работу, вести хозяйство — да что там, сварить простые макароны, заварить чай, рассказывала она мне. Брошенные когда-то родителями, они в шестнадцать лет сами собирались рожать и заранее настраивались отказываться от детей, не знали, что с ними делать. Отлучалась иной раз надолго. Не любил я ее отпускать, оживали ненужные мысли, без нее непременно должно было что-то случиться — вот вроде явления этого рыжего студента.
Эту ее поездку тоже можно было назвать благотворительной: повезла продукты в тверскую деревню своей бывшей няньке Фросе. Не родственнице, всего лишь няньке, но та жила в их семье много лет, как родная. Наташа, можно сказать, выросла на ее руках в Твери, то есть тогдашнем Калинине. Когда родилась наша Соня, она позвала эту Фросю в Москву, поухаживать по старой памяти за новым ребенком. Я тогда наслушался ее рассказов. Как она несла в школу Наташе туфельки, уже с каблучками, под мышками, чтобы согревались. Была склизь, гололед, упала — чувствует в ребрах боль. Оказалось, этими каблучками себе два ребра сломала, да, вот так было. Как лечила Наташу от разных болезней, не нуждаясь в аптечных лекарствах, как хорошо от простуды помогает слой ольховых листьев, если на них полежать и укрыться ими же, но где искать ольху среди городских домов? Надо отдать ей должное, при ней Соня практически не болела.
Нам обоим тогда пришлось работать с утра до вечера. Фрося вела все хозяйство, за магазинные траты отчитывалась до копейки, выкладывала для проверки чеки, хотя мы этого не требовали. А каково было отказаться от ее кухни! Холодец из свинины с остатками щетины на шкурке, или то, что Фрося называла рассольником… до сих пор не могу вспоминать без спазма в желудке. В будни удавалось обходиться институтской столовой, в выходные Наташа компенсировала мои гастрономические страдания. Фросю она старалась не обижать, но непросто было соответствовать ее вкусам, представлениям о правильной жизни. Выбор своей воспитанницы та откровенно не одобряла. Ее возмущала моя утренняя гимнастика, да еще с гантелями, бормотала сама с собой. Дурью мужик мается, делать-то дома нечего, ни дров наколоть, ни воды принести. Когда увидела, что Наташа вместо меня стала забивать на кухне гвоздь, готова была закипеть. Сухая, суровая, губы неспособны к улыбке. Если добавить, что в тогдашнем нашем двухкомнатном жилье четверым было не просто тесно, любовную возню за тонкой стенкой приходилось ночами сдерживать, приглушать… ну, что говорить. Не по ней оказалась столичная жизнь, через полгода вернулась к себе в Марфины Горки. Облегчение было, надеюсь, обоюдным.
Наташа при возможности ее навещала, я как-то съездил с ней. Повезли продукты, крупу, сахар, муку, в деревне тогда все исчезло. А главное, конечно, водку. Не для Фроси, она-то сама в рот не брала и самогон не варила. Водка там была вместо денег, надежнее денег, без нее никто бы ей ни огород не вспахал, ни крышу не залатал. Проблема была в том, чтобы задержать расчет до окончания работы, иначе работники могли упиться, не приступив к ней. Но и начинать совсем без водки местные мужики отказывались.
Угодили как раз в такой промежуток. Плотник Федор, мастер, по словам Фроси, каких сейчас нет, разобрал ей на крыльце прогнившие ступени, новые который день не ставил. Пришлось подложить пока временные кирпичи, досточки, шаткие, опасные. Сходить за ним в дальний конец она при своих больных ногах сама не могла, звать через других таких же старух, последних, кто здесь доживал, тоже не получалось. Теперь можно было послать меня, поманить бутылкой.
8
Вспоминалось потом, как сон: растянутый, замедленный проход по омертвелым, поросшим хилой травой улицам. Я слышал, читал про вымирающие деревни, но по рассказам не представлял, что это такое. Наташа наезжала сюда коротко, подробностей не расписывала, да за год-другой менялось, наверное, не к лучшему. Заколоченные окна, проваленные крыши, сквозь одну уже прорастало деревце, остаток стен со следами пожара. На покосившейся изгороди сохли серые мужские подштанники, рядом лиловые старушечьи рейтузы, разнокалиберные стеклянные банки на кольях. Что-то было, наверное, в тот день с давлением, атмосферным ли, моим ли артериальным. Неподвижный прозрачный воздух, напряженные ртутные очертания, нарастающий звон в ушах — и какой-то странный жалобный звук. Человеческий ли стон, собачье ли поскуливание, а может, поскрипывала, скулила незакрепленная дверь или ставня — но звук не отвязывался всю дорогу.
Дверь у Федора была открыта, на стук никто не отозвался. Большая горница имела вид нежилой, пустота делала ее еще более просторной. Голые стены в пятнах, тусклый свет из окна. У печки свалена груда старых газет и журналов. «Огонек» с цветной фотографией Гагарина, «Родная речь» для третьего класса, чуть в стороне распахнувшийся альбом с фотографиями, три-четыре вывалились из него на пол. Чьи-то выцветшие фигуры, головы, с расстояния не разглядишь. Серые, траченные временем семейные отпечатки, тени ушедшей отсюда жизни. Эхо собственного голоса отозвалось на спине мурашками. Я вышел во двор.
Хозяин полулежал под старой яблоней в ободранном раскидном кресле, опасно проступавшие пружины прикрыты прорезиненным пляжным матрасиком. Он, наверное, наблюдал, как я входил и выходил из его дома, — не шевельнулся, не реагировал даже на мое приближение. Багровое лицо в седоватой щетине, пестрая бейсбольная шапочка, ковбойка в сине-белую клетку. На приветствие не ответил, я что-то начал говорить — не откликнулся. Взгляд уперся в мое бедро, в карман, оттянутый бутылкой. Прихватил ее на всякий случай, не более чем для показа, меня предупреждали. И ведь вроде уже не ребенок, мог бы кое-что понимать в жизни, в людях. Пришлось вынуть, продемонстрировать…
Безвольная податливость сна. Мы расположились под той же яблоней за крепко сбитым столом, немытые граненые стаканы дожидались там всегда наготове. На дне одного сохла оса, Федор выковырял ее указательным пальцем. Чокнулись, понюхали по очереди зачерствелую корочку, он после меня.
— Про жизнь пишете? — заговорил вдруг. Должно быть, при нем упоминали о роде моих занятий. Я неопределенно пожал плечами. Про литературу писал когда-то. Про книги.
— Книги одно, жизнь другое, — оценил, помолчав, Федор.
Мне ли было не признать его правоту? В какие дебри понемногу свернул разговор, теперь уже не вспомнить, и нечего. Я словно еще продолжал надеяться, что плотник, в меру вдохновившись, в каждый следующий момент все же пойдет со мной. Водку, надо признать, я для деревни закупил не самую, как бы выразиться помягче, дорогую. Был грех, сам пить не собирался. Мне первой дозы хватило, чтобы оценить ее действие. Неразборчивый шум в голове, ни пересказать, ни объяснить. Говорил, собственно, один Федор, ему надо было что-то выяснить, подтвердить. Что-то неизбежно про политику, Горбачева, про Брежнева. Про Путина? И про него, наверное, утверждать сейчас не могу. Остатков трезвости или инстинкта самосохранения хватало, чтобы в обсуждения не вдаваться, дошло бы, глядишь, до выяснения взглядов. Но почему-то даже уклончивость воспринималась с нарастающим раздражением, почти враждебностью, хуже, чем несогласие. «Топор в бревно никогда не втыкают, ты это можешь понять? — внушал мне Федор, он перешел сразу на «ты». — Никогда. Втыкать, а потом затесывать, это же рана для инфекции, понимаешь?» Тон становился все более агрессивным, мысль о воткнутом топоре непонятно плотника задевала. Все стало трухой, направлял он к моему лицу черный ноготь, все! Теперь и хоронят в трухе… И что-то еще о гробах, о грибах…
Или это смешалось потом в смутной памяти: труха, грибы, гробы? Я малодушно кивал, поддакивал. Думал ли о чем-нибудь сам? О чем я тогда мог думать? О деревне, которая для городских интеллигентов, вроде меня, была создана когда-то деревенской прозой, где теперь та и другая? О своей нелепой отравленности литературой, без которой жизнь так же невнятна, как этот шум в голове, как грозный голос без слов, как расползающиеся вокруг очертания? Нет, мысли составлялись уже задним числом, когда
я пытался тот день вспоминать.
Воздух все больше мутнел, его заменяла, густея, дымная мгла. Непонятно было, где и что жгли, дым растекался без ветра, запах был гнилостный и какой-то приторный. Если бы он не вынудил меня наконец уйти, неизвестно, чем бы еще мог обернуться тот разговор. Федор моего ухода, кажется, не заметил.
Сон во сне. Я шел, не выбирая направления, не видя дороги, сквозь непрозрачную муть, настоянную на пьянящей гнили, невнятице мыслей, шел, раздвигая ее руками, касался вдруг то дерева, то непонятно чего. Облезлая, неясной масти дворняга поравнялась со мной, бледно-розовый язык высунут, потрусила впереди, как будто указывая дорогу. Сделала вдруг скачок, исчезла где-то вверху. Колено уткнулось в остаток кирпичной кладки, я не без помощи рук взобрался, испачкав джинсы, на какой-то выступ, другой, там выпрямился — и оказался на вершине холма.
Дым остался теперь под ногами, облизывал щиколотки, подошвы. Передо мной уходил вниз крутой склон, дальше открывался просторный луг, окруженный лесом. Светлый молодой березняк, мягкие округлости, темные пятна хвои, попасть бы туда, но как? Надо было искать пологий спуск. Под ногой что-то шмякнуло — это оказался раздавленный гриб. Из дымных струек в траве стали проявляться другие, похожие на опят или в самом деле опята, иные величины необычной. Оживший инстинкт побудил наклониться, пошарить. Удалось не упасть, пальцы наткнулись на деревянный брус. Это был повалившийся могильный крест. И крест, и табличка с фамилией на нем были тоже покрыты грибами, читалась только дата после дефиса: 1984. Попробовал ее очистить — деревяшка от прикосновения рассыпалась.
Кладбище, не обозначенное оградой, становилось частью березовой рощи, грибных угодий среди уже едва различимых могил. Тишина продолжала звенеть в ушах. И вновь возник тот же звук, скулящий, жалобный, похожий на тихий плач, не детский, не женский. Я шагнул в сторону этого звука.
Из дымной мглы проявилась знакомая ковбойка в сине-белую клетку, кто-то спиной ко мне полулежал на сглаженном могильном холмике, уткнувшись в него лицом, почти сросшись с ним. Плотник с почернелым сбитым ногтем на указательном пальце, только что пытавшийся мне что-то сказать, объяснить, а может, ждавший от меня объяснения, понимания, — как он сюда попал, одновременно со мной, не зная обо мне, о чем он сейчас плакал, не сдерживаясь, не по-мужски, порой словно подвывая? О тенях
в семейном альбоме, о лицах, ставших неразличимыми, о топоре, заразившем рану? О загнивающей стране, о жизни, которой не стало и которую покинула заскучавшая литература, обходись теперь без нее?
Под ногой треснула ветка. Собака возникла из-за холмика, посмотрела на меня больными слезящимися глазами, затрусила прочь. Ветошка в сине-белую клетку осталась лежать, безжизненная. Я с усилием продирался неизвестно куда сквозь непрозрачный, задымленный, вязкий воздух. Деревья вокруг лишь казались живыми, гнилушки на стволах издавали запах мазута. Под ногами крошилось битое стекло, чавкала мусорная гадость, полиэтиленовая слизь. Самозародившаяся свалка на глазах разрасталась и разрасталась, заменяла пространство былой природы, и никак было отсюда не выбраться…
Объяснять дома женщинам ничего не понадобилось, достаточно было моего вида. За Федором Наташе пришлось идти на другой день самой, привела его без проблем. Крыльцо он наладил сразу, при мне, на меня даже не посмотрел. В следующий раз я отпустил ее в Марфины Горки одну, отговорить не удалось, так уж эта женщина была устроена, мне оставалось лишь устыженно восхищаться. Недоброе предчувствие, как водится, оправдалось. Наташа собиралась туда от силы дня на три, задержалась уже на шесть,
я считал каждый день. У Фроси что-то случилось с электричеством, тот же Федор полез на столб налаживать, упал, разбился. Фрося после этого занемогла, не вставала с постели, в больницу ехать сначала отказывалась. А потом начались дожди, сделали дорогу непроезжей. Даже автолавка, раз в неделю привозившая хлеб и кое-какие продукты, не наведалась в срок — шофер не стал рисковать, боялся застрять в грязи, не добраться. Уж на что классным водителем была Наташа, но и она однажды попалась: неосторожно попробовала переехать безобидную, как показалось, лужу и провалилась по капот, еле потом вытащили. Теперь вот пришлось задержаться. Да еще оставшись без электричества. Последний свой звонок из деревни она едва сумела закончить: мобильник, сказала, вот-вот сдохнет, не знаю, где подзарядить. А сколько продлятся еще эти библейские дожди, скоро ли просохнет после потопа, знать было нельзя. Оставалось ждать…
9
Призрачный электронный перезвон не сразу проник в сознание. Я сидел в своей комнате за рабочим столом, ярко освещенный дом напротив наполнял воздух отраженным светом. У любви, как у пташки, крылья. Сигнал мобильного телефона доносился из-за стены. Ее нельзя никак поймать. Хабанера, Кармен. В воздухе толклись пылинки, окно следовало бы уже помыть. Я не без усилия поднялся, прошел в комнату, где оставил Тольца.
Студент полулежал в прежней позе, здоровой щекой на плече, мобильник канючил в каком-то из скрытых карманов его безрукавки. У любви, как у пташки, крылья. Рыжий не реагировал, сопел, даже чуть похрапывал. Ее нельзя никак поймать. Замолк, не добившись. Кровь на ссадине запеклась, проступала, отблескивая, сукровица. Похоже все было не так уж серьезно, только синяк над глазом набухал. Обойдется, глядишь, без врача. Ждать, пока все еще ждать, только это и оставалось. Пьянчугу я бы сумел привести в чувство, самому случалось напиваться в былые годы, правда, не до такого состояния. Но с этим еще не имел дела, про наркотики знал только понаслышке.
Хабанера все же попробовала еще раз пробиться, пробудить спящего. У любви, как у пташки… Странно, что молодой человек поставил себе такую классику, сейчас выбирают современное. У моей Сони была Мадонна, она любила напевать по-английски: What it feels like for a girl. Дочка, раза в полтора старше, оставалась мне все же понятней этого бедного недотепы. Ее нельзя никак поймать. Поколения больше связаны простенькими напевами, чем книгами, это я и по себе еще помнил. Позывными были Галич, Битлы, кто на них теперь откликнется? Возьмемся за руки, друзья…
Надо было, конечно, сориентироваться раньше, для начала хотя бы узнать, что эти молодые люди читали, что смотрели из фильмов, которые могли мне казаться для всех важными. Запоздало догадался провести небольшой опрос. Школьную программу решил для достоверности обойти: моя Соня честно ответила бы, что не читала «Войну и мир», для экзамена ей хватило учебника, я-то знал. «Анну Каренину» читали двое из восьми (будем верить), Библию двое других, Андрея Платонова — никто. «Матрицу» смотрели все восемь, «Бойцовский клуб» — шестеро, «Восемь с половиной» — поднялась было рука, тут же опустилась, без уверенности. «Может, вы имели в виду девять с половиной?» — подал голос все тот же рыжий, Роман Тольц, на физиономии всегдашняя готовность хоть как-нибудь, да сострить. «Нет, не девять с половиной, — ответил я сухо. — Восемь с половиной, великий фильм Федерико Феллини». Аудитория невнятно прошелестела, рыжий стал шептать что-то в ухо девушке, Пашкин с другой стороны от нее прислушивался.
Этим для начала стоило и ограничиться; предложить каждому составить список своих личных предпочтений я остерегся. Заранее можно было представить, как я потерялся бы в обилии неизвестных мне имен и названий, у всех скорей всего разных. И ведь не столько книг или фильмов, больше всего было бы названо музыкальных хитов, песен, групп, да еще скорей всего по-английски. Кстати, насчет «девяти с половиной» этот Рома не так уж поерничал, до меня дошло запоздало. Существовал, оказывается, такой знаменитый фильм «Девять с половиной недель», его даже называли культовым, с Ким Бесинджер. Для них уже старинный, а я и не знал, пропустил. Если бы только это! Мы потом посмотрели с Наташей, у Сони нашелся диск. Затягивающая, болезненная эротика, можно было понять интерес влюбленного неопытного юноши к этой бездонной области, в которой уже не осталось, кажется, тайн и загадок, — но что он мог о ней знать?..
Почему опять стал это вспоминать? После каждого занятия оставалось чувство, что не возникало у меня с этими молодыми людьми не то что контакта — если угодно, резонанса. Как будто настроены были на разную частоту. Если и задавали вопросы, все как-то не о том. Не те, что хотелось бы услышать. Упомянул однажды Ахматову, Лиана, южная красавица, потянула руку: считаю ли я, что между мужской и женской поэзией есть разница? Зачем ей это было нужно? Выдал на эту тему что мог, девушка усердно, быстро записывала. Потом уже я подумал, что был к себе не вполне справедлив, искал причину не там. Но перестраиваться на их волну, если уж пользоваться такими терминами, было поздно, семестра для этого маловато. И не приспосабливаться же к другому языку, другим вкусам.
Я ведь и телевизор перестал смотреть, по крайней мере с тех пор, как потерял интерес к футболу, уступил пульт Наташе. Ток-шоу, семейные сериалы, кулинарные рекомендации. Смеялась вместе с аудиторией над намеками, которых я не понимал, над юмором, от которого отстал. Пародия не смешна, если не знаешь объекта. Когда я выходил из своей комнаты, она махала на меня рукой: не смотри, не смотри, тебе это неинтересно. Признавала во мне утонченного интеллектуала, мне нужны другие программы. Так и на других было то же, не обзаводиться же вторым аппаратом.
Впрочем, иной раз звала меня посмеяться вместе. Две красотки обсуждали хитрый вопрос: на каком транспортном средстве Ной увозил своих зверей? «— А кто такой Ной, как ты думаешь? — Наверное, директор зоопарка? — Нет, скорей цирка». Культовая денежная игра. Сошлись на том, что зверей он увозил в каком-то большом фургоне. Или на нескольких фурах. Две студентки, филолог и социолог. Остались без выигрыша.
В апреле я подхватил нешуточный грипп, три занятия пришлось пропустить, вдоволь побродил по Интернету, искал для себя тему или подсказку. Новая культура, виртуальная реальность, линейное мышление. Выпускники школ больше не пишут сочинений. Меняется роль линейного письма в культуре. Мыслить письменно значит мыслить преемственно. Клиповое мышление позволяет довольствоваться самой короткой памятью. Когда мы входим в культуру сетей и кластеров, линейность и линейная модель истории начинает рушиться. Сложная проза теперь не воспринимается. Скоро может вообще не остаться людей, сохранивших способность читать, то есть связно запоминать хотя бы несколько страниц. Неизбежен переход к мини-жанрам интеллектуальной словесности, типа афоризмов, фрагментов, тезисов, поскольку время страшно уплотняется, на чтение не то что книги, но даже полноформатной статьи не остается времени. Меняется не просто мир, перенастраивается нервная система у человека. Сложная сеть Интернета похожа на устройство головного мозга, ей просто еще не хватает извилин. Надо считаться с неизбежным развитием, прошлым жить нельзя. Скажем тем, кто продолжает заниматься литературой, не замечая ее смерти: пускай мертвые хоронят своих мертвецов. Общество следует разделить на людей вчерашних и сегодняшних. Вчерашним надо обеспечить условия пристойного доживания, дело других — заботиться о том, чтобы страна вписалась в новую, успешную цивилизацию, могла выдерживать конкуренцию…
Прямо в мой адрес, оценил я с усмешкой. Что-то похожее на инстинкт самосохранения удерживало меня от соблазна углубляться дальше в эти чуждые дебри. От телевизионной примитивности просто было отмахнуться с усмешкой, в изощренности сетевых интеллектуалов словно таилась не совсем еще ясная угроза. Нужно было время, чтобы в ней разобраться. Но пока хоть обогатился попутными сведениями.
10
На последнем занятии я надумал заговорить со студентами о фантастике, любимом чтении моей молодости. Наверняка все читали знаменитый роман о цивилизации будущего, которая для общего блага сочла нужным уничтожать книги, опасный горючий материал. Накануне я перечитал его сам — нет, Брэдбери по-настоящему не объяснил, почему обитатели его благоустроенного мира отказались от литературы, поэзии, не просто от книг. Отказались, если вникнуть, сами, никакого особого принуждения (кроме, пожалуй, рыночного) там поначалу не было. И обходились же, как вполне обходятся и сейчас. (Странно, что великий фантаст не разглядел в совсем уже недалеком будущем книг не бумажных.) Литература, поэзия во все времена были нужны не всем. Фантастика, однако, проявляет, доводит, как ей положено, до крайности что-то, что мы пока лишь неясно чувствуем. Герои Брэдбери кажутся себе вполне счастливыми, но не знают, как заполнить, заглушить возникающую пустоту, почему-то кончают самоубийством. А какие-то отщепенцы, рискуя, спасают от уничтожения, заучивают наизусть, передают друг другу стихи, Шекспира, Милтона, словно в этих буквенных кодах затаена была насущная для жизни магия…
Слушали меня без особого интереса, трое в заднем ряду обменивались записками. Литература, пытался я все-таки донести до них мысль, возникла, видимо, не случайно, зачем-то она была человеку нужна. Библия стала Священным Писанием полумира еще и потому, что удовлетворяла не совсем осознанные потребности…
— Библия — это для религии, — подал кто-то голос. Очкарик с жидкой порослью на подбородке, из тех, что обычно взгляда не привлекали. (Беззубов, уточнил я по списку.) Слава богу, хоть один среагировал. Дал повод заговорить о том, что Библия — величайшая поэзия, что Песнь песней, любовная, свадебная лирика, стала частью Священного Писания, что без поэзии не возникло бы представлений о любви, которая не сводится к сексу, для этого нужно было найти слова…
В воздухе напрягалось что-то вроде интереса — или это мне показалось? Быть может, литература, вдохновлялся я, — наиболее универсальный инструмент, позволяющий полноценно ощущать и осмысливать жизнь в самых разных ее проявлениях. Искусство, поэзия, музыка позволяют сделать окружающий мир более постижимым, оформленным, более приспособленным для жизни. (Не то говорил, не то, я уже начинал чувствовать.) Музыкальная гармония разработана человеком, но она не придумана произвольно, она строится на неслучайных законах, на объективных числовых соотношениях, на частотах колебаний струны…
Я заметил, что рыжий в заднем ряду покачивает головой, на лице кривоватая усмешка.
— Вы с чем-то не согласны? — спросил я.
— Почему не согласен? Эту гармонию сейчас несложно ввести в компьютер, есть программы, выходит нормальная музыка, на заказ. Под нее танцевать классно. Та-та, та-тата-та… — Он изобразил довольно фальшиво, подергивая плечами, в аудитории засмеялись. — В синтезаторе хорошо получается. Можно задать какой угодно стиль, ритм. Из набора, конечно. Простые цифровые порядки.
— Вы хотите сказать, что это будет примитивная музыка? — Мысль мне показалась понятной. Заводить разговор о критериях сейчас вряд ли имело смысл. — Всякая система в культуре отчасти условна, — сказал осторожно. — Сами числа можно считать искусственными порождениями человеческого мозга. Музыка в этом смысле тоже искусственна, да. Но в ней задается основа, соответствующая чему-то в человеческом, мировом устройстве. Неупорядоченный шум может быть элементом музыки, но он не может быть музыкой…
Студент опять покачивал головой, скулы слегка двигались, словно во рту оставалась жвачка.
— Что-то еще хотите сказать? — не выдержал я.
— Смотря что называть шумом. — Он пожал плечами. — Чего не поняли, не упорядочили по-своему, то шум. А если мы просто чего-то не слышим? Еще не настроились, не научились? Может, есть музыка, для которой обычных нот не хватает? Вот мне на компе все не хватает знаков, символов, если бы я знал чего. Сейчас на некоторых устройствах уже не восемьдесят три клавиши, а сто одна, и что это решает? Вылезает что-то, выстраивается, не поймешь, ряд, не ряд, как будто случайный. А если в нем закодированные порядки, неуловимые, текучие, переменчивые?.. Не знаю, как на простом языке объяснить…
— А ты спой, — подал голос кто-то.
— У меня нет голоса.
— А слух у тебя есть?
В аудитории охотно рассмеялись, рыжий тоже как будто развеселился, без обиды.
— Нет, знаете, на что иногда бывает похоже? Как будто рой насекомых. Облако беспорядочных точек, каждая движется кто куда, вдруг одна — раз в сторону, другие тут же за ней, без видимых причин. Почему, со стороны непонятно. Раньше умели выстраивать системы, иерархии, дуальные оппозиции. Хорошо — плохо, красиво — безобразно. Теперь говорят: динамический хаос, рассеянные порядки…
А, ну если об этом… Термины мне с некоторых пор были в общем знакомы, их и в нашей области стали употреблять. Продуктивная бесструктурность, предпочитаем не предпочитать, все блохи не плохи. Не зря во время болезни кое-что на эти модные темы успел посмотреть, мог бы ответить. Неожиданно меня опередил Пашкин.
— Когда нет системы, иерархии, это называется бардак… Извините за выражение, — обернулся в мою сторону. — Динамический хаос, рассеянные порядки, да? — это для вашей информатики. А здесь разговор о культуре, искусстве, обществе. О жизни. В ней без иерархии не обойтись, только она теперь может называться по-другому. Знаешь, появилось такое интересное понятие: джокер?
— Это ты про американский фильм? — скривился опять Тольц. — Или про наш?
— Ладно, прикалывайся перед другими, — отмахнулся Пашкин…
Не уверен, вполне ли точно воспроизводит сейчас память неожиданно возникшую пикировку. Молодые люди явно щеголяли учеными терминами, и не передо мной. Что джокер — это карта, которая по желанию игрока может стать любой другой, я, допустим, знал, игрывал когда-то. И какой-то из фильмов с таким героем или названием, кажется, смотрел, давно, если не путаю. Оказалось, это слово употреблялось теперь в информатике, непонимающим тут же пояснили. Когда в системе возникает неопределенность, джокер неожиданным появлением может ее выправить. Пашкину эти джокеры виделись где угодно, так я, во всяком случае, тогда понял. В политике, общественной жизни, в искусстве, в бизнесе. Бизнес — это ведь тоже искусство. Больше искусство, чем наука. Как и политика, само собой. Кто в это сам не вошел, тот не поймет. Джокер вступает в игру там, где общие правила не работают, где нужны нестандартные решения, нестандартные уровни. Кто-то должен их задавать, а значит, не обойтись без иерархии. Если угодно, аристократии.
— Сейчас все говорят: бардак, бардак. — Пашкин счел нужным все-таки встать с места. — А у нас просто не стало аристократии. Уже забыли, что это такое. Надо создавать новую. Без нее выродится не только страна — человечество, если хочешь… да, да, не надо пижонски морщиться. — Рыжий не переставал кривиться: какая чушь! Лиана поворачивала голову то к одному, то к другому. — Спроси лучше женщину. Они это понимают без теорий, когда выбирают, например, пару. Им надо заботиться о полноценном потомстве, да? — Он скосил взгляд на Лиану.
Этакий куртуазный намек! Девушка почувствовала, что внимание довольно двусмысленно переключается на нее, решила наконец одернуть обоих: да прекратите же, вы мешаете преподавателю.
Собраться заново с мыслями оказалось непросто. Этот парень с колечком в ухе, челкой на лоб странным образом предлагал себя мне в союзники: давно ли я сам толковал об аристократии? От него естественней казалось услышать об элите. Джокеров не мне было обсуждать, я мог только еще раз заговорить о категории людей, способных задавать обществу систему ценностей, духовных, интеллектуальных, политических, нравственных. Если угодно, в перспективе таких, как они, вот эти студенты…
Звонок меня оборвал (а может, выручил). Я дал понять, что занятие окончено. Некоторое время еще сидел за столом, не поднимая взгляд, делал вид, что складываю в папку бумаги. На самом деле мне надо было немного прийти в себя. Не спохватился даже произнести заготовленных прощальных слов: последнее занятие, встретимся на зачете. Что-то осталось не просто недосказанным — казалось, готово было для меня самого вот-вот возникнуть, еще не осознанное. Нет, до понимания надо было еще дозреть…
Встал, направился к выходу и увидел на полу в конце класса, в проходе между столами, бумажный обрывок. Похоже было на одну из записок, которыми обменивались эта троица. Помедлив, все-таки подошел поднять бумажку — просто чтобы не оставлять мусор. Можно было прочесть, не расправляя:
«Была униформа, теперь дресс-код, это иерархия? Проф, коп, без бейджика не отличишь».
Нынешний жаргон. Проф — профессор, преподаватель, это я, допустим, уже знал, коп — в американском сленге полицейский, охранник, это я тоже знал, и насчет бейджика мог понять. Но все вместе? Кто-то кому-то отвечал, вопрос неизвестен. Почерк был явно не женский, неустойчивый, корявый, писал, наверное, кто-то из двух парней.
Прежний язык позабыт, мне на нем говорить уже не с кем. Я задумчиво направлялся к выходу. Пашкин обогнал меня, на ходу обернулся. «До свидания», — сказал вежливо. Я среагировал не сразу, да он и не ждал, отвечать пришлось уже ему в спину. Возле монументального охранника у стойки молодой человек задержался, что-то ему сказал. Охранник расплылся в улыбке, что-то ответил. Они попрощались за руку, точно знакомые. Я последовал за Пашкиным, тоже, проходя мимо охранника, сказал ему: «До свидания». Тот даже не повернулся в мою сторону. Не расслышал, что ли? Я говорил достаточно четко. Не обратил внимания, не счел нужным? Смотрел ли он на меня вообще до сих пор? Студент на бентли и преподаватель, приезжающий на метро, у обслуги своя иерархия…
От дверей я обернулся еще раз, словно желая что-то для себя уточнить — и впервые обратил внимание на костюм охранника. Он был совершенно такой же, как у меня, строгого покроя, серый, с зеленой искрой, и галстук того же цвета, узор немного другой, но такой же сдержанный. Униформа? Не это ли имели в виду молодые насмешники? — вспомнилась только что прочитанная записка. И у гардеробщика был такой же, с бейджиком, впервые обратил на это внимание. Вот так. Плохо представлял себе, как выгляжу в глазах других, не думал об этом. Не имело значения, пока об этом не думал. Чем меня это могло задеть? Тем, что про униформу читала их подружка, Лиана? И могла нелестно подумать о вкусе Наташи?..
11
Уводит опять в сторону… О чем я только что?.. Да, о словах. Как будто мне именно их не хватало. Я потом зачем-то еще поинтересовался, выписал для себя кое-какие термины. Стохастические — случайные, но подчиняющиеся некой тенденции процессы. Странные аттракторы — закодированные, скрытые структуры, способствующие самоорганизации внутри хаоса. Эмергентность — внезапное появление новых качеств в системе. Чужой, незнакомый язык — и при этом чувство, что термины далекой от филологии области могут что-то сказать и о культуре, о поэзии, творчестве. Закодированное, скрытое, необъяснимое, лишь на вид случайное — не о вспышках ли это неуследимой творческой мысли, внезапной, как всякое озарение? На грани, на переходе от непонимания к пониманию — или наоборот, от понимания к непониманию, как на грани пробуждения и сна. Вот: глаза, кажется, открыты, а может, и нет, не важно, потолок перед лицом растворен в рассветных сумерках, словно экран, готовый принять, воспроизвести возникающее в мозгу. Запечатлеть бы, задержать, пока не растаяло, не ушло навсегда: чье-то дыхание рядом, неспособность шевельнуться, повернуть голову, чтобы увидеть, кто это дышит, — и эти вот мысли, совсем о другом, готовность лишь сейчас поймать самое важное в жизни, в людях, в себе, в мироздании… Закрывалось, растекалось, тускнело, едва обозначившись, оставляло после себя лишь безотчетное, неуютное беспокойство. И почему-то не очень хотелось прояснять его до конца — словно понимание могло упростить, умертвить живое чувство. Как ученое толкование может умертвить трепетную, таинственную строку.
Почувствовать, понять загадку, ее очарование, вникать, еще не разгадав… Как тельце маленькое крылышком по солнцу всклянь перевернулось… И мысль бесплотная в чертог теней вернется… Стоит ли здесь толковать? Странная, вообще говоря, мысль для филолога, человека, который к поэтическому волшебству сам не способен, его служба, профессия — именно тщательный, рациональный разбор, поиск объяснений, соответствий, контекстов, подтекстов. Этим, казалось, я и занимался почти всю жизнь — и лишь порой пробивалось чувство, что до конца в своем понимании предпочитал не доходить. Словно это могло испортить мне настроение, вынудило бы засомневаться, что-то перепроверять заново. Потому что дело было не просто в текстах, не в литературе, вот в чем я запоздало стал себе признаваться…
Вы это умеете, у вас счастливое устройство ума, говорил мне уже после защиты диссертации профессор Ласкин, мой научный руководитель. Вы умеете вовремя остановиться. Тяжелый нос, седые волоски из ноздрей, голос на высоких тонах напрягался нечаянным фальцетом, от этого иногда казался насмешливым. Мы дожидались с ним начала банкета в ресторане у Красных Ворот, беседовали, еще не усевшись за стол. Но он, похоже, успел уже пропустить рюмочку-другую, стал сверх обычного словоохотлив. Хвалил меня за интересный поворот темы. Не сатира, не юмор, а чеховская ирония, уклончивая недоговоренность. Способ справляться с реальностью, смягчать ее жестокость, не так ощущать ее безнадежность, безысходность, да? Мы еще увидим небо в алмазах — до сих пор ведь ухитряются принимать это всерьез, даже без улыбки. Вникать в текст по-настоящему слишком болезненно, засомневаешься, на чем в этой жизни держаться. Сам-то Чехов знал цену всем этим высоким идеям, которые выстраивала великая наша литература. Что ни говори, с тринадцати лет посещал бордели… ну как же, вы ведь его письма читали? Не просто предельная достоверность — жестокость трезвого наблюдателя. Он ведь сам страдал от собственной трезвости, сам от нее бывал в отчаянии. Помните, как сказал, кажется, Шестов: настоящий и единственный герой Чехова — это отчаявшийся человек?..
Слушать профессора было немного странно, раньше он со мной о Чехове так не говорил. Тему-то дал сам. Писал, правда, немного другое. Общественная проблематика, социальная критика, гуманизм. Потом я подумал, что не все у Ласкина тогда читал, довоенных своих статей он мне рекомендовать не стал. Как будто потянуло вдруг досказать что-то, лично для меня, я не готов был понять, зачем. Похвалы его звучали как-то двусмысленно, становилось порой неуютно. То и дело брызгал мне в лицо слюной, приходилось отодвигаться. Подвыпил, чего уж там. Да я не особенно тогда и вникал, бессмысленно улыбался, кивал благодарно, пропускал мимо ушей.
Можно было понять мое состояние, только что после защиты. Интерьер сталинской высотки, непомерные потолки, под сводами чирикали воробьи. Подходили с поздравлениями, с поцелуями приглашенные, кафедральные сослуживцы, я направлял их к столу. О банкете хлопотал тем временем мой папа, что-то обсуждал с официантами, метрдотелем, уходил куда-то на кухню. Когда он наконец подсел к нам за стол, профессор почти сразу переключился на него. Неожиданно они нашли общие темы, сквозь нараставший застольный шум я улавливал местечковые истории, узнавания. Чтоб я так жил! Подвыпив, оба стали все больше переходить на идиш, немного смущая меня перед сослуживцами, чему-то смеялись, чокались. Нашли, как говорится, друг друга. Ласкин после банкета долго еще не уходил, не успел попрощаться с отцом, дожидался, пока тот освободится, продолжал что-то мне говорить, уже совсем пьяненький…
Давние времена, не собирался же вспоминать еще и об этом, зачем? Даже не думал, что столько задержалось в памяти. Не все хочется вспоминать. И нелепый зачет бы скоро забыл. Так получилось…
12
В этом университете и по моему постороннему, необязательному предмету зачем-то полагалось к зачету сочинить что-то вроде реферата, если угодно, эссе на свободную тему, страницы две-три. Моим делом было их просмотреть, потом беседовать по тексту. Подтвердить, так сказать, результат своих преподавательских трудов. Не знаю, кто это придумал. В интернете сейчас можно скачать хоть диссертацию, на любую тему, не уследишь, во всяком случае, по моему нечеткому предмету. О каком тут говорить результате?
Среди ожидавших меня в аудитории я, как всегда, отметил Пашкина. Не сразу его узнал, не видел недели две. Череп был наголо выбрит — новая мужественная мода, не вполне отросшие усы, огибая рот, закруглялись у подбородка. Намечался какой-то совершенно другой облик. Необычно было и то, что из всей троицы он пришел один, двое других задерживались. Встретив мой взгляд, почтительно кивнул, но отвечать не пошел, пропустил первого добровольца.
К столу подошел очкарик с начинающейся бородкой, тот самый, Беззубов, знавший, что Библия — это о религии, подал свой реферат. Место культуры в обществе потребления. Тема, что говорить, по специальности. В контексте общества потребления сама практика потребления… дальше можно было не беспокоиться. Не сложней, чем о Библии. Не просто приобретение товаров, но и принцип, по которому моделируются отношения в социуме… Беда, что сам язык вызывал оскомину, да ведь можно было не вслушиваться. Посмотрел в зачетке, что ему поставили до меня. Два «хорошо», по каким предметам, прочесть не смог, специальности неизвестные и почерк был неразборчив, как на аптечных рецептах. Положусь на коллег. Слушал вполуха, думая о чем-то своем. Непонятное слово заставило однажды встрепенуться.
— Как, как? — переспросил. — Как вы сказали? Симукляр?
Студент скосил очки на бумагу, неуверенно поискал, нашел пальцем:
— Это в современной культуре называется… симулякр, — поднял немного встревоженный взгляд. — Да, — подтвердил, удостоверясь еще раз.
Со второй попытки произнес все-таки правильно. Спросить его, что это такое?
— Так выразился Бодрийяр, — опередил он вопрос, заглянув опять в текст. Ого, и про Бодрийяра знает. — Французский философ, — пояснил для меня, чтобы не оставалось сомнений.
Что я мог на это сказать? О чем еще было спрашивать? Замечательно, одобрил кивком. Если угодно, прекрасно. Вот ваша зачетка, молодой человек, до свидания. Хотя видимся, скорей всего, последний раз, больше не придется.
Стоило бы просто собрать сразу у всех зачетки, расписаться, не спрашивая. Кто-то, может, так и делал, я не смог. Старомодные комплексы, привычка соблюдать хотя бы формальности, ритуал. Сидел и думал, что этот первый университетский зачет, скорей всего, окажется для меня и последним. Договора у меня не было, почасовик. Пробный, экспериментальный курс, до конца семестра меня дотерпели. Предстоял, наверное, разговор, стоило бы его начать самому. Хотя проще бы и без разговора. Как теперь говорят, по умолчанию.
Девушка в цветастом платье положила передо мной на стол свои листы. Гендерные тенденции в современной культуре, на материале женской прозы. Крупная, без надобности пополневшая. Когда-то поэт мог бы такую назвать волоокой, но кто-то сказал бы о ее глазах: коровьи. Зависит от состояния лица, которое называют выражением. Освещено ли оно изнутри чувством, мыслью, озабочено ли другими, непоэтическими, проблемами, пищеварения например. Или, вот, необходимостью получить мой автограф в книжице.
— Писательница раскрывает нам мир современной женщины… — Слух на время настроился, опять отвлекся. Что говорить, женщине дано знать что-то в принципе недоступное мужчине, но может ли она это осмыслить, выразить, рассказать лучше, чем он? Описать, скажем, роды. Или кормление грудью. Слова может найти и мужчина, у женщин получается не лучше. Иные лишь воображают, что у них лучше. — Бесстрашная откровенность новой прозы… — Студентка переводила взгляд со своих листков на меня, то и дело выискивая на моем лице подтверждение: правильно ли я говорю? Я автоматически кивал, пытался вспомнить фамилию писательницы, которую незадолго перед тем с интересом читала Наташа, я тоже заодно заглянул. Четыре бабы рассказывали по очереди о себе и о подружках, не стесняясь в выражениях. «Я обследовала ее влагалище, мужчины там не было, запах спермы я бы узнала», что-то в таком духе. Следом вспомнилось, как однажды у подъезда Наташу перехватила для разговора соседка, пришлось постоять в сторонке, слушать. «Я говорю гинекологу: зачем мне садиться в кресло? После того, как тринадцать лет назад умер мой Георгий Семенович, в мой дом не ступала нога мужчины. Кроме слесаря, конечно, или телемастера…»
Усмешка застыла на губах, я обнаружил, что студентка смотрит на меня испуганно: не над ней ли смеюсь? Может, она смотрела на меня уже неизвестно какое время, молча, дожидаясь вопроса. Не заметил, отвлекся на свои мысли, нехорошо. Какие тут могли быть вопросы? Вашу зачетку, девушка. Спасибо. И вам спасибо. До свидания. До свидания. И вам того же.
Я проводил ее взглядом. В аудитории оставались еще четверо. Пашкин сидел в дальнем конце, откинувшись на спинку стула, время от времени поглядывал на часы, то есть на свой гаджет, держал его перед собой открытым, выходить к столу не спешил. Почему так невольно притягивал взгляд этот его бритый череп? Я перевел взгляд на оставшихся: кто следующий?
И словно дуновение ветерка: вдруг открылась дверь, появилась Лиана. Лиловый жакет поверх облегающего черного платья, плоская сумка на ремешке. Остановилась у дверей, стала извиняться за опоздание: с утра на дорогах такие пробки. Я кивнул, сдерживая улыбку: проходите, проходите. Пашкин неожиданно встрепенулся, поднялся будто ей навстречу, пошел к моему столу, опережая вставшего секундой раньше соседа.
13
Заголовок вместе с именем автора был вынесен на отдельный лист реферата: Фактор джокера в новой культуре. Я вскинул брови.
— Опять этот джокер? — Поднял на студента взгляд поверх очков. — Чем-то этот персонаж, я смотрю, вам дорог?
Пашкин неопределенно пожал плечами, губы тронуты полуусмешкой. Дужка усиков поверху неуловимо их облагораживала. И этот бритый череп! Как могут сделать человека почти неузнаваемым всего лишь перемены в волосяном покрове! Вот ведь, и колечко из уха исчезло. Другой человек. Я перевернул заглавную страницу, открыл текст.
Системы, богатые информацией, менее упорядочены... Читать приходилось с усилием, мысленно приспосабливая посторонний язык к своему, доступному пониманию. Математические модели позволяют исследовать механизм непредсказуемых явлений… Известный, беспроигрышный прием: озадачить экзаменатора чем-то для него непонятным, дальше плети, что хочешь. И вроде не скажешь, что не моя тема, заголовок предлагал себя прояснить, что-то уже было подсказано. Хотя математика вроде бы не его специальность. Скачивал откуда-то, не скачивал, значения не имело, зачет я ему все равно поставлю, как поставил уже другим, заранее был готов, вникать безнадежно. В разных областях жизни, в культуре, экономике, в обществе известны процессы не до конца понятные, как будто неуправляемые, непредсказуемые… О культуре, уже тепло. А вот и джокер. Наличие джокера в системе намного увеличивает неопределенность и усложняет ситуацию…
Я снял очки, вернул реферат Пашкину. Показал пальцем на строку о неуправляемых, непредсказуемых процессах: не можете ли пояснить, что вы имеете в виду?
Пашкин пожал плечами: ну, это то, что сейчас во всем мире. Все усложняется, экономика переплетена с политикой, за глобализацией не уследишь. Небывалые технологии, производительность труда стала такая, что меньшинство может прокормить большинство. В истории такого еще не было. Большинство может не работать, только качать права и голосовать. Впереди, естественно, процветание и прогресс, доказано специалистами. Вдруг — что такое? Кризис. Все почему-то расползается, перестает работать, те же специалисты задним числом ищут новые объяснения. В культуре те же процессы. Искусство становится неинтересно, вместо произведений перформансы, попробуй их еще понять. Была иерархия ценностей, сейчас это называется рейтинг. Были гении, сейчас делают знаменитостей. Была аристократия, сейчас говорят элита. А кто такая эта элита?.. Ну и так далее…
Он посмотрел на меня, сделал паузу: нужно ли продолжать?
— И тут появляется джокер, — понимающе кивнул я. Словцо об элите позволяло мне все же направить разговор. Не о системах же и математических моделях было спрашивать. — Я помню, вы как-то связывали его с понятием аристократии. С необходимостью новой иерархии. И ваш приятель стал с этим спорить, помните?
Пашкин широко улыбнулся.
— Ну, мы с этим Ромой, с Тольцем, поцапались, как всегда. Не всерьез, конечно, с ним же нельзя всерьез, вы же его знаете. У нас разные специальности. У него информатика, у меня бизнес. — (Не упустил, однако, случая мимоходом лягнуть перед девушкой отсутствующего соперника, усмехнулся я про себя.) — Джокер — это для меня, как теперь говорят, человеческий фактор, — вдохновлялся между тем Пашкин. — Вы, может, знаете, есть такая древняя легенда: два короля на вершине холма играют в карты, а внизу сражаются их войска. И вот один начинает выигрывать, прибегает гонец: войско противника внизу разбито. Знаете?
— Известный сюжет, — я начинал понимать, к чему он клонит. Становилось интересно. — Только в легенде короли играли, кажется, в шахматы.
— Может, в шахматы, — легко согласился Пашкин. — А может, и в кости. Кости, говорят, ложатся не совсем случайно, некоторые умеют их направлять силой взгляда. А что, я вполне верю. Но в карты больше возможностей, и там играет роль джокер. Я видел на днях фильм, там люди живут на бывшей промышленной территории, в каких-то заброшенных цехах, ну, как у нас сейчас повсюду. Кое-как кормятся…
— Бомжи? — Я узнал роман недавнего лауреата. Успели, оказывается, даже экранизировать, так быстро?
— Почему бомжи? — удивился Пашкин. Нет, романа он не читал. На книги у него сейчас вообще нет времени, кино воспринимается лучше. Действие в фильме, стал рассказывать он, вообще не у нас. То ли будущее, то ли другая планета, после неизвестной катастрофы. Такая антиутопия, фэнтези. Где-то сохранились склады с провизией, за них идет борьба. Если не организовать справедливое распределение, долго на всех не хватит, еще и передерутся. Выбирают распорядителя, человечка на вид неприметного. Он тут работал когда-то в охране, знает ходы-выходы…
— В романе намекалось, что он из органов. — не удержавшись, заметил я.
— Нет, в фильме про органы прямо не сказано. Здешний работник, ориентируется в ситуации. За него охотно голосуют, все честно. Вообще полная демократия. Все решается большинством. Воровство надо наказывать, в наказании должны участвовать все. Сами придумывают пытки, есть, между прочим, очень зрелищные, изобретательные…
Я слушал, отмечая то и дело совпадения, переклички. (Или кто-то кого-то использовал?) Роман ведь тоже начинался со сцены публичных экзекуций. От словесных описаний меня, помнится, начинало поташнивать. На экране ужасы умеют подать впечатляюще, известное дело. Как же в кино без насилия, без красивых кровоподтеков! Экшн! В фэнтези правдоподобие обсуждать бессмысленно, умелые авторы это усвоили. Может, и роман следовало воспринимать как легенду, притчу. До конца-то я его не прочел. А в фильме сюжет, рассказывал Пашкин, поворачивался любопытно. Вокруг недавнего охранника выстраивается новая иерархия. Тот сам преображается даже внешне. Недовольных и несогласных по ходу дела устраняют, общине нужна стабильность. Насчет процветания речи пока нет, но появляется в жизни порядок, устойчивость. И, между прочим, смысл. Есть свой интеллектуал, он разрабатывает для джокера концепции, пишет речи.
— В культуре не может быть равенства, — излагал его идеи Пашкин. — Равенство — торжество кладбища. Демократия — торжество посредственности. Направлять развитие должны — явно или неявно — носители новой жизненной силы… Ну, в таком духе, — студент почувствовал, что увлекся. Он рассказывал с видимым удовольствием. Полуусмешка держалась на его губах.
— Интересно, — оценил я. — Фантастика, по вашей мысли, насколько я понял, немного и о нашей, реальной жизни? И кто у нас, по-вашему, может сыграть роль этих носителей силы? Или уже играет? Интеллигенты — в роли обслуги, это я уяснил. Новые русские в малиновых пиджаках? Недавние охранники, как в этом кино?
— Почему малиновые пиджаки? Где вы их сейчас видите? Охранники?.. — Усмешка студента показалась мне кривоватой. — Если вы имеете в виду моих предков… Многие начинали, конечно, с нуля. Если угодно, с минуса. Мой отец начинал простым милиционером, участковым уполномоченным, теперь он, между прочим, коллекционирует антиквариат, бронзовый…
До меня дошло, что я неумышленно мог задеть Пашкина. О его семейной истории, отцовском бизнесе я не знал ничего, как ничего не знал и о других студентах. Чтобы познакомиться с их личными делами, надо было поехать в главное здание, мне это не было нужно, зачем?
— Вы бы посмотрели, какие у него сейчас статуэтки, непальские, китайские. Ну да, он не очень пока разбирается, но о чем-то уже может говорить. Есть профессионалы, эксперты, если надо, они на него будут работать. Для отца когда-то не было разницы: пить бормотуху из эмалированной кружки или вино из тонкого бокала. А вот я уже из кружки не могу. И в винах стал разбираться. И в устрицах, знаю сорта. Утонченности, может, не всегда хватает, появится, глядишь, потом. В следующих поколениях. Оформится, глядишь, и новая наследственность. Сначала деловые отношения, потом родственные…
В речи Пашкина, в его лице чувствовалась напряженность. Мне показалось, он говорит как будто не совсем для меня, прислушивается или будто пробует уловить чью-то реакцию позади себя, затылком. Я посмотрел мимо его щеки: за его спиной сидела Лиана. Совсем про нее забыл, он ее от меня загораживал. Это ее присутствие он за собой ощущал, это на нее, на свою восточную красавицу хотел произвести впечатление. Дожидался, пока она придет, надеялся перед ней блеснуть незаурядным рефератом — не передо мной, и она не сводила с него заинтересованных глаз. Вот что я не сразу понял, не оценил. А ведь у него получалось, ишь как распелся. Я своими вопросами невольно ему помогал, сам того не подозревая. Может, даже против желания…
Стало чуть неловко — и в то же время как-то весело. Не мне было изображать перед другими потомственного аристократа. Самому было знакомо это наследственное, плебейское безразличие к вещам, не то что к антиквариату, неумение разбираться в одежде, посуде, мебели — я эту область жизни предоставлял Наташе.
— Вы тоже интересуетесь антиквариатом? — Неловкость надо было как-то загладить. — У вас что-то есть?
— Ну, какой антиквариат! Куда мне! Я в бизнесе только начинаю. Недавно, правда, увлекся такими оригинальными штучками, мне в Лондоне показали. Удлиненные монеты, по-английски elongated coin. — Пашкин высвободил из-под рубашки что-то вроде медальона на цепочке, показал. — То есть одно время они были редкостью, есть очень старинные, потом стали бизнесом, для коллекций, для сувениров. Я немного попробовал, не ширпотреб, нет. Ширпотреб меня не увлекает. Уникальные, штучные изделия.
Увидел, что я не могу разглядеть издали, снял цепочку с шеи, протянул. На удлиненном овале рядом с крупной цифрой «10» внутри изящно вытисненного орнамента (кусающая свой хвост змея) не совсем ясно читалось «Ismai…». Пришлось снова надеть очки.
— Из-ма-и, — стал разбирать я вслух.
— Памятная медаль, к юбилею, для дружеской фирмы, — немного поспешно пояснил Пашкин. — Сплав серебра с редкими металлами.
Интонация его становилась почему-то суше, но сам голос казался каким-то другим, поставленным, что ли.
— Измаи… лов… Измайлов, — наконец прочел я вслух правильно. Туго же я в тот день соображал. Слегка скосил взгляд на Лиану. Она прислушивалась к нашему разговору, забыв про свои бумаги. Пашкин сидел неподвижно, ровно, боковой свет из окна позволял оценить ухоженность кожи; прежде, помнится, она казалась грубоватой. Кто знает, подумал, может, перед тобой в самом деле потенциальный, не вполне пока оформленный аристократ. Нужно время. Женщина, тут, конечно, влияние женщины…
Зачетка лежала передо мной открытая. Я снял колпачок с ручки. Вот ведь что делает молодая влюбленность. Оставалось, однако, чувство какой-то недоговоренности. Я ведь сам его текст по-настоящему еще не прочел, что-то в нем померещилось.
— Если можно, — сказал, протягивая студенту книжицу со своим автографом, — я на время возьму ваш реферат себе, почитаю внимательней.
— Конечно! — искренне сказал Пашкин. Взял зачетку, сделал шаг от стола, вдруг обернулся. — Спасибо вам за разговор, — добавил неожиданно. — Я с вами кое-что сегодня лучше стал понимать.
Нет, надо было признать, что-то в этом парне было. Отходя от стола, он все-таки переглянулся с Лианой. Та развела руками, качнула головой, приподняв брови — в жесте удивления или восхищения можно было уловить оттенок недоверчивой иронии: не ожидала. В руке студента заверещал мобильник — поторопился включить, еще не дойдя до дверей. На секунду остановился, поднес к уху. Я успел услышать короткое: «Да, можно». Бизнес, ничего не скажешь, ни секунды терять не хотят.
14
Еще два зачета я поставил быстро, о чем мне говорили, теперь, честно сказать, сразу не вспомнишь. Так забываешь лица и фамилии, когда в них отпадает необходимость: экономный механизм памяти. Время от времени я поглядывал на Лиану, она все перебирала, перекладывала перед собой какие-то листы. Перечитывала свой реферат, готовилась? Считала ли, что должна ждать очереди, раз пришла последней? То и дело поглаживала пальцем свой смартфон, раз-другой он издавал короткий писк. Сообщал что-то, подтверждал ли? Не знаю, полагалось ли эту нынешнюю технику отключать на экзаменах, не имел еще с ней дела — и какая разница? Можно было подумать, что девушка нервничает, вот уж не ожидал. Как-то встретилась со мной взглядом, я отвел глаза первый.
Когда мы остались с ней вдвоем, она собрала наконец страницы, небрежно прихватила свою сумочку и пошла к моему столу — по пути расцветая неотразимой своей улыбкой. Ее одной было достаточно для зачета, она это знала, да я сопротивляться и не собирался. Оглянулась зачем-то на дверь, словно опасаясь, не войдет ли кто. Не дожидалась ли, в самом деле, пока останется со мной в классе наедине?.. Ну что теперь вспоминать возникавшие мысли.
Тема ее оказалась для меня совсем неожиданной: мифология неизвестного мне Азазила в поэзии неизвестной мне Хавы. Просматривать реферат не имело смысла, достаточно было пробежать по страницам взглядом и просто слушать девушку, ее голос. Азазилом, как вскоре было объяснено, именовался в мусульманских апокрифах падший ангел, известный у нас как Азазель. Под именем Хава (по-русски соответственно Ева, этого мне можно было не пояснять) скрывалась в начале прошлого века поэтесса, о которой даже на родине, в Азербайджане, до сих пор никто не слыхал. Ее стихи были обнаружены лишь четыре года назад в сундуке у каких-то дальних родственников Лианы, бумаги попали к ней (каким образом, девушка уточнять не стала), она ими и занялась. Пока сумела выяснить не так уж много — кроме того, что писала о себе сама поэтесса. Можно было понять, почему таила свои стихи женщина в мусульманской, очевидно, семье, во всяком случае в мусульманской стране, а если бы еще открылось содержание стихов — ее могли в старое время просто побить камнями. В стихах и в сопутствующих пояснениях фигурировал Азазил, тот самый иудейский Азазел или Азазель, падший ангел, у мусульман дьявол, иблис. Сведения о нем можно найти не в Коране, а в мусульманских апокрифах, хадисах. Этот Азазил изобрел оружие и косметику, научил мужчин искусству воевать, а женщин искусству соблазна или, как некоторые говорят, обмана. (Стрельнула мимолетным взглядом.) Главное же, в поэзии Хавы он отождествлялся со змеем, тем самым, что соблазнил в раю первых людей, из-за него им пришлось оттуда уйти. Но Хава его за это деяние славила, в ее стихах выстраивается своего рода культ змея-Азазила. Если верить дошедшим легендам, у нее самой в доме жила большая змея, похоже, питон. Какие-то стихи навели недоброжелателей на мысль, что поэтесса, попросту говоря, жила с ним…
Я слушал не перебивая, не вставляя вопросов, возможно, слегка приоткрыв рот. (Не потому ли, вспомнил, девушку время назад заинтересовало отличие женской поэзии от мужской?) Стихи Лиана цитировала в своих переводах. («Я, конечно, не поэт, это почти подстрочники, не для печати».) Не стой у закрытых ворот, / Не требуй убогого счастья. — Это она обращается к своему возлюбленному, — поясняла, привычно улыбаясь. — Хочу перемен и забот, / Исканий, забвения, страсти. Кажется неожиданным для женщины, которую называют восточной, да? Но в Европе не совсем представляют ее подлинную роль. Чадра, шариат, роль служанки в семье — да, это было и до сих пор где-то есть. Но во многих случаях во многих мусульманских семьях женщина только играет роль слабой, реально она ведет дела, принимает решения. Как говорят, вертит мужчиной, и некоторые считают, ему же на пользу. Есть русские женщины — такие самостоятельные, равноправные, и такие бедные, да? У Хавы не так просто. Она вся в противоречиях, не может сама себе объяснить, чего хочет. Возлюбленный обещает ей все, чего она пожелает, готов исполнять любые ее прихоти, соблазняет возможностями. Как женщину ее, конечно, привлекают благополучие, успех, уверенность, сила. Но она еще и поэт, не совсем обычная женщина. Ей нужно единственное, несравненное, неожиданное. И этот змей, то есть через него Азазил, то и дело ее смущает, нашептывает: Ты создана не из его ребра. Изогнутого не выпрямляй, сломаешь. Гламурный рай не для таких, как ты…
— Простите, — тут я вынужден был ее прервать, — слово «гламурный» вряд могло употребляться в начале прошлого века.
Что говорить, уже напрашивалась догадка: не свои ли стихи читала Лиана, приписывая их вымышленной поэтессе, сочинила целую мифологию, использовала как тему для реферата? Ну и прекрасно! Не проверять же, и зачем? Что-то, право, неожиданное было в этих стихах.
— Да, да, конечно, — девушка слегка зарумянилась, — я сама знаю, но не могу найти по-русски точное, чтобы передавало смысл. Рай в ее стихах — роскошное, но скучное место. Если бы вы знали язык, могли бы посоветовать. Еще у Хавы есть слово, — Лиана произнесла его по-азербайджански, я не уловил, переспрашивать не стал, — тоже не знаю, как его перевести. Может быть, гениальность, гений? Там, в стихах, мысль о том, что считать несравненным. Быть гением — не каждому по силам… Гениальность — это что-то самое высокое? Больше, чем способности, чем ум, чем талант? Или что-то еще? Хава готова ценить то, что ей кажется гениальностью, но сомневается, приносит ли она счастье. Как вы считаете?
Вопрос был неожиданный. Если он связан был со стихами — чьи все-таки это были стихи? Что-то от меня ускользало. Я пожал плечами.
— Мне кажется, гениальность — это не просто высшая степень каких-то способностей, прежде всего творческих. И со счастьем она никак прямо не связана. При жизни, во всяком случае, вознаграждается редко. Есть вещи, которые воспринимаются не сами по себе, а в системе, обществом. Надо, чтобы гению сначала сказали, что он гений. Обычно такие люди бывают скорей непрактичны, сами об успехе не заботятся. Это естественно, они думают о другом. Опередили других, значит, какое-то время остаются непонятыми. Иногда всю жизнь. Чувствуют себя среди других чаще всего неуютно, не очень сами себя понимают. Если и счастливы, то как-то по-особому. Несравненно, как выразилась ваша поэтесса.
— Вы тоже, значит, наверняка не знаете, — задумчиво подтвердила Лиана.
Я развел руками. Снял колпачок со своей ручки, расписался сначала в ведомости, подвинул к себе ее зачетку. Девушка зачем-то вновь оглянулась на дверь, словно боялась, не войдет ли кто.
— Можно я вам еще почитаю? — сказала вдруг.
Что я мог возразить? Мне спешить было некуда. Не оставляло какое-то странное чувство: казалось, что девушка все чего-то не договаривает, медлит, чего-то еще ждет. Лиана, гибкий побег, обвивает, кольцо за кольцом. Не думай, я слабее, чем кажусь, / Но виду не подам… Я уже расписался и в зачетке, ждал, пока она дочитает. Студентка взяла зачетку, сложила свои бумаги, тщательно пристроила их в сумке, стала в ней что-то перебирать. Наконец поднялась, почему-то вздохнув, медленно, словно с неохотой, направилась
к двери. Оглянулась на меня — лицевые мышцы вновь выдали отработанную пленительную улыбку. Что все это, однако, значило? Зачет она уже получила, ждала чего-то еще? На что я не мог откликнуться? Ведь не мог же, нельзя этого было не понимать. Сам должен был признать, что бы о себе ни воображал. Увы. Испорчу жизнь… Все, улыбнулся в ответ, зачет окончен. Закончен, ничего не поделаешь. Надел колпачок на ручку, спрятал в нагрудный карман. Отработал…
В это время дверь неожиданно распахнулась и не вошел — ворвался этот рыжий, Роман Тольц.
— Извините, — остановился возле дверей, увидел, что за столом я один. Я-то совсем про него успел забыть. Возник в последний момент. Лиана, поравнявшись с ним, вдруг пихнула юношу локтем в живот, больно, рыжий даже согнулся. Я сам невольно вздрогнул от неожиданности. Это что, у них такая манера здороваться? Или какие-то неизвестные мне счеты? Прошла, не оглядываясь, дальше. Он недоуменно проводил ее взглядом. Дверь громко хлопнула.
15
— Извините, — повторил, остановившись перед моим столом. Светлая рубаха выпущена из-под серой безрукавки со множеством карманов, молния на одном расстегнута. Я жестом показал: проходите, садитесь.
— Пробки? — облегчил ему объяснение.
— Нет… То есть да, но еще и менты задержали. Никогда не знаешь, чего от них ждать. Сказали, что машина похожа на какую-то, которую угнали, надо что-то сверить, проверить. Даже мобильник зачем-то взяли. Думал, будут опять тянуть бабки… то есть деньги, нет. Ждали чего-то, какого-то подтверждения. Не знаю, что им подтвердили. Отпустили, даже извинились.
Я слегка развел руками: чего только в наше время не услышишь, приходится верить. Еще раз показал взглядом: садитесь, садитесь. В ушах еще не совсем отзвучал голос, музыка стихов. Не стой у закрытых ворот… Тольц извлек из обширного кармана помятые листы, развернул, протянул мне. Нельзя было не оценить практичность этой одежки, можно обходиться без портфеля, без сумок. В былые времена такая была бы незаменима для шпаргалок. Но зачем сейчас шпаргалки? Другая техника, другие возможности, достаточно кнопки в ухе. Не требуй убогого счастья. Хотя бумаги лучше бы все-таки не мять.
«Фактор джокера в новой культуре» — заголовок вверху страницы заставил меня вновь вскинуть брови. Пробежал взглядом по строчкам. Системы, богатые информацией, менее упорядочены... Вот уж к чему я был совсем не готов. Вынул из файла оставленный на столе реферат Пашкина, перевернул первую страницу. Слово в слово. Непредсказуемые процессы в сложных системах… Точная копия. Только у Пашкина заголовок с именем автора вынесен на отдельный лист, этот сэкономил бумагу, вся разница. И на файл не потратился. В разных областях жизни… Тольц следил за моим взглядом. Я качнул головой, убрал первый лист, остальные протянул студенту.
До него дошло как будто не сразу. Перелистнул страницу, другую, снова вернул первую.
— Откуда это у вас?
— Это, может, вы мне объясните, откуда у вас такой же? Скачано из одного источника. Даже шрифт такой же.
— Я ни у кого не скачивал. — Лицо Тольца пошло красными пятнами. Чем неудобна белая кожа у рыжеволосых: откровенна, ничего не скрывает.
— Допустим, из Интернета? — Не настроен я был никого разоблачать, предпочел бы обойтись без объяснений. Но поневоле приходилось договаривать, ничего не поделаешь. — Сейчас обычное дело.
— Это не из Интернета.
— А откуда же?
— Из моей головы. — Постучал костяшками пальцев по лбу. — Я к своим выводам пришел путем мучительных размышлений.
Бедняга. Ему проще было паясничать в таком демонстративном шутовском стиле, чем признаться в заурядной, по сути, проделке. Других я уличать даже не пробовал, какой смысл, всех ведь отпустил с зачетом. Пашкин успел раньше, для беседы текста почти не понадобилось, обошлись без материй, для меня малопонятных. (А ведь показалось даже интересно, вот ведь разочарование. Жаль, и ничего не поделаешь.) Этому просто не повезло, но ведь не хуже других. Охотно бы дал ему соврать, но теперь как? Оба оказались в глупом положении. Между прочим, рыжий даже не поинтересовался, кто мне принес этот второй экземпляр. Знал кто? Догадывался?
— Может, кто-то у вас списал? — попробовал я подсказать выход. — То есть скачал? Вы кому-то давали, показывали?
Он пожал плечами. Продемонстрировать ему просто фамилию? Что-то меня удерживало, не хотелось ничего прояснять, ничего переигрывать, и какая разница, из какого источника? Из одного. Друг у друга приятели скачивать бы не стали, нелепо, знали же, что попадутся.
— И никто в ваш компьютер не мог проникнуть? Какой-нибудь изощренный… как это у вас называется? Хакер? — зачем-то все же искал я для него (и для себя самого) еще одну правдоподобную подсказку. Снова пожатие плеч. Становилось не столько противно, сколько скучно. Чего я от него ждал, чем был разочарован? — Ладно, будем считать, чудеса. Возможны же совпадения невероятные. Почти невероятные. — Я чувствовал, что сам, поддавшись, начинаю язвительно ерничать чуть ли не в его духе. Не стоило же так просто выгонять беднягу, несправедливо. Надо было искать выход. — Кто это говорил: обезьяны, стуча по клавишам наугад, могут написать нечаянно «Илиаду»? Доля вероятности подсчитана, какая-то многомиллионная, вы в математике разбираетесь лучше. Или появился действительно небывалый гений.
— Сукин сын! — фыркнул юноша.
— Кто?
— Пушкин, — студент слегка скривил губы. — Это он так про себя однажды сказал, — опередил Тольц мой следующий вопрос: — Ай да Пушкин, ай да сукин сын, да? Сегодня я гений.
Нахватался окололитературной эрудиции, сейчас это модно, годится для телевизионных викторин. И то смешал сказанное по разным поводам. Студент смотрел теперь мимо меня, челюсть то и дело начинала двигаться. Непонятно, что жевал, непонятно, о чем думал. Недовоспитанный ребенок, на грани хамства. До сих пор не научился вести себя со старшими, тем более с преподавателем. Тем более на зачете.
— Может, наконец прекратите жевать? — уже начал раздражаться я.
— А?.. Извините. У меня во рту ничего нет. Не осталось. Я нервничаю.
Ах нервничает!
— И что же вы жуете?
— Пустоту. Остатки воспоминаний. Мне это помогает сосредоточиться на мыслях.
— Ну что ж, — не стал продолжать я. Надо было как-то кончать, не тянуть же дальше волынку. — Сосредоточьтесь и расскажите, к чему вы пришли путем мучительных размышлений. Непредсказуемые процессы в сложных системах… — Я заглянул в свой экземпляр. — Как вы это понимаете?..
Опять это неохотное пожатие плеч, точно его заставляли говорить против желания:
— Ну что тут понимать. Сложная система, в ней множество элементов, в каждой множество степеней свободы. Не очень-то предскажешь.
Замолчал. Мог бы говорить с экзаменатором другим тоном. Я все же попытался его подтолкнуть:
— А если не в специальных терминах? Вы же не об информатике пришли со мной говорить. Как это понятие можно отнести к культуре?.. Вы говорили, есть музыка, для которой обычных нот не хватает? — попробовал я подсказать. Бедняге было явно не по себе, можно понять, выгонять его просто так не хотелось. Но не мне же было заполнять каждый раз молчание. — Как же ее все-таки услышать? Напеть вы, как я понимаю, не можете?
— И никто пока не может. Казалось, уже получается, еще немного, и соединится. Я сегодня вообще хотел принести другой реферат. Джокер — это уже старое, для начала. Нет, Кассандра забастовала, ничего не захотела открывать, выдала только этот.
— Простите, — я насторожился, — кто забастовал?
— Компьютер… извините. Я так его называю: Кассандра. То есть это у меня уже система, шесть процессоров. Могла выдать вдруг такое, мне бы в голову не пришло. Я за эти полгода столько в нее загрузил, самого разного. Не только по информатике, математике, но и по нейрофизиологии, биологии мозга. Сейчас ведь все со всем связано. Уже казалось, вот-вот, близко. Не получилось, нет… Полный тупик, все закрыто, во все стороны… не знаю, как объяснить, чтоб было понятно…
Он смотрел не на меня, а куда-то вбок и в пол, выражение лица было мрачное. Ему еще надо было сочувствовать. Я качнул головой.
— Не берусь судить о вашем предмете, но что это за тупик, закрытый во все стороны? Почему не поискать другое?
— Мне другое не нужно. С этим для меня многое связано… все со всем связано… я не могу объяснить.
— Я имею в виду: пойти другим путем. — Надо было хоть как-то кончать невнятицу. Опять это: не могу объяснить, слишком сложно, вам не понять. — Не только вам известно такое состояние. Сидишь, долбишь в одну точку — мысль не сдвигается. Отвлечешься, думаешь о другом — вдруг решение неизвестно откуда приходит, иной раз даже совсем не о том, сам себе удивляешься. Ай да гений, да? Вы ведь про это?
— Ну да, вообще и про это, — моей иронии он не уловил. — Неуверенность системы, промежуточный хаос, джокер сам не выскакивает. Меня одна знакомая подкалывала: смоделируй, говорит, для своей Кассандры гениальность, Нобелевская премия как минимум обеспечена…
А, вот оно как! Стоило ли гадать, кто была эта знакомая? Только что попрощались. Нобелевская как минимум, меньше женщину не устраивает. Только с такими, как этот мальчик, надо бы поосторожнее, может принять всерьез.
— И что, — поинтересовался я, — попробовали?
— Я же говорю, уже хотел принести другую работу, как раз об этом. Не получилось.
— Компьютер забастовал? — я уже не знал, как с ним разговаривать.
— Если бы только он. — Тольц насмешку опять не уловил, усмехнулся угрюмо. — Несовместимость систем… только кажется, что просто в компьютере. Есть уровень, на котором все со всем связано. Неуверенность системы — и неуверенность в мозгах, в отношениях, во всем. — Он говорил с какой-то мрачной рассеянностью, глядя не на меня, как будто думал одновременно о другом. — Мы, например, воображаем, будто можем понять другого человека. А женщина — это не просто другой человек, там другая система. Для нее нужна другая логика, даже не логика, не знаю, что. Думаешь: что за глупость, как можно не видеть, не понимать очевидного? Нет, тут вовсе не глупость, тут другой ум. Глупость считать другой ум понятным…
Он замолчал, продолжая глядеть вниз и в сторону, скулы двигаться перестали. Ах вот оно что, — я сдержал улыбку. Любовные страдания. Неоцененный, отвергнутый умник, хочет себе объяснить, за что его так. В терминах информатики. А его локтем в живот, по-настоящему. Есть от чего сбиться мыслям. Переживает, пережевывает. Остатки воспоминаний. Системы, видите ли, не хотят совместиться. Ладно, с зачетом явно не стоило больше стараться, надо было рыжего хоть как-то утешить.
— Не берусь судить о вашей науке, — сказал я, — но о чем-то близком я пробовал вам рассказать на занятиях. То, о чем вы говорите, у поэтов называется, может быть, вдохновением — дано ли нам понять, почему, по каким законам оно появляется, почему исчезает? Мы, филологи, пытаемся объяснять, что хотел сказать гений, сам он об этом скорей всего мог не подозревать. Поэзия — не наука, но подлинно художественный текст можно считать частным случаем сложной, как у вас говорят, системы, разве не так? Может, всем нам дано в какие-то минуты быть гениальными. Почувствовать, понять загадку, еще не разгадав… — Мне вспомнились подвернувшиеся время назад стихи. — Наверное, можно загрузить в вашу Кассандру такие строки, не простенькую мелодию. Но можно ли запрограммировать что-то большее, не столько мысль, сколько чувство? Скорей даже предчувствие. Понять, еще не разгадав. Рыба, вытащенная на воздух, уже не живая. В художественном тексте неизбежно появляется что-то неожиданное для самого автора. Вы можете называть это джокером, как хотите. Подлинная поэзия начинается там, где вспыхивает непредсказуемое. Как непредсказуема бывает любовь…
Я вовремя остановился — почувствовал, что недопустимо увлекся. Тольц смотрел на меня, чуть приоткрыв рот, — слушатель, поощряющий продолжать. Тоже классическая студенческая уловка: терпеливо, внимательно ждать, пока преподаватель сам за тебя все выложит.
— Это идея? — произнес то ли полувопросительно, то ли удивленно. — Ай да гений… а? — Я опять насторожился: не насмешка ли тут в мой адрес? — Извините, — он все же опомнился, — я не то говорю… Я сейчас в таком состоянии… совсем не спал… Спасибо… да. — Он опять словно отключился — был где-то не здесь.
— Подумайте на досуге. — Мне следовало уже расслабиться, опять не уследил за собой. А парень, похоже, и впрямь недоспал, сплошная невнятица. Можно понять. Бедный несчастный влюбленный. На воротнике рубашки угасало свежее кофейное пятно.
Я подвинул к себе его зачетку, раскрыл. Там уже стояло одно «отлично». По какому предмету? Не важно. Неглупый, что говорить. Хотя слишком уж дерганый. Если не хуже. Не стоило мучить беднягу — да и себя самого. Списал, не списал, кто у кого, какая в конце концов разница?
— Между прочим, вы испачкали воротник кофе, — заметил, заново доставая из кармана ручку, убрал раньше времени. — Вообще такие вещи в обществе не принято замечать, но по праву, так сказать, возраста. — Годитесь мне едва ли не во внуки, чуть не уточнил добродушно. — Все культурные ценности условны, в этом вы правы, но жизнь держится на договоренностях, если угодно, форме. Иначе она совсем бы размазалась. Не стоит думать, что другим это совсем безразлично. Особенно женщинам, имейте в виду. Придете домой, смените рубашку.
— Мне уже только что это говорили. — Юноша продолжал смотреть вниз и в сторону. Могло показаться, будто он что-то напряженно осмысливает. На щеках опять проступили пятна.
— Да? — Я уже начал открывать ручку. — И кто же это? Не женщина?
— Охранник у входа. Второй раз делает мне замечание, недоволен моим видом. Считает, что для такого престижного университета нужно ввести дресс-код. Наверное, чтобы у всех был такой же костюм, как у него, с таким же галстуком. Это значит показатель подлинной культуры. — Лицо искривилось знакомой уже усмешкой.
Было похоже на легкий, но болезненный укол: вспомнилась подобранная время назад записка. Значит, писал все-таки он. Насмехался над моей внешностью, моим костюмом. И девушка это читала. Хорошо, что ее тут уже не было. Студент продолжал жевать остатки своих прилипчивых воспоминаний. Нет, что-то неприятное, вызывающее было все же в его манере, словах, в самой ситуации. Я перед ним распелся, чуть ли не рассентиментальничался, а он уже не сомневался, что зачет я ему поставлю. Хотя сам знает, что уличен. Думает, что я уже согласился все проглотить. Право списывать или красть чужой текст, выдавать за свое. И эту откровенную наглость проглочу. Уверен, что со мной можно так. Будет чувствовать себя победителем. Ну-ну.
— Попробуйте написать что-нибудь еще раз на какую-нибудь другую тему, сами, — сказал сухо, отодвигая к нему зачетку, и встретил совершенно растерянный, ошеломленный взгляд.
16
Конечно, я это сделал зря. Рыжий еще шел к двери, я смотрел ему в спину — он на ровном месте споткнулся, весь какой-то поникший, ручку двери потянул на себя — показалось, хочет обернуться, что-то еще сказать… нет, догадался толкнуть. Обернулся бы — я в этот миг, право, мог бы еще передумать, предложил бы ему вернуться. Стоило ли поддаваться пустяковому раздражению? Поставил бы зачет, распрощались бы, чтоб никогда больше не встречаться. Не думать о пересдаче, не тащиться опять в университет, не разбираться в муторном осадке. Забыть, не проясняя.
(А ведь и в самом деле, как теперь подумаешь — на этом могло бы тогда все и кончиться, и не было бы продолжения. Ничего больше я бы не узнал, не понял. Словно тот срыв случился не совсем по моей воле — сработало ли что-то в подсознании, замкнулись ли в неизвестных сферах неясные для меня связи.)
Возвращался домой, рассеянно перебирал все те же мысли. О Пашкине с его самодельной философией, с сомнительным аристократизмом нового русского, с грубоватым мужским обаянием. Вот в чем ему не откажешь, вот кто и женщину может заинтересовать. Уж не ревность ли во мне шевельнулась? Смешно говорить… Но и о ней приходилось волей-неволей думать, об этой способности незаметно обвить, охмурить, предложить неизвестно чьи стихи в виде реферата, как такой не поддаться. (А почему и не поддаться?)
И с чего она так пихнула вдруг этого рыжего, больно ведь? Пробивалось уже что-то вроде жалостливого сочувствия к бедняге. Куда мальчику до обоих, ему подрасти бы сначала. Она и дала ему понять, если еще не понял, пусть отойдет в сторонку…
Все, очередной раз обрывал я себя, хватит думать о них. Ничего не надо уточнять, выяснять, незачем. Расстались, считай, уже насовсем, как расстанусь через минуту-другую с этими вот попутчиками в вагоне, не запомнив лиц, даже одежды (женщина бы отметила). Соприкоснулся, потерся боками, скользнул взглядом — выйдут сейчас, больше никогда не увидишь, а увидишь — не узнаешь, не вспомнишь… Кто-то над ухом повторил вопрос, я не сразу среагировал, посторонился, дал пройти. Сам сел на освободившееся место. Обрубок в камуфляжной форме, на инвалидной коляске, заставил подобрать ноги. Голубой берет десантника выставлен в руке для подаяния, опухшее багровое лицо, светлый пух на черепе. Десантник-то, скорей всего, из ряженых, известное дело, попал по пьянке в аварию, послан хозяевами побираться, не для себя. Деньги у него отберут, запрут до следующего утра в жилье, провонявшем мужским потом, вместе с командой таких же, прокорм обеспечат, без выпивки не оставят, совсем без нее нельзя, что-то должно утешать, примирять с существованием, какое есть. У нас в доме напротив, я знал, была такая квартира. Не так им, может, и плохо, привыкли, другого ничего не хотят. Не мне в это вникать, изменить ничего не могу.
В вагоне стало свободней. Подросток напротив перебирал клавиши игрового устройства, губы дергались то и дело гримасой удовлетворения. Разбирался с какими-нибудь устрашающими злодеями, лучше всего с инопланетянами, они понятней. Отстреливал, взрывал на своем пути всех, кто мог угрожать, от меня было не видно. Удобная штука, позволяет не думать ни о чем своем и при этом вырабатывать нужную дозу адреналина. Располневшая мама рядом держала перед собой планшетник, что-то читала, еще две женщины поодаль листали цветные журналы. Во времена, когда я еще мог разобрать издалека мелкий книжный шрифт, тянуло иногда скосить взгляд, угадывать по знакомым именам, строкам, кого кто читает: кто-то, глядишь, Шекспира, кто-то, бывало, Ремарка — и улыбнуться узнаванию, чувству невольной близости, родственного понимания. Нечасто, но все же случалось. Слева от меня лысоватый мужчина в негородской, дачной одежде, у ног потрепанный рюкзачок, достал из нагрудного кармана газетную вырезку, развернул. Заголовок я мог разобрать: «Звездный развод обошелся в два миллиона». Дальше без очков было не прочесть. Дачник перечитал медленно, качнул головой, аккуратно сложил вырезку, вернул в карман. И не станешь же выяснять, о чем это, о ком, почему так важна для человека новость о разводе вряд ли знакомой лично звезды. Вырезал, перечитывает. Со стороны не понять. Имен ты все равно не знаешь. А в общем, то же, что было всегда. Множество непроницаемых, случайно сошедшихся жизней, замкнутые, отделенные один от другого, непересекающиеся миры, временные попутчики в общей вагонной капсуле, в черном туннеле. У молодых в ушах музыкальные затычки, слышит каждый свое.
Ритмичный, баюкающий перестук, мягкое сиденье покачивается, покачиваются сидящие. Этот рыжий что-то говорил об измерении, в котором все со всем связано. Для меня таким измерением всегда была литература. Я ведь по-настоящему просто не представлял, как без нее можно воспринимать, чувствовать жизнь. Как было передать, хотя бы объяснить это чувство нынешним студентам? Не получилось. Если б следовало признать только это! Может, главное, думал я, сам что-то все больше перестаю понимать. В самой литературе что-то от меня ускользает. Не читаю, как раньше. И не в том дело, что какой-то новый бестселлер не смог оценить, не вник — было бы во что вникать. Толкования подменяют необъяснимое, вот о чем я только что пытался сказать студенту — напоминал, оказывается, самому себе. Рыба, вытащенная на воздух, уже не живая. Ускользает, тускнеет что-то настоящее. Мусолю затверженное, привычное — так собака продолжает глодать кость, на которой мяса-то не осталось, обновляет разве что вкус собственных слюней. Вкус воспоминаний, вкус иллюзий, вкус имитаций. Теперь собаке можно подсунуть и кость искусственную, просто чтоб зубам не было скучно. Даже буквы на них, оказывается, стали писать… никогда раньше таких костей не видал. Разглядеть бы поближе... что-то как будто знакомое… и собаку я где-то уже видел. Та, словно угадав мои намерения, взяла кость в зубы, потрусила от меня прочь. Непросто было поспевать за ней, проталкиваясь в тесной толпе. Собака лавировала между человеческих ног, ей было легче. Надо было не упускать ее из виду, не оглядываться. Кто-то попытался меня остановить: куда без очереди? — придержал за плечо, я вырвался. Но собака уже нырнула в черный проем. Я остановился в сомнении. Чтобы туда заглянуть, надо было стать на колени. Кого бы спросить, что там? Чья-то рука снова схватила меня за плечо, стала трясти. Надо выходить, сказал женский голос, здесь конечная. Слышите? Эй, папаша! Здесь конечная…
Заснул, пропустил, оказывается, свою станцию, давненько со мной такого не было. И никто, кажется, еще не называл меня папашей. Я, значит, папаша, пора признать. Все еще как будто не мог выбраться из полусна, полуяви, обрывки путаных мыслей не продолжали одна другую. Но сбиться с пути я дальше уже не мог, продолжал движение, что называется, на автопилоте. Поднимался к выходу на эскалаторе, когда меня вывели из задумчивости мужские хамские голоса.
Навстречу нам, слева, спускались двое в камуфляже, с бритыми головами, лица округлены белым подкожным салом. Они что-то громко выкрикивали, гогоча, и почему-то показывали друг другу на меня пальцами. Я не успел понять, в чем дело, когда один вдруг набрал во рту слюны и смачно в меня харкнул. Уклониться я все же успел, плевок вообще прошел мимо. Обернулся: позади меня, ступенькой ниже, отирал платком щеку скуластый узкоглазый мужчина лет тридцати. Бритоголовые, оборачиваясь, показывали на него пальцами, продолжали гоготать, довольные. Надо понимать, не промахнулись, попали, в кого метили, не в меня. Азиаты теперь им не нравятся. Чужеродные. Моя внешность была не так примечательна, к тому же пожилой, седоватый. И ведь никто на их эскалаторе не среагировал, не сказал ни слова, ни ступенькой ниже, ни выше. А я бы сказал, если бы оказался там, рядом с ними, полез бы с кулаками, дал в морду? О чем говорить!
17
Жилье дохнуло непроветренной духотой. (Обещали грозу, я оставил окна закрытыми.) Впустил майский воздух, дыхание молодой теплой зелени, пошел на кухню разогревать свой холостяцкий обед: сосиски, вчерашние макароны; картошку чистить не захотелось, оставил на завтра. А вот селедку к водочке взял, нельзя было не выпить. После отъезда Наташи я зарекся пить без нее, выпивать в одиночку — последнее дело. Да ведь и обед без нее был не более чем способом отделаться от напоминаний желудка, без вкуса, без смакования. Все без нее потускнело, угасало. Сковородка в угольно-жирном налете, посуда как будто немытая, хотя ведь мыл, помню.
Одной рюмки и даже другой оказалось недостаточно, не удавалось ни заглушить, ни прояснить муторную тяжесть на душе, отогнать ненужные мысли. Который раз приходилось ловить себя на малодостойном чувстве: держаться бы в стороне от этой жизни, от хамских ее проявлений. Омерзительно соприкоснуться с ней вот так, близко. Хорошо, если не ближе, если вонючая слюна не растеклась по твоей щеке, пришлось бы отереться, отереться, не больше, ну, дома промыть кожу горячей водой, с мылом, носовой платок выбросить, не стирая, — что можно сделать еще? Чувство брезгливого бессилия, уважения к себе это не прибавляет. А еще облегчения, когда оглянулся и увидел, что они целились не в меня…
Вы умеете вовремя остановиться, снова вспомнился забытый, казалось, профессор. Сомнительную похвалу я тогда как будто пропустил мимо ушей. Нет, оказывается, застряла. И как потом за банкетным столом профессор заговорил с моим отцом по-еврейски, а я стал оглядываться: слушают ли их другие, что об этом думают? Конечно же, на кафедре не могли не знать, что я еврей, но, может, не думали, что настолько. Специалист по русской литературе, и фамилия русская. С коллегами у меня в этом смысле не было никаких проблем. Да и за столом к тому времени все были хороши. Комплексы, не более чем застрявшие с давних лет комплексы…
— Знал бы ты, как твой папа тобой гордится. — Ласкин, хмелея все больше, стал говорить мне «ты». Приближал то и дело свое лицо к моему, приходилось вежливо отстраняться от брызг слюны. — Кандидат наук, кто мог об этом мечтать? Он мне рассказывал, какие у тебя еще в школе были необыкновенные сочинения. А он простой, всего образования — техникум, какой-то кожевенный. Думает, ты его стесняешься. Стесняешься, да? Ты ведь ничего про него не знаешь и не хочешь знать…
Я лыбился расслабленно, не вникая. Ласкин время от времени поправлял выпадавший протез, вместе с ним возвращалась направленность речи. Понес что-то опять про Чехова. Вот кто обходился без генеалогии. Папашу своего почитал как положено, содержал, но не более. Выдавливал из себя по капле. У него, ты посмотри, проверь, даже дворяне, аристократы предков не очень, кажется, поминают, не обсуждают. Это Пушкину они были важны, он жил в истории. Безродным разночинцам хватает ближнего времени. Космополитам без роду и племени, как стали выражаться когда-то. Нельзя не признать. Попробовал бы не признать…
Поправил опять нижний протез, для этого пришлось его вынуть совсем — никак не становился на место. Нос в лиловых прожилках, седые волосы из ноздрей с корочками засохшей слизи.
— Тебе повезло, скажи спасибо папе, что родил тебя не раньше. Ты смог не застать нашего времени, нашего страха. Знаешь, что это такое?.. И не надо. Дети родителей не расспрашивают и правильно делают. Лучше остаться голубоглазым, как ты. Молодец…
Стряхнул с моего лацкана хлебную крошку. Я благодарил, пьяная невнятица растворялась в банкетном шуме. Мне было хорошо. Оба мы были хороши. Завершалось застолье, все понемногу покидали зал, кто-то подходил на прощанье облобызаться, что-то говорил. Мы стояли посреди громадного, толстостенного, не по человеческой мерке, пространства, воробьи летали под сводами, садились на колосья снопов в руках дородных тружениц, между ними сновали в воздухе черные официанты, изгибались, лавировали, ухитрялись поддерживать равновесие. На длинных столах, на скатертях, в тарелках, среди пятен пролитого вина, среди окурков и кучек пепла догнивали остатки пиршества. Поодаль отец завершал финансовые выяснения с метрдотелем, извлекал из пухлого бумажника деньги, слюнявил палец.
— Вот человек, — показал на него Ласкин. — Через него ты мог бы ощутить связь с этим миром, с этим временем. Не мозгами, а всем, что в тебе есть, понимаешь? Кишками, яйцами, всем. Он умел бояться, успел узнать, что это такое. Но тебе лучше не надо. Не слушай меня…
Подошел отец, они долго, пьяно прощались. Ласкин потом еще писал мне из Ленинграда, обсуждал тему докторской. Ненадолго наведался в Москву, встретиться с ним удалось только перед его отъездом, за столиком вокзального ресторана. Стал говорить о диссертации, опять как-то странно, мысль от меня ускользала. Чехов и Серебряный век, чем не тема? Гуманизм, позитивизм, религиозная философия. Вот уж что у Чехова искать бесполезно. У него попы озабочены больше обрядами, чем религией. Но уж обряды описаны со знанием дела. Ничего иррационального, это Шестов, кажется, заметил? Чужой для их компании…
Кажется, уже в тот раз, за столиком, он упомянул неизвестного мне Богданова: вот кто был бы тебе действительно близок. Не уверен, память может присочинить. Продолжения тогда не последовало, Ласкин вскоре исчез. Потом я окольно узнал, что он уехал вслед за своей пожилой дочерью в Израиль, ничего о нем долго не знал, не вспоминал. Вряд ли еще жив. Один из людей, ушедших куда-то, исчезнувших из моей жизни вместе с вычеркнутыми адресами, телефонными номерами, фамилиями в записной книжке, да и с самими растрепанными, рассыпающимися книжками ушедшего времени. Времени, когда еще не было Интернета и автора, не попавшего в электронную сеть, надо было, как прежде, искать по картотечным коробкам. Но в библиотеки я уже перестал ходить. И потом, когда начал осваивать Интернет, не сразу пришло на ум поискать там фамилию Ласкин. Нашелся знаменитый юморист, поэт-песенник, какой-то генерал-лейтенант, участник обороны Крыма, врач, создатель антираковой диеты. Профессор, специалист по Чехову не попадался.
Пока мне случайно не подвернулся сборник стенограмм — документ послевоенных идеологических шабашей. Ленинградский университет, апрель 1949-го, ученый совет филологического факультета, открытое заседание. В именном указателе обнаружилась фамилия Ласкин. (В скобках: Лифшиц — как же, начиналась тогдашняя охота — разоблачать псевдонимы.) Ласкин-Лифшиц, безродный космополит, пытается навязать нам отрыжку формализма вместе с теорией единого потока. Сопоставлять идеи нашего гиганта Чехова с провинциальной философией литературного карлика Богданова значит игнорировать ленинское положение о двух культурах, которые имеются в каждой национальной литературе и находятся в непримиримой и ожесточенной борьбе. Да, товарищи, я должен признать, что элемент формализма и провинциальной философии в некоторых моих работах является идеализмом, а это есть проникновение в идеологию советского ученого, каким я себя считаю, несоветского элемента мысли. Для меня, товарищи, не является секретом, что несоветский — значит вредный, а вредный — значит враждебный. Я отдаю себе отчет, что формализм — оборотная сторона космополитизма… Полуграмотное словоблудие палачей, демонстративный идиотизм жертв, и этого все еще мало, еще продолжается на многих страницах. Кто такой этот Богданов, что за провинциальная философия? Страх, смертный страх, ужас, только унижение давало шанс уцелеть и потом доживать, так и не избавившись от стыда.
18
В чем профессор был не совсем прав, прелести упомянутых им времен не совсем меня обошли, успел кое-что застать. Вспомнить хотя бы, как мерзко меня провалили на собеседовании в университет. Золотой медалист, вправе был поступать без экзаменов. На все вопросы отвечал прилично, но для таких, как я, предусмотрены были откровенно убойные. Расскажите, что говорилось о задачах советской литературы в постановлении ЦК не важно какого года? Безликие лица, скука откровенного издевательства. Попробовал бы пересказать (в тогдашней неразборчивой памяти задерживался и не такой мусор), потребовали бы процитировать наизусть. Известное дело. От разных людей потом приходилось слышать: о своем еврействе не вспомнили бы, если бы не заставили вспомнить. Утешился, ничего. Поступил тут же в пединститут, вернулся туда же преподавателем, там встретил Наташу. А не провалили бы в университет, мы бы с ней и не встретились. Притча на известную тему: нам не дано знать, как беда обернется благом. Другие времена, и беды-то особой не было, толковать можно по-всякому… Почему вдруг стал вспоминать?..
Провинциальные родственники приезжали в Москву за продуктами, из Винницы, из Кисловодска, останавливались у нас, где же еще. Папины старшие сестры, их разросшиеся семейства. Накупали целыми сумками колбасу, апельсины, белый хлеб, у них же там ничего не было. Рая, уже не помню точно степень ее родства, толстенькая, кругленькая, со смешной бараньей завивкой, принесла из магазина полную сумку батонов, отломила себе кусок, потом другой, стала не просто есть — поглощать, уплетать за обе щеки, сначала жадно, потом смакуя, наслаждаясь собственной слюной. Весь батон сразу съела, не удержалась. Сказочный деликатес. Перед праздниками, особенно перед Новым годом, их наезжало одновременно столько, что в доме не хватало раскладушек, постелей, устраивались рядком на полу. Как-то утром я, мальчишка, вышел из своей комнаты, полуголые женщины примеривали одна на другой купленные накануне бюстгальтеры, взвизгнув, нырнули под общее одеяло. Мы еще жили в деревянном доме без удобств, готовили на керосинке, зимой топили печку, я за керосином ходил в дальнюю лавку, мама крутилась у плиты, хлопотала, готовила. (О, это движение, когда она отирала предплечьем пот с раскрасневшегося лица!) И ведь не было ущемленности, жили как все, другой жизни просто не знали. Держалось, оказывается, в памяти, так ясно…
А вечером эти застолья с еврейскими песнями, пьяные неслаженные голоса. Папу однажды уговорили исполнить его коронный, со времен их общей семейной жизни, номер. Монолог из неизвестного мне спектакля, возвышенный пафос: «Вот жизнь моя, возьми, и мы в расчете». Репертуар провинциального довоенного театра, трагикомический надрыв, мечтания об актерстве. Была, помнится, фотография тех лет, на ней юноша в белых жениховских брюках, белой рубашке… не сохранилась, ни одной довоенной не сохранилось, вот ведь беда, взглянуть бы на нее сейчас! Я аплодировал вместе со всеми, но меня папа, наверное, в самом деле немного смущался. Я для него был особенный, не как все. Перед родственниками они с мамой, конечно, гордились таким образованным сыном. Кончил не только институт, но даже аспирантуру. В том, что я должен был получить высшее образование, сомнения у них не было, для этого оба трудились. Папа на обувной фабрике, специалист по кожам, мама простая кассирша. (А впрочем, не совсем простая, одно время была театральной, я был обеспечен билетами, другим недоступными. Хотя особенным театралом не стал. Зато за эти билеты можно было получить книги, тоже по тем временам дефицитные.) Больше всего оба хотели, чтобы ребенок стал врачом. Все-таки более понятная профессия, и главное, потом самим будет у кого лечиться. (О, это местечковое киндэлэ, не было слова ласковей!) Пришлось смириться с литературным выбором. Не удалось сделать из ребенка и скрипача — легендарная еврейская мечта. Даже купили мне маленькую скрипку, четвертушку… надо же, было. Я не успел извлечь из нее ни звука, сразу испортил смычок. Стал крутить какую-то ручку, развинчивать, пучок белых волос расслабился, высвободился, заправить его не удалось. Папа сумел вернуть его потом в магазин вместе со скрипкой…
Я сидел за кухонным столом, рассеянно шевелил вилкой остывшие макароны. С чего в самом деле опять стал вспоминать?.. Про всех этих родственников я давно ничего не знал и не интересовался. Связь с ними совсем потерялась, ни телефонов, ни адресов. Старшие, которых успел застать, должно быть, поумирали, те, кто с тех пор народились, скорей всего, переместились в Израиль из своих Кисловодска и Винницы. Уже после папиной смерти неожиданно обнаружилось, что у меня были совсем неизвестные мне родственники. На похоронах ко мне подошла пожилая незнакомая женщина: вы сын Ефима Семеновича? Никогда вас не видела. Я хочу вам сказать, что он когда-то спас мою маму от голода и меня вместе с ней. В 49-м он устроил ее к себе на фабрику. Ее тогда бы никто никуда не взял. Моего папу тогда посадили, дядю расстреляли, имена были известные. Он сам рисковал, это было тогда опасно, такие родственники… Я слушал, мысли были заняты похоронными заботами, не смог достаточно быстро сосредоточиться. Сумел только проговорить рассеянно: надо же, я этого не знал. Я и сама не знала, сказала женщина. Совсем недавно прочла у мамы в воспоминаниях. Она хотела Ефиму Семеновичу написать, не было адреса, так и не успела. А я вот приехала, вдруг случайно услышала, что ваш папа умер. И надо же, застала…
Когда мы возвращались с кладбища, женщина оказалась со мной в автобусе, попросила Наташу уступить ей место рядом со мной. Та глянула на нее оценивающе: немолодая, носатая, некрасивая — пересела. В автобусе с задыхающимся натужно мотором я услышал историю, из которой следовало, что эта женщина была моей не такой уж дальней родственницей. У дедушки, которого я совсем не знал, папиного отца, был старший брат, купец первой гильдии, он жил, надо понимать, в столице, с местечковыми бедными родственниками не знался. Дети его стали революционерами-большевиками. Двоих, как водится, в тридцать седьмом расстреляли, третий уже после войны получил пятнадцать лет. Эта женщина была его дочерью. Ее мать сумела ареста избежать, в Москве долго не задержалась, стало опасно, дочь пристроила на время у чужих людей, под чужой фамилией. О том, что муж до освобождения не дожил, мама узнала уже в конце пятидесятых. Тогда же вернула себе дочь, получила вместе с реабилитацией квартиру в подмосковной Пахре. У нас дома вместе с провинциальными родственниками почему-то никогда не появлялась, я ее, во всяком случае, не знал…
Дальнейшего она рассказать не успела, автобус довез нас до дома, пришлось попрощаться. На поминки женщина не осталась, у нее были билеты на самолет. Куда? В Хайфу. А вы не собираетесь уезжать?.. Я почему-то не спросил у нее ни адреса, ни телефона. Слишком был закручен хлопотами. Появилась и исчезла…
Одна из закрытых от меня историй, и ведь, может быть, не единственная. Рискованных тем при мне у нас дома не обсуждали. Про неизвестных родственников папа не рассказывал мне, даже когда это стало безопасно. Считал, похоже, что некоторых вещей ребенку вообще лучше не знать. Запретил, помнится, мне, семилетнему, рисовать на листках профиль Сталина, у меня получалось очень похоже. Еще было откуда срисовывать. Без объяснений, просто запретил. Никогда этого не делай. До понимания доходило потом без него, запоздало…
Вспомнилось, как меня привлекал и пугал страшный шрам на его бедре, когда я ребенком ходил с папой в баню. Выпирающее багровое мясо в мертвых прожилках. Военная рана. Про войну он рассказывать не любил, я не очень спрашивал. А потом и в баню вместе не нужно стало ходить, появилась квартира с горячей водой, еще время спустя мы разъехались, отдалялись все больше. До некоторых вопросов детям надо сначала самим дорасти. А с какого-то возраста они родителей перестают спрашивать. Те, может, и хотели бы что-то рассказать сами, да стесняются, и нет случая. А там уже и не могут…
Недоразумение ли с зачетом так странно разбередило вдруг память, мерзкое ли происшествие на эскалаторе? Сколько таких было. Плевок в тебя не попал и не тебе был предназначен… незачем перебирать. Эти хамские рожи были скорей уже поводом — нарушилось душевное равновесие. Возвращались, оживали воспоминания. Папу увозили в больницу с последним инсультом, я подхватил носилки вместе с единственным санитаром, врач помогать отказался. На одном из лестничных поворотов носилки неловко наклонились, папа чуть с них не вывалился, я едва успел выровнять. Потом представлял, как он бы упал на лестницу, виноват был бы я. Нес, смотрел сверху на его запрокинутое лицо. Оно было совсем белое, взгляд с носилок мучительно искал меня — все время казалось, что губы пробуют шевельнуться. Хотел мне что-то сказать напоследок — не сумел. Не получилось. Долго меня не отпускало это видение…
19
Телефонный звонок раздался, когда я уже наливал себе последнюю рюмку, больше в бутылке не оставалось. Успел опрокинуть ее наскоро, по пути к телефону, с мыслью: вдруг это Наташа?
Звонил Монин, Евгений Львович. Вот уж чего я не ожидал, никогда еще ректор не звонил мне домой. Но еще неожиданней было услышать, что ему, оказывается, звонил мой студент, Роман Тольц. Монин назвал его по имени: Рома.
— Что у вас с ним произошло? Мальчик не знает, как извиниться перед вами. Говорит, его нечаянно занесло, стал нести вам какую-то глупость, сам чего-то не понимает…
Однако, оценил я сквозь начинавшийся в голове шумок, само начало разговора казалось хмельным. Студент звонит домой ректору, просит за него объясниться перед преподавателем за проваленный зачет. Мальчик… это какие же у них могли быть отношения? Спрашивать, конечно, не стал, не настолько был пьян.
— А что он свой реферат скачал не знаю откуда — про это он вам сказал?
— Да, да, — в голосе ректора слышалось смущение. — Рома клянется, что это его собственная работа, тут какое-то недоразумение. Я ему не могу не верить. Он просто был сбит с толку, не понимал, почему получился такой разговор. Знаете, молодые люди иногда начинают кривляться от неловкости, против желания, мы их не всегда понимаем.
— Ах от неловкости. — Хмель позволял мне быть раскованным даже в разговоре с ректором. И почему это, интересно, он не может не верить мальчику? — Но он вам сказал, что точно такая же работа оказалась еще у одного студента?
На другом конце провода задержалось молчание.
— Нет, — после паузы проговорил Монин. — Этого он не говорил. Точно такая же? И у кого? Кто этот второй?
— Не второй, а первый. Пашкин. Станислав Пашкин, вы его тоже, возможно, знаете.
— Пашкин? — В трубке слышалось озадаченное сопение. — Как же не знать? Пашкин. Нет, Рома мне не сказал. Тут что-то не то. Это мне совсем не нравится.
— Ваш Рома, между прочим, даже не поинтересовался, кто принес мне этот второй реферат. Как будто сам знал. Или догадался. Если не из Интернета — значит, кто-то у кого-то списал? Вопрос, кто у кого?
— Да, да… Не понимаю. Не понимаю. Рома бы этого не мог… Он немного не от мира сего, но честолюбия не лишен. Его преподаватель говорил мне, что Рома решает задачи для третьего курса, вообще залезает в области, о которых с ними еще не говорят. Выдал неожиданную курсовую, что-то о системах, построенных на нечеткой логике. Я тут, правда, не специалист…
— Ну, для меня это тем более китайская грамота. Вы почему-то называете его по имени? — не удержался я от вопроса.
— Вас это удивляет… я понимаю. — Смутил все-таки ректора. — Действительно, я этого мальчика знаю с детства. Мы когда-то были близки с его семьей. С отцом, Павлом, работали в тогдашнем НИИ, его жена была моей аспиранткой. Тогда они еще не были женаты, совсем молодые. Я с ними даже как-то сходил на байдарках, сам был еще ничего. Потом появился Рома. Отец ушел в бизнес, одно время довольно успешный… сейчас оба за границей, в Лондоне, и отец и мать. Не совсем, как бы это сказать, по доброй воле, у них в Москве начались проблемы… юридические, деловые. Причем как раз с Пашкиным, с отцом нашего студента. Тут кое-что надо, наверное, объяснить. У них одно время был общий бизнес. Известная история, она обсуждалась даже по телевидению, не так давно, вы не видели?
— Я не смотрю телевизор.
— Да, конечно… я понимаю. Эти дети, студенты, не совсем случайно оказались в одной компании. Но это не телефонный разговор, это я, может, вам расскажу при встрече. Рома четвертый месяц живет один. Родители вынуждены были в Лондоне задержаться. Хотели взять его с собой, там можно бы и учиться, с языком у мальчика нет проблем. Но он предпочел остаться в Москве, поступил в наш университет. Знаете, в этом возрасте хочется пожить самостоятельно. А тут еще разные личные отношения.
— Романтические, — вставил я.
— О, вы и это знаете. Да, да, и это, я немного в курсе. Вот почему мне так не нравится тут что-то… Знаете, он так трогательно про вас говорил.
— Кто, Рома?
— Да. Я почувствовал, что ему очень хотелось бы с вами объясниться, досказать что-то. Ему показалось, что с вами можно поговорить, как не удавалось с родителями. Такой возраст. Он очень переживает.
Ректор, что называется, нашел, чем меня окончательно купить. Пусть кое-что присочинил от себя — сумел польстить самолюбию.
— Ладно, — сказал я, уже размягченный, — не будем создавать проблему. Я в ведомости писать ничего не стал, чтобы потом не исправлять. По старой привычке. Пусть принесет мне зачетку, поставлю ему свой автограф.
— Нет, нет, зачем же так, — смутился Евгений Львович. — Он готов приехать к вам с новым рефератом хоть завтра.
— Завтра, с новым? — Казалось, я уже успел протрезветь, не хотелось бы. — Зачем так спешно?
— Неожиданные семейные обстоятельства, ему вдруг срочно понадобилось уехать. Я потому и позволил себе звонить вам. От родителей пришло послание, буквально сегодня, потребовали к себе. Не знаю, что у них там случилось. Какие-то экзамены можно перенести, не проблема, но этот зачет он хотел бы пересдать вам сразу. Почему-то для него это важно… вы извините.
— Значит, опять ехать в университет? — Я позволил себе недовольную интонацию. — У меня сейчас нет машины, жена уехала на ней.
— Он сказал, что готов приехать к вам, куда скажете. Если вам удобно, домой.
— Домой?
— Если вы не против. Как в добрые старые времена.
Что-то во всем этом было для меня странно. Но отговариваться было нечем. Оставалось только согласиться — не стоило растягивать зависшую неясность. Продиктовал Евгению Львовичу подробный адрес, назначил на одиннадцать часов, просил не опаздывать — хоть на этот раз…
Я положил трубку — и лишь тут сообразил, что не задал ему самого естественного вопроса: закончится ли моя работа в университете вместе с этим нелепым перезачетом, продолжатся ли наши отношения дальше. А ведь с каких романтических грез начиналось! За весь семестр мы встречались с ректором раза два-три в главном здании, на ходу, перемолвились парой слов. Он говорил, что хочет посетить мои занятия. Времени, должно быть, не нашлось.
Знакомое чувство, что говорили опять не о том. Мы оба тогда не представляли, насколько действительно не о том, — кое-что еще предстояло понять.
20
Слова Монина о каком-то деловом конфликте между родителями студентов меня тогда не очень заинтересовали. Чужие мне люди, и дело по нынешним временам обычное. Телевизор я действительно почти не смотрел, но в интернете новости просматривал, как же их обойти. Бизнес в этих новостях привычно рифмовался с криминалом. Коррупция, передел собственности, судебные процессы, разборки, распилы, откаты — приходилось осваивать словарь времени. Подробности можно было читать, как детектив, удручающе, впрочем, однообразный. Как и попутные разговоры об экономическом, технологическом, научном отставании страны от мира — при благодатных ценах на нефть. Об унизительном чувстве беспомощности, о покорности, вялости, безразличии каждого и всех вместе…
Я проговаривал эти общие места сам с собой, с кем же еще? Не со студентами же было обсуждать, не мой предмет. Однажды, впрочем, подвернулся повод коснуться близкой темы. В феврале это было или в марте, я, выходя из метро, увидел, как неподалеку от памятника Пушкину собирались группы приезжих школьников, лет четырнадцати-семнадцати. В белых и красных накидках с портретом Путина на спине, поверх него лозунг «Своего не отдадим!». Над головами плакатики с названиями городов: Воронеж, Курск, Тамбов. Усталые, скучающие лица, покрасневшие от холода носы. Свезли на какую-то политическую акцию. «Сейчас организованной колонной перейдем на другую сторону», — провозглашал через мегафон старший. Недешево, надо полагать, стоила эта экипировка, переезд из разных городов на автобусах, питание, размещение. Натаскивают, подумал я, новых конформистов, как прежде нас, комсомольцев. Теперь они назывались «Наши»…
И вдруг вспомнил: «нашими» в романе Достоевского названы были те самые бесы, будущие террористы, почитатели Петра Верховенского, из которых тот набирал свою тайную организацию. «Бесы», глава седьмая, «У наших». Тем, кто придумывал для прокремлевской тусовки такое название, не пришло в голову, какие оно может вызвать ассоциации (при парадоксальной перемене знаков.) Достоевского они явно не читали.
На одном из занятий я решил поговорить об исторической памяти, которая бывает закреплена в словах, о том, как смысл слов может меняться со временем, как многого по-настоящему не понять, не почувствовать в языке, в жизни, в культуре, если не знать собственной истории. Но едва я начал рассказывать о своем уличном впечатлении, как один из студентов оживился: нас на такие митинги тоже возили. Тоже был раньше «нашистом». Аккуратно стриженный, в очках без оправы, с узким галстуком. Смирнов. Почему-то даже фамилия вызывала мысль о комсомольском работнике. Нет, он потом из движения ушел, политика его не интересовала, но тогда было прикольно. Патрулировали на улицах, разгоняли какие-то сходки. «Бесов», разумеется, ни он, никто другой не читал, только про них слышали. Пришлось на ходу скорректировать поворот разговора, на понимание рассчитывать не стоило, и не ввязываться же было в дискуссию. Слишком много пришлось бы объяснять. Другой опыт, другое восприятие, эти молодые люди вписались в предложенную жизнь, где лозунги касаются тебя не ближе, чем временные накидки, обходятся без проблем.
И мне ли было им говорить об исторической памяти? — засомневался я вдруг, задумчиво продолжая сидеть после звонка Монина возле телефона. Как-то совпало: события дня, ожившие воспоминания, непривычные, неуютные мысли о том, что даже близкой семейной историей я, в сущности, не интересовался. Не говоря о каком-то дедушкином брате, купце первой гильдии, его расстрелянных детях, большевиках-революционерах. Заведомо мне чужих. А ведь по роду занятий я просто не мог обходиться без этого самого исторического контекста, литературных соответствий, генеалогий, культурных, мифологических перекличек — и неплохо в них ориентировался, умел теоретизировать. Мог в своем интересе не сомневаться… Правда вот, Чехов, вспомнил я снова, действительно задушевная, можно сказать, моя тема, без историй и генеалогий действительно обходился, Ласкин не зря это заметил. Может, сам выбор оказался не совсем случайным. Профессор, правда, не упускал случая намекнуть, что чего-то я в Чехове не сумел уловить, одолеть, мимоходом поминал какого-то Богданова: вот кто был бы тебе ближе…
Я ведь потом, пусть и не сразу, этим Богдановым успел поинтересоваться, разыскал две большие статьи о нем Ласкина — и только тогда понял, что окольно про него уже слышал. Этот самый Богданов был выведен под псевдонимом в нашумевшем лет двадцать назад романе, я его тогда пропустил. Потом уже подумал, не использовал ли автор без ссылки давнее открытие не слишком известного профессора. Статьи Ласкина остались не просто забытыми — изъятыми из обихода, для беллетристов ссылки не обязательны. Стоило бы хоть запоздало восстановить справедливость.
Этот Богданов, при жизни почти незамеченный сочинитель, был не просто провинциальным бытописателем, он создал своеобразную и, по уверению Ласкина, незаурядную философию — философию провинциального счастья. Провинция для него означала не географическое понятие, а категорию духовную, способ существования и отношения к жизни, основанной на равновесии, гармонии и повседневных простых заботах. Профессор полагал, что для этого несчастного в жизни человека важно было постоянно переосмысливать, преображать, делать хоть как-то терпимым, приемлемым ужас окружавшей его реальности. А после революции, добавлял он, эти идеи стали для Богданова перекликаться поначалу с не вполне еще угасшей утопией, а затем и с практикой утверждавшегося социализма. (Не это ли неосторожное замечание потом так дорого Ласкину обошлось? — подумал я, помнится, читая.) Чтобы все были счастливы, объяснял в своих сочинениях философ, надо не допускать крайних бедствий, голода, нищеты, но давать людям возможность жить в скромном равенстве, без зависти, без соперничества и не в последнюю очередь с убеждением, что им лучше всех — другим хуже. Отгороженность в пространстве и во времени позволит обходиться без сравнений, без достоверных знаний об остальном мире, как и о собственном прошлом. Доступное каждому счастье — способность осознавать обособленное величие и бесконечность каждого мгновения. Бог в каждой капле и травинке... что-то в таком духе, до самого Богданова я так до сих пор и не добрался, его непереиздававшиеся раритеты надо было где-то искать.
По статьям Ласкина можно было не только понять, но и почувствовать, что все эти идеи провинциальный любомудр подавал в своих текстах с иронией — и воспринимать их следовало не без иронии, она сказывалась и на интонации, стиле самого профессора. Я эти статьи, помнится, именно так и читал — с усмешкой, немного снисходительной. Моим был мир высокой литературы, великих мыслей, движущейся, непостижимой истории… И вот тут, продолжая сидеть у телефона, вдруг подумал: не над собой ли посмеивался? Недаром же стало с некоторых пор навещать чувство, что время ушло, а я остался на месте. Не потому ли, что на самом деле большего не особенно и хотелось? Хватало того, что есть?
Возвращалось то же непонятное, беспричинное беспокойство, разрасталось, требовало опять в чем-то разбираться. Всплывало, ворочалось до сих пор, оказывается, еще не осознанное, недодуманное, неуютное… ни к чему бы…
21
Я уже казался себе совершенно трезвым, когда подошел к окну и лишь тут осознал, что рюмка так и оставалась в руке, забыл поставить. Только отсосать с донышка капли, больше в бутылке не было…
Наверное, это был уже тревожный сигнал, что-то вроде странного приступа, тогда я не понял, принял его за ожившее опьянение. Прежде такого со мной не было. Состояние, когда последней капли достаточно, чтобы уже растворившийся хмель начал проявляться, густеть, растекаться, в голове ли, в пространстве, как прозрачно густели за окном майские сумерки. Я впускал в себя эти сумерки, стоя перед распахнутым окном, свет позади себя не зажигал, слушал, как угасает уличный шум, затихают голоса на детской площадке. Вместо них в воздухе или в мозгу возникало словно гудение майских жуков, воспоминание о временах, когда в эту пору можно было фуражкой сбивать неувертливое, тяжелое тельце, потом подбирать в траве одного, другого, слушать, приложив к уху спичечный коробок, озадаченное корябанье пленников. Теперь майских жуков не стало, детей уводили по домам родители, одним на улице даже днем лучше не оставаться…
Парень в старомодной спортивной куртке, прислонясь плечом к стойке качелей, выискивал взглядом окно в высоком доме напротив. Я вместе с ним угадывал это окно. На полупрозрачной занавеске проявились две нечеткие увеличенные тени, порознь, одна выше другой, они понемногу сближались, сближались и вот соединились в одну… что означало защемившее вдруг чувство, похожее на укол ревности? Был ли я кем-то из этих троих — кем, когда?.. Темнел, угасал воздух, сумерки скрадывали, делали пространство все менее различимым, в нем одно за другим возникали, высвечивались окна — без занавесок ли, закрытые ли шторами, они для меня оказывались одинаково прозрачными, подробности не были уменьшены расстоянием, даже как будто укрупнены.
Люди возвращались с работы в свои раздельные, разгороженные коробки. Засветилась комната, женщина отвела руку от выключателя, поставила на пол сумку. Мужчина вслед за ней внес перед собой объемистую, но, видно, не очень тяжелую коробку, поставил рядом с сумкой. Еще в пиджаке, он стал расслаблять галстук, подняв подбородок, поматывал головой, как лошадь, освобождаясь от хомута. Женщина, ненадолго продемонстрировав белье, прикрылась дверцей шкафа. В соседней комнате светилась скудная настольная лампа, перед ней мальчик, сидя стриженым затылком к окну, ковырял в ухе авторучкой, на столе недоделанные уроки…
Зажигаются, гаснут окна, вечер раскладывает пасьянс… Чьи это вспомнились стихи? Дама в шелковом цветастом халате помахивала растопыренными в воздухе пальцами, создавая ветерок для ногтей, чтобы поскорей просох лак. Карты на скатерти, под абажуром, были разбросаны в беспорядке — не сошлось с первого раза. Дама вышла из комнаты, свет зажегся в соседнем окне, кухонном. Достала из белого шкафчика поднос, поставила на него бутылку, две рюмки. Подумав, сменила бутылку, рюмки заменила бокалами покрупней. Ждала, надо понимать, гостя, не очень пока его себе представляла…
Вечер тасует карты. Валет все никак не приходит. Играла ли где-то музыка, включен ли был громкий приемник или проигрыватель — пространство, насыщенное невидимыми волнами, навязывало ритм хмельному неясному гулу. Король ложится на даму, который раз не на ту. На темных стеклах мерцали отсветы телеэкранов, новости, драки, погони, выбор не так уж велик. За кухонным столом тощий седой мужчина в майке разливал из четвертинки водку по разнокалиберным стаканам, рука у него дрожала, вздрагивала вместе с ней тонкая медленная струя. Двое других, лысинами к окну, облегченно расслабились: не пролил. Явно не сейчас начали, были уже хороши, такие понятные, продолжения можно было не смотреть, столько раз видел. Обитатели бетонных геометрических клеток, отделенные друг от друга непроницаемыми перегородками, разбросанные в пространстве, а то и во времени, ничего друг о друге не знавшие, были в каком-то нездешнем измерении соединены во мне, через меня…
Трепет слабых свечных огоньков, стены растворены в полумраке. Двое топтались в том, что сейчас было для них танцем, он, как умел, она угадывая шаг, чтобы не наступил ей на ногу. Мне бесконечно жаль… Тяжелая виниловая пластинка, узнаваемый, до сих пор трогающий душу напев — можно ли объявлять его примитивным, если так отзывается спустя жизнь? Нет, не простые цифровые порядки, совсем другое. Уже близкое ожидание, неуверенность. Мне бесконечно жаль… Она почему-то вдруг отстранилась, сняла
с себя нетерпеливую руку: нет, нет. Почему нет? Нет, не сегодня. Сегодня я не могу. Ну как же, известное дело, это в юности я мог не понимать. Мне бесконечно жаль твоих несбывшихся мечтаний…
Угасало окно, другое, кому-то завтра надо было в раннюю смену… а вот эти четыре, с розовыми шторами, я уже знал, будут светиться всю ночь, до утра. Подпольный бордель, однажды его даже показывали по телевизору. Назвали адрес, Наташа, ахнув, подозвала смотреть: это же в том доме, напротив… вон там. Полуголые, в эфемерном бельишке, девчонки прикрывались, скорчась, отворачивались от камеры, одна смотрела в нее вызывающе: ну вот я, пяльтесь, если хотите. Милиционеры заполняли, разложив на столе, бумаги, бандерша что-то отвечала невозмутимо. Бумаги — это для камеры, в уме пишем свое. С милицией у них есть чем расплачиваться, вот, переждали, вернулись…
Зажигались, гасли, плыли в ночи вознесенные над землей разномастные окна, растворялись в ней стены. При свете ли розовых ламп, при сдержанных ли ночниках, в темноте ли за ними совершалось одновременно обыденное, привычное, неизбежное, навязанное природой, желанное, по-разному приятное, сладостное, для кого-то докучное, безразличное, как у всех, для кого-то подневольное, омерзительное, как исполнение долга, для кого-то единственное, невыразимое, непередаваемое, другим недоступное, такого ни у кого просто не может быть, впервые, всегда впервые — непостижимое, космическое священнодействие. Клетушки жилья парили в ночи, свободные от принадлежности к домам, как были свободны от времени и пространства видения начинавшейся полудремы. Лег ли я уже спать, не осознав перехода, снилось ли мне, что я продолжаю стоять у окна, вижу, как худощавый, в одних трусах, мужчина укачивает на руках ребенка, мерит шагами комнату?.. Приоткрывшаяся дверь впустила в нее полоску света, заглянула жена. Я на миг остановился, тронул губами лоб… да, горячая, и девочка опять проснулась, я возобновил шаги. Врач сказал, что у нее не простуда, не грипп, жар бывает и не от этого. Она могла увидеть что-то страшное. Может, мультфильм? Ну да, попробовал вспомнить я, как раз недавно был такой, там бедного зверька пропускали через мясорубку. Неосторожно было малышке такое показывать, согласился врач, на некоторых действует. Так она привыкает к жизни, пройдет. У всех проходит… Почему я сразу не вспомнил про смерть мамы? Вот что действительно подействовало на девочку… не хотелось, не позволял себе чего-то вспомнить…
На грани яви и полудремы, одновременно в обоих. Знакомые застекленные полки, ламповый старый приемник, открытый платяной шкаф. Мама, ссутуленная, маленькая, седая, извлекала из него костюмы, пиджаки, брюки, рубашки, передавала мне, я их выкладывал стопками, грудой на стулья, на обеденный стол. Оба не могли решить, что с ними делать, я узнал о благотворительной акции. Родное, усталое, возникшее из небытия лицо, добрые мягкие морщины, полинялый халат разорван под мышкой. Жизнь после похорон. Не стало того, кто носил эти вещи, мне они были малы, даже дотрагиваться невыносимо. (На шелковой серой подкладке ладонь ощутила прохладу неживого остывшего пота…) И вдруг этот непонятный, пугающий взгляд. Вы хотите унести эти вещи? Это для моего сына. Для какого сына? Вот же я, мама. Ты что, перестала меня узнавать?.. Случилось тогда в первый раз, ненадолго, она почти сразу опомнилась, потерла пальцами лоб, сама сумела обернуть недоразумение в шутку, не стоило на нем задерживаться. Но стало повторяться, все тягостней, все болезненней. Смотрела со мной альбом семейных фотографий, вдруг перестала узнавать. Кто это? Папа был совсем не такой, повторяла с нарастающим раздражением. Найди, где папа, мне надо его увидеть. Как будто переставала понимать, что его уже нет, фотографиями я не просто его подменял, они мешали вернуться тому, кого она помнила, не черно-белому, уменьшенному, застывшему. А время спустя соседи увидели дым из маминого окна, вызвали пожарных. Она жгла фотографии в эмалированном тазу, вытаскивала их из альбома, ложкой перемешивала пепел. Переселяться к нам отказывалась, гордо хотела до конца оставаться самостоятельной. Мы ночевали у нее попеременно с Наташей. Да и как было ее взять к себе, в две тесные комнаты, и Соня была еще маленькой? Врач предлагал больницу, но страшно было этих больниц, знали мы их, а мама рвалась вернуться к себе, в родную Улановку, приступы перемежались с просветлениями. Пока я однажды все-таки не уследил за ключами, отлучился совсем ненадолго, она сумела сама открыть дверь. Искать ее пришлось уже через «скорую помощь»… Не вспоминать бы эти странствия по психиатрической преисподней, эти чудовищные запахи, страдальческий голос! Не было… этого не было, не говори мне. Этого не могло быть. И лицо, ставшее неузнаваемым, глаза, ставшие неузнающими, уже насовсем. Я не могу этого помнить. Я не хочу
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg




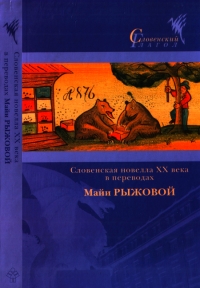






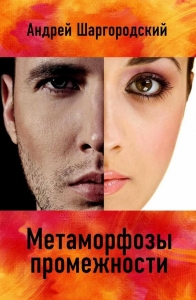
Комментарии к книге «Джокер, или Заглавие в конце», Марк Сергеевич Харитонов
Всего 0 комментариев