Г. Э. Бейтс Дикая вишня
В январе 1973 г. скончался Г. Э. Бейтс, один из самых плодовитых и популярных английских писателей за прошедшие полстолетия. Родился Герберт Эрнест Бейтс в 1905 году и до выхода своего первого романа занимался в провинции журналистикой и работал клерком. После этого он выпускал в среднем по книге в год.
Результатом его службы во время войны в Королевских Военно-Воздушных силах явилось создание рассказов, опубликованных за подписью «Лейтенанта авиации Икса». На основе двух его романов — «Багровая пустыня» и «Милые мая цветы» — были сняты удачные фильмы. Кроме романов, которые переводились на 16 языков, он писал также пьесы и создал множество очерков о сельской жизни. Он жил со своей семьей в Кенте, где в свободное время занимался садоводством и рыбной ловлей и смотрел деревенские состязания по крикету.
Жизнь сельской Англии — и даже сама английская природа — была ведущей темой многих его произведений. Природа в своем богатстве и непреклонности, считал он, оказывает двойственное воздействие на жизнь близких к ней людей. Возможно, те сцены, которые он рисовал, отличаются большой сочностью, но она уравновешивается его земным реализмом.
Прекрасным примером является один из самых известных его рассказов «Дикая вишня», к сожалению, слишком длинный, чтобы поместить его здесь целиком. Но и в первой половине рассказа, опубликованной ниже, читатель может уловить некоторые особые черты, присущие Бейтсу как писателю.
Пока по шоссе, где транспорт двигался в шесть рядов, процессией металлических жуков, ослеплявших днем хромированными глазами, а ночью — добела раскаленными щупальцами света, катились, пересекая долину, машины, наверху, в меловых холмах, на краю голой, беловато-серой, похожей на штольню расселины протекала на свиноферме жизнь Бурменов. Порой, особенно в короткие грязно-темные зимние дни было трудно сказать, кто тут Бурмены, а кто свиньи.
То есть, трудно за одним исключением: миссис Бурмен.
Когда каждое утро, неизменно на час, а то и больше опередив мистера Бурмена и своих пятерых увальней-сыновей, она, выйдя из дома, шлепала по расползавшейся под ногами грязи, миссис Бурмен скорее походила на размашисто шагавшее ободранное огородное пугало, нежели на свинью. Огромные, обляпанные грязью резиновые сапоги скрывали форму ее ног. Обернутое длинным фартуком из мешковины ее тело казалось по-мужски плоским. Широкополая, подвязанная под подбородком шляпа серого фетра и поношенный черный шерстяной шарф настолько заслоняли лицо, что глаза ее казались совершенно бесцветными. И будто и впрямь опасаясь, что оставшись открытою, какая-нибудь часть тела выдаст ее женскую природу, она и зимой и летом, не снимая, носила пару громадных шоферских перчаток, таких черных от грязи и употребления, словно они вечно мокли в навозной жиже.
В этом облачении невозможно было определить ее возраст. Если б не быстрая, упругая походка, ее можно было бы принять за старую ведьму, такую же вечную и несокрушимую, как дуб, из такой же вечной саги, сложенной в незапамятные времена исчезнувшими крестьянами. На самом деле ей было сорок пять. Ее сыновья, хотя и не родились одновременно, в одном помете, так быстро следовали один за другим и теперь, в чудовищном убожестве своем были до того похожи, что в самом деле могли принадлежать к одному помету. Живя среди свиней, они стали похожи на свиней, превратились в сонные, замызганные туши, неуклюже слонявшиеся среди вони и визга свиных хлевов, сараев и загонов.
Некогда на склоне холма располагалась густая треугольная рощица. Из поколения в поколение свиньи подрывали ее, и теперь склон представлял собой сплошное месиво с торчавшими из него пеньками, более всего походившее на поле битвы, усеянное распухшими трупами убитых.
Весной этот уродливый пустырь в семь-восемь акров казался еще уродливее из-за упрямо державшегося там одинокого деревца дикой вишни, высоко вздымавшегося над кургузыми кустами орешника, его покрытые белыми цветами ветви — словно изысканный и никчемный флаг капитуляции, о котором все давно позабыли. На этой развороченной земле постоянно рылось не меньше ста пятидесяти свиней, из которых миссис Бурмен неизменно сама выхаживала и выкармливала двадцать пять-тридцать штук.
Подопечные были для нее второй семьей, отдушиной, средством выражения ее невысказанной любви, но главное — средством получения собственных денег. Из следовавших один за другим пометов она отбирала самых хилых поросят, заморышей, последышей, кормила из бутылочки молоком, держала в тепле, нежила и лелеяла, покуда они не окрепнут и в положенный срок не принесут собственного приплода.
Она регулярно ездила на рынок в старом грузовике с десятком откормленных, стреноженных хряков в кузове и, заключив приличную сделку, в оставшееся время ударялась в странный загул, отправляясь по магазинам, где оставляла большую часть своих денег.
Подобно тому, как, по общему поверью, галки собирают бесполезные для них блестящие предметы, а некоторые женщины — столь же бесполезно прекрасные драгоценности, миссис Бурман втайне собирала наряды: не просто наряды, соответствующие ее классу, и даже не те, в которых можно было обычно ходить или же пощеголять — они предназначались для того, чтобы копить и хранить их в тайне. Да и сами одеяния эти были необычны. С неизменным вкусом она покупала все, от пурпурных гарнитуров нижнего белья до джемперов цвета расплавленного золота, жаркой киновари, изумрудной тропической зелени, от вечерних платьев, ярких, как тюльпаны, до меховых накидок из серебристой норки, от изысканных модных шляп до элегантнейших туфель на высоком каблуке, и в придачу ко всему — соответствующие украшения, пудру, духи. Словно охваченная грубой жаждой, она рвалась из своего совершенно бесцветного существования, хватая роскошные, дорогие, ослепительные вещи.
Как запасливая белка, она отвозила их домой, убирала в спальне в громадный дубовый гардероб, который тотчас же запирала, а ключ носила на бечевке на шее.
Потом каждый вечер, после того, как Бурмен с пятью сыновьями в свою очередь удалялся в шумный загул, во время которого они глушили пиво, играли в лото, метали стрелы в мишень или жрали в кино с девицами рыбу с картофельной соломкой, она сбрасывала мешковину, уходя в свой мир утонченных приключений. Заперев поначалу двери дома, она нагревала трехгаллонную кастрюлю воды и относила наверх. Ванной у них не было, и, наполнив водой большой оцинкованный таз, она раздевалась донага, вставала в таз и принималась мыться.
Не стесняемая более мешковиной, резиновыми сапогами и мятой фетровой шляпой, ее высокая обнаженная фигура представала теперь замечательным откровением. Тяжкий беспрерывный труд придал ей мускулистость, но, вместе с тем, худощавость и гибкость. Ее груди с довольно большими розоватокоричневыми сосками, были так изящны и крепки, что могли бы принадлежать женщине на двадцать лет моложе.
Странного дымчато-оливкового оттенка кожа, чистая и гладкая, была безупречна. Волосы, которых никогда не было видно из-под бесформенной шляпы, разве что в ветреный день, когда шляпа съезжала на о дин-два дюйма, были густого кофейного цвета, без малейшего проблеска седины.
Но как ни поражало все это своей неожиданностью, в ее наготе таилось еще более удивительное открытие. Внезапно выяснялось, что глаза у нее совершенно изумительного цвета: не темно-карие, под цвет волос, а очень чистые, ясные, прозрачно-голубые. Цвет этот придавал ее лицу странное, одновременно невинное и виноватое выражение. Такое, будто она стыдилась того, что делала в то самое время, как получала от этого дивное чувственное наслаждение. Как если бы она украдкой предавалась любви с любовником, которого весь день держала взаперти в потаенном месте, выпуская на ночь разделить с ней втайне волшебный миг чуда.
Когда она в конце концов приступала к одеванию, она делала это неторопливо, медленно и томно переходя от одной стадии к другой, наслаждаясь происходящим так, словно вкушала экзотические яства. Прервав одевание, она своими на удивление тонкими, а благодаря постоянной защите шоферских перчаток и очень холеными пальцами вначале приподнимала и поглаживала груди. Перед тем, как надеть платье — она питала огромную слабость к длинным, расшитым блестками платьям с мягкими, скользящими линиями и широкой юбкой — долго расчесывала волосы. А покончив с этим, еще дольше выбирала, какие надеть серьги, ожерелье и браслеты. И только потом уже шло меховое манто.
Все это занимало часа два. Когда же она в конце концов была в полной готовности, ее, по-видимому, нисколько не смущало, ей никогда не казалось смешным то, что на нее некому посмотреть, что ей некуда идти. Она не испытывала желания, чтобы ее видели, а выйти она могла разве что в залитый грязью свиной загон.
Так продолжалось много-много лет — пока наконец один изумительно теплый апрельский вечер, наступивший после такого дня, когда даже в свином загоне грязь затвердела, покрывшись коркой, будто бурым цементом, необъяснимым образом не заставил ее нарушить давнюю привычку втайне любоваться собой.
Одев легкое летнее платье густого абрикосового цвета с довольно глубоким вырезом и в тон к нему шляпу, перчатки и туфли, она вышла на минутку поглядеть на деревце дикой вишни.
Оно тоже стояло в цвету.
Она простояла минут пять, а то и больше, вдыхая теплый, сухой апрельский воздух, первое сносное дыхание весны, когда вдруг услыхала шум поднимавшейся в гору машины. Бурмен, подумала она, сыновья — и тотчас, в страхе, что ее, словно малого ребенка, застанут за недозволенным делом, одновременно повернулась и побежала к дому.
Не успела она сделать и пяти ярдов, как машина, зеленая «кортина», остановилась, оттуда ее окликнул голос:
— Извините, мадам….
И она невольно, очень резко остановилась, как из-за этого слова «мадам», так и вежливости тона.
Обернувшись, она увидела мужчину примерно своих лет, с непокрытой головой, на висках — легкая седина, который смотрел в окно машины с интересом, выходящим за пределы обычной вежливости. Разглядев ее как следует на этом жалком клочке земли, он полминуты оставался абсолютно нем, а потом медленно, как бы извиняясь, улыбнулся неловкой улыбкой.
— Я напугал вас? Простите, — он засмеялся и опять неловко. — Не могли бы вы подсказать мне, как проехать к Уильямсонам?
Неожиданно до нее дошло, что она, как будто стараясь спрятаться, стоит крепко обхватив себя руками, и резким, деревянным движением опустила руки по швам, так что теперь уже напоминала заводную куклу, которая однако почему-то не действует.
— По-моему, их дом называется «Бичеров дом» или что-то в этом роде.
— Ах, Бичеров. Нет, это не в эту сторону. Это — по следующей дороге. Вон там, подальше.
Она подняла руку, и рука у нее, наверное, со страху, совсем не гнулась, когда она показывала вдоль склона на запад.
— Вот глупость. А я-то думал, что лучше знаю эти края. — Он пристально разглядывал свиные хлевы, сараюшки, загоны, все это невероятное запустение, где под лучами вечернего безмятежного солнца грелись свиньи и подсыхал навоз. — Но здесь вроде кое-что изменилось.
Ее рука упала, как подрубленная. Теперь настал ее черед онеметь — на несколько секунд воцарилось неловкое молчание, потом он произнес:
— Я приходил сюда мальчишкой. За земляникой. — Он провел по воздуху рукой. — Тут было много цветов. Просто тучи — повсюду.
Он запнулся, опять пристально посмотрел на ее не вяжущийся с окружением вид, на абрикосовое платье на безобразном фоне свиней и высоко вздымавшихся, усыпанных белыми цветами ветвей дикой вишни — словно все не веря своим глазам; потом спросил:
— А сами вы тут живете?
— Да.
Искоса, с холодной неприязнью поглядел он на дом под шиферной крышей, где половину шифера заменили ржавым рифленым железом; у одного из его углов, словно для подпорки, были сложены штабелем мешки с кормом для свиней и валялась груда старых железных канистр для горючего.
— Но уж не здесь, и спрашивать нечего.
Инстинктивно, безудержно она стала лгать. В подавленности и смятении, которое она испытывала, не тело, но душу ее охватила дрожь.
— О нет! — сказала она. — О нет!
— Страшно рад это слышать. Как-то не мог представить вас в мире свиней.
К своему удивлению она обнаружила, что залилась нервным смехом, который был отголоском ее охваченной дрожью души.
— О нет! Я живу выше. По ту сторону. Отсюда не видно.
Ее нервозность теперь явно выдавала напряжение, она даже начала стягивать перчатки. Сначала одну, потом вторую. Он не мог не заметить узких холеных рук.
— Ну, теперь я, пожалуй, пойду, — сказала она. — Я как раз собиралась назад.
Долго разглядывал он и вишневое деревце. Его вешняя прелесть являла собой еще одну сторону этого чудовищно несуразного зрелища, и теперь он вдруг увидел, как оно прекрасно. Оно с такой силой напомнило ему о былом, когда все вокруг, еще не тронутое, было так же прекрасно.
— Вы не возражаете, если я немного пройдусь с вами?
Чуть ли не в панике она закусила кончики пальцев своих перчаток. Боясь сказать что-нибудь такое, что могло б ее выдать, ее ум изолировался от ее губ, и то, что она говорила, и впрямь не принадлежало ей.
— Знаете, я жду мужа. Я как раз поджидала его. Он может вернуться в любую минуту.
Неожиданно он заметил, что рассматривает ее явную бесконечную нервозность как своего рода невинность, а то и страх, что он может повести себя неподобающим образом, рассмеялся, на этот раз весело, и сказал:
— О, уверяю вас, я и сам состою в счастливом законном браке.
— Что вы! Я ничего такого не имела в виду.
Тут он вышел из машины, поглядел вверх по склону холма и сказал:
— Это вишневое дерево великолепно.
— Да, неплохо.
— В нем одном — целиком все весна.
— Да.
— Иногда их называют воробьиными вишнями, правда?
— Не знаю. Разве?
Он улыбнулся, на этот раз откровенным оценивающим взглядом, осматривая ее подобранную нарядную фигуру в абрикосовом платье, с перчатками и туфлями в тон, но более всего — неотразимое сочетание темно-каштановых волос и глубоких, ясных синих глаз. Такой великолепный вкус во всем, думал он.
— Не хотите пройтись немного со мной вверх по дороге?
Внезапно ей почудилось, будто она стоит на краю высокого утеса и внизу под ней — одна лишь бездонная пустота; все ее тело до мертвенной белизны твердой хваткой сжало головокружение.
— Пойдем? — сказал он. — Всего-то какая-нибудь сотня ярдов. Обещаю держать руки в карманах.
Она улыбнулась, вдруг почувствовав позыв облегчения. Он мгновенно истолковал это как знак приглашения. В абсолютной невинности этого жеста заключалось ощущение тревожной близости.
— По правде, я и сам не должен задерживаться. Уильямсоны ждут меня к обеду.
Теперь они шагали к вишневому деревцу; под его ветвями; мимо.
— А вообще вы их знаете? Уильямсонов? Уверен, что наверняка.
— Нет, сказала она, не знает она Уильямсонов.
— Я и сам их не видел года четыре, а то и все пять. Работал за границей. В Персидском заливе. Вы и представить себе не можете, что значит вернуться домой. Я хочу сказать, английская весна. Эта вишня… После всей той жары и пыли и… О! Говорю вам, это великолепно.
Время от времени, когда он задавал ей вопрос, она медлила с ответом. Будто сомкнув не только губы, но и глаза, на несколько секунд замыкалась в себе. Смущенная, почти испуганная, она, казалось, становилась совсем другим человеком.
Неизбежно при этом у него создавалось впечатление, что она не то, чем кажется. Сбитый с толку и в то же время заинтригованный, он заметил, что задает такие вопросы, которые прояснили бы ему, что она за человек. Играет ли она в бридж? Уильямсоны, насколько помнится, помешаны на бридже. Путешествует? Часто ездит в Лондон? Как он полагает, она немножко занимается и верховой ездой?
На все его вопросы она отвечала, одинаково смущаясь и запинаясь: нет, она не играет в бридж, никогда не ездит в Лондон, не путешествует, не ездит верхом.
— Ваш муж ведет на ферме хозяйство?
— Да, отвечала она, муж ведет на ферме хозяйство.
— Раньше отсюда было видно море, — вдруг сказал он. Остановившись, он обернулся и посмотрел вниз, поверх свиных хлевов, загонов и развороченной полоски рощицы, туда, где далеко в юго-западной стороне горизонта чудный узкий серпик моря сливался с небом.
— Ах! Вот оно. Бог ты мой, что за потрясающий вид.
Он стоял охваченный восторгом. Стоял гораздо дольше, чем ему представлялось, зачарованный широко разметнувшейся под ним пасторалью, далекой ленточкой моря, белым шатром вишневого цвета. Обнимая все это взглядом, он в то же время старался не замечать омерзительных туш свиней и всего того, что свиньи здесь натворили, осквернив эту некогда чистую страну. То, что ему это никак не удавалось внезапно настолько возмутило его, что он даже разразился бурной тирадой против проклятых вандалов, мерзавцев, выродков, которые сотворили все это. Это совершенно чудовищно, подло, это преступление против общества, если угодно. Разве она не согласна?
Когда он обернулся к ней, вместо ответа его встретила самая долгая из всех ее странных заминок. Ее не оказалось рядом. В течение нескольких минут он чувствовал себя жертвой обмана, первоапрельского розыгрыша, словно она была всего лишь видением, которое и прежде приводило его в замешательство, а теперь и вовсе испарилось.
Потом он вдруг заметил абрикосовое платье футов на тридцать выше по склону, в том месте, где начиналась неоскверненная полоска рощицы, одетой молодою листвой. Казалось, она даже шла так, словно вправду была заблудившимся тут видением, не подозревавшем о его существовании, не желавшим ни слышать, ни видеть его.
— А! Вот вы где. Погодите! — окликнул он. Засмеялся. — На миг вы меня обманули. Я думал, вы ушли…
Но она не остановилась, не обернулась. Он снова окликнул, и тогда, к его полному изумлению, она пустилась бегом, правда, не очень быстро, но с каким-то тревожным дерганьем, натягивая одновременно перчатки.
Он тоже побежал, потом замедлил шаг. И наконец остановился. То, что она надела перчатки, почувствовал он, сообщило окончательность ее странному, мучительному бегству.
Странное — и тоже мучительное желание внезапно охватило его — он знал, что должен опять ее увидеть.
В эту пору своей жизни она неизменно спала одна. Бурмен также имел почти неизменную привычку, возвращаясь домой где-то от одиннадцати до полуночи, не обязательно пьяный, просто отяжелевший от пива, валиться на старую, волосяную кушетку в кухне у печки, где дрыхнул всю ночь. Довольно красивая прежде наружность этого человека — в молодости он был необыкновенный силач и так владел топором, что мог расколоть лучинку с точностью до сантиметра — теперь загрубела, покрывшись, как у свиньи, которая барахтается в собственной грязи, заскорузлой коркой. Того человека, которого она когда-то любила, больше не существовало. Но даже и это было больше не важно.
Причины всего этого тянулись на пять-шесть лет назад. В первые двадцать лет замужества пять родов и три выкидыша держали ее в полном рабстве. Зависимость ее была настолько велика, что ей редко удавалось выбраться отсюда. С рождением каждого ребенка она принимала решение, что это последний, но прежде, чем она успевала вырваться на свободу, оказывалось что она вновь попала в заточение. К сорока она начала так бояться, что жизнь пролетит мимо нее, что приняла отчаянное решение навсегда разорвать узы беременности. К тому же многочисленные пометы свиней обеспечили ей собственный четырехзначный счет в банке. Тогда-то она и решилась впервые, пошла и купила себе кусочек жизни: новое, дорогое, немыслимое платье. По этой же причине она и стала спать одна.
После первой встречи с человеком, который ехал в «кортине», она долго лежала без сна, в чудном, исполненном беспокойства состоянии, напоминавшем блаженную усталость. Все, что случилось там, на склоне холма, у вишневого деревца, врезалось ей в голову так, словно было нанесено мощными, неистовыми ударами резца, звучавшими обвинением. Она поступила крайне неразумно, неверно, сотворила величайшую глупость и еще даже большее предательство, и никогда, никогда не должна повторять этого, твердила она себе. То существо, которое, болтая, разгуливало в безмятежной и пленительной тишине апрельского вечера, — не она. Она чувствовала себя так, словно ее, нагую, застали в какое-то очень интимное мгновение.
В этом настроении, предаваясь самобичеванию, она в конце концов и заснула, забывшись тяжелым сном, от которого пробудилась двумя часами позже обычного, ощутив сильный запах жарящегося бекона. По мере того, как резкий, жирный запах поднимался наверх, она все отчетливее понимала, что ей нездоровится. Странная дурнота, небольшим комком стоящая в горле, не отпускала ее и после того, как, спустившись вниз, она заварила себе крепкого чаю и, принеся наверх, вновь улеглась в постель.
Лишь долгое время спустя она с большей или меньшей четкостью догадалась, в чем дело. Внезапно до нее дошло, что она боится выйти из дома. Просто боится показаться на белый свет. И чем больше думала она об этом, тем крепче сжимала ей горло дурнота.
Был почти что полдень, когда она заставила себя одеться. А одевшись, обнаружила, что предатель-апрель обратил за ночь хрупкую вечернюю идиллию в темный дождливый день, временами хлеставший стальными прутьями дождя, смешанного со снегом.
Поэтому она надела не только бесформенную фетровую шляпу, шарф, фартук и резиновые сапоги, но и напялила сверху громадное старое пальто Бурмена, похожее на темно-синий морской бушлат, с огромным воротником, который, если его поднять, туго застегивался спереди, так что, когда она наконец вышла во двор, добычей дождя стали одни глаза.
— Неважно себя чувствуешь? — спросил Бурмеи.
— От погоды, сказала она. Простыла, наверное.
— Прими аспирин, — сказал Бурмен.
После этой недолгой трогательной беседы она побрела через двор. Вверх по склону холма порывами дул резкий, холодный ветер. Время от времени обрушивались стальные потоки града, несколько минут бушевавшие во мгле, затем солнце ослепительно пронзало мрак сквозь залитый навозом двор.
Какое-то время она бесцельно слонялась по двору под солнцем и ливнем, покуда не вспомнила, что в одном из хлевов ее ждет хилый новорожденный поросенок, заморыш, последыш, которому нужны молоко и забота. Тогда она пошла назад, вскипятила кастрюльку молока, налила в бутылочку с соской и вернулась в хлев покормить его.
Солнце, выглянувшее на этот раз подольше и светившее ярче, соблазнило ее выйти во двор. Она стояла, держа в руках крошечного поросенка, наполовину укрытого огромным пальто, будто в самом деле кормила грудью ребенка.
В этой согбенной материнской позе она вновь напоминала фигуру из древней, далекой саги. Теперь она чувствовала себя спокойнее, боль в горле опала. Потом так же внезапно, как выглянуло солнце, хлынул дождь, вслед за которым белым шквалом налетел град. Почти в тот же миг она услыхала шум поднимавшейся в гору машины.
Стоя в дверях хлева, все еще держа сосавшего соску поросенка, она вдруг увидела, что на дороге, в двадцати ярдах прямо перед ней остановилась машина, та же зеленая «кортина», что и накануне вечером.
— Извините, — снова окликнул из окошка голос. — Извините…
Вновь налетевший белым вихрем град заглушил звуки его голоса, а ей нечего было ему ответить. Вместо ответа она, резко повернувшись, ушла за сарай, где Джордж, третий из ее сыновей, занимался починкой свиного корытца.
— Джордж, там какой-то человек, — спрашивает чего-то — узнай, что ему нужно — коммивояжер, что ли…
Не выпуская из рук молотка и гвоздей, Джордж удалился. Пока он ходил, она чуть ли не в ужасе стояла за хлевом, по-прежнему сжимая в руках поросенка с его бутылкой. Между шквалами града, натянутая, как струна, она, стиснув зубы — дурнота еще туже сдавила ей горло, — вслушивалась в гул голосов, пока, наконец, после долгой, мучительной, леденящей паузы не услыхала, что машина развернулась и уехала.
Возвратившись, Джордж сказал:
— Да болтал про какую-то женщину, будто тут ее видел. Ни пса не разберешь. И какого черта люди суют нос в чужие дела — лезут тут всякие…
После этого несколько дней она провела на ногах, чувствуя себя не то чтоб больной, но словно на грани между легкой дурнотой и настоящим недугом. Даже тайное ежевечернее переодевание не доставляло ей старой привычной радости.
© 1968 г. Издательство «Эвенсфорд Продакшнз». Впервые опубликован издательством «Майкл Джозеф» и «Пенгвин Букс».
Журнал «Англия», 1975, № 1(53).
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg


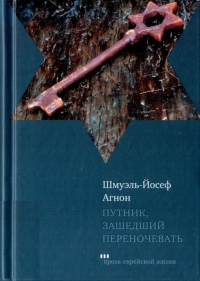
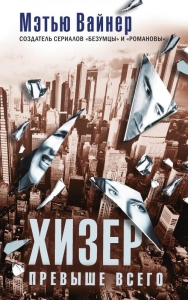

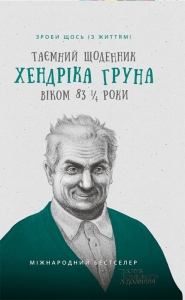
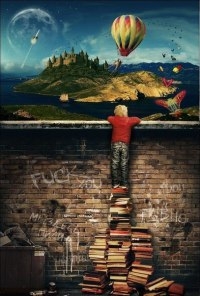
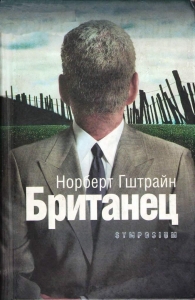



Комментарии к книге «Дикая вишня», Герберт Эрнест Бейтс
Всего 0 комментариев