Том Маккарти Когда я был настоящим
Моим родителям
1
О самой аварии я могу сказать очень немного. Почти ничего. По ходу ее что-то падало с неба. Техника. Детали, части. Вот, на самом деле, и все – большего я разгласить не могу. Негусто, согласен.
Я не то чтобы скромничаю. Так уж оно вышло; начать с того, что я и не помню этого события. Все пусто: белый лист, черная дыра. Остались неясные образы, полувпечатления: меня ударяет, или ударило – или, точнее, вот-вот ударит; синий огонь; прутья; огни других цветов; что-то держит меня над каким-то желобом или днищем. Но кто знает, подлинные ли это воспоминания? Кто знает, вдруг мой травмированный мозг попросту выдумал их, или вытащил откуда-то еще, из другого отсека, и засунул сюда, чтобы заткнуть брешь – воронку, – пробитую аварией? Мозг – штука гибкая и коварная. Готовая на любые авантюры.
Да еще это требование. Пункт договора. По условиям настоящего договора, составленного моим адвокатом и сторонами, учреждениями, организациями – назовем их юридическими лицами, – несущими ответственность за случившееся со мной, мне запрещается обсуждать, в любой публичной или доступной для записи форме (этот кусок я помню наизусть), характер и/или подробности данного происшествия под угрозой лишения всех выплаченных мне финансовых компенсаций, включая любой добавочный капитал, наросший (хорошее слово «наросший») в качестве процентов за время пребывания последних в моем распоряжении, – а вполне возможно, сказал мне торжественно-серьезным голосом мой адвокат, и многого другого помимо этого. Чтобы, так сказать, замкнуть цепь.
Договор. Это слово: договор. До-го-вор. Пока я лежал, распластанный, жалкий, растянутый, перевязанный, пока всевозможные трубки и провода что-то закачивали в мое тело, что-то из него высасывали, пока электронные метрономы и меха ускоряли одно, замедляли другое, исполняли на мне свою музыку – гудение и скрежет, пока она текла через мои органы и ни на что не годные внутренности, как морская вода через губку, – все эти месяцы, пока я был в больнице, во мне росло, угнездившись, это слово. Договор. Оно ухитрилось заползти ко мне в кому – наверное, Грег, когда приходил поглазеть на то, что осталось после аварии, говорил со мной на эту тему. Беспространство полного забвения растягивалось и сокращалось в моей потерявшей сознание голове, складываясь в неумолимо подробные формы и картины – главным образом стадионы, беговые дорожки и крикетные поля, над которыми заливался голос комментатора, приглашая меня комментировать вместе с ним, а в репортаж пробиралось это слово: мы обсуждали договор, хотя ни один из нас не знал, что он в себя включает. Много недель спустя, выйдя из комы, распрощавшись с капельницей и перейдя на протертую твердую пищу, я представлял себе середину этого слова, «-го-», всякий раз, когда пытался глотать. Договор стоял у меня поперек горла, еще не успев заткнуть мне его, – это уж точно.
Потом, в те недели, когда я сидел на койке, способный думать и говорить, но пока не в состоянии ничего о себе вспомнить, договор преподносился мне как будущее – крепкое, способное уравновесить мое беспрошлое; как момент, когда я поправлюсь, срастусь в единое целое. Со временем, когда прошлое в основном возвратилось, по частям, подобно предыдущим сериям некой скучноватой мыльной оперы, но ходить я еще не мог, медсестры стали говорить, что договор поставит меня на ноги. Меня навещал Марк Добенэ, сообщал новости о нашем продвижении к договору, а я сидел в гипсе, ожидая приговора: срастутся ли у меня кости. После его ухода я садился и думал про всевозможные наборы и повторы: теннис (сет – шесть геймов), посуда (сервиз – сколько-то там парных чашек и тарелок), театральные репетиции, узоры. Я думал про отдаленные поселения в давние времена, про то, как к притаившейся под враждебными небесами деревушке-форпосту приближается неприятель, высланный на переговоры. Я думал про людей – танцоров, например, или солдат, – затаившихся в ожидании начала какого-то события, словно участники некого заговора.
Позже, много позже договор был заключен. К тому моменту я уже четыре месяца, как вышел из больницы, месяц, как закончил ходить на физиотерапию. Жил я один на окраине Брикстона, в однокомнатной квартире. Не работал. Компания, где я служил до самой аварии, организация, занимавшаяся исследованием рынков, обещала платить мне деньги по больничному до мая. Стоял апрель. Возвращаться на работу мне не хотелось. Мне ничего не хотелось делать. Я ничего не делал. Дни проводил за самыми рутинными занятиями: вставал, умывался, шел в магазин и обратно, читал газеты, сидел у себя в квартире. Иногда смотрел телевизор, но немного – даже это казалось слишком активной деятельностью. Изредка доезжал на метро до Энджела, до офиса Марка Добенэ. А по большей части сидел у себя в квартире и ничего не делал. Мне было тридцать лет.
В день заключения договора одно дело у меня все-таки имелось. Я должен был ехать в аэропорт Хитроу встречать знакомую. Старую знакомую. Она прилетала из Африки. Я как раз собирался выйти из дому, когда зазвонил телефон. Это была секретарша Добенэ. Я снял трубку и услышал:
– «Оланджер и Добенэ». Вам звонят из офиса Марка Добенэ. Соединяю.
– Что? – переспросил я.
– Соединяю.
Помню, я почувствовал головокружение. Вещи, которых я не понимаю, вызывают у меня головокружение. С тех пор, как произошла авария, я научился все делать медленно, осмысливая каждый шаг, каждую составляющую того, что делаю. Не потому, что решил делать все именно так – просто не могу по-другому. Если не понимаю слов, прошу кого-нибудь из своего персонала найти справку. В тот апрельский день, когда позвонила секретарша Добенэ, персонала у меня еще не было, да это в данном случае и не помогло бы. Я не понимал, кого с кем соединяет – Марка Добенэ со мной или меня с ним. Невелика разница, возможно, скажете вы, но у меня голова закружилась от неопределенности. Я уперся рукой в стену гостиной.
Через несколько секунд в трубке раздался голос Добенэ:
– Алло!
– Алло, – ответил я.
– Все, кончено дело!
– Да, это я. До того ваша секретарша нас соединяла. А теперь все, она кончила; это уже я.
– Послушайте, – голос у Добенэ был возбужденный; он не понял, что я только что сказал. – Послушайте: они капитулировали.
– Кто? – спросил я.
– Кто? Они! Другая сторона. Они согласны.
– Ага.
Я все стоял, уперевшись рукой в стену. Стена, помню, была желтая.
– Они предложили нам сделку, – продолжал Добенэ, – на очень выгодных для обеих сторон условиях.
– Какие же это условия?
– С вашей стороны, – объяснил он мне, – нельзя обсуждать аварию в любой публичной или доступной для записи форме. Фактически вы должны забыть о том, что она вообще произошла.
– Я уже забыл. Я и раньше-то про нее ничего не помнил.
Как я уже говорил, это была правда. Последнее мое ясное воспоминание – о том, как меня тряхнуло ветром минут за двадцать до удара.
– Это их не интересует, – сказал Добенэ. – Они не это имеют в виду. Они имеют в виду следующее: вы должны признать, что законных оснований для судебного иска больше не имеется.
Какое-то время я размышлял об этом, а поняв, спросил его:
– Сколько они мне заплатят?
– Восемь с половиной миллионов, – ответил Добенэ.
– Фунтов? – спросил я.
– Фунтов, – повторил Добенэ. – Восемь с половиной миллионов фунтов.
Мне понадобилась еще секунда-другая, чтобы осознать, сколько же это получается денег. Осознав, я убрал руку со стены и резко повернулся к окну. В этом движении было столько силы – хватило, чтобы выдрать телефонный кабель прямо из стены. Выскочил весь узел: кабель, тот его конец с плоской головкой, который подключается, а также корпус разъема, к которому он подключается. Вместе с ним наружу частично вывалилась даже внутренняя проводка, проходящая через стену, вся в крапинку, усеянная рыхлыми, мясистыми кусочками штукатурки.
– Алло? – произнес я.
Бесполезно – связь прервалась. Какое-то время, не знаю, долго ли, я стоял, держа в руке заглохшую трубку и глядя на то, что высыпалось из стены. Картина была довольно омерзительная: что-то, вылезшее из чего-то.
Гудок проезжавшей машины заставил меня опомниться. Я вышел из квартиры и торопливо направился к телефону-автомату, перезвонить Марку Добенэ. Ближайшая будка находилась прямо за углом, на Колдхарбор-лейн. Переходя свою улицу и шагая по той, что пролегала перпендикулярно ей, я размышлял об этой сумме: восемь с половиной миллионов. Я представил ее себе, мысленно обрисовал ее форму. Восьмерка была идеальная, ровная: закругленная фигура, опять и опять переходящая в саму себя. Но вот половина! Зачем они добавили половину? Она, эта половина, олицетворяла для меня хаос: неиспользованный остаток, обломок мусора. Когда моя коленная чашечка, раздробленная при аварии, срослась, внутри остался один крохотный осколок. Врачам не удалось его выудить, и он так и продолжал плавать рядом с костью, ненужный, излишний, вне требований; иногда он застревал между чашечкой и головкой кости, при этом выходил из строя весь сустав, терялась подвижность, воспалялись нервы и мышцы. Помню, как, шагая в тот день по улице, я представлял себе остаток суммы, ее дробную часть – представлял ее себе в виде осколка в колене и хмурился, думая: «Лучше бы просто восемь миллионов».
В остальном же я чувствовал себя как всегда. Мне говорили, что договор поставит меня на ноги, заново вернет к жизни. Однако никакой фундаментальной разницы по сравнению с тем, что было до звонка секретарши Марка Добенэ, я не ощущал. Я осмотрелся, взглянул на небо – оно тоже было обычное, как всегда: обычный весенний день; солнце – правда, не яркое; ни холодно, ни тепло. Пройдя полпути, я миновал свою «Фиесту», припаркованную на улице, и взглянул на ее ободранный сзади левый бок. Примерно за месяц до аварии кто-то врезался в меня и уехал, не остановившись; произошло это в Пекэме. Я собирался починить машину, но после выхода из больницы это представлялось неважным, подобно большинству других вещей, так что часть корпуса позади левого заднего колеса осталась поцарапанной и смятой.
В конце улицы, перпендикулярной моей, я повернул направо и стал переходить дорогу. Неподалеку стоял дом, куда месяцев десять назад, за два месяца до аварии, ворвалась полиция. В операции участвовал вооруженный отряд. Они кого-то разыскивали и, видимо, действовали по наводке. Дом был осажден, улица с обеих сторон оцеплена, снайперы в бронежилетах стояли, укрывшись за машинами и фонарными столбами, наведя винтовки на окна. Тут-то, пересекая участок дороги, превращенный ими на тот короткий промежуток времени в нейтральную полосу, я и сообразил, что телефона Марка Добенэ у меня при себе нет.
Я остановился прямо посередине дороги. Машин не было. Прежде чем отправиться назад, к себе в квартиру, за номером, я на некоторое время задержался – не знаю, надолго ли – на том месте, где проходили линии прицела снайперов. Я вытянул руки ладонями вперед, закрыл глаза и подумал о том запомнившемся мне моменте перед самой аварией, когда меня тряхнуло ветром. От этого воспоминания по телу у меня побежали мурашки, от верха ног к плечам, до самой шеи. Продолжалось это всего мгновение – но пока продолжалось, я чувствовал себя как не-всегда. Я чувствовал себя иначе, чувствовал напряжение – и одновременно спокойствие. Мне очень хорошо запомнилось, как я все это ощущал: как стоял, не двигаясь, вытянув ладони вперед, чувствуя напряжение и спокойствие.
Я вернулся к себе в квартиру – не той дорогой, какой пришел, а той, что проходила параллельно ей. Нашел номер, потом снова отправился в путь по первой улице, перпендикулярной моей. Снова прошел мимо своей машины, ее вмятины. Человек, который в меня врезался, проскочил разметку – знак «Уступи дорогу», а потом уехал. Прямо как сама авария – и там, и здесь виновата была другая сторона. Я снова пересек зону осады. Человека, которого разыскивала полиция, в доме в то время не было. Когда это выяснилось, снайперы вышли из своих укрытий, а обычные полицейские отвязали и собрали желто-черные ленты, которые они натянули поперек улицы, чтобы обозначить запретную территорию. Приди вы на три минуты позже, вам было бы невдомек, что тут что-то произошло. Но что-то произошло. Какое-то свидетельство наверняка осталось – пусть хотя бы в воспоминаниях тех сорока, пятидесяти, шестидесяти прохожих, что остановились посмотреть. Какой-то след всегда остается.
Нас с Добенэ разъединили на полуслове. Я засунул пятьдесят пенсов в аппарат в будке и перезвонил; ответила дежурная. Мы с ней уже встречались, несколько раз. Аккуратная и деловитая, лет тридцати с небольшим, слегка похожая на лошадь.
– «Оланджер и Добенэ». Добрый день.
Я мысленно видел стол, за которым она сидела, кожаные сиденья напротив него, стеклянный кофейный столик. Справа от нее в приемной было низкое окно, выходившее на мощенный булыжником двор.
– Будьте добры, попросите Марка Добенэ.
– Соединяю.
Последовало молчание – не тишина кабинета, а та разновидность молчания, что возникает, когда линия свободна. Образ «Оланджера и Добенэ» в моем воображении померк, вытесненный забранным решеткой фасадом конторы такси прямо за телефонной будкой. «Транспортная компания "Движение", – было написано там. – Аэропорты, вокзалы, легкие, перевозки, любые расстояния». Какой-то человек вкатывал в двери большой автомат для продажи «Кока-колы», медленно наклоняя его, принимая на плечи его тяжесть. Я задумался о том, что в данном контексте означает слово «легкие», и снова почувствовал слабую волну головокружения. «Аэропорты», – гласила надпись на окне. Моя знакомая Кэтрин прибывает в Хитроу через час с небольшим. На линии раздался щелчок, и трубку взяла секретарша Марка Добенэ.
– Офис Марка Добенэ.
Эта женщина была постарше, лет сорока с чем-то. Ее мне тоже приходилось видеть каждый раз, когда посещал Марка Добенэ. Это она звонила мне несколько минут назад. Вид у нее всегда был суровый, аскетический, даже слегка порицающий. Она никогда не улыбалась. Я сообщил ей, как меня зовут, и попросил Марка Добенэ.
– Сейчас попытаюсь набрать, – сказала она. – Нет, к сожалению, у него занято. Он с кем-то разговаривает.
– Да, это он со мной разговаривает. Мы разговаривали, а нас разъединили. Наверное, он мне перезвонить пытается.
– Положите трубку, я скажу ему, чтобы снова попробовал.
– Нет, это бесполезно. У меня телефон сломан – из стенки выскочил. Сломался, пока мы разговаривали. Он наверняка сейчас пытается мне позвонить. Может, вы вмешаетесь, скажете ему?
– Мне придется к нему пройти.
Я слышал, как она положила трубку на бок, затем раздались шаги, голоса, ее и Добенэ, в соседней комнате. «Он вам звонит? – говорил Добенэ. – Но у него же телефон не отвечает. Я последние десять минут пытаюсь прозвониться». Она сказала ему что-то, чего я не разобрал, потом я услышал его шаги, приближающиеся к телефону в ее комнате, потом шорох – это он взял его со стола.
– Это вы опять? – сказал он.
– Нас разъединили, – объяснил я.
Дисплей в окошке аппарата отсчитывал мои деньги и дошел уже до тридцати двух. Верхний тариф. Я порылся в карманах в поисках новых монеток, но вытащил только два двухпенсовика.
– Что вы успели услышать? – спросил Добенэ.
– Цифру. Вы ее не повторите?
– Восемь с половиной миллионов фунтов, – повторил Добенэ. – Вам понятны условия, вступающие в силу в случае вашего согласия на эту сумму?
– Нельзя никому рассказывать?
– Запрещается обсуждать, в любой публичной или доступной для записи форме, характер и/или подробности происшествия.
– Да, я помню, вы мне говорили.
– Иначе вы теряете все, включая любой добавочный капитал, наросший в качестве процентов за время пребывания денег в вашем распоряжении.
– Наросший, ага, – сказал я. – Этот момент я тоже помню. И это обладает юридической силой?
– Вне всякого сомнения. Учитывая статус этих сторон, этих… э-э-э, учреждений, этих… э-э-э…
– Юридических лиц.
– …юридических лиц, – подхватил он, – юридической силой обладает практически все. Я настоятельно рекомендую согласиться. Отказываться – безумие.
– Что я должен сделать? – спросил я его.
– Приходите завтра. Они пришлют документы с курьером вам на подпись. Приходите часам к одиннадцати – к этому времени мы их наверняка уже получим.
Человек, занимавшийся автоматом с «Кока-колой», выкатывал свою пустую тележку из помещения транспортной компании «Движение» обратно на улицу. Там говорилось «Легкие перевозки», а не «легкие», а после запятой – «перевозки». Просто так выглядело, так они расположили слова. Окошко аппарата показывало уже меньше двадцати. Добенэ высказывал мне свои поздравления.
– С чем? – спросил я его.
– Это беспрецедентная сумма. Нешуточное достижение.
– Моей заслуги здесь нет.
– Вы пострадали, – ответил он.
– Это же не то… – сказал я. – То есть я ведь не сам – да и вообще…
И в этот самый момент, опять на полуслове, связь прервалась.
Я вернулся к себе в квартиру взять еще монеток. Вернулся по той же улице, параллельной другой, идущей перпендикулярно моей, потом снова вышел и направился по перпендикулярной, как и прежде: мимо «Фиесты», мимо бывшей зоны осады. На этот раз я опустил две фунтовые монеты. Добенэ, казалось, был удивлен меня услышать.
– По-моему, мы более или менее все обсудили, – сказал он. – Пойдите выпейте шампанского. Увидимся завтра в одиннадцать.
Он повесил трубку. Я почувствовал себя глупо. Зачем было снова ему звонить? Кроме того, мне уже пришло время торопиться в аэропорт, и никакие восемь с половиной миллионов тут были ни при чем. Выйдя из телефонной будки, я представил себе, как самолет Кэтрин летит где-то над Европой, спускается к Ла-Маншу, к Англии. Я в третий раз вернулся к себе в квартиру, все тем же маршрутом, взял куртку и бумажник и, уже добравшись до шиномонтажной мастерской, находившейся на полпути между зоной осады и телефонной будкой, сообразил, что оставил бумажку с номером рейса в кухне.
Я снова повернул назад, но тут же остановился – мне пришло в голову, что, возможно, эта информация мне не нужна: я могу просто посмотреть на табло прилета и узнать, какой рейс прибывает из Хараре. Больше одного в данное конкретное время не будет. Я повернул обратно и зашагал было дальше, как вдруг меня ошарашило: я же не знаю, на какой терминал ехать. Придется все-таки пойти и взять бумажку с подробностями. Однако не успел я сделать и шагу по направлению к дому, как вспомнил, что на ветке Пиккадилли-лайн в вагонах метро вывешены списки авиалиний, где говорится, на какой терминал кому ехать. Я снова развернулся. Двое мужчин, вышедших из кафе рядом с мастерской, смотрели на меня. Я понял, что дергаюсь туда и обратно, как бывает с остановленным видеоизображением на низкокачественной технике. Странное, наверное, было зрелище. Мне сделалось неловко, неудобно. Я решил все-таки сходить за той бумажкой с номером и временем прибытия рейса, однако постоял на тротуаре еще пару секунд, делая вид, будто взвешиваю разные варианты, прежде чем принять решение на этом основании. Я даже задействовал в игре палец, указательный палец правой руки. Это представление было разыграно для двух наблюдавших за мной мужчин, чтобы придать моим движениям подлинность.
Когда я наконец вырвался из этого круга, уже четыре или пять раз проделав один и тот же маршрут – туда по перпендикулярной улице, обратно по параллельной, даже дорогу переходил в одном и том же месте, рядом с тем же мусорным контейнером или сразу за тем же канализационным люком, – когда я наконец повернул налево и двинулся по Колдхарбор-лейн к станции метро «Брикстон», мне пришло в голову, что с этого момента передвигаться по земле мне вообще необязательно. Я был настолько богат, что мог вызвать вертолет, велеть ему приземлиться в Рескин-парке, а если там приземлиться не удастся, пускай зависнет прямо над верхушками крыш, спустит канат и поднимет меня к себе в брюхо, как делают, когда спасают людей в море. И все же я оставался на земле, я пробегал по ней глазами, как слепой пробегает пальцами по шрифту Брайля, сосредоточившись на том, ка́к я по ней прохожу: каждый шаг, то, как сгибаются колени, как размахивают руки. После аварии мне все приходилось делать именно так: сперва осмыслить, потом сделать.
Позже, сидя в метро, я, как бывало со мной всякий раз по пути на метро в Энджел, испытал необходимость представить себе местность, где проезжает несущийся вагон. Не туннели с платформами, а пространство, наземное пространство, Лондон. Я вспомнил, как меня переводили из первой больницы во вторую, месяца через два после аварии, как это было ужасно. Меня положили на спину, и я видел лишь внутренность машины «скорой помощи» перекладины и трубки, кусочек неба. Я чувствовал, что все эти впечатления проходят мимо меня: вид «скорой», петляющей между машинами, выскакивающей на встречную полосу, пролетающей мимо светофоров и перекрестков, и прочее в том же роде. Более того, от неспособности уследить за пространством, которое мы пересекали, меня мутило. Меня даже стошнило в машине. Едучи на метро в Хитроу, я испытывал отголоски того же беспокойства, той же тошноты. Я сдерживал их, размышляя о том, что рельсы соединены с проводами, которые соединены с распределителями и с другими проводами над землей, которые проходят вдоль улиц, связывая нас с ними, мою квартиру с аэропортом, телефонную будку с кабинетом Марка Добенэ. На этих мыслях я сосредотачивался всю дорогу до Хитроу.
Почти всю дорогу. Произошла одна странная вещь. Вам она, может быть, покажется мелочью, но мне – нет. Я ее помню очень четко. На станции «Грин-парк» мне надо было сделать пересадку. На «Грин-парке» для этого надо доехать на эскалаторе почти до самого верхнего уровня, а потом опять спуститься на другом эскалаторе. Наверху, у входа, за турникетами, имелось несколько телефонов-автоматов и большая карта улиц. Меня так потянуло к ним – к их перспективе, к надежде на установление связи, – что я сунул билетик в турникет и прошел по направлению к ним, не успев сообразить, что мне следовало идти не туда, а снова вниз. А тут еще мой билет застрял внутри. Я подозвал служителя, объяснил ему, что произошло, и сказал, что хочу получить свой билет обратно.
– Он внутри, – сказал служитель. – Сейчас я вам открою.
Он вынул из кармана ключ, открыл заслонку, за которой скапливались билеты, и вытащил верхний. Изучил его.
– Этот билет только до этой станции годится.
– Значит, это не мой. Я брал до Хитроу.
– Если вы последний прошли, ваш билет должен быть сверху.
– Я последний прошел, – сказал я ему. – После меня никто не проходил. Но билет этот не мой.
– Если вы последний прошли, значит, ваш, – повторил он.
Билет был не мой. У меня снова закружилась голова.
– Погодите, – сказал служитель.
Он залез в механизм подачи, прикрепленный к верхней половине заслонки, и вытащил оттуда другой билет, застрявший между двумя шестеренками.
– Ваш?
Это был мой. Он отдал мне его. Только вот когда он открывал заслонку, билет коснулся черной смазки, покрывающей шестеренки, и теперь эта смазка попала мне на пальцы.
Я направился обратно к эскалатору, шедшему вниз, но не успел до него дойти, как на глаза мне попались эти ступени – их переустанавливали. Эскалатор обычно представляют себе единым объектом, замкнутым, движущимся браслетом; на самом деле он составлен из множества самостоятельных, отдельных ступеней, сотканных в один гладкий механизм. Сочлененных. Эти были расчленены и валялись в беспорядке в отгороженном углу верхнего вестибюля. Вид у них был беспомощный, словно у выброшенной на берег рыбы. Проходя мимо них, я неотрывно на них глядел. Я глядел на них до того пристально, что шагнул не на тот эскалатор – этот шел вверх, – и меня снова вышвырнуло в вестибюль. Моя рука скользнула по поручню, и черная смазка попала на рукав, запачкав его.
Я и по сей день с фотографической четкостью помню, как стоял в вестибюле, глядя на свой запачканный рукав, на смазку – эту чуждую порядка, докучливую материю, не имеющую никакого уважения к миллионам, не знающую своего места. Моя погибель – материя.
2
После аварии – некоторое время спустя после аварии, после того, как я вышел из комы и кости у меня срослись, – мне пришлось научиться двигаться. Та часть моего мозга, которая отвечает за моторику правой половины тела, была повреждена. Повреждена она была практически безнадежно, поэтому физиотерапевту пришлось осуществить так называемое «перенаправление».
Смысл этой операции в точности соответствует ее названию: перенаправить означает найти новый маршрут, по которому команды будут проходить через мозг. Вроде того, как правительство в принудительном порядке скупает землю у фермеров, чтобы проложить железнодорожные пути, если местность, где проходили старые пути, затопило или смыло насыпь. Физиотерапевту пришлось проложить цепь, передающую команды конечностям и мышцам, через другой участок мозга – неиспользуемый, неразвитой участок, кусок, позволяющий человеку играть в блошки, слушать музыку из чартов или не знаю что.
Чтобы собрать и проложить новую цепь, делают следующее: тебе велят создавать мысленные образы. Простые образы – например, надо представить себе, как подносишь ко рту морковку. Первую неделю или около того морковку тебе не дают да и вообще не просят пошевелить рукой – надо всего лишь представить себе, что ты держишь морковку в правой руке, обхватываешь ее пальцами, а потом поднимаешь, словно рычагом, все предплечье от локтя, пока морковка не дойдет до рта. Тебя заставляют понять, как действует вся эта система: какое сухожилие за что отвечает, как поворачивается каждый сустав, как углы – направленная вверх сила и тяготение борются и уравновешивают друг друга. Если это понять, если снова и снова представить себе эту картину – как ты подносишь морковку ко рту, – в мозгу образуются цепи, которые в конечном счете позволяют тебе выполнить само действие. В этом и состоит идея.
Но само действие, когда приходит его черед, оказывается сложнее, чем ты думал. Оно включает в себя двадцать семь различных маневров. Ты разучивал их, один за другим, в нужном порядке, вникал в механизм каждого, перебирал их в голове, снова, и снова, и снова, целую неделю – ты поднес ко рту тысячу воображаемых морковок или одну воображаемую морковку тысячу раз, что одно и то же. Но вот ты берешь морковку – тебе приносят эту чертову морковку, такую узловатую, грязную, неправильную, какой твоя воображаемая морковка никогда не была, и суют тебе в руки – и ты понимаешь, прямо сразу, как увидел эту хреновину, понимаешь, что ничего не выйдет.
– Давай, – сказал физиотерапевт.
Он положил морковку мне на колени, потом отошел от меня медленно, словно я был карточным домиком, и сел напротив.
Прежде чем ее поднять, мне надо было поднести к ней руку. Я махнул ладонью от запястья вверх, но тут, чтобы донести всю руку до того места, где была морковка, мне потребовалось бы выдвинуть локоть вперед, отталкиваясь от плеча, а этого я еще не умел или не отработал. Я понятия не имел, как это сделать. Под конец я схватил свое предплечье левой рукой и попросту дернул его вперед.
– Жульничаешь, – сказал физиотерапевт, – но ничего. Теперь попробуй морковку поднять.
Я сомкнул пальцы вокруг морковки. Чувство было такое… – в общем, чувство было. Этого хватило, чтобы начать замыкать цепь операции. Она была осязаема – она была весома. Я целую неделю готовился ее поднять; моя рука, мои пальцы, мой перенаправленный мозг представлялись мне активными агентами, а морковка – невещью: пустота, вырезанное пространство, которое мне предстояло ухватить и перенести. Однако эта морковка была активнее меня: как она бугрилась и морщилась, как шевелилась, вся в песке. Она была холодной. Я ухватил ее и перешел к фазе номер два, подъему, но при этом сразу почувствовал всплеск активного вмешательства морковки, от которого нарушалась связь между мозгом и рукой, начинали сокращаться не те мышцы, мускулы отвердевали как раз в тот момент, когда им непременно полагалось расслабиться и растянуться, опорные суставы поворачивались не в ту сторону. Морковка крутнулась, выскользнула и камнем полетела вниз. Тут мне стало ясно, как должен чувствовать себя авиадиспетчер в то мгновение, когда понимает, что самолет вот-вот разобьется, а он никак не может это предотвратить.
– Первая попытка, – сказал врач.
– Хорошо хоть, под ней никто не стоял.
– Давай еще раз.
На то, чтобы все получилось, ушла неделя. Мы вернулись к доске с мелом, включили в схему дополнительные сигналы, которые не включали прежде, потом снова отработали мысленные образы, потом опять взялись за настоящую морковку. Теперь я морковь ненавижу. До сих пор не могу ее есть.
Так было со всем. Со всем, с каждым движением – мне приходилось учиться всему. Мне приходилось сперва вникать в то, как они совершаются, разбивать их на мельчайшие составные части, а потом выполнять. Взять, к примеру, ходьбу – это очень сложно. Один-единственный шаг вперед включает в себя семьдесят пять маневров, и у каждого маневра своя команда. Мне пришлось научиться им всем, всем семидесяти пяти. И если вы думаете: ну и что такого; всем нам однажды приходится учиться ходить, просто тебе пришлось учиться этому дважды, – вы ошибаетесь. Глубоко ошибаетесь. Понимаете, тут вот что: при нормальном течении событий ходить не учишься, как учишься плаванию, французскому и теннису. Берешь и делаешь шаг, не думая о том, как ты его делаешь, – буквально на ходу. Мне же пришлось брать уроки ходьбы. Целых три недели физиотерапевт разрешал мне ходить только под его наблюдением, чтобы у меня не появились дурные привычки: неправильно держать голову, перемещать ногу прежде, чем согнуть колено, и мало ли какие еще. Он напоминал какого-то одержимого инструктора, вроде этих хореографов или тренеров по фигурному катанию из-за бывшего железного занавеса.
– Носок вперед! Вперед, черт побери! Колено, колено! Выше поднимай! – кричал он и стучал кулаком по доске, по своим диаграммам.
Каждое действие – сложная операция, система, и всему этому мне приходилось учиться. Я вникал в них, потом пытался их осуществить. Поначалу, в первые несколько месяцев, я все делал очень медленно.
– Ты учишься, – говорил врач, – и к тому же мышцы у тебя пока еще пластмассовые.
– Пластмассовые?
– Пластмассовые. Твердые. В противоположность гибким. Пройдет время, станут гибкими – податливыми, расслабленными. Гибкие – это хорошо, пластмассовые – плохо.
В конце концов я не только научился выполнять большинство действий, но и вышел на нужный уровень. Почти на нужный – ста процентов прежнего уровня я так и не достиг. Девяноста – да, пожалуй. К апрелю я уже почти вышел на нужный уровень, на свои девяносто. Но о каждом совершаемом движении мне по-прежнему приходилось думать, вникать в него. «Не осмыслишь – не сделаешь», таково было пожизненное наследие аварии – вечно идти в обход.
Спустя примерно неделю после выхода из больницы я пошел в кино со своим приятелем Грегом. Мы пошли в «Ритци» на «Злые улицы» с Робертом Де Ниро. Тут мне показались странными две вещи. Первая – смотреть на движущееся изображение. Как я уже упоминал, память вернулась ко мне в виде движущихся изображений, словно фильм, показываемый по частям, мыльная опера: где-то раз в неделю – одна серия длиной в пять лет. Это было не особенно увлекательно; по сути, это было довольно однообразно. Я лежал в постели и смотрел серии по мере их поступления. Контролировать происходящее я не мог. Это вполне могла бы оказаться другая история, другой набор действий и событий, как бывает, когда в результате путаницы получаешь из проявки не те отпускные фотографии. Я бы все равно не понял, не обратил бы внимания и принял бы их как есть. Когда мы с Грегом смотрели «Злые улицы», я чувствовал себя не менее отстраненно и безразлично – не менее, но и не не более, хотя эти действия и события не имели ко мне никакого отношения.
Что еще меня поразило, когда мы смотрели кино, так это то, насколько совершенен был Роберт Де Ниро. Все его движения, все жесты были совершенными, плавными. Закуривал ли он сигарету, открывал ли дверцу холодильника или просто шел по улице – казалось, будто он выполняет эту операцию идеально, живет ей, сливается с ней, пока не сделается ей, она – им, а промежуток не исчезнет. Я отметил это в беседе с Грегом по дороге обратно ко мне.
– Но ведь герой – неудачник, – сказал Грег. – И остальным героям во всем только мешает.
– Это неважно, – ответил я. – Он все делает естественно. Не искусственно, как я. Он – гибкий. Я – пластмассовый.
– По-моему, пластмассовый как раз он – напечатали на пленке, и все. У тебя, правда, эта штука над глазом, но…
– Я не об этом.
Мне сделали небольшую пластическую операцию, чтобы убрать шрам над правым глазом.
– Я о том, какой он легкий, подвижный. Вливается в свои движения, даже самые простейшие. Холодильники открывает, сигареты закуривает. Ему не надо сперва о них думать, вникать в них. Ему не надо о них думать, потому что он с ними – одно целое. Идеальное. Настоящее. Мои движения все поддельные. Б/у.
– Ты хочешь сказать, какой он крутой. Все кинозвезды крутые. Такими их кино делает.
– Дело не в том, что ты крутой, – сказал я ему. – Дело в том, что ты существуешь. Де Ниро ничего не делал – просто существовал; я теперь так не могу.
Грег остановился посереди тротуара и повернулся ко мне.
– Думаешь, ты раньше мог? Думаешь, я могу? Думаешь, не в кино хоть кто-нибудь так закуривает сигареты или открывает холодильники? Сам подумай: зажигалка, когда ты ей чиркаешь, вспыхивает не сразу, первая струйка дыма попадает тебе в глаза, моргать заставляет; дверцу холодильника заедает, потом она грохочет, молоко расплескивается. Так со всеми происходит. Это закон: все идет черт-те как. Ну какой ты, на фиг, необычный? Ты знаешь, какой?
– Нет. Какой?
– Ты просто более обычный, чем все остальные.
После я долго об этом думал, об этом разговоре. Я решил, что Грег был прав. Я всегда был ненастоящим. Даже до аварии, иди я по улице, прямо, как Де Ниро, куря сигарету, как он, и даже прикурись она с первой попытки, я бы все равно думал: «Вот он я, иду по улице, курю сигарету, как в кино». Понимаете? Б/у. В кино люди так не думают. Они просто занимаются своим делом, настоящим, и ни о чем не думают. Я восстанавливался после аварии, учился двигаться и ходить, вникал в каждое действие, прежде чем его совершить и в результате стал еще более таким, каким и так всегда был, просто к расстоянию между мной и тем, что я делаю, добавился новый слой. Грег был прав, абсолютно прав. Необычным я не был – я был более обычным, чем большинство людей.
Я принялся размышлять о том, в какой период жизни я был наименее искусственным, наименее б/у. Определенно не в детстве – то было худшее время. Постоянно играешь роль, подражаешь другим, глядя на то, что делают они, – и при этом подражаешь плохо. Нет, решил я, это, наверное, было в Париже, за год до аварии. Там я познакомился с Кэтрин. Американка, откуда-то из-под Чикаго, она работала в крупной гуманитарной организации, как-то связанной с общественной деятельностью за или против чего-то там. Ее послали на те же интенсивные языковые курсы, куда послали от работы меня. Странно получается, если подумать: она что, у себя в Иллинойсе не могла выучить французский? Для моей компании, если учесть, что через год им предстояло меня потерять, это было неудачное вложение денег, – но они хоть не заявляли, что делают это ради голодающих детей.
Короче говоря, на этих курсах я и познакомился с Кэтрин. Мы сразу сошлись. На занятиях нас охватывали приступы хихикания. По вечерам мы вместо того, чтобы делать домашние задания, шли куда-нибудь и напивались. Однажды мы нашли весельную лодку, привязанную на набережной Малаке, забрались внутрь, отвязали ее от причала и уже собирались отплыть, гребя руками, но тут подошли какие-то люди и вытурили нас. В другой раз… – в общем, других разов было много. Дело, однако, в том, что, шатаясь вместе с Кэтрин по Парижу, я чувствовал себя менее скованно, чем во все остальные периоды жизни, – был более естественным, лучше вписывался в настоящее. Изнутри, не снаружи; мы словно проникли куда-то под кожу – возможно, города, а может, самой жизни. У меня и впрямь было такое ощущение, будто нам удалась какая-то проделка.
С тех пор мы довольно регулярно переписывались. После аварии с моей стороны, конечно, наступил перерыв, но как только ко мне мне вернулась память, я написал ей и рассказал последние новости. В феврале, как раз когда я выписывался из больницы, она сообщила мне, что ее посылают в Зимбабве и на обратном пути она собирается лететь через Лондон. После этого мы стали писать друг другу чаще. В наших письмах появились сексуальные нотки, чего никогда не было в личном общении. Я начал представлять себе, как занимаюсь с ней сексом. Моя фантазия разработала множество сценариев, по которым у нас все могло бы впервые произойти. Я проигрывал их, разбирал по мелочам, дорабатывал и снова проигрывал.
Один из этих сценариев разворачивался у меня в квартире. Мы стояли в коридоре между кухней и спальней, хотя сюда встревали и кадры Парижа, и Чикаго, которого я никогда не видел: окна пивных в обрамлении небоскребов, каналы, бьющиеся под ветром о желтые стены. Я обычно говорил что-нибудь остроумное, со значением, а Кэтрин отвечала: «Лучше ты мне покажи», или «Так что ж ты мне не покажешь?», или «Ну, давай, показывай», и тут мы начинали целоваться, плавно двигаясь в направлении спальни. В другой версии мы были где-то за городом. Привезя ее туда на своей «Фиесте», я останавливался и парковался у поля или леса. Она у меня обычно стояла в профиль – так она лучше выглядела, курчавые волосы наполовину скрывали щеку. Я подходил к ней поближе, она поворачивалась ко мне, мы целовались, а после, под конец, занимались любовью в «Фиесте» под упоенное чириканье и крики птиц, заполонивших верхушки деревьев.
Правда, эту вторую цепочку я так и не отработал до конца – сколько ни маневрируй, трудно было добиться, чтобы мы оба оказались в машине, не стукнувшись головой и не зацепившись за ремни, которые постоянно свешивались из дверок наружу. И потом, я обычно нервничал по поводу того, где припарковался: не выскочит ли кто-нибудь на скорости из-за поворота, не врежется ли в меня, как тот скрывшийся парень из Пекэма. Да и другой сценарий, тот, что в коридоре: пока мы плавно двигались в направлении спальни, я вспоминал, что рядом с постелью – гора заплесневевших кофейных чашек, а простыни старые и грязные. Или же прямо за окном появлялись соседи, а шторы не были задернуты, и они с улицы начинали разговор, или… в общем, всегда происходило что-то, и в результате эти воображаемые интимные моменты замыкались накоротко, шли ко всем чертям. Фантазии, и те у меня были пластмассовые, несовершенные, ненастоящие.
В день заключения договора, когда Кэтрин прилетела в Лондон, я приехал в аэропорт чуть позже, чем должен был прибыть ее самолет. Взглянув на экраны в зале прилета и поняв, что он уже приземлился, я поспешил к месту, где раздвижные двери отделяют зону таможенного и паспортного контроля от общедоступной части терминала. Облокотившись о перила, я наблюдал за тем, как из этих дверей появляются пассажиры. Это было интересно. Кое-кто из прибывших пассажиров оглядывал лица ожидающих в поисках родственников, но большинство никто не встречал. Эти выходили, изобразив на лице нечто предназначенное для собравшейся толпы, какое-нибудь выражение, приданное лицу за секунду до того, как перед ними раздвинулись двери. Одни пытались показать, что спешат, словно их где-то срочно ждут: мол, они такие важные, что дело требует их постоянного присутствия. Другие казались беззаботными, простодушными и счастливыми, словно не ведали о том, что на них направлены пятьдесят или шестьдесят пар глаз – на них одних, пусть хотя бы на пару секунд. Что, конечно, было не так – в смысле, как они могли не ведать. Полоса между перилами и дверьми походила на подиум, где модели играют разные роли, принимают разные обличья. Облокотившись о перила, я наблюдал этот парад: один персонаж за другим, все до того скованные, условные, фальшивые. Другие люди и вправду походили на меня – просто не знали об этом. К тому же у них не было восьми с половиной миллионов фунтов.
Через некоторое время все эти любительские представления меня утомили, и я решил выпить кофе в маленьком заведении, до которого было рукой подать. Это была кофейня, стилизованная под Сиэттл, где подают не кофе, а кап, латте, мокку. Когда заказываешь, тебе говорят «При-вет!», потом повторяют твой заказ вслух, поправляя слова: не «большой», а «двойной», не «маленький», а «одинарный». Я заказал маленький капучино.
– При-вет! Одинарный кап, – сказал продавец. – На подходе! Бонус-карточка есть?
– Бонус-карточка? – переспросил я.
– Приходите к нам – мы вам каждый раз штампуем чашку, – с этими словами он протянул мне карточку. На ней были нарисованы десять кофейных чашечек. – Когда все десять проштампуем, получаете еще одну чашку бесплатно. И новую карточку.
– Но я здесь не так часто бываю.
– Да у нас повсюду точки. Условия те же самые.
Он проштамповал первую чашку и протянул мне капучино. Как раз в этот момент кто-то окликнул меня по имени, и я обернулся. Это была Кэтрин. Она уже прошла через таможню и все это время, пока я наблюдал за раздвижными дверьми, ждала в кофейне.
– При-вет! – я подошел и обнял ее.
– Я тебе пыталась звонить, – проговорила Кэтрин, когда мы расцепились, – но у тебя телефон не работает.
– Я только что разбогател!
– Ух ты!
– Нет, серьезно. Только что, сегодня.
– Как это?
– Компенсация за аварию.
– Господи! Ну конечно! – она вгляделась в мое лицо. – Даже не скажешь, что ты… а, да, вот же у тебя шрам.
Она провела двумя пальцами левой руки по моему шраму над правым глазом – это из-за него мне делали пластическую операцию. Добравшись до конца дорожки шрама, пальцы остановились. Она отняла их; останься они там еще на секунду, и жест сделался бы двусмысленным.
– Значит, они заплатили?
– Огромную сумму.
– Сколько?
К этому вопросу я не подготовился. Запнувшись на мгновение, я сказал:
– Несколько… в общем, после налогов, расчетов и всего прочего – несколько сотен тысяч.
Возможно, тогда-то между нами и возник какой-то барьер. Врать мне было неудобно, но заставить себя произнести всю сумму я просто не мог. Она казалась такой большой – слишком большой, о такой даже говорить не станешь.
Мы поехали на метро ко мне домой. Сидели мы рядом, но ее профиль был не таким привлекательным, каким рисовался в моих фантазиях, на краю поля и в припаркованной «Фиесте». На щеке у нее была пара прыщиков. Ее грязный, огромный фиолетовый рюкзак, который она поставила между ног, все время падал. Когда мы приехали, телефонная коробка все так же безжизненно валялась на ковре.
– Ого! В нее что, молния ударила? – воскликнула она – и тут же, ахнув, добавила: – Ой! Извини. То есть я не хотела… Я понимаю, это не молния была, только…
– Ничего. Меня это не… То есть я это не воспринимаю как…
Моя фраза тоже повисла в воздухе, и мы остались молча стоять друг напротив друга. В конце концов Кэтрин спросила:
– Можно, я пойду приму ванну?
– Конечно. Я тебе воды наберу. Чаю хочешь?
– Чай! Как это по-английски! Да, хочу.
Пока она принимала ванну, я заварил чай. Подумав, не открыть ли дверь и не принести ли его ей туда, я решил, что не надо, поставил чашку за дверью ванной и через дверь сказал ей, что чай ждет.
– Классно. Qu'est-ce qu'on fait ce soir?
Имелось в виду: что мы делаем сегодня вечером. Она, конечно, сказала это по-французски в попытке напомнить о времени, проведенном нами в Париже, но отвечать по-французски мне не хотелось. К тому же меня слегка вывел из себя этот английский юмор. Естественно, чай – это по-английски; а она чего ожидала?
– Мы встречаемся с моим приятелем Грегом, – ответил я через дверь. – Тут недалеко, в Брикстоне.
Грег был моим лучшим другом. Именно он связал меня с Добенэ, через своего дядю. Жил он в Воксхолле – может, и сейчас живет, кто знает. Мы договорились встретиться в «Догстаре», пабе на другом конце Колдхарбор-лейн. Когда мы с Кэтрин явились, он уже был там, у стойки, ему наливали пинту пива.
– Грег, это Кэтрин – Кэтрин, это Грег.
Грег спросил нас, что мы будем пить. Пиво, сказал я. Кэтрин тоже попросила себе стакан, но сказала, что хочет сначала сходить в туалет, и спросила у Грега, как туда пройти. Объяснив, Грег наблюдал за ней, пока она отходила. Потом повернулся ко мне и спросил:
– Подруга или «подруга»?
– По… – начал было я. – Грег, договор пришел.
– Марк Добенэ провернул?
– Да. Они согласны договориться без суда.
– Сколько?
Оглянувшись, я понизил голос до шепота:
– Больше миллиона фунтов!
В тот момент мы уже направлялись к столику, и у Грега в каждой руке было по пинте. Услышав мои слова, он остановился как вкопанный – так быстро, что немного пива из двух его стаканов пролилось на деревянный пол. Он повернулся ко мне, издал радостный вопль и собрался было обнять меня, но сообразил, что не может, пока в руках у него стаканы. Снова отвернувшись, он заторопился к столику, так и держа руки раскинутыми для объятия. Поставив стаканы на стол, обнял меня.
– Отлично!
Странно это выглядело – вся эта сцена. Было такое ощущение, что у нас не получилось, как надо. Наверное, вышло бы более естественно, если бы он подкинул стаканы в воздух и мы вместе сплясали бы джигу под медленно падающим на нас золотым дождем, или если бы мы были молодыми аристократами из другой эпохи – эдакие невообразимо богатые титулованные лорды – и он лишь спокойно сказал бы: «Недурственно, старина», – перед тем, как перейти к обсуждению охоты на вальдшнепов или какого-нибудь скандала в опере. Но это – это было ни то, ни се. А тут еще мне на локоть попало пиво, когда я качнул стакан на столике.
Вернулась Кэтрин.
– Он тебе уже рассказал свои новости? – спросил ее Грег.
– А то! Нет, это вообще – столько денег!
– Про сумму не распространяйтесь, – сказал я им обоим. – Понимаете, не хочу, чтобы… Я пока еще не…
– Конечно, – ответили они оба.
Грег поднял свой стакан и произнес тост:
– Выпьем! За… короче, за деньги!
Мы чокнулись. Пригубив первый глоток пива, я вспомнил, как Добенэ велел мне пойти выпить шампанского, и повернулся к Грегу и Кэтрин со словами:
– Может, я бутылку шампанского возьму?
Ни тот, ни другая не ответили сразу. Грег сидел, раскинув руки, шевеля губами, словно золотая рыбка. Кэтрин опустила глаза на пол.
– Ого, шампанское! – пробормотала она. – Я, пожалуй, еще не акклиматизировалась в культурном плане. В смысле, после Африки.
Грег внезапно весь переполнился кипучей энергией и жизнерадостно закричал:
– Обязательно! Черт побери! Есть оно у них здесь?
Мы осмотрелись. Народу в пабе было не так уж много.
Тут были потрепанные, с дредами, белые парни в шерстяных свитерах, плюс несколько человек в костюмах, плюс этот странный парень, сидевший в одиночку без выпивки и злобно глядевший на всех остальных.
– Наверное, у них есть шампанское, раз тут народ в костюмах, – сказал я. – Пойду спрошу.
Барменша поначалу не знала, есть или нет. Она исчезла, потом вернулась и сказала, что есть. Наличных у меня не хватило, пришлось выписать чек.
– Я принесу, – сказала она.
Когда я вернулся, Грег проверял, кто ему звонил на мобильный, а Кэтрин смотрела в потолок. Оба тут же сосредоточились на мне.
– Просто невероятно! – воскликнула Кэтрин.
– Да, отлично, молодец, – сказал Грег.
– Марк Добенэ тоже так сказал. А что я сделал? Просто меня ударило этим падающим… в общем, чем-то падающим. Это все ты – вышел на Добенэ. Грег мне адвоката нашел, – объяснил я Кэтрин. – Знаешь, Грег, я тебе должен буду за это какие-нибудь комиссионные заплатить, что-то вроде…
– Нет! Ни в коем случае! – Грег поднял руку и отвернул голову в сторону. – Это все твое. Потрать на себя. Да, кстати, а что ты с ними делать собираешься, с такими деньгами?
– Не знаю, – ответил я. – Не думал пока. Ты бы что сделал?
– Я бы… значит, так, я бы открыл счет у кокаинового дилера. Сказал бы ему: вот тебе ванна, наполнишь ее кокаином, потом через пару дней придешь и добавишь, чтоб опять полная была, потом еще через пару дней опять то же самое. И найди мне девочку с хорошими сиськами, твердыми такими, чтобы с них нюхать можно было.
– Хм-м, – я повернулся к Кэтрин. – А ты что бы сделала?
– Решать тебе, это однозначно, но я бы на твоем месте эти деньги вложила в ресурсный фонд.
– Типа сбережений? – спросил я.
– Нет – ресурсный фонд. Для помощи людям.
– Как эти благонамеренные филантропы в прошлые века?
– Ну, типа того. Только теперь все более современно. Идея такая: зачем посылать людям всякое дерьмо – вместо этого цивилизованный мир инвестирует, чтобы Африка смогла стать автономной, причем это поможет богатым странам сэкономить на будущих выплатах. Типа как эта моя работа на объектах в Зимбабве: главное – поставка материалов, чтобы наладить образование, здравоохранение, жилищное обеспечение, ну и все такое. Когда у них все это появится, они смогут начать переход к стадии, на которой им уже не нужны будут подачки. А эта викторианская модель – замкнутый круг.
– Вечный запас, – не унимался Грег, – волшебный фонтан. И еще велел бы ему найти девочку с задницей, как камень, чтобы можно было нюхать кокс с нее, когда у той первой с сисек надоест.
– Значит, ты считаешь, мне следует вложить деньги в Африку, на их развитие, а не здесь? – спросил я у Кэтрин.
– А что? Все связано между собой. Все как бы в одной и той же общей куче. Рынки ведь все глобальные – а наше сознание, нет, что ли?
– Интересно, – сказал я. Мне представились рельсы, провода, распределители, все связанные между собой. – А что они там вообще делают, в этой Африке?
– Что делают? – переспросила она.
– Ну да. Типа, когда просто обычными делами занимаются. Ну, ходят куда-нибудь, дома сидят, все такое.
– Странный вопрос. Они много разных дел делают, как и здесь. Сейчас, например, в Зимбабве строительство вовсю идет. Куча народу отстраивается.
Как раз в этот момент появилась барменша с шампанским и тремя бокалами. Она спросила меня, открыть ли бутылку.
– Я сам.
Я сомкнул пальцы вокруг пробки, пытаясь прорвать обертку из фольги ногтями. Это оказалось трудно: ногти у меня были недостаточно острые, а фольга – толще, чем я думал.
– Вот, ключи мои возьми, – предложил Грег.
Я сомкнул пальцы вокруг его связки ключей. Кэтрин с Грегом наблюдали за мной. Я снова перенес руку на пробку бутылки шампанского, сделал в фольге надрез, потом ухватил надорванный кончик и начал оттягивать его, медленно снимая фольгу.
– Помочь? – спросила Кэтрин.
– Нет. Я сам могу.
– Конечно, конечно. Я не в том смысле… в общем, понятно.
Я полностью снял фольгу и уже было начал раскручивать проволоку, охватывавшую пробку, но тут сообразил, что у нас еще осталось пиво.
– Сначала это надо прикончить, – сказал я.
Мы с Грегом принялись допивать большими глотками.
– Целым деревням привозят жилищные блоки, – продолжала Кэтрин. – Такие большие полусобранные дома, их на огромных грузовиках доставляют. А потом просто берут и ставят, сколачивают.
– И все прямо вот так подогнаны? – спросил я. – Без сучка, без задоринки?
– Они хорошо спроектированы.
Грег поставил свой стакан и рыгнул.
– В эту субботу вечеринка будет, – сказал он. – Дэвид Симпсон – ты же Дэвида Симпсона знаешь?
Я кивнул. Да, я немного знал его.
– Ну вот, он только что квартиру купил на Плэйто-роуд, это как свернешь с Эйкр-лейн. Всего в двух шагах отсюда. В субботу у него новоселье, и вы приглашены. Вы оба.
– О'кей, – ответил я.
Я проглотил остатки пива и взялся за проволоку на бутылке. Это был каркас из проволоки, какой чистят трубки, вроде тех каркасов под платьями, что носили дамы в восемнадцатом веке. Мне пришлось зажать его между пальцами и покрутить. Справившись с этим, я ухватился пальцами за пробку, но она не поддавалась.
– Дай я попробую, – сказал Грег.
Я передал бутылку ему, однако у него тоже ничего не вышло.
– Надо… – начала было Кэтрин, но тут пробка с хлопком вылетела.
Она пролетела в каком-нибудь полудюйме от моей головы, стукнулась о металлический светильник, приделанный к потолку, и упала на пол.
– Ого! – поразился Грег. – Вот была бы еще авария, не хуже той. В смысле, если б на тебя этот светильник упал.
– Да, пожалуй, – согласился я.
– Так что, окажешь нам честь?
Я разлил шампанское, и мы выпили. Оно было не очень холодным и пахло странно, похоже на кордит. Кэтрин до сих пор жонглировала двумя стаканами, с пивом и с шампанским, поочередно прихлебывая из обоих.
– А можно и то, и другое, – сказал Грег.
– Не понял.
– Жить, как рок-звезда и при этом давать на жилищные проекты в Кении. Денег и на то, и на другое хватит.
– Зимбабве, – поправила его Кэтрин. – Ну да, но это не только жилищные проекты. Жилищное обеспечение – важнейший аспект, но есть еще и образование. И здравоохранение.
– Слышь, – начал Грег, – я тебе не рассказывал про тот случай, когда я с этой рок-группой кокс нюхал? Я с этим…
Он остановился и поднял глаза. Мы с Кэтрин тоже подняли глаза. Остановился Грег потому, что странный тип, сидевший в одиночку, прошаркал к нашему столику и теперь стоял, злобно глядя на нас. Мы посмотрели на него в ответ. Он обвел взглядом нас, одного за другим, потом переключился на столик с бутылкой шампанского, потом – куда-то в пространство. В конце концов он заговорил:
– Куда все девается?
Кэтрин отвернулась от него. Грег спросил:
– Что – куда девается?
Странный тип неопределенно показал на столик с бутылкой:
– Вот это вот.
– Мы это пьем, – ответил Грег. – У каждого из нас есть пищеварительная система.
Странный тип поразмыслил над его словами, прицокнул языком.
– Да нет. Я не только про это. Я про все. Вам-то что, вы про такие вещи не думаете. Ну-ка, налейте мне вот этого вот стакан.
– Нет, – сказал Грег.
Странный тип снова прицокнул языком, развернулся и пошел прочь. В бар потихоньку стекался народ. Заиграла музыка.
– Вам не кажется, что это шампанское пахнет кордитом? – спросил я.
– Чем-чем? – не расслышал Грег.
– Кордитом! – Я повысил голос, перекрикивая музыку.
– Кордитом? – Грег тоже повысил голос. – А кордит чем пахнет?
– Вот этим, – ответил я.
– Да нет, по-моему. Ты лучше послушай: в тот раз мы с друганом – ну, с этим мужиком, моим знакомым, он еще в группе играл, а…
– В какой тот раз? – спросила Кэтрин.
Она уже допила свое шампанское и налила себе еще бокал.
– Когда я с этой рок-группой кокс нюхал, – объяснил ей Грег. – Сели мы все в фургон, поехали на тусовку после концерта. Где-то в Кентиш-тауне, рядом с Чок-фарм. А там… погодите… – он тоже налил себе еще бокал. – А там…
– Подожди, – перебил я. – Допустим, внесу я что-нибудь в этот резервный фонд…
– Ресурсный, – поправила Кэтрин.
– Ну да. А можно мне тогда… То есть, а как я сам буду в это вписываться?
– Вписываться? – не поняла она.
– Да. Какая между мной и всем этим связь? Мне туда ехать надо? А если не обязательно, то можно все равно поехать и понаблюдать?
– А может, тебе девственницу взять с самой твердой задницей, в качестве гарантии, – встрял Грег. – А потом еще одну, с самыми твердыми сиськами, на проценты от вложенного. Тогда каждый раз, как с нее нюхнешь – хлоп! – вот тебе и мгновенная связь.
– Зачем тебе все обязательно видеть? – спросила Кэтрин. – Разве недостаточно знать, что это происходит?
– Нет. Ну, может быть. Но мне надо…
У меня закружилась голова, словно от высоты. Я знал, что́ хочу сказать, но не мог найти правильных слов. Мне хотелось почувствовать какую-нибудь связь с этими африканцами. Я попытался представить себе, как они собирают дома из этих жилищных блоков, или сидят в школах, или просто занимаются тем, чем принято в Африке, – к примеру, ездят на велосипедах или, там, поют. Откуда мне было знать – в Африке я никогда не бывал, как никогда не пробовал кокаина (Грег, впрочем, тоже). Я попытался вообразить себе сетку вокруг Земли, нечто вроде ребристой проволочной клетки, как на бутылке шампанского, с проходящими повсюду параллелями и меридианами. Они должны были связывать одно место с другим, сплетать местность в единую слаженную, связанную сеть, но этот образ у меня затерялся среди разъединенных частей эскалатора, тех, что я видел перед тем на «Грин-парке». Я хотел проникнуться к этим африканцам по-настоящему теплыми чувствами, но не мог. Не то чтобы я испытывал отчуждение или враждебность. Просто чувствовал себя как всегда.
– Короче, вот так, – сказала Кэтрин. – Вот что сделала бы я. Но я это я. Все зависит от того, что, по твоим понятиям, доставит тебе наибольшее, как бы это сказать…
Ее голос постепенно затих. Грег снова встрял со своей историей про кокаин. Потом разговор у них перешел на Африку, куда Грег однажды ездил, на какое-то сафари. Эта тема через некоторое время опять навела их на спор о том, что мне делать с моим новым состоянием; потом они заключили перемирие и снова стали болтать об Африке. В этом духе мы продолжали довольно долго. Наверное, целый вечер, какого черта, непонятно. Разговор шел по кругу, опять и опять возвращаясь к одному и тому же. Вскоре я отключился. Я уже понял, что у меня нет никакого желания ни строить школы в какой-то стране, где я никогда не бывал, ни вести образ жизни, достойный какой-нибудь рок-звезды. «Догстар» заполнялся, музыка становилась все громче и громче, так что Кэтрин с Гретом, чтобы услышать друг друга, ничего не оставалось, как кричать. Они и кричали. Мы взяли еще бутылку шампанского и три стакана пива. Под конец они довольно сильно напились. Я весь вечер чувствовал себя трезвым, как стеклышко.
Мы с Кэтрин распрощались с Грегом на выходе и пошли обратно ко мне. Мне пришлось раздвинуть диван в гостиной, чтобы ей было где спать. Диван оказался устройством сложным, капризным: надо было зацепить одну штуку за другую, не задев при этом третью. Я не стал этого делать перед уходом – намеренно, на тот случай, если дополнительная постель не понадобится. Но она понадобилась. Кэтрин уже начинала меня раздражать. Мне больше нравились ее отсутствие, ее тень.
3
На следующий день я отправился на встречу с Марком Добенэ. Его фирма, как я уже упоминал, находилась в Энджеле. Я ехал туда на метро, стараясь сосредоточиться на местности, лежащей наверху, не выпускать ее из-под контроля.
Подчиненным Добенэ, видимо, сообщили о договоре. Первая, молодая дежурная, похожая на лошадь, впустила меня сразу же, нервно поглядывая на меня, как на заразного. Вторая, секретарша Добенэ, как только я вошел к ней в приемную, поднялась из-за стола и открыла дверь Добенэ, ни на миг не сводя с меня сурового взгляда. Он был воистину порицающим, этот взгляд – как у школьной секретарши, когда тебя вызывают в кабинет директора за какой-нибудь проступок.
Марк Добенэ поднялся на ноги и тепло пожал мне руку.
– Еще раз поздравляю! Колоссальный успех!
Его лицо лучилось, отчего кожа вокруг глаз и на лбу собиралась в морщины. Ему было, наверное, под шестьдесят или немного больше. Он был высокий и худой, с седыми волосами, начесанными на лысеющую макушку. Под пиджаком у него был жилет, а под тем – рубашка в тонкую полоску и галстук. Все как положено. Пожимая мне руку, он не вышел из-за стола. Стол у него был довольно широкий, так что мне пришлось слегка перегнуться через него, чтобы дотянуться своей рукой до его. При этом край стола уперся мне в ногу, и я сосредоточился на том, чтобы удержать равновесие. В конце концов он сел и жестом предложил мне сделать то же самое.
– Что ж! – воскликнул он. – Что ж! – он откинулся в кресле и широко развел руками. – Дело наше разрешено весьма отрадным образом!
– Разрешено?
– Разрешено, – повторил он. – Окончено, завершено, закрыто. Подпишете эти бумаги, и готово. Как только курьер доставит их обратно, средства будут переведены.
Я немного подумал об этом, потом произнес:
– Да, пожалуй, что так. Для вас.
– Как вы сказали?
– Разрешено. Окончено.
Добенэ перебирал какие-то бумаги. Вытащив несколько, он развернул их ко мне со словами:
– Эту подпишите.
Я подписал.
– И эту. И эту, и эту. И вот эту тоже.
Я подписал их все. После того, как он опять собрал и сложил их ровной стопкой, я спросил его:
– А куда все эта средства будут переведены?
– Да, вопрос правильный. Я сегодня утром специально открыл банковский счет. На ваше имя, разумеется.
Просто чтобы обеспечить для них базу. Хранилище, так сказать. Можете, если угодно, закрыть его и все снять, а при желании можете оставить открытым. Я также взял на себя смелость, – продолжал он, опять начав перебирать свои документы, – записать вас на прием к биржевому брокеру.
Он протянул мне папку. На ней золочеными, вычурными, как на именинном пироге, буквами было выведено название «Янгер и Янгер».
– Они – лучшие в своем деле, – объяснил Добенэ. – Абсолютно независимая фирма – и в то же время с большими связями. Держат, так сказать, руку на пульсе. Если решите пойти, вашим вопросом будет заниматься Мэттью Янгер.
– Это который? – спросил я.
– Это сын. Отца зовут Питер, но он уже частично отошел от дел. За время существования фирмы в ней сменились три поколения.
– Значит, они должны называться «Янгер, Янгер и Янгер»?
Добенэ секунду обдумывал мои слова, прежде чем ответить.
– Пожалуй, да.
– Хотя может быть и так: когда появляется самый младший, он становится вторым, а его отец, который был вторым, становится первым, а первый просто отпадает. Тут главное – знать свое положение. Они периодически сменяются.
Несколько секунд Марк Добенэ пристально смотрел на меня. В конце концов он ответил:
– Да. Пожалуй, вы правы.
Фирма «Янгер и Янгер» находилась недалеко от вокзала Виктория. Я доехал туда на метро. Когда я вышел на улицу и очутился перед зданием вокзала, начинался час пик. Мимо меня текла толпа пассажиров, направлявшихся вниз по лестнице в метро. Я постоял там несколько минут, пытаясь сообразить, в какой стороне офис «Янгер и Янгер». Мимо меня потоком двигались спешащие мужчины и женщины в деловых костюмах. Ощущение от этого возникало странное. Через какое-то время я перестал раздумывать, в какой стороне находится офис, и просто остался стоять, ощущая, как они спешат, текут. Я вспомнил, как два дня назад стоял в бывшей зоне осады между перпендикулярной и параллельной улицами поблизости от своей квартиры. Закрыв глаза, я снова вытянул ладони вперед и ощутил то же покалывание, ту же смесь спокойствия и напряжения. Я опять открыл глаза, но ладони продолжал держать вытянутыми вперед. Внезапно мне пришло в голову, что моя поза похожа на позу нищего, протягивающего руки, выпрашивающего мелочь у прохожих.
Чувство напряжения нарастало. Это было замечательное ощущение. Я стоял неподвижно – руки вперед, ладонями кверху, – а мимо меня текли пассажиры. Через некоторое время я решил действительно начать попрошайничать. Я принялся бормотать:
– Подайте… подайте… подайте…
Так продолжалось несколько минут. Я ни за кем не увязывался, не встречался ни с кем глазами – просто стоял, неопределенно глядя перед собой, все бормоча и бормоча «подайте». Никто мне ничего не подал, но это было не страшно. Имея восемь с половиной миллионов фунтов, я понимал, что мелочь их мне не нужна, да и ни к чему. Я просто хотел именно в этот момент находиться в данном конкретном месте и выполнять данное конкретное действие. От этого я чувствовал такое спокойствие, такое напряжение, что едва не почувствовал себя настоящим.
Офис, как оказалось, находился немного к северу от вокзала, напротив садов Букингемского дворца. Секретарша у них в приемной была такая, что по сравнению с ней та штучка в «Оланджер и Добенэ» походила на кассиршу из супермаркета: шелковый платок на шее заправлен в кремовую блузку, волосы идеально уложены. Ни один волосок не шелохнулся ни когда она потянулась губами к селектору сообщить Мэттью Янгеру, что я пришел, ни когда прошла в специально отгороженный уголок сделать мне кофе. Над ней к высокому, с замысловатыми карнизами потолку вздымались панели красного дерева, тоже вырезанные в форме застывших волн.
Пока она делала мне кофе, вошел Мэттью Янгер. Он был невысокого роста, настоящий коротышка, но когда пожал мне руку и поздоровался, его голос загудел и заполнил собой всю комнату, взвившись к панелям красного дерева и выше, к лепному потолку. Мне показалось странным, что человек, физически занимающий так мало места, способен производить такой глубокий эффект присутствия. Он бодро пожал мне руку – не выказывая такой радости, как Добенэ, но более уверенно, крепким захватом, подключив к делу поперечную запястную связку. В большинстве рукопожатий поперечная запястная связка не участвует – только в таких, по-настоящему крепких. Он махнул рукой за порог приемной, в сторону коридора.
– Пойдемте наверх.
Я направился было в ту сторону, но в дверях замешкался, поскольку секретарша все еще готовила мне кофе.
– Что вы, я принесу, – сказала она.
Мы с Мэттью Янгером пошли вверх по широкой, покрытой ковром лестнице, над которой висели портреты каких-то мужчин, с виду богатых, но слегка нездоровых, и дальше, в большую комнату, где стоял длинный, полированный овальный стол, из тех, что бывают в фильмах, в сценах, где происходят заседания начальства. Он положил папку на стол, сдернул не дававшую ей раскрыться резинку, вытащил бумажку, в которой я по заголовку узнал документ из фирмы Марка Добенэ, и начал:
– Итак. По словам Марка Добенэ, вы получили довольно крупную сумму денег.
Он посмотрел на меня в ожидании, что я скажу нечто в ответ. Я не знал, что сказать, поэтому просто чуть поджал губы. Помолчав, Янгер двинулся дальше:
– На протяжении всего прошлого века рынок ценных бумаг обгонял наличные сбережения каждое десятилетие, за исключением тридцатых. С большим отрывом обгонял. Руководствуясь общим правилом, можно ожидать, что ваш капитал удвоится за пять лет. В сегодняшних рыночных условиях эту цифру можно снизить до трех, возможно, даже до двух.
– Какой тут механизм? – спросил я его. – Я вкладываю в компании, а они делятся со мной своей прибылью?
– Нет. То есть, да, отчасти это так. Дивиденды вам выплачивают. Но что действительно заставляет ваши инвестиции расти, так это игра на бирже.
– Игра на бирже? – повторил я. – Что это такое?
– Акции постоянно покупаются и продаются. Цены не фиксированы – они меняются в зависимости от того, сколько люди готовы заплатить. При покупке акций люди оценивают их не по таким параметрам, как стоимость товаров или услуг, с которыми они реально связаны; их оценивают по тому, сколько они могли бы стоить – в воображаемом будущем.
– Но что, если это будущее наступит, а они не будут стоить столько, сколько люди ожидали? – спросил я.
– Оно никогда не наступит, – сказал Мэттью Янгер. – К тому времени, как наступает одно будущее, появляется другое, воображаемое. Коллективное воображение всех инвесторов создает все новые и новые модели будущего, поддерживая акции на плаву. Конечно, бывает так, что определенный пакет акций перестает возбуждать людское воображение, и они падают. Наша работа – помочь вам избавиться от определенного пакета, пока он не упал, и наоборот, приобрести другой, когда он вот-вот должен взлететь.
– А если все одновременно перестанут воображать себе свое будущее?
– А! – брови Янгера, нырнув, нахмурились, голос сделался тише, убрался из комнаты назад к владельцу, в его маленький рот, в грудную клетку. – Тогда всей системе перекрывается кислород, что приводит к крушению рынка. Именно это произошло в двадцать девятом году. Теоретически это может произойти снова.
Он на секунду помрачнел; потом к нему вернулся бодрый вид – а вместе с тем и раскатистый голос, – и он продолжал:
– Но если никто так считать не будет, этого не произойдет.
– А как считают, произойдет или нет?
– Нет.
– Классно, – сказал я. – Давайте купим акций.
Мэттью Янгер вытащил из своей папки большой каталог и раскрыл его. Там были сплошные диаграммы и столбцы, словно в какой-нибудь таблице приливов.
– С подобным капиталом, отведенным вами на инвестирование, мы, я думаю, можем планировать создание довольно большого портфеля.
– Что такое портфель?
– О, так мы называем спектр ваших инвестиций, – пояснил он. – Немного похоже на игру в рулетку – с той важной разницей, что тут вы выигрываете, тогда как в рулетку главным образом проигрываете. Но на рулеточном столе имеются секторы, совокупности чисел, на которые можно ставить, затем последовательности, затем цвета, чет-нечет и так далее. Мудрый игрок покрывает все поле стратегическим образом вместо того, чтобы ставить все фишки на одно число. Точно так же и при игре на рынке ценных бумаг следует покрывать несколько секторов. Есть банки, промышленность, телекоммуникации, нефть, фармацевтика, технологии…
– Технологии, – перебил я. – Люблю технологию.
– Хорошо. Этот сектор – в числе тех, по отношению к которым мы настроены позитивно. Мы можем…
– А прямо перед ним вы какой назвали?
– Фармацевтика. Большие компании – производители лекарств всегда…
– Нет; перед тем.
– Нефть?
– Нет; сигналы, сообщения, коммуникации.
– Телекоммуникации?
– Да! Точно.
– Это весьма многообещающий сектор. Распространение мобильных телефонов год за годом растет с почти экспоненциальной скоростью. И потом, по мере появления новых типов связи между телефонами, интернетом, аудиотехникой и еще бог знает чем людям открываются новые версии воображаемого будущего. Понимаете, в чем тут принцип?
– Да, – ответил я. – Давайте остановимся на этих двух: телекоммуникации и технологии.
– Что ж, смоделировать ваш портфель так, чтобы добиться перевеса в эту сторону, мы, разумеется, можем, – начал было Янгер, но замолчал, когда вошла секретарша с идеально уложенными волосами. – Ага, вот и ваш кофе.
Она несла его на маленьком подносе, вроде тех, какими пользуются стюардессы в самолетах. Пока она ставила его на полированный стол, я заметил, что это – конструкция из двух частей: сама чашка, а дальше туда вставлен пластмассовый фильтр, где лежит сам молотый кофе. Мне это напомнило лунные посадочные аппараты шестидесятых годов, то, как ступени вставляются одна в другую. Конечно, имелось еще и блюдце – всего три части. Секретарша плавно опустила все сооружение на поверхность стола, поставила рядом небольшой сливочник, сахарницу с грубо выпиленными кубиками и ложку, а затем снова выскочила с подносом.
– Мы, разумеется, можем подумать о том, чтобы смоделировать его таким образом, – продолжал Янгер. – Но когда я проводил аналогию с рулеткой, моя мысль заключалась в том, что лучше всего охватить несколько секторов…
– Да, понятно. Но я хочу знать, где я. Хочу занимать конкретный сектор. Иначе, если ни там ни сям, я совсем запутаюсь. Мне нужно какое-нибудь… – я долго искал подходящее слово и наконец нашел, – положение.
– Положение? – повторил он.
– Да, – сказал я. – Положение. Телекоммуникации и технологии.
Теперь вид у Янгера сделался обеспокоенный.
– При всем моем убеждении, что эти секторы являются весьма многообещающими, я считаю, что такая степень локализации, в особенности учитывая крупную сумму, которую мы планируем инвестировать, действительно подвергает нас излишне высокому риску попасть в зависимость от дальнейшего развития событий. Я определенно предпочел бы…
– Если вы отказываетесь, я пойду к другому брокеру.
Янгер напрягся. Он словно ужался еще больше; голос его ужался до тишины. Какое-то время он осмысливал то, что я сказал, потом опять напустил на себя этот свой бодрый вид, сделал глубокий вдох и прогудел:
– Сделаем – нам это абсолютно не сложно. Само собой. Деньги ваши. Я всего лишь советую. Я посоветовал бы несколько диверсифицировать портфель, но если вы не хотите – это совершенно…
– Телекоммуникации и технологии.
Стоило ему объяснить, каков механизм этого дела, я моментально, в точности понял, что мне нужно. Деньги были мои, а не его.
Мэттью Янгер начал листать страницы справочника. Я приподнял ту часть своей кофейной чашки, где был фильтр, и попытался уравновесить ее на краешке блюдца, но она упала на стол. Я заметил, что вода прошла через фильтр не полностью – черная гуща все еще сочилась из сетчатого дна, растекаясь по поверхности стола. Я промокнул ее пальцами, пытаясь не дать ей дойти до края стола и капнуть мне на брюки. Но от этого направленный в новое русло поток лишь побежал быстрее, и в конце концов жидкость попала мне не только на брюки, но и на пальцы. Она была липкой и черной, как смола.
– Простите ради бога! – воскликнул Мэттью Янгер.
Он залез в карман пиджака и вытащил чистый шелковый носовой платок. Я оттирал им пальцы, пока мокрая гадость не стала сухой, как песок; потом вернул ему платок, и он начал знакомить меня с разделами справочника, посвященным телекоммуникациям и технологиям.
За полчаса мы выбрали компанию, которая производила маленькие чипы для компьютеров, двух из основных провайдеров сотовой сети и одного производителя телефонов, одну компанию, занимавшуюся стационарными телефонами и кабельным телевидением, аэрокосмическое производственно-исследовательское предприятие, фирму, где производили шифровальные программы для интернета, еще одну, где делали программный продукт, назначение которого я до конца не понял, производителя плоских аудиоколонок, каких-то других программистов и еще что-то, связанное с микрочипами. Всех я не помню – их было много. Были там компания, производившая игры, пионеры в области интерактивного ТВ, фирма, где делали эти устройства, которые умещаются в руке и позволяют вам в точности определять свое местоположение в любой момент времени с помощью сигналов, летящих в космос и обратно, – и многое, многое другое. К моему уходу мы более восьмидесяти процентов моих денег закинули в акции. Один миллион мы оставили в наличных и положили на ипотечный счет; бумаги, необходимые для его открытия, Янгер помог мне заполнить прямо на месте. Сто пятьдесят тысяч мы оставили в хранилище – на счету, который Марк Добенэ открыл для меня тем утром.
– Мне могут экстренно понадобиться деньги, – сказал я Мэттью Янгеру, когда он провожал меня к выходу из здания «Янгер и Янгер».
– Конечно, – ответил он. – Само собой. Не забывайте, что акции всегда можно и продать. Звоните в любое время. До свидания.
Час пик еще не кончился. Спускаться обратно в метро мне не хотелось. Вместо этого я зашагал к реке, медленно, окраинными улицами Белгрейвии. Добравшись туда, я повернул на восток, перешел на другой берег по Лэмбет-бридж, спустился на набережную Альберта, нашел скамейку и немного посидел там, глядя на ту сторону, оставшуюся позади, за Темзой.
Я вспомнил тот случай, когда мы с Кэтрин забрались в лодку на парижской набережной. Тогда стояло утро, свежее, голубое, и под солнцем на воде повсюду раскрывались такие световые щели – такие прорези, – плясали, сверкали, раскрывались. Сейчас темнело. Казалось, город смыкает ряды, как бывает, когда он стягивается сам в себя, а тебя выставляет наружу. Он светился, но теплее мне от этого не делалось. Пока я там сидел, мне пришло в голову, что я могу пойти, встать едва ли не на любой улице, в любом переулке, в любом районе и скупить там все: магазины, кафе, кинотеатры, что угодно. Я могу ими обладать, но все равно останусь по отношению к ним извне, снаружи, за дверью. Это ощущение непричастности окрашивало весь город, пока я наблюдал, как он темнеет и светится, смыкая ряды. Ландшафт, на который я смотрел, казался затерявшимся, мертвым – мертвый ландшафт.
Возвращаться домой, в Брикстон, мне не хотелось. Кэтрин где-то гуляла, тоже смотрела на город: музеи, покупки, все такое. Меня все равно не тянуло с ней встречаться. Я пошел вдоль набережной к Ватерлоо, мимо заднего двора больницы святого Фомы. Рядом с большим хозяйственным входом и отгороженной мусоркой были размечены парковочные места для сотрудников. Водители неотложек покуривали без дела у своих машин. Работники столовой катали туда-сюда тележки. В больнице я всегда этого ждал – этого момента, когда появляется тележка. Разговор, который заводит с тобой человек, везущий ее, банален и мгновенно забывается, совсем как еда, но это хорошо – это значит, что тот же разговор ты сможешь вести опять, спустя несколько часов, и опять, на следующий день, и на следующий, и все равно будешь его ждать. В больнице все движется по кругу. Я смотрел, как тележки громыхают по своим маршрутам из кухонь к задним входам в отделения, как на свалке растет гора мусорных мешков, наблюдал за водителями неотложек и их машинами, замершими между линий разметки.
В конце концов я снова перешел на другой берег и отправился в Сохо. На углу, где Фрит-стрит перерезает Олд-комптон-стрит под углом ровно в девяносто градусов, я заметил стилизованную под Сиэттл кофейню, такую же, как та, где я тогда пил капучино, пока ждал Кэтрин в Хитроу. Я вспомнил, что у меня есть бонус-карточка и что если мне проштампуют все десять чашек, то дадут дополнительную чашку – плюс новую карточку, на которой будет еще десять чашек. Идея показалась мне заманчивой: отсчет по часам, полный круг, нулевая отметка и опять все сначала. Я вошел и заказал капучино.
– При-вет! Одинарный кап, – сказала девушка. На сей раз это была девушка. – На подходе. Есть у вас…
– Вот.
Я сунул ей карточку через прилавок. Она проштамповала вторую чашку и протянула мне капучино. Я отнес его к стулу у окна. Это было такое длинное, высокое окно, из тех, что занимают всю стену. Усевшись напротив него, я стал наблюдать за прохожими. Времени было, наверное, около восьми. Телевизионный народ расходился с работы, клубный народ направлялся в бары и рестораны. Какие-то люди везли по улице ширму – такую старую складную ширму в стиле барокко, с восточным орнаментом. Похожие ширмы были в больнице – конечно, без орнамента: просто белые складные ширмы, которые ставят у твоей койки, когда хотят тебя перевернуть или раздеть. Люди, катившие ширму вдоль Олд-комптон-стрит, были на пару лет моложе меня, от двадцати пяти до тридцати. Они, видимо, везли ее в одну из телестудий, которые попадаются в Сохо на каждом шагу, или, наоборот, забирали. На вид это были типичные телевизионщики: с короткими, крашеными волосами, одетые в «Дизель» или «Эвизу», с маленькими, разноцветными мобильниками в свободных руках и задних карманах. Интересно, подумал я, участвуют ли их телефоны в создании модели воображаемого будущего для каких-нибудь акций, которые я покупаю, способствуют ли они их росту.
Я пошел и взял еще один капучино, проштамповал карточку в третий раз и вернулся на свое место у окна. Телевизионщики, катившие ширму, остановились посередине улицы, столкнувшись с другой группой телевизионщиков, которые сидели на улице у другой кофейни. Они перекликались друг с другом, ходили туда-сюда между ширмой и второй кофейней, махали руками, смеялись. Они напоминали мне рекламу – не какую-нибудь конкретную, просто рекламу, в которой развлекается красивая молодежь. Людям, стоявшим на улице с ширмой, пришел на ум тот же рекламный клип, что и мне. Это было очевидно. Своими жестами, своими движениями они разыгрывали роли участников этого клипа: то, как они поворачивались и шагали в одну сторону, говоря при этом в другую, как запрокидывали головы, когда смеялись, как небрежно засовывали свои мобильники обратно в карманы низко сидящих брюк. Их тела и лица переполняла бурная радость, восторг – торжествующее сознание того, что в кои-то веки им не обязательно сидеть в кино или перед телевизором в гостиной и смотреть, как другая красивая молодежь смеется и гуляет; они сами могут быть красивой молодежью, прямо сейчас, на этом самом прямоугольном перекрестке. Понимаете? Совсем как я – б/у на сто процентов.
Я взял третью чашку, проштамповал четвертую чашку на карточке и вернулся к стулу у окна. Телевизионщики со своей ширмой ушли. В нескольких улицах от меня включилась противоугонная сигнализация; прерывистый писк продолжался с интервалами в три-четыре секунды. У моей койки в больнице стояли монитор и пластмассовый дыхательный аппарат, который попискивал и поскрипывал примерно с одинаковыми интервалами. В период выхода из комы – так это называется, выход, – когда мое сознание еще спало, но уже начинало ворочаться и выдумывать места и ситуации для обитания, я порой оказывался на больших спортивных стадионах. Иногда это были легкоатлетические комплексы с идущими вокруг дорожками, прочерченными на глине и асфальте, иногда – крикетные поля с белыми линиями разметки, нанесенными краской на траву. Комментатор вел репортаж, и я тоже должен был подключаться, вести репортаж вместе с ним. Я должен был произносить слова репортажа в ритме этих попискиваний и поскрипываний, иначе мой голос терялся на общем фоне. Я понимал, что ситуация странная, что я без сознания и все это – мое воображение, но понимал и то, что должен продолжать репортаж, соответствовать формату, иначе умру.
Сидя у окна, наблюдая за прохожими, я размышлял о том, кто из них наименее подчинен формату, наименее ненастоящий. Не я – это точно. Я, вуайерист, незваный гость, лишь подглядывал за всей этой сценой. Были тут и другие, тоже сидевшие за окнами, в других кофейнях, словно мое отражение, – они тоже были незваными гостями, все до одного. Затем шли туристы; они неуклюже брели мимо и посматривали на людей за окнами. Еще более низкая ступень в этой иерархии, решил я. Затем шли посетители клубов. Большинство из них были геями – показными геями, в обтягивающих джинсах, с волосами торчком и множеством проколотых мест на теле. Подобно телевизионщикам с ширмой, они играли – напоказ перед зеваками, друг другом, самими собой. Они переходили из кофейни в кофейню, из бара в бар, приветственно целовались с друзьями и преувеличенно реагировали на других мужчин, жесты их были сплошь преувеличенные, педерастические. Все были покрыты загаром, но искусственным, приобретенным в соляриях дорогих фитнес-центров или с помощью крема из банки. Театральные, надуманные – все как один.
Я пил, наверное, уже шестой капучино, как вдруг заметил кучку бездомных. Все время, пока я смотрел, они были тут, замаскированные на фоне магазинных витрин и мусорных баков, но я только теперь обратил на них внимание, начал за ними наблюдать. Один из них сидел, закутавшись в спальный мешок из полиэстера, на коленях у него свернулась собака. Его друзья – трое или четверо – облюбовали место подальше, ярдах в двадцати. Они периодически покидали свое место и приходили его навестить, по одному, иногда по двое; потом разворачивались и направлялись обратно, на свое собственное место. Я долгое время внимательно за ними наблюдал. Когда люди, сидевшие подальше, приближались к закутанному парню с собакой, вид у них был целеустремленный, как будто у них имелись для него какие-то сообщения, важная информация. Они передавали свои сообщения, затем уходили; но минут через семь кто-нибудь из них возвращался с новыми сведениями. Иногда они подменяли его, занимали его место, пока он со своей собакой шел прогуляться до их участка.
Я начал прослеживать некую закономерность в схеме их перемещений: круги, которые они описывали между двумя участками, кто кого сменял, когда и в каком порядке. Правда, это было нелегко: всякий раз, как я решал, что вычислил эту последовательность, один из них делал ход вне очереди или отправлялся в путь по новому маршруту. Я очень долго наблюдал за ними, изо всех сил сосредоточившись на схеме.
Через некоторое время я начал думать, что уж эти-то люди – настоящие. Что они здесь не просто незваные гости. Что им действительно принадлежат и улица, и они сами, и настоящий момент. Я наблюдал за ними, пораженный. Мне захотелось вступить с ними в контакт. Я решил, что обязательно вступлю с ними в контакт. Когда закутанный парень с собакой в четвертый раз откинулся в своем спальном мешке, и вероятность того, что никто из его друзей не подойдет к нему еще минут семь, казалась довольно высокой, я встал со своего стула, вышел из кофейни и зашагал через улицу туда, где он сидел.
Его собака первой заметила мое приближение. Она развернулась, приподнялась и, вся насторожившись, стала смотреть на меня и принюхиваться. Потом поднял глаза и закутанный парень. Ему было, наверное, не больше двадцати. Кожа у него была нежная, очень бледная, с красными точечками там, где под ней лопнули сосуды. Я постоял перед ним, глядя вниз. По прошествии какого-то времени я спросил его:
– С тобой поговорить можно?
Он взглянул на меня так же, как его собака – вопросительно, заинтересованный и одновременно готовый к защите.
– Ты христианин, что ли? – спросил он.
– Нет. Нет, я не христианин.
– Мне ни от каких христиан ничего не надо. Молиться заставляют, все такое – нет, чтобы просто поесть дать. Лицемеры ебаные.
Голос у него был медленный, протяжный, при этом довольно гнусавый. Он напоминал мне обдолбанных рок-звезд шестидесятых – Билла Уаймана, кого-то в этом роде. Интересно, подумал я, он тоже обдолбанный?
– Я правда не христианин, – сказал я ему. – Я просто хочу с тобой поговорить. Спросить тебя кое о чем.
– О чем?
Рот его так и остался открытым после того, как он это произнес.
– Я… – начал я и тут сообразил, что не знаю в точности, о чем именно хочу его спросить. – Можно тебя чем-нибудь угостить?
– Дай лучше десятку, раз такое дело.
– Нет. Давай я тебя ужином угощу. Хорошим ужином, с вином, все как положено. Что скажешь?
Он взглянул на меня, по-прежнему сидя с отвисшим ртом, размышляя. Христианином – ловцом душ я не был, полицейским, ясное дело, тоже. Потом лицо его напряглось, и он спросил:
– Ты случайно не этот, не маньяк будешь, а?
– Нет. Тебе ничего делать не нужно. Я просто хочу угостить тебя ужином и поговорить.
Парень еще немного пристально поизучал меня. Потом закрыл рот, громко шмыгнул носом, улыбнулся и сказал:
– Ладно.
Он вылез из своего спальника, свистнул сидевшим на улице друзьям, сделал одному из них знак подойти и занять его место, затем хлопнул себя по бедру и снова свистнул, потише, на этот раз собаке. Вместе мы двинулись прочь, из Сохо на Черинг-кросс-роуд, в северном направлении. Я привел его в греческое местечко прямо у Сентр-пойнт. Официантка, немолодая женщина в больших очках, сначала не хотела впускать его собаку. Я протянул ей двадцатифунтовую бумажку, сказал, что пес будет вести себя хорошо, и попросил дать ему какую-нибудь косточку, поглодать. Мы сели, и она принесла большую баранью кость, которую он принялся тихонько грызть под столом.
– Что вы хотите? – после двадцати фунтов официантка вся так и светилась улыбкой.
Я заказал бутылку дорогого белого вина с разными закусками и попросил подождать несколько минут, пока мы решим, какое главное блюдо взять. Она кивнула, по-прежнему улыбаясь, и ушла в кухню.
– Ну что ж! – я откинулся на стуле и широко раскинул руки. – Ну что ж!
Мой бездомный наблюдал за мной. Взяв свою салфетку, он покрутил ее в руках. Подождав немного, я спросил:
– Ты откуда?
– Лютон. Сюда два года как приехал. Два с половиной.
– А из Лютона почему уехал?
– Родичи, – ответил он, продолжая теребить салфетку. – Папаня – алкаш. Бил меня.
Официантка вернулась с вином. Когда она наклонилась над столом, чтобы его разлить, мой бездомный смотрел на ее груди. Я тоже на них смотрел. Рубашка у нее была расстегнута сверху, груди – красивые, круглые.
Она была, наверное, его возраста – лет восемнадцать-девятнадцать. Мы смотрели, как она поворачивается и отходит. Наконец я поднял бокал.
– Выпьем! – сказал я.
Он взял свой бокал и начал пить из него большими глотками. Проглотив половину, вытер рот рукавом, поставил бокал и, уже осмелев от алкоголя, спросил:
– Так что ты хотел узнать?
– В общем… Я хотел узнать… В общем, я вот что хотел узнать… Значит, так: допустим, сидишь ты на улице, на своем пятачке, закутался в свой спальник и сидишь, на коленях собака свернулась… Сидишь ты, значит, а мимо люди идут; а ты при этом… Я что хочу узнать…
Я остановился. Выходило не так, как надо. Сделав глубокий вдох, я начал по новой:
– Слушай. Знаешь, в кино, когда люди что-нибудь делают – персонажи, герои, ну, там, например, Роберт Де Ниро, – когда они что-нибудь делают, все всегда получается идеально. Все, вообще все. Или холодильник открывают, или зажигают… нет, лучше так: берут, например, салфетку в руки. Герой берет ее в руки, легонько так встряхивает, затыкает за воротник или просто на коленях складывает, а дальше уже не обращает на нее внимания до конца сцены. И потом, речь у него тоже просто идеальная. Понимаешь, что я хочу сказать? Если бы мы с тобой так попытались, она бы все время то соскальзывала, то падала.
Мой бездомный снова взял в руки салфетку.
– Мне что, в рубашку ее заткнуть? – спросил он.
– Нет. Дело не в этом. Дело в том, что мне интересно, мне просто интересно, осознаешь ты это или нет. Когда сидишь на своем углу.
– Я, когда ем, этими салфетками вообще не пользуюсь.
– Нет! В смысле, я не в том смысле. Забудь про салфетку. Это я для примера. Я вот в каком смысле: ты… Когда ты что-нибудь делаешь – скажем, разговариваешь с друзьями или, там, просишь деньги у прохожих, – ты…
– Я ж только потому прошу, что сам заработать не могу, – он положил салфетку. – Была б у меня работа, я что, просил бы?
– Нет, ты послушай, это…
Я потянулся к нему рукой через стол, но задел бокал с вином. Бокал опрокинулся, и вино выплеснулось на скатерть. Скатерть была белой; вино окрасило ее в густой красный. Вернулся официант. Он был… Она была молодая, в больших темных очках, итальянка. Большая грудь. Маленькая.
– Что ты хочешь узнать? – спросил мой бездомный.
– Я хочу узнать… – начал было я.
Тут официант перегнулся через меня убрать скатерть. Она убрала и стол. Никакого стола не было. По правде говоря, все это я сейчас выдумываю – эту историю про бездомного. Нет, он в самом деле существовал, сидел, замаскированный на фоне магазинных витрин и мусорных баков, – но я к нему не подходил. Я наблюдал за ним и его приятелями, за тем, как они ходили кругами к его месту и назад к своему, за тем, как напускали на себя целеустремленный вид, как будто у них имелись друг для друга важные сообщения. Везде по-хозяйски разгуливали, плюя на тротуар, поводя плечами, когда меняли направление. Они вели себя еще более нарочито, чем телевизионщики перед тем, даже не удосужившись оглядеться, посмотреть, не идет ли машина или велосипед, когда переходили дорогу. Их целью было доказать, что они – одно целое с улицей; что они и только они говорят на ее настоящем языке; что пространство вокруг них действительно им принадлежит. Фигня, полная фигня. Да они вообще не из Лондона. Из Лютона, Глазго, откуда угодно, но не отсюда, откуда-то издалека, какая разница, откуда. И потом, это расхаживание с важным видом, это их высокомерие – фикция. Захватчики. Жулики.
Я не подходил к нему, не заговаривал. Не хотел. Ну что я мог у него узнать? Кроме того, я ненавижу собак, всегда ненавидел.
4
Несколько дней спустя, в субботу, я пошел на вечеринку к Дэвиду Симпсону. Его новая квартира на Плэйто-роуд находилась на третьем этаже перестроенного дома. Дому было лет, наверное, сто. Неплохое помещение. Он его еще не отделал: с потолка свисали провода, на стенах были карандашом намечены линии – там, где собирались вешать полки, плюс рядом с выключателями были нацарапаны несложные схемы, указывавшие, где пустить электропроводку. Еще повсюду были коробки, полные одежды, книг и тарелок.
– О! Привет! – воскликнул Дэвид, открыв мне дверь. – Я слышал, ты… это самое… поправляешься.
Его глаза внимательно изучали мой лоб над самыми глазами – видимо, Грег рассказал ему про пластическую операцию на шраме.
– Над правым, – сказал я.
– Ага, – ответил он. – Да нет, я… Так, давай я тебе налью чего-нибудь.
Он приготовил какой-то пунш. Тот был розовый и сладкий – возможно, сангрия. Было еще и бутылочное пиво, и вино. Я пригубил розовый пунш и прошел в большую комнату. Меня окликнули по имени; это оказался Грег.
– Здоров, мужик! – Грег положил руку мне на плечо. Он был уже прилично пьян. – А где Кэтрин?
– В Оксфорде.
Кэтрин уехала туда на выходные. Она успела надоесть мне до крайности. Мне надоели все. И всё. С тех пор, как состоялась встреча с Мэттью Янгером, дни у меня протекали в размышлениях о том, что делать с деньгами. Я перебрал все варианты: посмотреть мир, открыть собственный бизнес, основать благотворительный фонд, все просадить. Ни один из них меня ничуть не привлекал. Ну какой из меня вышел бы основатель благотворительного фонда? Никакие проблемы меня особенно не волновали. Начни я тратить деньги, как сумасшедший, что бы я такого купил? Меня не интересовали ни искусство, ни одежда, ни наркотики. Шампанское, которое я пил на днях, на вкус было горьким, словно кордит, да и заказал я его только потому, что так мне посоветовал Марк Добенэ; foie gras я один раз уже пробовал, в Париже – меня стошнило. Нет – я перебрал все варианты, подержал каждый в руках, как ребенок пару секунд держит дешевую дрянную игрушку, покуда не поймет, что она не будет крутиться, играть музыку или хоть как-нибудь его радовать, и не положит обратно. В общем, мне все надоело: люди, идеи, мир – все.
Грег отвалил в кухню, налить еще. Я сел на диван и огляделся. Вечеринка была, на мой взгляд, довольно скучная. Многих из присутствующих я не знал, а те, кого знал, меня не особенно интересовали. Дэвид занимался не то пиаром, не то маркетингом, не то чем-то подобным; мне с ним было скучно, да и друзья у него были скучные.
Я подошел к окну и встал рядом, футах в двух справа от него. Побыв там некоторое время, я переместился в кухню и подлил себе в стакан. Я к нему почти не прикоснулся, но это было хоть какое-то занятие. Переместившись обратно в большую комнату, я снова встретил Грега.
– Здоров, мужик! – он положил ту же руку мне на плечо. – Так где Кэтрин?
– В Оксфорде.
Он снова отвалил в кухню, а я переместился обратно на диван, потом на место у окна. Это второе место было лучше. Я научился чувствовать, какие положения хорошие, а какие нет, когда был в больнице. Это начинаешь понимать, когда не можешь двигаться самостоятельно. В обычной жизни, когда двигаться можешь, способность менять положение считаешь само собой разумеющейся – об этом даже не думаешь. Но когда неподвижно лежишь после травмы, то оказываешься там, куда тебя поместят врачи с медсестрами, и только там. Становится жутко важно, куда тебя поместят – твое положение по отношению к окнам, дверям, телевизору. Палата, в которой я провел большую часть времени после выхода из реанимации, имела форму буквы L. Я лежал с короткой стороны этой L, у ее подножия, задвинутый почти в самый угол, где короткая сторона пересекается с длинной. Это было хорошее место – оттуда открывался полный обзор обоих проходов палаты, ясно просматривалось все, вплоть до поста медсестер и коридора с каталками, и других важных уголков, морщинок на глади окружающих поверхностей. В следующей палате мне досталось место очень плохое: я лежал на койке лицом не туда – вообще никуда; все было не так. С тех пор положение стало для меня важно. Виновата тут не только больница – авария тоже. Меня ударило, потому что я стоял там, где стоял, а не где-нибудь еще – стоял на траве, открытый, совсем как фишка на расчерченном зеленом бархате рулеточного стола, поставленная на единственный номер, в ожидании…
Я вернулся в кухню, чтобы снова долить себе в стакан, но увидел, что уровень в нем совершенно не понизился с тех пор, как я в последний раз его наполнил. Тогда я просто остался стоять в дверях под взглядами двух девушек, которые толклись у чаши с пуншем.
– Потерял чего? – спросила меня одна из них.
– Да. Я… это самое…
Я неопределенно покрутил пальцами – жест подразумевал нечто среднее между откупориванием бутылки с помощью штопора и щелканием ножницами, – и снова вышел из кухни.
Я направлялся назад по коридору в большую комнату, но тут заметил комнатку в стороне от маршрута, которого до сих пор придерживался. Я все время обходил кухню по часовой стрелке, а большую комнату – против: дверь – диван – окно – дверь. Добавьте сюда короткий, узкий коридор, соединяющий две комнаты, – и получится маршрут в форме восьмерки. Эта дополнительная комната как будто взяла и выскочила рядом с ней, как та половина в договоре – довесок, сбоку припеку. Я просунул голову внутрь. Это оказалась ванная. Я вошел и запер за собой дверь. Тут оно и произошло – событие, которое, если не считать аварии, стало самым значительным во всей моей жизни.
Произошло оно так. Я стоял в ванной, дверь за мной была заперта. Мыл после туалета руки в раковине, отвернувшись от зеркала над ней – потому что вообще не люблю зеркала – и глядя на эту трещину, проходившую по стене. Дэвид Симпсон, а может быть, прежний владелец, ошкурил стены, так что на них осталась одна штукатурка, плюс какие-то мазки там, где Дэвид экспериментировал с разными типами краски, чтобы посмотреть, как будет выглядеть помещение в тех или иных тонах. Я стоял у раковины, смотрел на эту трещину в штукатурке, как вдруг у меня возникло ощущение déjà vu.
Ощущение déjà vu было очень сильным. Я уже бывал в помещении вроде этого, в месте, совсем как это, уже смотрел на трещину – трещину, которая выпирала и извивалась точно так же, как эта, сбоку от зеркала. Там была такая же трещина, и ванна тоже была, и окошко над самыми кранами, прямо как в этой комнатке; разве что окно было чуть побольше, а краны другие, более старые. Окно выходило на крыши, там сидели коты. Красные крыши, черные коты. Это место находилось высоко, гораздо выше, чем я сейчас – шестой, седьмой или даже восьмой этаж старого здания, в каких сдаются квартиры, большого дома. Народу в здании было битком: соседи и подо мной, и вокруг меня, и этажом выше. С нижнего этажа до меня долетал запах готовившейся на сковороде печенки; и звук тоже, шипение и скворчание.
Все это я вспомнил очень ясно. Этажом ниже готовилась печенка – запах, шипение и скворчание, – а дальше, еще двумя этажами ниже, была фортепьянная музыка. Не музыка в записи, игравшая на диске или по радио, – музыка настоящая, в живом исполнении, которую играл на фортепьяно живший там человек, музыкант. Я вспомнил, как она звучала, вспомнил ее ритм. Порой он останавливался – всякий раз, когда брал не ту ноту или терялся. Останавливался и начинал пассаж заново, проигрывая его медленно, а когда подбирался к месту, где ошибся, совсем замедлял темп. Потом несколько раз играл его правильно, снова повторял, снова разгонялся, и так – пока не получится сыграть в нужном темпе, не спотыкаясь. Все это мне ясно вспомнилось – кристально ясно, до того ясно, словно в каком-то видении.
Все это я помнил, но не мог вспомнить, где именно было это место, эта квартира, эта ванная. И когда. Сначала я подумал, что вспоминаю парижскую квартиру. Не ту, в которой останавливался, когда меня послали на курсы – та вовсе не напоминала картину, разворачивавшуюся у меня в памяти, ни изнутри, ни снаружи: не было ни котов на крышах, ни печенки, ни фортепьянной музыки, ни похожей ванной с идентичной трещиной на стене, – но, возможно, чью-то еще, Кэтрин или кого-то из наших общих знакомых, другого студента. Но ни к каким другим студентам в гости мы не ходили. Нет, это был не Париж. Я порылся в более отдаленном прошлом, дошел до самого детства. Бесполезно. Я никак не мог понять, куда отнести это воспоминание.
И все-таки оно, это вспомнившееся здание, росло с каждой минутой, пока я стоял там, в ванной. Начавшись с трещины, оно все ширилось. Соседка, готовившая печенку этажом ниже, была пожилая женщина. Я почти каждый день встречал ее на лестнице. Мне вспомнилось, как мы встречались у двери в ее квартиру, когда она выносила мусор на площадку. Она мне что-нибудь говорила; я что-нибудь отвечал и проходил дальше. Она выносила мусор, чтобы его забрала консьержка. В здании, которое я вспоминал, была консьержка, прямо как в парижских многоквартирных домах. На лестнице были чугунные перила, затоптанный пол, узорно выложенный, мраморный или под мрамор. Я вспомнил, каково было по нему ходить: какой звук издавали мои ботинки на его поверхности, какими были на ощупь перила. Я вспомнил, какое ощущение возникало у меня в квартире, когда я по ней перемещался: из ванной с трещиной на стене – в кухню, в гостиную; как шелестели свисавшие с потолка растения в горшках, когда я мимо них проходил; как я частично поворачивался боком, минуя край кухонного стола, находившийся на уровне пояса, – поворачивался боком туда и сразу же обратно, ловко, одним плавным движением, задевая рубашкой деревянную поверхность. Я вспомнил, какое от всего этого было ощущение.
Лучше всего я помнил вот что: внутри этого вспомнившегося здания, в комнатах и на лестнице, в парадном и в большом дворе между ним и зданием напротив, с красными крышами и черными котами на них, – там все мои движения были свободными и непринужденными. Не скованными, изначально чужими, б/у, нет – естественными. Открывал ли я дверцу холодильника, закуривал ли сигарету или даже подносил ко рту морковку – в то время эти жесты были плавными, совершенными. Я сливался с ними, проходил сквозь них, пропускал их сквозь себя до тех пор, пока промежуток между нами не исчезнет. Они были настоящими; я был настоящим – был, не вникая предварительно в то, как это сделать, срезая кружной путь. Воспоминание по силе походило на прозрение, откровение.
Тогда-то я и понял в точности, что хочу сделать с деньгами. Я хочу воссоздать это место и войти туда, чтобы снова почувствовать себя настоящим. Хочу, обязан, добьюсь своего. Остальное неважно. Я стоял, уставившись на трещину. Все упиралось в это: в то, как она проходила по стене, в структуру штукатурки вокруг нее, в цветные пятна справа от нее. Именно это и послужило началом всему. Я должен был как-то запечатлеть это, не упустив ничего – ни единого разветвления или зазубрины. В дверь кто-то стучался.
– Погодите! – крикнул я.
– Побыстрее! – проорал в ответ мужской голос.
Я огляделся. Рядом с ванной стояли две банки с краской; на крышке одной из них лежали рулетка и карандаш. Я взял карандаш, оторвал полоску бумаги, приставшую к стенке под окном, и начал срисовывать форму трещины. Срисовывал я очень аккуратно. Тщательно. Снова раздался стук – на этот раз постучали дважды.
– Мы уже не можем! – прокричал девичий голос.
– Давай побыстрее! – повторил тот же мужской голос.
Проигнорировав их, я продолжал срисовывать трещину. Дважды пришлось начать по новой: сначала потому, что масштаб у меня получился слишком крупный, и трещина не умещалась целиком; потом еще раз, когда я сообразил, что обратная сторона обоев более гладкая, чем пузырчатая сторона, на которой я рисовал, а значит, копия на ней выйдет более точной. Я срисовывал ее – тщательно, помечая в скобках такие детали, как особенности структуры и цвет. Закончив срисовывать трещину, я еще несколько мгновений постоял на месте, чтобы вся картина целиком улеглась в голове: ванная, квартира, лестница, здание, двор, крыши и коты. Надо было, чтобы она улеглась поглубже, навсегда. Я закрыл глаза на пару секунд – проверить, видно ли все это мысленно, в темноте. Видно. Удовлетворившись результатом, я снова открыл глаза и вышел из ванной.
– Я уже не могу! – снова сказала мне девушка – одна из тех, что до этого были в кухне.
Она протиснулась мимо меня в ванную.
– Ты что там, рожал, что ли? – спросил меня мужчина, который велел мне выходить побыстрее.
– Как вы сказали? – переспросил я.
– Чего так долго – рожал, что ли?
– Нет.
Взяв свою куртку, я ушел с вечеринки, захватив с собой полоску обоев.
Я дошел до главного брикстонского перекрестка, где огромная дорожная развязка с линиями разметки на асфальте простирается от здания городской администрации до кинотеатра «Ритци». Времени было, наверное, около полуночи. Жизнь в Брикстоне кипела. Красные и желтые машины стояли в пробке на Колдхарбор-лейн, темнокожие парни в бейсболках бомбили на своих такси, темнокожие парни помоложе, в здоровенных дутых куртках, толкали коноплю и крэк, темнокожие девицы с курчавыми и распрямленными волосами, с большими округлыми бедрами, обтянутыми платьями из эластика, верещали в мобильники, белые девицы стояли на улице, желая попасть в «Догстар», жевали резинку и одновременно курили. Всё это – люди, огни, цвета, шум – приходило и уходило, оставаясь на периферии моего внимания. Я медленно шел со своей полоской обоев, думая о комнате, о квартире, о мире, который только что вспомнил.
Я решил его воссоздать: построить заново и жить внутри него. Буду двигаться от трещины, которую только что зарисовал, в разные стороны. Штукатурка вокруг трещины была розовато-серая, вся в царапинах и морщинках, образовавшихся, когда ее размазывали. Прямо над ней, слева (от нее – справа) было пятно голубой краски, а в футе или двух левее него – желтое пятно. Я это записал, но все равно помнил в точности: слева прямо над ней голубое, потом еще два фута и желтое. Эту трещину я смог бы воссоздать и у себя в квартире: намазать штукатурку, а после добавить цвета; но моя ванная была не той формы. Она должна быть такой же формы и размера, как та, которую мне напомнила Дэвидова, с такой же ванной, другими, более старыми кранами, с таким же окном, чуть побольше. И находиться она должна на шестом, седьмом или восьмом этаже. Придется купить новую квартиру, повыше.
И потом соседи. Вокруг меня их было битком: снизу, рядом и сверху. Это был важнейший элемент. Старуха, готовившая печенку этажом ниже, пианист двумя этажами ниже ее, проигрывавший свои фуги и сонаты, раз за разом; придется позаботиться о том, чтобы и они там непременно были. А также и консьержка, и все остальные, более безликие соседи. Придется купить целый дом и заполнить его людьми, которые будут вести себя в точности так, как я им велю.
И потом вид напротив! Коты, черные коты на красных крышах дома позади моего, за двором. Крыши были покрыты шифером, скаты поднимались и опускались определенным образом. Если в купленном мной доме окна ванной и кухни моей квартиры на шестом, седьмом или восьмом этаже не будут выходить на похожие крыши, то мне придется купить и дом позади него и переделать крыши, чтобы выглядели именно так. К тому же дом обязан быть достаточно высоким – в смысле, дом позади моего; понадобится не один, а два дома подходящего размера и года постройки. Все это я обдумывал, шагая по Колдхарбор-лейн. Обдумывал тщательно, не выпуская из рук полоски обоев.
Сделать все это я, конечно, могу. Это не проблема. Средства у меня есть. Я могу не только купить свой дом и дом позади него, но и нанять персонал. Мне понадобится старуха. Она все отчетливее вырисовывалась у меня в голове: у нее были белые волосы, похожие на проволоку, и синяя кофта. Она каждый день жарила на сковороде печенку, та шипела и скворчала, а запах издавала густой, коричневый, маслянистый. Старуха обычно нагибалась, держась одной рукой за спину, чтобы опустить свой пакет с мусором на затоптанный пол лестничной площадки, мраморный или под мрамор; она оборачивалась ко мне и заговаривала, когда я проходил мимо. Вспомнить, что она говорила, я пока толком не мог, но на данном этапе это было неважно.
Еще мне понадобится пианист. Ему было лет тридцать восемь. Он был высок, худ и очень бел, с лысой макушкой и непослушными черными волосами, торчащими по бокам. Человек он был довольно жалкий – совершенно одинокий; к нему, кажется, почти никто не заходил, разве что дети, которых он обучал за плату. По ночам он обычно сочинял музыку, медленно и неуверенно. Днем репетировал: споткнувшись, останавливался; снова и снова проигрывал один и тот же пассаж; подходя к месту, где ошибся, замедлял темп. Музыка летела снизу вверх, прямо как запах старухиной печенки. Под вечер слышно было, как неумело долбят по клавишам его равнодушные ученики, отбарабанивая гаммы и простейшие мелодии. Иногда, по утрам, он решал, что сочиненное им прошлой ночью бездарно; слышался нестройный удар, потом – скрежет табурета, хлопанье двери, замирание шагов под лестницей.
Пока я все это обдумывал, на периферии моего внимания появился и снова исчез перекресток у телефонной будки, откуда я звонил Марку Добенэ. Народ вываливался из синего бара с зачерненными окнами, старики ямайского происхождения жарили кур на улице перед конторой «Движение», уже другие молодые парни толкали наркотики. Затем шли шиномонтажная мастерская и кафе, где в тот день люди смотрели, как я, отправившись встречать Кэтрин, дергался туда и обратно на улице, не сходя с места; затем, перед бывшей зоной осады – улица, идущая параллельно улице, перпендикулярной моей. Затем я очутился дома. Я сидел на диване, наполовину сложенном Кэтрин, и продолжал все это обдумывать, держа в руке полоску обоев. Время от времени я смотрел на схему, которую на ней нарисовал. По большей части просто сидел и держал ее в руке, не мешая расти вспомненному миру.
И он действительно рос. Я начал более ясно различать двор – двор между моим домом и тем, с волнообразной крышей и черными котами на ней. Там имелся садик – правда, садик весьма запущенный. Я мысленно просмотрел его повнимательнее, двигаясь слева направо и обратно.
– Там же мотоцикл! – произнес я вслух.
И верно – на маленьком пятачке двора, прямо перед задней дверью моего дома, где не росла трава, стоял мотоцикл. Мотоцикл держался на подножках, некоторые из его нижних болтов были откручены, поскольку – ну конечно же! Это над ним трудился еще один сосед. Теперь я вспомнил этого человека – мотоциклиста-любителя, жившего на втором этаже. Лет двадцать с чем-то, весьма хорош собой, темные волосы средней длины. Все выходные он занимался во дворе своим мотоциклом: снимал детали и чистил их, потом прикручивал обратно. Иногда он включал мотор на целых двадцать минут подряд, и это доставало пианиста – слышно было, как тот опять со скрежетом отодвигает табурет и меряет шагами квартиру, выйдя из себя. Все это мне вспомнилось, пока я сидел на полусложенном диване.
Я просидел на диване всю ночь, вспоминая. Снаружи запели птицы, потом послышалось жужжание молочных фургонов, потом сквозь шторы начал просачиваться серо-голубой свет. Я вспомнил ничем не примечательную пару средних лет, жившую этажом выше мотоциклиста-любителя, на третьем этаже. Бездетные. Он каждый день уходил на работу, а она оставалась дома или шла за покупками, или отправлялась помогать в «Оксфэм», а может, в какую-то другую благотворительную организацию. Дальше – менее отчетливые соседи, люди, на которых, по сути, не обращаешь особого внимания. Была там и консьержка; я ясно видел шкаф, где она держала свои щетки с ведрами, но сама она – лицо, фигура – мне не давалась. Я видел чугунные перила на большой лестнице; они были такого оттенка, какой бывает от окисления, все в зеленую крапинку. Поручни на них были черные, деревянные, утыканные мини-штырьками, зубчиками – может, для украшения, а может, чтобы по ним не съезжали дети. Потом – узор на полу: черный на белом, повторяющийся, затертый. Разглядеть его как следует я не мог, но основную закономерность его течения ухватить удалось. Я отпустил свои мысли, и они потекли по нему, поплыли над ним, одновременно утопая в нем, а он поглощал их, словно истертая, узорчатая губка. Я провалился в сон – в этот дом с его поверхностями, с шипением и шкворчанием печенки, с фортепьянной музыкой, летящей вверх по лестнице, с птицами и молочными фургонами, с черными котами на красных крышах.
Следующий день, как нарочно, оказался воскресеньем. Мне нужен был понедельник с его открытыми конторами. Мне понадобятся риэлторы, агентства по найму, бог знает что еще. И потом, вдруг до понедельника сложившийся у меня единый образ этого места рассеется? Надолго ли все эти подробности останутся в моей памяти? Чтобы не потерять их, я решил изобразить их на чертеже. Собрав всю неиспользованную бумагу, какая нашлась в квартире, я начал рисовать диаграммы, планы, расположение комнат, этажей и коридоров. Закончив один из них, я прилеплял его на стену в гостиной; иногда объединял три, четыре или пять в большое полотно, в единую картину. Когда чистая бумага кончилась, я пустил в дело письма, счета, юридические документы – все, что попадалось под руку, – рисуя с обратной стороны.
Я изобразил свою квартиру – все, что вспомнил, – двигаясь в стороны от трещины, проходившей по стене ванной. Квартира была скромной, но просторной. Там были деревянные полы, частично прикрытые ковриками. Кухня была открытой планировки и переходила в главную комнату. Ее окно выходило туда же, куда и окно моей ванной, – во двор с садиком и мотоциклом. Холодильник был старый, модели 1960 года. Над ним висели растения – ползучие, в горшках. Я изобразил лестницу, добавив к чертежу надписи и стрелки, чтобы отметить колючки на перилах и оттенок окисления. Изобразил вход в квартиру старухи, которая готовила печенку, место, где она оставляла свой мусор, чтобы его забрала консьержка. Изобразил шкаф консьержки, пририсовав щетку, тряпку, пылесос: как они стояли вместе, что в какую сторону наклонялось. Лицо консьержки мне по-прежнему не давалось, как и слова, с которыми обращалась ко мне хозяйка печенки, когда я проходил мимо, но это я решил до поры до времени не трогать. На самом деле, мне не давались целые куски дома: участки лестницы и парадного, вся площадка четвертого этажа. Их я оставил расплывчатыми, незаполненными, лишь написав пару слов в скобках рядом с несколькими дюймами чистой бумаги.
Под конец дня я заказал пиццу. Ожидая, когда она появится, я вспомнил, что этим вечером должна вернуться Кэтрин. Это был ее последний вечер перед отлетом обратно в Америку. Я перенес свою огромную, разросшуюся карту со стены гостиной на стену спальни, лист за листом. Не успел я съесть последний кусок пиццы, как явилась Кэтрин. Вид у нее был усталый, но довольный, раскрасневшийся.
– Как Оксфорд? – спросил я из кухни, куда вышел поставить чайник.
Чай превратился в главное связующее звено между нами – эдакий тошнотворный, с молоком, заменитель настоящей близости.
– Оксфорд – круто! Офигенно! Там такие… Как эти ребята, студенты, ездят на велосипедах по всему городу. Они такие симпатичные. Так самозвабенно отдаются студенческой жизни…
– Так само – что? – переспросил я, входя с чашками в гостиную и ставя их на стол.
– Самозабвенно отдаются. Езде на велосипеде, разговорам друг с другом. Я все думала, вот было бы классно, если б их можно было уменьшить и держать в коробке, как термитов. Знаешь, бывают такие наборы с термитами?
– Да. Знаю.
Я посмотрел на нее с интересом и удивлением. Подумал: а ведь то, что она сейчас сказала, забавно и умно – ее первое интересное замечание с момента приезда в Лондон.
– На это можно по два раза в день ходить смотреть, и каждый раз будешь: «Ой, гляди! Смотри, этот занимается! Этот на велосипеде едет!» А они и не знают, что ты за ними наблюдаешь. Они же такие…
Тут она остановилась. Она вовсю старалась подыскать нужное слово – и я тоже хотел его услышать, услышать то, что она собиралась произнести.
– Они же такие… – повторил я, медленно, желая помочь ей найти его.
– Симпатичные! – снова сказала она. – Просто студенты, живут, занимаются своими делами, как все студенты.
Я мысленно перенесся в то время, когда был студентом. Все это время я сознавал, что другие люди в этом дурацком провинциальном городке, люди, которые студентами не являются, знают, что я студент, и я должен быть таким, каким они ожидают видеть меня. Каким именно, я в точности не понимал, но чувствовал, что должен, все проведенные там три года, и это их отравляло. Однажды я пошел на демонстрацию: полиция и зеваки наблюдали за нами со смесью недоумения и презрения, пока мы выкрикивали свои лозунги; и я убежденно выкрикивал их в такт с остальными демонстрантами, просто потому, что знал: все за мной наблюдают и ждут именно этого. Не помню даже, по какому поводу была демонстрация.
Чайник закипел.
– Пойду налью, – с этими словами я вернулся в кухню.
Я наливал воду в заварочный чайник, когда обнаружил, что Кэтрин прошла за мной. Она стояла с широко раскрытыми глазами, серьезная. Взглянув на меня, она произнесла:
– Они были ну такие счастливые! Наивные такие.
Я поставил чайник на место и сказал, глядя на нее в упор:
– Можно задать тебе один вопрос?
– Да, – тихим голосом ответила она.
– Какое твое самое сильное, самое ясное воспоминание? Такое, что видишь даже с закрытыми глазами – по-настоящему, ясно, словно в каком-нибудь видении?
Казалось, вопрос ее совсем не удивил. Она спокойно улыбнулась, еще шире раскрыв глаза, и ответила:
– Это было в детстве. В Парк-Ридже, где я выросла, под Чикаго. Там были такие качели, на цементной площадке, а вокруг лужайка. И еще – возвышение, деревянный помост, в нескольких футах справа от качелей. Не знаю, зачем оно там было, это возвышение. Ребята на него запрыгивали и спрыгивали. И я тоже. Ну, я, конечно, маленькая была. Но эти качели я вижу. Как я играла на них, качалась…
Ее голос затих. Продолжать ей было не нужно. Я видел, как она видит эти качели. Глаза у нее были раскрыты широко-широко и так и сияли. Она была прекрасна. Я почувствовал некое шевеление в брюках. Кэтрин поняла. Она медленно шагнула ко мне, раскрываясь изнутри, сияя лицом – сияние, волна за волной, разливалось вокруг. Я уже готов был поцеловать ее, но в этот момент из спальни послышался шелест. Вечерний бриз, дотянувшись через открытое окно до листов с моими диаграммами и чертежами, трепал их, пытаясь оторвать от стены. Я оттолкнулся от серванта, отпихнул Кэтрин и бросился в свою комнату закрыть окно.
Там я и провел всю ночь: делал дополнения и поправки к чертежам, просто глядел на них, не отрываясь. Когда наступило утро, я отвел Кэтрин с ее огромным, грязным фиолетовым рюкзаком в «Движение» и посадил в такси до аэропорта. Потом пришел домой, вытащил телефонный справочник и начал повсюду звонить.
5
Назрул Рам Виас был родом из высшей касты. У них в Индии существует кастовая система: внизу неприкасаемые, наверху – брахманы. Наз был брахманом. Родился и вырос он в Манчестере, но родители его приехали сюда в шестидесятые из Калькутты. Его отец был бухгалтером. Дядя вроде бы тоже. И дед. Не удивлюсь, если перед тем и его отец. Длинная череда писцов, учетчиков, клерков, заносивших в книги операции и события, передававших приказы и распоряжения, благодаря которым совершались новые операции. При их содействии. Так оно и было – Наз содействовал мне во всем. Все совершалось благодаря ему. Он был словно дополнительный набор конечностей – восемь дополнительных наборов конечностей, щупальца, простирающиеся во все стороны, координирующие проекты, отдающие распоряжения, исполняющие команды. Мой исполнитель.
До того, как он появился на моем горизонте, меня одолевали бесконечные проблемы. Не в практическом смысле; без Наза мне вообще не удалось добраться до той стадии, на которой возникают практические вопросы. Нет, я имею в виду проблемы другого рода: как наладить связь. Как довести до понимания людей мой замысел, что именно я хочу сделать. Стоило Кэтрин уехать, я сразу же начал повсюду звонить, но это ни к чему не привело. Я поговорил с тремя разными риэлторами. Первые два не поняли, о чем речь. Они стали предлагать мне квартиры – очень хорошие квартиры, в перестроенных зданиях складов у Темзы, с открытой планировкой и полуэтажами, и винтовыми лестницами, и балконами, и воротами для погрузки, и старыми крановыми стрелами, и тому подобными оригинальными деталями.
– Мне не оригинальные детали нужны, – пытался объяснить я, – а конкретные. Мне нужен определенный узор на лестнице – черный узор на белом мраморе или имитации под мрамор. И надо, чтоб там был двор.
– Разумеется, мы можем попытаться удовлетворить эти предпочтения, – сказала одна риэлторша.
– Это не предпочтения, – ответил я. – Это неотъемлемые требования.
– У нас есть замечательный вариант в Уоппинге, – продолжала она. – Разноуровневая квартира, три спальни. Только что появилась. Думаю, она вам…
– И потом, мне нужен не один только дом, – сообщил я ей, – а все сразу. Там должны быть определенные соседи, например, эта старуха подо мной и пианист двумя этажами ниже ее, и…
– Это вы сейчас в таком доме живете?
Третья риэлторша, к которой я обратился, кое-что поняла – по крайней мере, достаточно, чтобы осознать масштаб моих планов.
– Тут мы вам помочь не можем, – сказала она. – И никто из риэлторов не может. Вам нужен застройщик.
Тогда я стал звонить застройщикам. Это люди, которые берут и находят склады у Темзы, а после, выпотрошив, превращают их в жилье с открытой планировкой и полуэтажами, и винтовыми лестницами, и балконами, и воротами для погрузки, и старыми крановыми стрелами, а потом риэлторы по их указаниям впаривают это богачам, которые любят подобные вещи. С индивидуальными клиентами-лохами, то есть с покупателями, застройщики обычно дела не имеют. Они работают оптом, скупают целые комплексы зданий, развалины старых школ и больниц, отгрохивают дом за домом.
– Здание у нас хотите купить? – сказал человек из одной конторы, когда меня с ним соединили. – А вы вообще-то от кого?
– Я ни от кого. Я хочу отделать здание для себя, в конкретном стиле.
– Мы контрактными работами для конкурентов не занимаемся.
У него был мерзкий голос – холодный голос, жестокий. Я представил себе его кабинет: фанерные полки с папками и гроссбухами, полными дутых цифр, а на улице, во дворе – рабочие, все в джинсах, заляпанных белым, со следами песчаника и цемента, обсуждают политику или футбол, или что они там обсуждают – что угодно, только не мой проект. Им наплевать.
Я позвонил Марку Добенэ. Его в тот момент не было на месте; суровая секретарша сообщила мне, что он вернется через полчаса. Это время я потратил на обдумывание того, что мне ему сказать. Ему, говорил я себе, все можно объяснить: откуда у меня взялась эта идея, почему мне нужно то, что нужно. Он был со мной на протяжении последних пяти месяцев. Он поймет.
Само собой, он не понял. Когда я в конце концов до него дозвонился, речь моя прозвучала невнятно, прямо как в тот раз, когда я представил себе, что пытаюсь объяснить это своему бездомному. Я начал распространяться о трещине на стене у Дэвида Симпсона в ванной, о своем ощущении déjà vu; потом вернулся на исходные, к тому, что с тех пор, как снова научился двигаться, я все время чувствую: все мои действия – вторичные, неестественные, изначально чужие. Потом – как ходил, ел морковку, про фильм с Де Ниро. Каждый раз, когда я останавливался, на том конце провода стояла глубокая тишина – очевидно, до него совершенно не доходило, о чем я. Я перешел к делу и начал описывать красные крыши с черными котами, женщину, готовившую печенку, пианиста, мотоциклиста-любителя.
– Так вы там жили? – спросил меня Марк Добенэ.
– Да. То есть нет. Я все помню, но не знаю, откуда эти воспоминания.
– Ну да, мы же приводили доводы о том, что в результате аварии у вас отшибло память.
Он подчеркивал это в своих документах, готовясь к процессу: как у меня пропала память, а потом вернулась, но не сразу – по частям, наподобие мыльной оперы; такую метафору он, правда, не употреблял.
– Да, – сказал я, – но дело тут, мне кажется, не в одной памяти. Все сложнее. Возможно, тут много всего намешано: воспоминания, воображение, фильмы. Не знаю.
Но важно не это. Важно то, что я все это вспомнил, причем кристально ясно. Как в каком-нибудь…
Тут я запнулся. Слово «видение» использовать не хотелось – еще вообразит себе неизвестно что.
– Алло! Вы слушаете?
– Да. Я говорю, кристально ясно.
– И теперь вы хотите отыскать это место?
– Не отыскать – создать.
– Создать?
– Построить. Хочу, чтобы его построили. Я звонил риэлторам и застройщикам. Никто ничего не понимает. Мне нужен кто-нибудь, кто помог бы мне со всем этим разобраться. Кто взял бы на себя организационную сторону.
На том конце снова последовало долгое, глубокое молчание. Я представил себе кабинет Добенэ: широкий дубовый стол, перед ним расположился стул, вдоль стен – тома с архивами старых дел, в приемной охраняет дверь суровая секретарша. Я покрепче сжал телефонную трубку и нахмурился в попытке сосредоточиться, думая о проводах, соединяющих меня с ним, Брикстон с Энджелом. Это как будто бы помогло. Через некоторое время он произнес:
– По-моему, вам нужен «Контроль времени».
– Контроль времени? В каком смысле?
– «Контроль времени», Великобритания. Это компания, которая помогает людям устраивать разные дела. Вести дела. Что называется, оказывает содействие. Пара моих клиентов пользовались в прошлом ее услугами, и отзывы я от них получал блестящие. Лучшая в своей области компания. По сути говоря, единственная в своей области. Позвоните туда.
В его голосе звучали те же нотки, что в тот раз, когда он велел мне выпить шампанского – добродушные, но строгие. Отеческие. Он дал мне телефон «Контроля времени» и пожелал удачи.
Компания «Контроль времени», Великобритания, находилась на улице Найтсбридж, рядом с магазином «Хэрродз». Основным ее делом была забота о человеке. Ведение дел, как выразился Добенэ. Клиентами компании были по большей части занятые начальники: финансовые руководители, директора и тому подобный народ. Попадались якобы и кинозвезды. Компания «Контроль времени» занималась секретарской работой, планировала и вела записи о встречах и приемах, получала и передавала сообщения, писала пресс-релизы, руководила пиаром. Занималась она и более интимной стороной жизни своих клиентов: заказывала для них еду и продукты, договаривалась, чтобы их одежду забрали в химчистку, а потом вернули, вызывала сантехников, звонила клиентам в восемь двадцать пять, чтобы отвезти их, умытых, позавтраканных и запихнутых в вызванное компанией такси, на устроенную ею же встречу в девять пятнадцать. Компания организовывала праздники, посылала именинные открытки тетушкам и племянникам, покупала билеты на второй день четвертого тестового матча, если, зная о пристрастии клиента к крикету, предварительно выкраивала окошко в его графике на тот день. Базы данных там, наверное, были потрясающие – какая архитектура, какие поля!
Я позвонил в «Контроль времени» ранним вечером, почти сразу после того, как закончил разговаривать с Добенэ. Ответил мужчина, судя по голосу – спокойный, но деловитый. Вообразить их офис целиком я не мог, но где-то там мне виделись такие сине-красные пластмассовые ящички для входящих и исходящих, вроде тех, что бывают на партах в начальной школе. Мне представлялся офис открытой планировки, со стеклянными или плексигласовыми внутренними перегородками. Фоновые звуки были пушисто-мягкие, а не отрывисто-резкие, что подразумевало ковры, а не паркет. Голос мужчины вселил в меня уверенность; необходимости вдаваться в объяснения, похоже, не было. Я просто сказал:
– Меня к вам направил мой адвокат, Марк Добенэ, из «Оланджера и Добенэ».
– А, да, – откликнулся мужчина, очень приветливо – фирма «Оланджер и Добенэ» была широко известна.
– Мне необходимо чье-нибудь содействие в большом проекте, который я задумал.
– Прекрасно, – откликнулся приветливый мужчина, как будто в точности понимавший, что мне нужно, безо всяких вопросов. – Сейчас я вас соединю с Назрулом Виасом, одним из наших главных партнеров, и вы ему все расскажете. Хорошо?
– Прекрасно, – повторил я в ответ.
Секрет заключался в слове «содействие». Это оно творило чудеса. Слово Марка Добенэ. Ожидая, пока меня соединят с Виасом, я впервые почувствовал благодарность к Добенэ – не за то, что добился для меня этих денег, но за то, что подкинул мне на язык это слово – «содействие».
Судя по голосу, Виас был молодым человеком. Примерно моего возраста – под тридцать или чуть старше. Голос у него был довольно высокий. Высокий и негромкий; в нем прослушивались три слоя: манчестерская основа, верхний слой южноанглийского намека на аристократизм, а сверху, словно глазурь на торте – восточная напевность. Назвав по имени себя, потом меня, он спросил, чем он может мне помочь. Он производил впечатление человека уверенного и делового. Представить себе его офис полностью я не мог, но ясно видел его рабочий стол – белый и очень аккуратный.
– Алло, – произнес я.
– Алло, – произнес Назрул Виас.
Последовала пауза, затем я решился:
– Я задумал большой проект и хотел бы заручиться вашей поддержкой.
«Заручиться» вышло хорошо. Я был доволен собой.
– Хорошо, – сказал Наз. – Что за проект?
– Я хочу купить здание, здание конкретного типа, и отделать и обставить его в конкретном стиле. Требования у меня точные, вплоть до малейших деталей. Я хочу нанять людей, чтобы они там жили и выполняли задачи, которые я буду перед ними ставить. Им надо будет выполнять все в точности, как я скажу, и тогда, когда попрошу. Скорее всего, мне потребуется еще здание напротив, и, вероятно, его придется перестроить. В этом месте тоже должны будут происходить определенные действия, в точности так и тогда, как и когда мне потребуется. Проект необходимо запустить, набрать для него персонал и координировать его ход, причем начать хотелось бы как можно скорее.
– Превосходно, – тут же отозвался Наз.
Он ответил, не медля ни секунды. Я почувствовал, как что-то поднимается у меня в груди, некое покалывание.
– Давайте встретимся, – продолжал Наз. – Когда вам удобно?
– Через час?
– Отлично – ровно через час. Мне к вам приехать или вы сами приедете сюда?
Я на секунду задумался. Диаграммы были у меня дома, в спальне, по-прежнему прилепленные к стене, но ни показывать их ему, ни вдаваться в предысторию событий – вечеринка, ванная, трещина – я не хотел, не говоря уже про морковку и дверцу холодильника. Все и так шло как нельзя лучше. Я хотел, чтобы все так и продолжалось, обыденно и четко. У меня в голове сложился образ: прозрачная, с пузырьками, вода, большие чистые поверхности и много света.
– В ресторане, – сказал я. – В современном ресторане, чтобы там были большие окна и много света. Можете вы это устроить?
Не прошло и пяти минут, как он перезвонил сообщить, что заказал для нас столик в заведении под названием «Проект-кафе».
– Это ресторан в Музее дизайна, – объяснил Наз. – Батлерз-уорф, рядом с Тауэрским мостом. Прислать за вами машину?
– Не надо. Увидимся через час. Как я вас узнаю?
– Я азиат. На мне будет голубая рубашка.
Я наскоро принял ванну, надел что-то чистое, приличное и только собрался выйти из квартиры, как зазвонил телефон. Я уже включил автоответчик. Он сработал, и я задержался в дверях, выяснить, кто это.
Это оказался Грег. «Але, мужик, – произнес его голос. – Жаль, ты рано ушел в субботу. Под конец там все пошло ва-аще патрясающе». Эти последние слова он произнес с шуточным калифорнийским акцентом, голосом «девушки из долины». «Ну ты как, Кэтрин своей уже засадил? Или, может, сейчас как раз вставляешь? Ты ей засаживаешь, а она: Да! Да! Еще! Еще школ и больниц! Еще деревянных построек!»
В этом духе он продолжал довольно долго. Я стоял, слушая, как его голос проходит через дешевенький аппарат, пытаясь симулировать оргазм. До аварии все это показалось бы мне очень смешным. Теперь – нет. Не то чтобы это казалось мне обидным или грубым – мне это вообще ничем не казалось. Я стоял и смотрел на автоответчик, а из него шел голос Грега. В конце концов он повесил трубку, и я ушел.
Хорошо, что Наз сказал мне, как он будет одет – в «Проект-кафе» был еще один молодой парень-азиат. Однако Наза я все равно узнал бы. Он выглядел в точности, как я себе представлял, но слегка по-другому, что я так или иначе предвидел. Он сидел за столиком у окна, вбивая что-то в карманный органайзер. У него было интересное лицо: по большей части искреннее и открытое, только глаза темные – темные, запавшие и пронзительные. Он поднялся, чтобы поздороваться со мной, мы пожали друг другу руки и сели.
– Добрались без проблем? – спросил он.
– Да, все отлично.
На стенах в «Проект-кафе» висели фотографии видных британских дизайнеров. Это было хорошо, очень хорошо. Появился официант, и Наз попросил большую бутылку минеральной воды.
– Поедим? – спросил он меня.
Я не был особенно голоден.
– Вы как? – ответил я вопросом на вопрос.
– Что-нибудь легкое.
Мы заказали кеджери и две маленькие тарелки рыбного супа. Вина брать не стали. Официант удалился в направлении кухни, которая частично виднелась за большим круглым окном. Так она была задумана: открытая, но не полностью, не так, чтобы обедающим были видны все до единого действия поваров, – открытая настолько, чтобы они могли ухватить взглядом кое-что: голубые языки пламени, выскакивающие из сковородок, пальцы, окропляющие блюда дождем из трав, и тому подобные вещи.
– Прежде чем начать воплощать ваш проект в жизнь, – сказал Наз, – нам нужно получить какое-то представление о масштабах. Какого размера здание вы имеете в виду?
– Большое. Шесть или семь этажей. Вы в Париже бывали когда-нибудь?
– Был две недели назад.
– Ну вот, такое здание, как там. Большие жилые дома, с кучей квартир, нагроможденных одна на другую. Такого типа здание мне и нужно. Моя квартира должна быть на предпоследнем этаже.
– А здание напротив? Если я правильно помню, вы дали понять, что это здание вам тоже, вероятно, понадобится.
– Верно. Оно должно быть почти такой же высоты. Возможно, на один этаж пониже. Под «напротив» я понимаю стоящее сзади. Отделенное двором. В этом здании мне понадобятся только две вещи: чтобы на крышах был красный шифер, а по нему гуляли черные коты.
– Крыши во множественном? – спросил он.
– Они идут вверх и вниз. Поднимаются и опускаются. Определенным образом. Может быть, нам придется их видоизменить. Нам наверняка придется видоизменить многое во всем здании и во дворе.
– Да, вы мне говорили. Но расскажите про людей, которыми вы планируете заселить здание. Я имею в виду основное здание. Они в действительности будут там жить?
– Ну да. Они могут там жить и в действительности. Только им придется привыкнуть к тому, чтобы существовать в двух режимах: «включено» и «выключено».
– Что вы имеете в виду?
– Ну, в режиме «включено» они выполняют задания, которые я их прошу выполнять. А все остальное время могут делать, что хотят. Как солдаты: только что были на параде, а потом идут, курят сигареты в караулке, моются, может, переодеваются в гражданское. Но потом, через несколько часов, им снова надо быть на параде.
Подошел официант. Перед Назом лежал его карманный органайзер. Это был «Псайон» – одна из компаний, чьи акции мы с Мэттью Янгером недавно купили. Он лежал на столе экраном кверху, но Наз им не пользовался. Вместо этого он заносил мои требования в голову, переводя их в маневры, которые следовало выполнить. Это было заметно – там, в глубине его глаз, что-то жужжало. Я почему-то вспомнил про жуков-скарабеев, потом – про слово «сайон»[1]. Та штука в глубине его глаз пожужжала немного, а потом он спросил:
– Какие задания вы хотите, чтобы они выполняли?
– Внизу, непосредственно подо мной, будет жить старуха. Ее основной обязанностью будет готовить печенку.
Постоянно. Ее кухня должна выходить наружу, во двор, в задний двор, куда будут выходить и мои собственные кухня с ванной. Запах печенки должен подниматься кверху. Еще от нее потребуется выставлять за дверь мусорный мешок, когда я спускаюсь по лестнице, и обмениваться со мной определенными репликами, которые я вспомню и закреплю за ней.
– Понятно, – сказал Наз. – Кто еще?
– Еще там будет… что означает слово «сайон»?
– Не знаю. Давайте выясним. Сейчас свяжусь с коллегой и попрошу его посмотреть в словаре.
Он вынул крохотный мобильный телефон, включил его и набрал сообщение. При каждом нажатии кнопки телефон издавал писк. Он положил телефон на стол и подождал, пока сообщение отправится. Я снова представил себе его офис: сине-красные пластмассовые ящички для входящих и исходящих, стеклянные внутренние перегородки, ковры. Мысленно начертил треугольник: луч, идущий от нашего ресторана вверх, к спутнику в космосе, потом обратно вниз, к офису «Контроля времени», куда спутник должен был его отразить. Я вспомнил, как меня тряхнуло ветром – последнее цельное воспоминание до аварии.
– Еще, – продолжал я, – там будет пианист, этажом ниже этой старухи.
– Так, а кто еще живет на ее этаже?
– Никто. В смысле, никто из конкретных людей. Просто безымянные, невнятные соседи.
– Эти невнятные соседи – им не нужно быть на параде? Я имею в виду, в режиме «включено»? Их можно все время держать выключенными?
– Нет. Все… исполнители – нет, не исполнители; это не то слово… участники… сотрудники… должны быть… я хочу сказать, вся территория должна будет целиком находиться в сфере наших полномочий.
– Вы продолжайте, – сказал Наз. – Простите, что перебил.
– Разве?
Тут я слегка заволновался – почувствовал, что не могу удержать нужный тон. Я вспомнил последнее официальное слово, которое использовал, и повторил его, чтобы этот тон вернуть.
– Да, так вот: в сфере наших полномочий. Кроме хозяйки печенки, под ней или, может, через этаж, должен быть пианист. Под сорок или чуть больше, лысая макушка, патлы по бокам. Высокий и бледный. Днем он репетирует. Музыка должна подниматься кверху точно так же, как запах при готовке печенки. Когда репетирует, он должен время от времени ошибаться. Ошибившись, он медленно повторяет пассаж, снова и снова, а в том месте, где споткнулся, совсем замедляется. Как «Ленд Ровер» замедляется перед неровным участком – например, там, где рытвины. Дальше, после обеда он учит детей. Ночью сочиняет. Иногда он злится на…
Мобильный Наза издал громкий двойной писк. Я остановился. Взяв его в руки, Наз нажал кнопку «ввод».
– Отпрыск, потомок, – прочел он. – От среднеанглийского sioun и старофранцузского sion – побег, ветка. Первое упоминание 1848 г. Оксфордский словарь английского языка.
– Интересно, – я пригубил минералку и снова вспомнил про жуков-скарабеев. – Так вот, – продолжил я через пару секунд, поставив стакан, – иногда этот парень злится на другого человека, который мне тоже понадобится, на этого мотоциклиста-любителя, который возится со своим мотоциклом во дворе. Ремонтирует его, чистит, разбирает, снова собирает. Когда у него работает мотор, пианист злится.
Какое-то время Наз обрабатывал сказанное. В его глазах появилось отсутствующее выражение, а эта штука в глубине все жужжала, все обрабатывала информацию. Я подождал, пока глаза велят мне продолжать.
– Дальше идет консьержка. Ее лицо мне пока не дается – зато есть ее шкаф. И еще несколько человек. В общем, понятно.
– Да, понятно, – сказал Наз. – А где будете вы, когда они будут выполнять свои задания – когда они будут в режиме «включено»?
– Я буду повсюду перемещаться, как мне заблагорассудится. Мы будем отрабатывать разные вещи в разное время. Разные места, разные моменты. То мне захочется пройти мимо хозяйки печенки, когда она выносит мусор. То мне захочется выйти на улицу к мотоциклу. А то обе сцены одновременно – одну можно приостановить, а я побегу вверх или вниз по лестнице, чтобы попасть в другую. Или в третью. Комбинаций бесконечно много.
– Да, это верно.
Принесли рыбный суп. Мы его прихлебывали. Потом кеджери. Мы его ели. Я разъяснял Назу прочие подробности, а он их обрабатывал. Когда его глаза велели мне подождать, я ждал; когда жужжание в глубине прекращалось, я снова двигался дальше. Он ни разу не спросил меня, зачем мне все это нужно; просто слушал, обрабатывая, рассчитывая, как все это исполнить. Мой исполнитель.
Перед тем, как мы ушли из «Проект-кафе», Наз ознакомил меня со своими расценками. Хорошо, сказал я. Я сообщил ему реквизиты своего банковского счета, а он сказал мне, как с ним можно связаться в любое время; он будет руководить моим проектом лично, ни на что другое не отвлекаясь. На следующее утро в десять он позвонил мне и рассказал, как, по его мнению, нам следует действовать: сначала нам следует найти здание, приблизительно соответствующее тому, которое я имел в виду – по крайней мере, до такой степени, чтобы его можно было перестроить. Это первый шаг. Пока это делается, он свяжется с архитекторами, с дизайнерами и, конечно, с потенциальными актерами.
– Актеры – это не то слово, – сказал я. – Персонал. Участники. Реконструкторы.
– Ре-конструкторы? – переспросил он.
– Да, – ответил я. – Реконструкторы.
– Вы хотите, чтобы я организовал поиски недвижимости?
– Ну да.
Когда мы закончили разговор, у меня перед глазами снова сложилась четкая картина моего дома: сначала вид снаружи, потом парадное, шкаф моей безликой консьержки, главная лестница с черно-белым повторяющимся узором на полу, с почерневшими деревянными перилами, утыканными штырьками. Потом на это наложился офис Наза: сине-красная пластмасса, окна, его сотрудники, как они шагают по коврам, отправляясь на поиски моего места. Эти люди несли с собой в город образ «Контроля времени», а не образ моего дома. Этот второй образ начал угасать у меня в голове. Внезапная волна страха пробежала по правой половине моего тела, от голени вверх, до самого правого уха. Я сел, закрыл глаза и изо всех сил сосредоточился на своем доме. Держа их закрытыми, я продолжал сосредотачиваться, пока тот образ не вернулся и не затмил образ офиса. Мне полегчало. Я снова поднялся.
Тут мне стало ясно, что есть только один человек, способный заняться поисками недвижимости, и этот человек – я.
6
В школе, лет, наверное, в двенадцать, мне приходилось заниматься изобразительным искусством. Силен я в нем никогда не был, но оно входило в программу: час двадцать минут в неделю – сдвоенный урок. Несколько недель нас обучали скульптуре. Нам дали такие большие каменные блоки, резец с молотком, и мы должны были превратить эти блоки в нечто узнаваемое – человеческую фигуру или здание. Учитель нашел действенный способ дать нам понять, чем мы занимаемся. Законченная статуя, объяснял он, – вот она, уже перед нами, в том самом блоке, над которым мы работаем резцом.
– Ваша задача – не создать скульптуру, – говорил он, – ваша задача – убрать все остальное, избавиться от него. От избыточной материи.
Избыточная материя. Я совсем забыл эту фразу, эти уроки – в смысле, еще до аварии. После аварии я забыл все. Словно мои воспоминания были голубями, а авария – сильным шумом, который их распугал. В конце концов они припорхали обратно, но когда это произошло, соотношение их сил изменилось, и в результате некоторым взамен их прежних мест на задворках достались места получше: я вспомнил их более четко; они стали казаться более важными. Например, спорт – ему с местоположением повезло. До аварии я никогда особенно не интересовался спортом. Но как только ко мне вернулась память, я обнаружил, что со школьных времен очень четко помню каждый баскетбольный и футбольный матч, в котором участвовал. Зрительная память сохранила расположение площадки или поля, то, как двигались по ним я и другие игроки. В особенности крикет. Я точно вспомнил, каково это было – играть в него летними вечерами в парке. Вспомнил матчи, которые видел по телевизору: обзор разметки поля; поверх начерчены диаграммы, показывающие, какие направления прикрыты, а какие нет; замедленные повторы. А другие вещи стали менее важными, чем прежде. Университетские годы, к примеру, стянулись в полинявшую картинку: несколько пьяных загулов, перегоревших дружеских привязанностей да куча недочитанных книжек – все это смазалось, превратившись в сплошную несообразность.
Учитель изобразительного искусства, припорхнув обратно в воспоминания, оказался на хорошем, четком месте. Я даже вспомнил, как его звали – мистер Олдин. Когда я учился ходить и есть морковку, то много думал о его словах насчет избыточной материи, которую надо убрать. Движение, которое я хочу сделать, уже на месте, говорил я себе; мне просто нужно устранить все не имеющее отношения к делу: избыточные члены, и нервы, и мускулы, которыми я двигать не хочу, кусочки пространства, через которые моей руке или ноге двигаться не надо. Я не обсуждал это с физиотерапевтом – просто говорил сам себе. Это помогало. Теперь, размышляя, как мне найти мой дом, я снова вспомнил мистера Олдина. Дом, сказал себе я, или сказал мне он, или, если быть точным, сказал мне образ школьного кабинета изобразительного искусства голосом, колыхавшимся среди заляпанных краской деревянных столов, дом – вот он, уже где-то здесь, в Лондоне. Мне нужно лишь выпростать его, высечь из охватывающих его улиц и зданий.
Как это сделать? Разумеется, мне нужно взглянуть на заготовку, на Лондон. У меня был замызганный, разлохмаченный план улиц, но по нему никакого представления о городе в целом я составить не мог. Мне понадобится настоящая карта, большая. Я уже собирался пойти и купить ее в ближайшей газетной лавке, как вдруг мне пришло в голову, что я мыслю недостаточно масштабно. Чтобы заняться этим как следует, мне понадобится координация усилий, поддержка. Я перезвонил Назу.
– Я хочу снять комнату, – сказал я ему.
– Какую комнату?
– Место. Офис.
– Ясно.
– Я хочу, чтобы руководство поисками велось оттуда, – продолжал я. – Чтобы на стенах висели карты и все такое. Вроде штаба военных действий.
– Вы сами хотите руководить поисками? – спросил он. – Я думал, это мне…
– Я хочу возглавить поиски, но чтобы вы работали со мной.
После паузы Наз произнес:
– Прекрасно. Значит, офис.
– Да.
– Еще какие-нибудь уточнения будут?
– Нет, – ответил я. – Просто обычный офис с парочкой столов. Освещение, окна. Все как обычно.
Спустя час он нашел мне офис в Ковент-Гардене. Там были факс, две телефонные линии, компьютер, фломастеры, белые листы формата А1, две гигантские карты Лондона, булавки, чтобы приколоть одну из карт к стене, и еще булавки, чтобы втыкать в нее, отмечая разные места. Наз купил булавок нескольких различных цветов да еще ниток, чтобы обматывать вокруг них, наподобие проволоки для сыра, нарезая город на квадраты и клинья.
Мы с Назом разработали метод: мы решили, что будем отсекать участок настенной карты булавками и нитками, потом с помощью сканера переносить тот же участок со второй карты на компьютер, потом, отрезая прилегающие улицы с помощью специальной программы, рассылать получившееся изображение людям Наза на имеющиеся у них при себе мобильные. Мы изолировали шесть основных районов, в которых, по нашему мнению, с наибольшей вероятностью мог находиться мой дом: Белгрейвия, Ноттинг-Хилл, Саут-Кенсингтон, Баронс-корт, Паддингтон и Кингс-Кросс. В каждом из них было множество высоких жилых зданий, не говоря уж о плавно текущих, непрерывных улицах, которые, за небольшими исключениями, не считая кое-каких зданий вокруг вокзалов, избежали бомбежек во время Второй мировой войны, оставшись практически неповрежденными.
Мы запустили наш план в дело. Наз бросил на него пятерых или шестерых из своих людей; их задачей было обходить улицы каждого квадрата и клина, которые мы им посылали. Мы работали методически: каждый участок следовало обвести, отсканировать, раздраконить. Затем люди Наза отправлялись его обходить; увидев здание, которое, по их мнению, могло примерно походить на мое, они тут же звонили в офис. Каждый из них двигался по улицам в своем квадрате так: по одной туда, потом по следующей обратно, по следующей туда и так далее. Время от времени звонил какой-нибудь из наших телефонов:
– Нашел большой многоквартирный дом с голубым фасадом рядом с Олимпией, – говорил один из участников поиска.
– Какая улица? – спрашивали мы.
– Угол Лонгридж-роуд и Темплтон-плейс.
– Сколько этажей?
– …три, четыре, пять-шесть!
– Лонгридж-роуд, Темплтон-плейс, – повторял один из нас другому; другой находил пересечение на настенной карте, втыкал туда фиолетовую булавку и заносил данные – шесть этажей, голубой фасад и так далее – в таблицу, созданную Назом на компьютере. Иногда оба телефона звонили одновременно. Иногда ни тот, ни другой не звонил по нескольку часов.
В первый день часам к пяти в карту было воткнуто девять фиолетовых булавок.
– Поедемте посмотрим на них, – предложил Наз. – Я вызову нам машину.
– Завтра, – ответил я.
На следующий день к пяти часам у нас было пятнадцать зданий. Я отодвинул прибытие машины на шесть, но, когда подошло время, сказал Назу:
– Лучше подождать до завтрашнего утра.
– Как хотите. Пришлю другую машину к вам домой к девяти.
На следующее утро я позвонил ему в восемь тридцать.
– Лучше я поеду туда сам.
– Значит, встретимся там.
– Нет. Лучше я поеду один.
– Как вы узнаете, в каких местах смотреть?
– Я их все помню.
– Правда? – Голос Наза звучал недоверчиво. – Все точные расположения?
– Да.
– Поразительно, – сказал он. – Звоните по необходимости.
Всех расположений я, разумеется, не помнил. Но в течение последних двух дней я все больше и больше убеждался в одном: эти люди мой дом не найдут. Как бы хорошо я им его ни описал, как бы тщательно они ни искали, мой дом они не найдут по одной простой причине: этот дом не будет моим, если я не найду его сам. На второй день их поисков, к полудню, у меня не осталось никаких сомнений на этот счет.
Почему же тогда я не отозвал поисковую группу? – возможно, спросите вы. Потому что мне нравился этот процесс, нравилось ощущать, что в нем присутствует схема. Люди проделывают одни и те же, повторяющиеся действия – справляются с мобильными, ходят по одной улице туда, по следующей обратно, по третьей туда, останавливаются перед зданиями, чтобы позвонить, – в шести различных частях города. Зарывшись в квадрат улиц, они расшатают его изнутри, начнут работать резцом по избыточной материи; они страхом выманят мой дом наружу, словно загонщики, выманивающие из кустов фазанов у лорда на охоте – шестеро загонщиков, наступающие строем, отбивающие один и тот же ритм, копируя движения друг друга. В тот день я поначалу представлял себе, как наблюдаю за процессом сверху, расположившись высоко над городом, выхватываю взглядом людей Наза; на каждом нечто вроде значка, пятнышка, как бывает на полицейских машинах, чтобы полицейским вертолетам легче было выхватывать их взглядом. Представлял, как смотрю вниз и вижу их всех – плюс себя, седьмое движущееся пятнышко, то, как мои повороты в сторону и кругом вырезают, будто на гравюре, основную схему, которую воспроизводят остальные шестеро. Представлял, как смотрю вниз с еще большей высоты, с границы стратосферы. На секунду остановившись на улице, я почувствовал легкое движение воздуха вокруг лица. Я вытянул руки вперед ладонями кверху и почувствовал, как по правой половине тела вверх поползли мурашки. Мне стало хорошо.
Начал я с Белгрейвии. Я ходил по одной улице туда, по следующей обратно, по третьей туда, совсем как люди Наза согласно данным им инструкциям, чтобы ничего не пропустить. Однако через два часа я понял, что мой дом находится не в Белгрейвии. Тут чисто; белые дома с приподнятыми крылечками и белыми колоннами – даже те, что формально отвечали критериям, которые я сообщил поисковой группе, – не вызывали у меня никаких воспоминаний. То же было с Кингс-Кроссом. И с Саут-Кенсингтоном. Лучше других оказался Паддингтон – несколько зданий в этом районе были похожи на мое. Они были похожи на мое, но моими не были. Не спрашивайте, откуда я это знал – знал, и все.
Под вечер я позвонил Назу.
– Ну как? – спросил он.
– А, да я к тем, что отобрали наши люди, не ходил, – ответил я ему. – Решил самостоятельно искать.
– Понятно. Тогда я велю им приостановить поиски.
– Нет. Велите им продолжать. Когда исчерпаем наши первоначальные шесть районов, расширим территорию.
На том конце наступила пауза. Мне представилось то, что происходит в глубине его глаз, это жужжание. Через некоторое время он сказал:
– Сделаю, раз вы так хотите.
– Хорошо.
Процесс – он был необходим.
В тот день я свой дом не нашел. На следующий тоже. Когда я в тот вечер попал домой, там меня ждали два сообщения: одно от Грега, одно от Мэттью Янгера. Грег хотел, чтобы я ему позвонил. Мэттью Янгер тоже хотел, чтобы я ему позвонил, – секторы, включенные нами в портфель акций, за последнюю неделю поднялись в стоимости на десять процентов, предоставив нам замечательную возможность «срезать верхушку» и диверсифицировать. Их сообщения я слушал, лежа на диване. Меня измотали все эти сегодняшние хождения. Я принял ванну, заклеил пластырем мозоль, которая появилась у меня на правой ноге, и пошел спать.
Мне приснился сон, отчетливый, как явь. Во сне улицы и здания двигались мимо меня, подобно пассажирам в тот день, когда я стоял неподвижно перед вокзалом Виктория и просил мелочь у прохожих. Улицы и здания двигались мимо меня на конвейерных лентах, вроде тех, длинных, что везут тебя по аэропортовским коридорам. Этих движущихся лент было несколько, они соединялись между собой: сходились и разветвлялись, перекрещивались, ныряли одна позади другой или одна под другую, словно полосы запутанной развязки, и провозили мимо меня и вокруг меня дома, тротуары, фонари, светофоры и мосты.
Мой дом был где-то там – ехал посреди этих сложных переплетений. Он попадался мне на глаза, проскальзывая за другое здание и опять уносясь прочь, чтобы появиться заново где-то еще. Ленты походили на пальцы фокусника, тасующие карты: они тасовали город, на лету показывали мне мою карту, мой дом, а после снова прятали ее в колоде. Они требовали, чтобы я крикнул: «Стоп!» именно в тот момент, когда ее было видно; сумей я это сделать, выиграл бы. Таков был уговор.
«Стоп!» – кричал я. И опять: «Стоп! Стоп!». Но каждый мой выкрик чуть-чуть отклонялся от цели – всего на десятую или даже сотую секунды, но тем не менее отклонялся. Я кричал «стоп» всякий раз, как видел свой дом, и система конвейеров начинала тормозить, но на это уходило несколько секунд, и к моменту, когда она останавливалась полностью, мой дом снова исчезал с поверхности.
Через некоторое время я закрыл глаза – во сне – и попытался почувствовать, когда он появится. Я почувствовал ритм, в котором все двигалось, схемы, по которым все развивалось, и позволил воображению проскользнуть внутрь. Я чувствовал появление моего дома. Подождав, пока он пройдет мимо дважды, перед самым третьим разом я крикнул:
– Стоп!
Еще крича, я понимал, что на этот раз все должно получиться. Конвейеры снова затормозили, и мой дом остановился прямо передо мной. Шагнув вперед, я вошел в него. Мне удалось увидеть все еще яснее, чем в тот вечер, на новоселье у Дэвида Симпсона; удалось побродить вокруг, наслаждаясь деталями: шкаф консьержки и лестница с затоптанным полом, повторяющийся черно-белый узор на нем, окислившиеся чугунные перила, черный поручень со штырьками. Я увидел дверь пианиста и дверь хозяйки печенки, тот пятачок рядом с ней, куда она ставила мусор, когда я проходил мимо нее, свою собственную квартиру этажом выше: кухню открытой планировки и растения, ванную с растрескавшейся стеной и окно, выходящее во двор, а напротив – дом с красной черепицей на крышах и черными котами. Мне удалось занять все здание целиком – ненадолго, но все же на какое-то время, пока обстановка не сменилась и я не очутился в помещении библиотеки, где торговался по поводу билетов с ворчливой официанткой из Югославии.
Проснувшись наутро, я начал понимать, почему не нашел свой дом в первые четыре дня работы: я подходил к делу рационально. С логикой. Мне следовало взяться за все это иррационально. Без логики. Ну конечно! Возможно, за последние несколько лет я когда-то уже проходил мимо этого дома – а значит, где-то в моей памяти должна была сохраниться запись о нем. Какой-то след всегда остается. И потом, даже если я еще не проходил мимо него, все равно выследить его мне удастся только в том случае, если буду двигаться украдкой: не по прямым, квадратам и клиньям, а наискось, по диагонали, подбираясь к нему сбоку хитроумными маршрутами.
Я приготовил себе завтрак и задумался, как же добиться, чтобы поиски стали иррациональными. Первой в голову пришла идея использовать карту в духе «И-Цзинь»: закрыть глаза, несколько раз повернуться, воткнуть, не глядя, булавку, а потом отправиться на поиски в тот район, куда ей случилось попасть. Однако чем больше я об этом способе думал, тем менее хитроумным он мне представлялся. Случайный – это ведь не то же самое, что хитроумный. Я опробовал его на своем плане улиц – просто так, посмотреть, что выпадет: Митчем. Попробовал во второй раз: Уолтэмстоу-Маршес. Вот вам и восточная мудрость.
Следующей моей идеей был цвет: следовать за цветом. Можно было, скажем, принять решение двигаться туда, куда двигаются желтые предметы: грузовик, рекламный плакат, чья-нибудь одежда. Можно было, начав где-нибудь – где угодно, – пойти по улице, по которой проехал желтый грузовик, затем подождать возле магазина с желтым фасадом, пока мимо не пройдет женщина в желтых брюках, и пойти за ней. Это был абсолютно произвольный подход, но он мог к чему-нибудь привести, заставить меня взглянуть на вещи не так, как обычно, приоткрыть какие-то щелки в камуфляже, за которым скрывался мой дом.
Развивая эту идею дальше, я придумал еще план: идти дерганым, хаотическим образом. Не в смысле самой ходьбы, походки, а в том смысле, чтобы поначалу двинуться по одной улице, потом внезапно повернуть назад, как я сделал, когда отправился в Хитроу встречать Кэтрин, но сообразил, что забыл бумажку с номером и временем прибытия ее рейса. Или можно притвориться, будто направляешься в одну сторону, ждешь, чтобы перейти определенную улицу по пешеходному переходу, – а потом, когда загорится зеленый, отклониться в каком-нибудь другом направлении, подобно футболисту, бьющему пенальти, когда он заставляет вратаря прыгать не в ту сторону.
Еще я подумал, не последовать ли мне числовой системе: начав с нулевой отметки, свернуть в первую улицу направо, потом во вторую налево, в третью направо, в четвертую налево и так далее. Система, разумеется, может быть гораздо сложнее: можно ввести дроби, алгебру, дифференциалы и бог знает что еще. Или же можно разработать соответствующий процесс с помощью алфавита: пойти по первой из попавшихся мне улиц, название которой начинается на «а», идти дальше, пока не встречу «b», «с» и так далее. Или можно применить к алфавитному процессу числовые принципы: начать с улицы, начинающейся на «а», затем продвинуться вперед по алфавиту на количество букв, равное тому, что содержится в названии улицы, и найти ближайшую улицу, название которой начинается с этой новой буквы. Или можно…
В разгар моих размышлений зазвонил телефон. Это оказался Мэттью Янгер.
– Как ваши дела? – спросил он.
– Хорошо. Ищу дом. Что вы имели в виду под «срезать верхушку»?
– А! – прогудел в ответ его голос в трубке, добравшись до меня по проводам. – «Срезать верхушку» – это когда ваши акции конкретной компании ревальвируются – поднимаются, – и вы срезаете прибыль путем их частичной продажи, пока стоимость вложения не придет в соответствие с начальной стоимостью в момент покупки.
– А зачем это нужно? – спросил я.
– Для того, – объяснил он, – чтобы инвестировать деньги, полученные за счет срезания верхушки, в другую компанию, тем самым диверсицировав ваши вложения. Ваши акции технологических и телекоммуникационных компаний, которые мы недавно отобрали, уже поднялись в целом на десять процентов за неделю с небольшим – потрясающий результат. Я понимаю, вы цените эти два сектора выше других, но при всем при том я подумал: если срезать верхушку, эти десять процентов, мы могли бы инвестировать их в какой-нибудь другой сектор, при этом нисколько не поступившись вашей приверженностью технологиям и теле…
– Нет, – сказал я ему. – Оставьте все как есть.
На том конце наступила пауза. Я представил себе его офис: полированный стол красного дерева, стены с панелями и потолок с карнизами, портреты недужных богатых мужчин. Через некоторое время он заговорил снова:
– Ясно. Вас понял. Я ведь просто новостями поделиться, внести предложение, а решение целиком за вами.
– Да.
Я повесил трубку и вернулся к обдумыванию иррациональных подходов к поискам моего дома. К полудню удалось придумать столько, что половина вылетела из головы. После обеда я понял, что, как ни крути, ни один из них не сработает – по той простой причине, что методическое воплощение в жизнь любого из них перечеркнет его иррациональный смысл. Чувствуя подступающее головокружение и одновременно раздражаясь, я решил, что единственный вариант – выйти из квартиры вообще безо всякого плана в голове, просто походить вокруг и посмотреть, что произойдет.
Я вышел из квартиры, прошел по перпендикулярной улице мимо своей поцарапанной «Фиесты», потом повернул в бывшую зону осады, миновал шиномонтаж и кафе, затем телефонную будку, из которой звонил Марку Добенэ. Дошел до центра Брикстона, до развязки с разметкой между зданием администрации и «Ритци». Обычно в этом месте я поворачивал направо к метро, но сегодня пошел дальше по направлению к улице Дэвида Симпсона. Не знаю, почему – просто захотелось пойти дальше. Все люди Наза работали на северном берегу; любой район на юге был далеко за пределами официального радиуса поисков, а потому представлял собой более плодородную почву. Если человек знает, что его ищут в определенном месте, он находит себе другое место и прячется там.
Я пошел по направлению к Плэйто-роуд, но, не дойдя, нырнул в параллельную ей улицу. Если снова пойти прямо туда, рассудил я, можно вызвать короткое замыкание. Я повернул направо, потом для компенсации повернул налево. Потом проскочил было поворот направо, но все-таки вернулся и пошел тем путем. Мне встретились какие-то люди, укладывавшие кабель под мостовой, и я на время остановился понаблюдать за ним. Они соединяли провода – синие, красные и зеленые – друг с другом, налаживая связь. Я наблюдал за ними, поглощенный этой картиной. Они знали, что я наблюдаю, но мне было все равно. Имея восемь с половиной миллионов фунтов, я мог делать, что хотел. Им, кажется, тоже было все равно – вероятно, в том, как я наблюдал, чувствовалось уважение. Для меня они были брахманами, не знающими себе равных. Больше, чем брахманами – богами, прокладывающими мировую проводку с тем, чтобы укрыть ее от посторонних глаз: ее маршруты, ее соединения. Я наблюдал за ними целую вечность, потом с трудом оторвался и пошел прочь, изо всех сил сосредотачиваясь на каждой мышце, на каждом суставе.
Чуть позже я нашел беговую дорожку. Она была запрятана в лабиринт улочек и обнесена зеленой проволочной сеткой. Внутри первой ограды имелась вторая; она окружала прекрасную зеленую асфальтовую площадку. Площадка предназначалась для различных целей, раскроенная, нарезанная на куски всевозможными линиями разметки: полукругами, кругами, прямоугольниками, дугами – желтого, красного и белого цветов. Мне она виделась прекрасной, но любому другому показалась бы жалкой и запущенной. На обоих концах площадки стояли развалившиеся сетки поменьше – пара футбольных ворот. Между зарешеченной площадкой и зеленой внешней оградой проходила красная дорожка. Дорожки, которые я видел, находясь в коме, были похожи на эту: красные, с белыми линиями разметки. Со столбов рядом с дорожкой свисала парочка громкоговорителей; похоже, они больше не использовались и, вероятно, не работали. Я стоял, прислонившись к зеленой ограде, глядя внутрь и размышляя о репортажах, которые мне приходилось вести, пока я был в коме. Задумавшись, я простоял сколько-то времени, потом повернулся – и увидел мой дом.
Это был точно он – мой дом. Я понял это мгновенно. Большое жилое здание высотой в семь этажей. Довольно старое – возможно, конец девятнадцатого – начало двадцатого века. Цвета оно было грязно-кремового. Белесого. Я подошел к нему под непривычным углом, сбоку, но видно было, что там есть большие белые окна, и черные водостоки, и балконы с растениями. Эти окна, водостоки и балконы шли, повторяясь, по всему боковому фасаду, который тянулся за стеной, высокий и величественный, скрываясь из виду за углом. О, это определенно был мой дом!
Здание окружал двор, нечто вроде садика, но меня от него отделяла стена. Передо мной была железная боковая дверь. Я попробовал войти – она оказалась заперта. Дверь была из тех, что оснащены кодовым замком и видеокамерой наблюдения сверху. Я вышел из поля зрения камеры и стал ждать, не пройдет ли кто. Никто не проходил. Через некоторое время я, обогнув стадион, прошел под железнодорожным мостом и приблизился к дому со стороны парадного.
О да – это был мой дом. Мой собственный, тот, который я вспомнил. Он был большой и старый, высотой в семь этажей. Спереди он тоже оказался белесым, с окнами, но без балконов. Парадный вход выделялся эдаким былым величием: широкие, в шашечку ступени шли с улицы к двойным дверям, над которыми в камне было рельефно выбито название дома – Мэдлин-Мэншенс.
Я стоял на улице, глядя на свой дом. Через двойные двери то и дело входили и выходили люди: обычные с виду, старые и молодые, частью белые, частью уроженцы Вест-Индии. Жильцы. Постояв, я прошел по ступеням в шашечку к двери и вгляделся внутрь.
Там было парадное. Ну конечно! Я почти сразу увидел шкафчик моей консьержки – тот, что набросал в своих чертежах; внутри были щетка, тряпка и пылесос, прислонившиеся друг к дружке. Он находился футах в шести справа от того места, где ему полагалось, но сам шкафчик был такой, как нужно. С другой стороны в парадном помещалась будка консьержки – кабинка с задвижным окошком. Я видел консьержа, маленького темнокожего человека, разговаривающего с кем-то внутри кабинки. Оба стояли спиной к дверям парадного, которые в этот момент отворились. Вышел мужчина средних лет, уроженец Вест-Индии. Увидев меня стоящим у входа, придержал одну из дверей, пропуская меня внутрь.
– Вы заходите? – спросил он.
Я снова бросил взгляд на консьержа – тот по-прежнему стоял ко мне спиной.
– Да, – сказал я. – Спасибо.
Приняв у него дверь, я шагнул в парадное.
Уличные звуки стихли, уступив место пустому эху этого помещения – высокого, замкнутого. Внезапная перемена вызвала у меня чувство, подобное тому, какое бывает в кабине внезапно пошедшего на снижение самолета, или когда поезд въезжает в туннель и с ушами происходит что-то странное. Откуда-то сверху доносилось эхо шагов, еще – бормотание голосов консьержа и человека, с которым он разговаривал. Пол парадного был зернистый – возможно, гранит. Не совсем то, что нужно, но это можно будет исправить. Я быстро и легко зашагал по нему, по-прежнему поглядывая на консьержа. Скорее швейцар, чем консьерж, но это я тоже исправлю. Я его заменю – надо, чтобы это была женщина. Теперь я смог представить себе ее фигуру: немолодая, приземистая, толстая. Лицо ее пока оставалось белым пятном.
В противоположном от входа с улицы углу парадного пол переходил в большую, широкую лестницу. Это было в точности то, что нужно. Узор на полу тоже был не тот, зато размер идеальный. Перила слишком новые, но их я сломаю и заменю в два счета. Взглянув наверх, я увидел, как они уменьшаются и повторяются, поворачивая на этаж за этажом. Я секунду постоял у их основания, наблюдая, как они уменьшаются и повторяются. Это было страшно интересно: до квартиры мотоциклиста-любителя был какой-нибудь пролет, до пианиста всего два; еще двумя этажами выше находилась хозяйка печенки. Вытянув шею, откинув голову назад и вглядевшись повыше, я различал даже границу своей собственной лестничной клетки. Я почувствовал, как в правом боку начало покалывать.
Наконец я снова опустил глаза и заметил у подножия лестницы дверь. Над дверью, рельефно выбитое, совсем как название дома над парадным входом, только чуть помельче, виднелось слово «Сад». Я толкнул эту дверь; она была открыта, и я шагнул во двор. И здесь в точности то, что нужно: большой, с деревьями и кустами, со всех четырех сторон окруженный домами, их задними фасадами. Слева от меня стояли несколько сараев; их я снесу, чтобы освободить место для пятачка, где расположится мотоциклист-любитель. Шагнув дальше во двор и повернувшись, чтобы посмотреть на дом, я увидел окно пианиста, а тремя этажами выше – окна моей ванной и моей кухни. Дом напротив моего на дальней стороне двора был похож на мой – одинаковой с ним высоты, но не абсолютно такой же.
– Хорошо, – тихо сказал я себе. – Очень хорошо. Вот только какого цвета у него крыши?
Сразу ответить на этот вопрос было невозможно – отсюда крыша здания напротив виднелась под слишком острым углом, так что не удавалось разглядеть ни шифер, ни то, как он лежит, идет ли вверх-вниз. Однако там виднелись похожие на домики выступы, их верхушки. Это тоже хорошо, подумал я; там наверняка будут двери, ведущие на крышу. Как раз то, что мне требуется для котов: можно будет выпускать их, чтобы нежились там.
Я еще раз напоследок окинул взглядом двор, сделал глубокий вдох, вернулся внутрь через садовую дверь и направился вверх по лестнице. Повторяющегося узора, черного на белом, там, как я уже упоминал, не было; не было и тех чугунных перил с их оттенком окисления и идущим поверху почерневшим деревянным поручнем, зато те, что были, обладали идеальными размерами, тянулись и поворачивали нужным образом. Квартиры начинались на втором этаже. Входные двери у них были не того размера – слишком маленькие. Придется сменить и это. Однако дверь моего пианиста я узнал. Я простоял у нее довольно долго, прислушиваясь. Изнутри доносилось какое-то шуршание – весьма приглушенное; вероятно, трубы, вода.
Я двинулся вверх по лестнице, мимо квартиры неинтересной пары, еще выше, туда, где жила хозяйка печенки. Ее дверь, как и все двери, была не того размера, но место рядом с ней, куда она, когда я буду проходить мимо, будет выставлять мешок с мусором, чтобы его забрала консьержка, – оно было как раз таким, как надо; разумеется, не считая узора. Я послушал и у ее двери – до меня донесся звук включенного телевизора. Походил вокруг пятачка, куда она будет класть мешок, разглядывая его под разными углами. Увидел, откуда буду спускаться по лестнице я, как раз когда будет открываться ее дверь. Теперь, стоя тут, я смог ее себе представить более подробно: ее похожие на проволоку волосы, обвязанные платком, ее спину, осанку, когда она наклонялась, то, как пальцы левой руки лежали у нее на пояснице и бедре. Мурашки поползли снова.
Мне оставалось лишь подняться на свой этаж. Я так и сделал. Встал перед собственной квартирой. Послушал у двери – ни звука. Обитатели ее, наверное, были на работе. Я попытался просветить дверь рентгеном – не для того, чтобы увидеть, что там внутри на самом деле, а чтобы спроецировать то, что будет: кухня открытой планировки с холодильником модели шестидесятых годов и ползучими растениями, деревянные полы, направо – ванная с трещиной, вокруг той – розово-серая штукатурка, вся в бороздках и складках, голубые и желтые мазки краски. Дальше – кусок стены без зеркала там, где у Дэвида Симпсона было зеркало, ванна с кранами побольше, постарее, окно, через которое влетает запах жарящейся печенки.
Я стоял, проецируя все это вовнутрь. Покалывание усилилось донельзя. Я стоял совершенно неподвижно – не хотел двигаться да и вряд ли смог бы, даже если бы захотел. Мурашки ползли от верха ног к плечам, добирались до самой шеи. Я стоял очень долго, чувствуя напряжение и спокойствие, чувствуя покалывание. Это было замечательное ощущение.
В конце концов где-то внизу со стуком закрылась дверь, выведя меня из этого состояния. Я слышал, как кто-то вышел и зашагал вниз по лестнице. Я переместился на край лестничной площадки; над ней был еще этаж, с двумя обычными дверьми и одной поменьше, запертой на висячий замок. Вероятно, тоже домики для выпуска котов, подумал я. Футах в семи справа от моей двери было окно; я прислонился к нему и, уткнувшись в стекло лбом, посмотрел во двор. Отсюда мне было видно, что крыша напротив плоская, не уступчатая. К тому же не красная. Всего на ней имелось три чердака для выпуска котов, футах в десяти друг от друга. Я представил себе, как там нежатся коты – в каждый конкретный момент пара-тройка котов, разбросанных по крышам, которые я сделаю уступчатыми, – нежатся, ленивые, черные на красном фоне.
Все, что мне требовалось, я повидал. Я крутнулся от окна и, нигде не задерживаясь, пошел прямо вниз, в парадное. Пройдя и через него, вышел прямиком на улицу. Нашел телефон и позвонил Назу.
– Успехи есть? – спросил он.
– Да, нашел.
– Превосходно. Где?
– В Брикстоне.
– В Брикстоне?
– Да. Мэдлин-Мэншенс, Брикстон. Позади такого как бы стадиона. Рядом с железнодорожным мостом.
– Найду на карте и перезвоню вам. Вы где сейчас?
– Иду домой. Через двадцать минут буду там.
Я пошел обратно к себе в квартиру. На автоответчике уже было сообщение, но, когда я его прослушал, думая, что это от Наза, оно оказалось от Грега. Я лег на сложенный диван-кровать и стал ждать. Наконец позвонил Наз.
– Здание находится в частном владении, – сказал он, – и сдается жильцам. Владелец – некий Эйдин Хусейн. Кроме этой, он управляет еще двумя недвижимостями в Лондоне.
– Так.
– Навести мне справки, не заинтересует ли его предложение насчет продажи этой собственности?
– Да. Купите его.
Он достался нам за три с половиной миллиона. Якобы по дешевке.
7
Мы наняли архитектора. Наняли дизайнера по интерьерам. Наняли ландшафтного дизайнера для двора. Наняли подрядчиков, которые наняли строителей, электриков и сантехников. У нас были прорабы и заместители прорабов, координаторы доставок и ответственные за координацию. Мы нашли исполнителей, реквизиторов и костюмеров, парикмахеров и гримеров. Наняли охранников. Уволили дизайнера по интерьерам и наняли другого. Наняли людей для осуществления связи между Назом и строителями, прорабами, ответственными, а также людей для выполнения поручений осуществителей связи, чтобы те лучше ее осуществляли.
Теперь, когда я оцениваю события, как говорится, задним умом, в голову приходит, что Наз, вероятно, мог все это организовать более эффективно. Он мог выбрать одно место, начать с одной конкретной точки и двигаться оттуда в логической последовательности: в хронологическом порядке, по прямой, отрезок за отрезком. Вместо этого он придерживался беспорядочного подхода: все возникало сразу, но в промежутках оставались огромные дыры, что создавало новые проблемы слаженности и совместимости, которые, в свою очередь, требовали дальнейшего руководства, дальнейшего координирования.
– С окнами на четвертом этаже проблема, – сказал мне Наз однажды, через несколько недель после начала работ.
– Я думал, все окна уже закончены.
– Да, но теперь окна в основной квартире четвертого этажа придется снова вынимать, чтобы поднять туда рояль.
В другой раз мы сообразили, что слишком рано довели до готовности двор: по нему придется ездить грузовикам, когда они будут вывозить из здания хлам, и усилия ландшафтного дизайнера пойдут насмарку.
– Как мы об этом не подумали? – спросил я Наза.
В ответ Наз улыбнулся. Я начал подозревать, что он намеренно склоняется к беспорядочному подходу. Когда нас возили с одной встречи на другую – к примеру, с самого объекта в наш ковент-гарденский офис, или в офис нашего архитектора в Воксхолле, или в мастерскую металлурга, который делал нам перила, или с аукциона «Сотбис», где выставлялась американская коллекция шестидесятых и куда мы ездили смотреть на холодильники, обратно на объект с заездом в администрацию Лэмбета (все, что я могу сказать: дали кое-кому на лапу), – так вот, каждый раз, покидая здание или снова к нему приближаясь, мы видели, как с территории выезжают грузовики, доверху нагруженные мусором, землей или выдранными батареями центрального отопления, и прибывают другие, с лесами, новой землей или длинными сосновыми досками. Попадались фургончики, набитые проводкой, фургоны с питанием, фургоны, принадлежащие экспертам в областях, о которых я в жизни не слыхал. Среди них были консультанты по каменным рельефам, техники-акустики, специалисты по сварке цветных металлов; у фургона этой последней компании на боку гордо красовалось: «В нашем искусстве мы – первые в Лондоне с 1932 года».
– И на каком же вы месте в лиге черных металлов? – спросил я у них.
– Мы сваркой черных металлов не занимаемся, – ответили они.
– А до 1932 года вы каким номером значились?
– Не знаю. Это вы лучше у начальника спросите.
Дальше шли гиганты: здоровенные краны на колесах, подъемные краны с крановыми лапами-захватами, эдакие скелеты, угрожающие и громадные. В одежде, заляпанной штукатуркой, мы шли в мэйферский салон-магазин роялей, оттуда – на склад использованной мебели, не дожидаясь, пока разноголосый перезвон кабинетных роялей четырех видов перестанет гудеть у нас в ушах. На факсовый аппарат, стоящий у нас в машине, приходили сообщения, и мы запихивали их в кармашки позади сидений, пока водитель жал на газ, чтобы доставить нас на другую встречу, а после, забыв, что получили, требовали послать их заново или возвращались по новой в тот же офис, на тот же склад. В результате гудение у нас в ушах не прекращалось – какофония, где смешивались модемы, и сверление, и арпеджио, и непрерывно трезвонящие телефоны. Гул, встречи, прибытия и отправления превратились в образ мышления – тот, что охватывал нас внутри нашего проекта, толкал вперед, дальше, снова назад. Никогда в жизни я не ощущал подобного стимула. Наз, как мне теперь кажется, это понимал и в некоторой степени даже культивировал хаос, чтобы все вовлеченные в дело тянулись из последних сил, горели, не теряли стимула. Гений, иначе не скажешь.
Честно говоря, стимулов хватало и без того – людям, которых мы наняли, платили огромные деньги. Если чего-то и не хватало, так это осознанного восприятия: трудно было заставить их в точности понять, что именно от них требуется. И при этом одновременно заставить их понять, как мало им требуется понимать. Не заставлять же их, чтобы прониклись моими идеями. Мне это было не нужно, да и ни к чему. Зачем? Это была моя идея; деньги платил тоже я. От них требовалось одно – знать, что делать. Однако заставить их понять, что делать, оказалось нелегко. Все они были первыми в Лондоне: лучшими сантехниками, штукатурами, мастерами по сосне и так далее. Они хотели работать по высшему разряду, и вбить им в голову тот факт, что обычные критерии в данном случае неприменимы, было трудно.
Самыми непрошибаемыми группами, с большим отрывом, оказались актеры и дизайнеры по интерьерам. Полные идиоты – и те, и другие. Для прослушивания актеров мы на пару дней сняли театр-студию «Сохо», поместив перед тем объявление в профессиональных изданиях. В нем говорилось:
Требуются актеры-исполнители. Работа в Лондоне на неопределенный срок. Постоянная готовностъ к вызову. В обязанности входит повторная реконструкция определенных ежедневных событий. Оплата высочайшая. Обращаться к Назрулу Раму Виасу по и т. д. и т. п.
Явившись в первый день, мы с Назом обнаружили в холле большую толпу. Мы велели водителю высадить нас за углом театра, а не прямо перед входом, чтобы войти без помпы – таким образом, рассуждали мы, нам удастся какое-то время пошататься в холле инкогнито, приглядываясь к людям.
– Вон того, кажется, стоит прослушать на роль мотоциклиста-любителя, – пробормотал я, обращаясь к Назу.
– Того, что в куртке? – пробормотал он в ответ.
– Нет, но раз уж на то пошло, этого, кажется, тоже стоит прослушать. И вон ту женщину потрепанную – думаю, возможный вариант консьержки.
– А остальные? – по-прежнему бормоча, спросил Наз.
– Нам и массовка понадобится – все эти безымянные, невнятные соседи. Вон те двое, темнокожие парни, кого-то мне смутно напоминают.
– Которые?
– Те двое.
С этими словами я показал на них рукой – и тут же до них до всех начало доходить, что к чему. Холл накрыло тяжелое молчание; взглянув на нас, все принялись отворачиваться и делать вид, будто продолжают беседу, на деле же они не переставали окидывать нас взглядами. Один парень подошел прямо к нам, протянул руку и сказал:
– Приветствую! Меня зовут Джеймс. С нетерпением жду этого проекта. Видите ли, мне нужны деньги на обучение в КАДИ, куда мне удалось поступить. Так вот, я подготовил…
– Что такое КАДИ? – спросил я.
– Королевская Академия Драматического Искусства. Я сходил на прослушивание, и тамошний преподаватель написал в местную администрацию, сообщил им, что у меня талант – так и сказал, я не выдумываю!
В этом месте Джеймс сопроводил свое ораторство взмахом руки, которую в картинной манере поднес к подбородку. Видно было, что жест этот он отрепетировал, точно так же, как геи – посетители клубов, за которыми я наблюдал несколько недель назад, отрепетировали свои.
– Но грант они мне все равно не дают, – продолжал он. – Так что я рад приветствовать этот проект. Я считаю, он поможет мне развиться. Многому научиться. Зовут меня Джеймс.
Он по-прежнему стоял с протянутой рукой. Я повернулся к Назу.
– Нельзя ли от половины этих людей избавиться? – спросил я его. – И записать на прослушивание тех, на кого я указал, а также всех, кто, по вашему мнению, может подойти? А я пойду выпью кофе.
Я отправился в то самое место, где сидел, когда наблюдал за посетителями клубов, телевизионщиками, туристами и бездомными – эта стилизованная под Сиэттл кофейня, точно такая же, как в Хитроу, была как раз за углом от театра, – и попросил капучино.
– При-вет! – сказала девушка; опять девушка, но на этот раз другая. – Одинарный кап – на подходе! Есть у вас…
– О да! – с этими словами я вытащил нужное. – Еще бы! И дело потихоньку движется.
– Как вы сказали?
– Восемь чашек проштамповано. Смотрите.
Она посмотрела.
– Да, правда, – в голосе ее прозвучало уважение. Протянув мне кофе, она проштамповала девятую чашку. – Еще одна, и получите напиток на выбор бесплатно.
– Плюс новую карточку!
– Конечно. И новую карточку дадим.
Я отнес свой капучино к тому же месту у окна, что и в прошлый раз, и уселся там, глядя на пересечение Фрит-стрит и Олд-Комптон-стрит. Там сидел бездомный, но не мой. У этого нового собаки не было – зато были друзья, совершавшие налеты на его место со своей базы, выше по улице, совсем как друзья моего бездомного; но и эти, кажется, были другие люди. Правда, спальник, в который завернулся новый парень, выглядел абсолютно так же, как спальник моего. И его свитер тоже.
А я и забыл про это дело с бонус-карточкой. Теперь, когда мне напомнили, я пришел в настоящее возбуждение по этому поводу. Ведь я так близок! Залпом проглотив капучино, я прошел обратно к прилавку с карточкой.
– Еще капучино, – сказал я девушке.
– При-вет! – ответила она. – Одинарный кап – на подходе! Есть у вас…
– Разумеется! Я же только что отошел!
– А, да! Извините. Я прямо как зомби. Давайте я…
Она проштамповала десятую чашку на моей карточке и сказала:
– Ну вот, теперь можете выбрать бесплатный напиток.
– Классно. Возьму еще капучино.
– В смысле, вдобавок к вашему капу.
– Я понимаю. Все равно возьму еще один.
Она пожала плечами, повернулась и приготовила мне новую чашку. Вытащила новую карточку, проштамповала на ней первую чашку и протянула ее мне вместе с двумя порциями кофе.
– Назад к началу, – сказал я. – Через нулевую отметку.
– Как вы сказали?
– Новая карточка – это хорошо.
– Да, – она словно пребывала в какой-то депрессии.
Я отнес две новые порции кофе обратно к своему месту у окна. Поставив их бок о бок, я прихлебывал из обеих чашек попеременно – как поступала со своими стаканами в «Догстаре» Кэтрин, – переключаясь с одной (до точки отсчета) на другую (после). Хороший день, подумалось мне. Допив кофе, я пошел обратно в театр-студию «Сохо».
Первым, кого мы с Назом прослушивали, был второй из кандидатов, отобранных мною в качестве возможного мотоциклиста-любителя. С виду он был примерно то, что надо: лет двадцать-двадцать пять, шатен, весьма хорош собой. Он подготовил для нас отрывок – из какой-то современной пьесы Сэмюэла Бекетта.
– Это не нужно, – сказал я. – Мы просто хотим немного побеседовать, рассказать вам, что понадобится делать.
– Ладно. Мне сюда сесть или постоять, или?..
– Как угодно, – ответил я. – Нам требуется вот что: вы должны будете стать мотоциклистом-любителем. Вам придется быть готовым к вызовам в любое время – работа с проживанием; будете занимать квартиру на втором этаже многоквартирного дома. Надо будет много времени проводить во дворе дома, возиться с мотоциклом.
– Как это – возиться? – переспросил он меня.
– Чинить его.
– А когда починю, что делать?
– Снова разбирать. Потом опять чинить.
Какое-то время он молчал, обдумывая мои слова.
– Значит, вам вообще не надо, чтобы я играл? – спросил он в конце концов.
– Нет, – объяснил я ему. – Надо не играть – просто делать. Исполнять. Реконструировать.
В результате роль ему не досталась. Она досталась кандидату на место мотоциклиста-любителя, вызванному через одного, не из тех, кто сидел в холле. Актерского опыта у него было меньше, чем у двоих других, – почти совсем не было. Его движения и речь выглядели менее фальшивыми, менее вторичными. Вдобавок у него был свой мотоцикл, и он в них немного разбирался. К концу первого дня я отобрал его, плюс мужа неинтересной четы, плюс пару-тройку невнятных, безымянных соседей. На этом, однако, все и кончилось – больше мне никто не подошел. Когда мы снова уселись в машину, я сказал Назу:
– По-моему, театральная среда – не то место, где надо искать реконструкторов.
– Вы думаете?
Мы обсуждали это по дороге в Олдгейт, там у нас была назначена встреча с оптовым торговцем редких и вышедших из употребления осветительных приборов.
К тому времени, как мы туда добрались, я полностью убедился: не то.
– Но где же тогда? – размышлял я вслух, когда мы поехали из Олдгейта в Брикстон.
– Центры досуга? – высказал предположение Наз, запихивая в кармашек сиденья квитанции только что сделанного нами заказа. – Бассейны? Доски объявлений в супермаркетах?
– Да, – согласился я. – Это, наверное, места подходящие.
Мы отменили прослушивание, назначенное на следующий день, и Наз велел распространить объявления по новым точкам. Тут нам с выбором повезло куда больше. Старуха, ставшая хозяйкой печенки, увидела объявление на вечере бриджа, жена неинтересной пары – на занятиях по йоге. Пианиста мы подцепили в музыкальном журнале, он писал диссертацию по музыковедению. На роль он подходил идеально: тихий, мрачный, даже макушка лысая. Когда я объяснял ему, как делать ошибки, он печально кивал.
– Сперва вы ошибаетесь, – сказал я ему, – потом снова проигрываете пассаж, который у вас не получился, а подходя к тому месту, где напутали, совсем замедляетесь. Играете его снова и снова; потом, когда разобрались, как это делается без путаницы, играете еще несколько раз, возвращаясь к нормальной скорости. А потом продолжаете – по крайней мере, до тех пор, пока не дойдете до следующей ошибки. Доступно?
– Я должен намеренно ошибаться? – спросил он, глядя в пол. Голос у него был отсутствующий и монотонный, совершенно лишенный интонации.
– Именно. После обеда занимаетесь с молодыми учениками. Со школьниками. Материал довольно простой. По вечерам сочиняете. Будет и еще кое-что, но в основном это все.
– Согласен, – он по-прежнему не смотрел мне в лицо. – Авадс получить божно?
– Что вы сказали? – переспросил я. Последнюю фразу он пробормотал в воротник.
Он на мгновение поднял глаза. Вид у него был прямо-таки жалкий. Потом его взгляд снова уткнулся в пол, и он произнес, лишь немного четче:
– Аванс получить можно? За первые две недели.
Секунду подумав, я ответил:
– Да, можно. Наз этим займется. Ах да: только вам придется отрастить волосы по бокам. Это вас устраивает?
Его глаза стали медленно перемещаться из одного угла в другой, без особого энтузиазма пытаясь поймать в поле зрения волосы с обеих сторон от бледного лица. Затею эту они довольно быстро оставили; он посмотрел на пол и снова печально кивнул. Ровно то, что нужно. Он подписал контракт, Наз дал ему денег, и он ушел.
Дизайнеры по интерьерам – с ними тоже была беда. Мы провели собеседование с несколькими. Я объяснял им, что именно мне нужно, вплоть до мельчайших подробностей; они же принимали это за намек самим взяться за создание декора!
– То, что вы предлагаете – стиль приглушенный, ретро, – сказал мне один из них. – И это очень интересно. Тут куча возможностей. Я думаю, нам следует повсюду пустить обои из искусственного волокна – у Шанталь де Витт замечательный выбор, – а по коридорам – линолеумное покрытие. Вот как мне это видится.
– Мне плевать, что вам видится, – ответил я ему. – Мне не нужно, чтобы вы создавали стиль. Мне нужно, чтобы вы в точности воспроизвели стиль, продиктованный мной.
Этот вылетел из комнаты, негодующе задыхаясь. Двое других в принципе согласились воспроизвести нужный мне стиль, но заартачились, когда дело дошло до незаполненных участков. Как я уже упоминал, в своих диаграммах я оставлял целые участки незаполненными: участки пола или коридора, не выкристаллизовавшиеся у меня в памяти. С тех пор некоторые из них ко мне возвратились, а другие, подобно лицу консьержки, нет, и я решил, что эти части на самом деле должны остаться незаполненными – дверные проемы нужно заклеить бумагой или зацементировать, куски стены оставить голыми и так далее. Нейтральная зона. Нашему архитектору это очень понравилось, но дизайнеры сочли это полным безобразием. Один из них согласился взяться за работу, и мы его наняли; однако когда дело дошло до непосредственного воплощения проекта в жизнь, он не выдержал.
– Плевать я хотел на ваши деньги! – кричал он. – Да если про это узнают, моей карьере конец. Это кошмар какой-то!
Пришлось нам его уволить. Он подал на нас в суд. В дело вмешался Марк Добенэ. Не знаю, чем все это кончилось. Возможно, дело и по сей день не закрыто; кто знает.
В общем, под конец мы взяли художника по декорациям. Идея – блестящая – принадлежала Назу. Фрэнк – так его звали. Он занимался декорациями к фильмам, так что концепцию частичного декора понял. В декорациях к фильмам бывает куча нейтральных зон; в конце концов, нужно сделать похожим на настоящий только тот кусок, который попадает в кадр; все прочее остается некрашеным, лишенным деталей, пустым. Фрэнк привел с собой реквизиторшу по имени Энни. В дальнейшем она оказалась незаменимой.
Однажды во время подготовительного периода в дом пришел Мэттью Янгер. Я велел ему продать акций на четыре миллиона, как только купил здание. Всего оно обошлось в четыре с лишним: три с половиной – сама цена, плюс юридические затраты, налоги и все такое, плюс взятки по две штуки каждая, которые мы дали кое-кому из долгосрочных жильцов, чтобы заставить их отказаться от своих прав и выехать без задержки. Не взяли только двое; не прошло и недели, как оба передумали. Как их уговорили, я не интересовался.
Поразительно, однако, что к тому времени, когда Мэттью Янгер посетил меня на объекте, спустя несколько недель, стоимость моего портфеля опять выросла почти до того уровня, на котором находилась до продажи акций.
– Прямо как йогурт, – сказал я, – или хвост ящерицы – стоит отчекрыжить, опять отрастает.
– Спекулятивные сделки! – улыбнулся он во весь рот.
Его голос гудел, поднимаясь вверх по лестнице, отскакивая, словно наэлектризованный, от стоящих по отдельности чугунных перил, которые по частям отрывали от лестницы. В каталоге они выглядели как надо, но стоило нам их установить, все изменилось, и теперь их решено было оторвать и заменить.
– Технологический и телекоммуникационный секторы сейчас как раз переживают бум, – продолжал он. – Взлетают со скоростью прямо-таки космической. Это замечательно, но вы поймите – вы же открыты, вы подвержены риску в громадной степени.
– Открыт, – повторил я. – Мне нравится, когда я открыт.
Я вывернул обе руки ладонями кверху и приподнял – почти незаметно, но все же достаточно, чтобы в правом боку началось приглушенное покалывание.
– Я вам подготовил график, – с этими словами Мэттью Янгер вынул из своего досье большой лист бумаги, – на котором показан средний рост этих агрегированных секторов за восемь лет. Если посмотреть…
Повернутыми кверху ладонями я почувствовал покалывание другого рода – не то, что шло изнутри, а внешнее. Казалось, будто на них падает множество частичек. Я поднял глаза – с лестницы над нами сыпалась гранитная крошка.
– Пойдемте на улицу, – сказал я.
Я вывел Мэттью Янгера во двор. В тот день там устанавливали качели. В моем первоначальном видении двора качелей не было – но они выросли там позже, по мере того, как я продолжал об этом думать: бетонный пятачок с качелями и деревянное возвышение в нескольких футах справа от него. Рабочие уже залили участок цементом и теперь, пока он не застыл, вкапывали туда основание качелей. Мэттью Янгер поднял свою схему к небу.
– Смотрите. В этот первый четырехлетний период, который охватывает график… вот тут, видите? они поднимались довольно резко. Но вот здесь, в следующие два года, они снова упали – причем столь же резко. Нырнули еще ниже, чем стояли тут, в начале. Отсюда они снова начали подниматься, а с тех пор, как мы их купили, рвутся ввысь со скоростью просто феноменальной. Но если им снова вздумается рухнуть…
– А на это есть какая-нибудь причина? – спросил я.
– Нет. По всем признакам они должны подняться еще выше. Но на сто процентов предсказать, куда пойдет рынок, никогда нельзя.
– Разве это не ваша работа?
– Ну да, конечно. В немалой степени. Но здесь существует некая доля случайности – непредсказуемая компонента, которой нравится порой идти против ожиданий, путать все карты.
– Осколок, – произнес я.
– Как, простите?
– Продолжайте.
– Ага. Ну что ж. Значит, так: осторожность – а это в первую очередь означает диверсификацию – позволяет эту компоненту в большой степени нейтрализовать. Что и возвращает нас к вопросу риска. Так вот, если…
– Ш-ш-ш! – перебил я его, подняв руку.
Я смотрел на неровную линию, проходящую по его графику, на ее выступы и извилины. Перейдя в своей лекции от цифр к случайности и тому подобным вещам, он не заметил, как левая сторона графика загнулась книзу, и теперь линия, обозначавшая стоимость, шла вертикально, как трещина у меня в ванной. Я пробежал по ней глазами вверх и вниз, двигаясь по ее краям, следуя ее направлениям.
Увидев, что я на нее смотрю, Мэттью Янгер расправил ее.
– Нет! – воскликнул я.
– Простите, что вы?
– Было лучше, когда вы… Можно мне этот график?
– Конечно! – прогудел он в ответ. – Да, посмотрите как следует сами в свободное время. Я вам тут оставлю кое-какие инвестиционные профили, я их подготовил для вас на случай, если захотите диверсифи…
Его гудение утонуло в звуке дрели, донесшемся из открытого окна на третьем этаже. Мэттью Янгер протянул мне график, за ним – кипу бумаг, и я проводил его к выходу.
– Посмотрите в словаре слово «speculation», – попросил я Наза, когда мы в тот день ехали к стекольщику.
– Конечно.
Он вытащил свой мобильный и набрал сообщение. Ответ пришел через десять минут.
– Способность видеть, – зачитал Наз, – наблюдение за небесами, звездами и так далее; обдумывание или глубокое изучение предмета, размышление, высказывание предположения; участие в торговых операциях. От латинского speculari – высматривать, наблюдать и specula – сторожевая башня. Первое упоминание…
– Сторожевая башня, – произнес я. – Небеса – это мне нравится. Небеса лучше видно со сторожевой башни. Но там ты открыт.
– Да, пожалуй, – ответил Наз.
По дороге от стекольщика назад в мой дом мы сделали крюк, завернув ко мне в квартиру. Я все еще ночевал там, ожидая, пока будет готов мой дом, но времени там проводил очень мало: уезжал рано утром, возвращался поздно вечером, спал несколько часов и отправлялся обратно. В то утро я забыл там каталог облицовочных материалов и велел водителю заскочить туда, чтобы его забрать.
Когда мы туда приехали, у моей двери стоял, звоня в нее, Грег. Я заметил его, уже выйдя из машины; иначе можно было бы попросить водителя объехать вокруг квартала и завернуть обратно через пару минут. Грег обернулся и увидел меня; я очутился в ловушке.
– С ума сойти! – закричал Грег. – Ничего себе тачка!
Я ничего не сказал. Машина была и вправду ничего – довольно длинная, с такими задними дверцами, открывающимися посередине. Однако дело тут было не в показухе; она вообще понадобилась мне только потому, что в мою «Фиесту» не поместились бы письменный стол с факсом. Как только все заработает как надо, я от нее избавлюсь и вернусь к «Фиесте».
Грег стоял на пороге моей квартиры, в нескольких футах от меня.
– Ну, что нового? – сказал он. – Ты мне уже шесть недель не звонил.
– Я… в общем, занят был.
– Чем это?
– Готовлюсь переехать в новый дом.
– Где?
– На другом конце Брикстона.
– На другом… конце… Брикстона, – повторил он.
– Да.
Так мы и стояли лицом друг к другу. Потом я сказал:
– Мне тут надо этот каталог забрать, а потом ехать на встречу.
Грег заглянул мне за спину, в машину, где сидел Наз.
– Ну да, конечно. Значит…
– Я тебе позвоню, – сказал я ему, проходя мимо него к себе в квартиру. – В конце этой недели. Или в начале следующей.
Звонить я ему не стал, ни на той неделе, ни на следующей, ни через одну. Мой проект был программой, а не хобби или побочной деятельностью – программой, которой я отдавался полностью, душой и телом. В рамках этой программы допускались определенные взаимоотношения между мной и моим персоналом. И только. Персоналом – не друзьями.
Вскоре после того дня наш основной офис переехал из Ковент-Гардена в Брикстон. К тому моменту наша деятельность была более или менее целиком сосредоточена там. Мы сняли верхний этаж современного сине-белого офисного здания в паре улиц от нас, сразу как свернешь с местного Бродвея. С виду оно было современным и официальным, в стиле некой прежней эпохи – вроде главного полицейского управления где-нибудь в Восточной Европе. Когда мы туда переехали, большинство окон закрывали криво опущенные металлические жалюзи, а по бокам торчали металлические трубки: воздуховоды, желобы для прачечных нужд, бог знает что. На крыше были теле– и радиоантенны. Наз основал там свой штаб и осуществлял руководство оттуда, в то время как я все больше и больше времени проводил непосредственно в моем доме, занимаясь мелкими делами с сотрудниками, которым были поручены отдельные части проекта.
Как я уже упоминал, по мере продвижения проекта все более и более важную роль в нем играла Энни. Мы с ней вместе, например, бегали в поисках подходящих щеток и тряпок для консьержкиного шкафа. Или доставали пепельницы для холла и решали, куда их поставить, а после обнаруживали, что их положение не согласуется с тем, как открываются двери, так что приходилось их снова передвигать. Главным нашим занятием стало определять совместимость. Взять, к примеру, рояль; его доставили и установили, но правильную степень звукопоглощения для стен той квартиры нам еще предстояло найти. Слишком большая, и я ничего не услышу; слишком малая, и звук будет недостаточно приглушенным – когда я впервые его вспомнил, он был слегка приглушен. Чтобы довести подобные вещи до совершенства, все должны были действовать синхронно: когда пианист начинал играть, сверлильщикам следовало перестать сверлить, долбильщикам – долбить, шлифовальщикам – шлифовать и так далее.
– Ну как? – спрашивала меня Энни, стоя со мной в моей квартире и слушая музыку.
– Нормально, – отвечал я. – Только вот окно у него сейчас открыто или закрыто?
– У него окно открыто или закрыто? – повторяла Энни в переговорное устройство.
– Закрыто, – раздавалось в ответ.
– Закрыто, – повторяла она мне.
– А теперь велите им открыть его.
– А теперь откройте его, – повторяла она.
И так далее. Таким образом мы прокрутили несколько сцен. По ходу их многократно использовались переговорные устройства. Мобильные хороши были для связи один-к-одному, но теперь нам часто требовался режим один-ко-многим, а также многие-ко-многим. Так что я звонил Назу в его штаб, а Наз, пока говорил со мной, связывался по радио с тремя-четырьмя людьми; потом один из них связывался с Энни, а она связывалась с Назом по другому каналу, а он перезванивал мне; или же я звонил Энни, а она связывалась со своим помощником, или… в общем, понятно. К заключительной стадии у Энни в непосредственном подчинении было четверо ассистентов; их переговорные устройства были настроены на ее и только на ее частоту.
Офис Наза было видно с верхних этажей моего дома – и, разумеется, наоборот. У главного окна Наза мы установили подзорную трубу, очень мощную. Наз хотел использовать видеокамеры, но я сказал ему: нет, никаких камер мне не нужно. Я заставил их убрать ту, подвешенную над боковым входом у стадиона, возле которой я стоял в день, когда впервые обнаружил здание. Единственным фотоаппаратом, который я разрешил держать на объекте, был «Полароид» Энни. Она использовала его, чтобы фиксировать взаимные расположения предметов: что где находится по отношению к чему. Так выходило быстрее, чем с набросками или чертежами. И более точно. Если какая-нибудь вещь вставала у нас ровно куда надо, но потом ее приходилось передвигать, пока мы переносили через ее место что-нибудь еще, Энни щелкала «Полароидом»; потом, когда мы эту вещь – неважно, что – хотели восстановить, то просто занимали положение, откуда она сделала снимок, и, стоя с фотографией в руке, давали людям указания подвинуть такой-то предмет правее, левее, еще чуть-чуть назад и так далее, пока не добивались соответствия с фотографией. Аккуратно, точно. Приятная она была девушка.
Как-то днем я стоял у Наза в офисе и глядел в подзорную трубу. Глядел я долго, наблюдал, как движутся люди за окнами моего дома. Потом я опустил трубу и стал глядеть на подъезжающие и отъезжающие грузовики и фургоны. В основном они отъезжали, что-то увозя. Меня поразило, как всего этого – того, от чего нам приходилось избавляться по ходу проекта, – было много: земля, мусор, перила, батареи, плиты – чего там только не было. На каждый прибывший груз, большой или маленький, приходился другой, который надо было увезти. Как минимум один. Если бы можно было собрать вместе и взвесить все, что привезли за недели работы, а потом сделать то же со всем, что вывезли, я совершенно уверен: вторая куча весила бы гораздо больше. Дело обстояло так с самого начала, когда мы разбирали хлам, контейнер за контейнером, до конца, когда ходили повсюду, вручную собирая обрывки бумаги, чтобы непременно устранить все ненужное.
– Избыточная материя, – произнес я, не отрываясь от подзорной трубы.
– Что такое? – переспросил Наз.
– Вот это все – лишнее, то, что надо вывезти. Это как с артишоками: когда кончишь есть, на тарелке всегда остается больше, чем было до того, как начал.
– Мне нравятся артишоки, – сказал Наз.
– Мне тоже. По крайней мере, в данный момент. Давайте поедим их сегодня вечером на ужин.
– Да, давайте, – согласился Наз и, позвонив по своему телефону, велел кому-то сходить купить артишоков.
За последние две недели все сложилось воедино по-настоящему. Были выложены коридоры, устроен и переустроен двор, квартиры отделаны или замазаны, чтобы получились пробелы, как было оговорено в моих чертежах. Теперь нам предстояло сосредоточиться на мелочах. Например, следовало довести до совершенства трещину – трещину в моей ванной. У меня все еще хранился листок бумаги, на который я первоначально скопировал ее тогда, на той вечеринке; плюс, разумеется, чертежи, на которые я перенес ее в последовавшие за тем двадцать четыре часа. Мы с Фрэнком и штукатуром по имени Кевин много времени потратили, подбирая нужный цвет штукатурки вокруг нее.
– Это не совсем то, – говорил я Кевину, когда он ее смешивал. – Должно быть более мясистое.
– Мясистое? – спрашивал он.
– Мясистое – такое серо-коричневое с розовым. Типа как мясо.
В конце концов ему это удалось, примерно после дня экспериментов.
– Ну и где вы такое мясо видели? – ворчал он, размазывая штукатурку.
Но это был еще не конец: высохнув, она потемнела и стала какой-то серебристо-коричневой. Пришлось нам вернуться назад по собственным следам и смешать все по новой, так, чтобы в сухом виде получился тот же цвет, что у предыдущей смеси – в сыром. И это был еще не конец: мы не учли, до чего трудно заставить штукатурку потрескаться определенным образом.
– Я штукатурку для того и мешаю, чтоб не трескалась, – хмыкнул Кевин.
– Что ж, тогда сделайте неправильно то, что обычно делаете правильно, – сказал я.
Он сделал смесь гораздо более сухой; но ведь трещины – это, как говорится, дело случая, в какую сторону пойдут, не угадаешь. На эксперименты ушел еще день: мы перепробовали и соль, и лезвия, и нагрев, и всевозможные ухищрения, чтобы заставить ее потрескаться, как нужно. Кевин, пока занимался этим, часами насвистывал одну и ту же мелодию – популярную мелодию, которую я, кажется, узнал. Не всю насвистывал – только один кусочек, снова и снова.
– Это что? – спросил я его после нескольких часов отделывания, затирания и переделывания трещины, сопровождаемого насвистыванием.
– Чего – что?
– Вот эта песня.
– «История повторяется», – сказал он. – «Пропеллерхедс» поют.
Он приподнял брови и, повысив голос, полупропел, полупроговорил строчку, которую насвистывал:
– Все-э-то, прос-то, кусочек, истории, все пов-то-ря-ет-ся. Слыхали? – И тут же, отступив на шаг, спросил: – Ну как?
– Довольно неплохо. Я ее по радио слышал.
– Да нет; трещина как?
– А! Довольно хорошо. Только еще порезче надо сделать.
Кевин вздохнул и снова принялся за работу. Спустя несколько часов скальпелю, окунутому в смесь трикрезил-фосфата и лака, удалось разрезать и закрепить ее в нужной конфигурации.
– Довольны? – спросил Кевин.
– Да, – ответил я. – Но еще надо голубые и желтые мазки наложить.
– А это уж не мое дело. Я все, пошел.
С тем, чтобы найти нужного типа большие краны для ванны, особых проблем у нас не было; проблема была в том, как добиться, чтобы они выглядели старыми. Как вы себе, наверное, представляете, эта проблема возникала у нас часто: добиться, чтобы вещи выглядели старыми. Коридор пришлось ошкурить наждачной бумагой и обмазать небольшим количеством разведенного на масле дегтя. Перила пришлось обработать струей распыленного льда, чтобы окислились. А тут еще окна оказались слишком отчетливо-прозрачными; двор и крыши выглядели сквозь них не так, как надо. Поначалу я не мог ни понять, почему, ни выразить, что с ними не так; лишь без конца повторял своим сотрудникам, что двор выглядит не так, как надо.
– И что же в нем не так? – спросил ландшафтный дизайнер.
– В нем – ничего; дело в том, как он выглядит сквозь окна. Слишком отчетливо. Вспомнился он мне по-другому.
– Вспомнился? – переспросил он.
– Неважно, – отмахнулся я.
Подошла Энни – посмотреть – и тут же разрешила проблему.
– Это стекло такое, – сказала она. – Слишком новое.
В самую точку. Нынешнее стекло делают абсолютно правильным – ни сгустков, ни подтеков, ни ряби, все в него видно четко, в отличие от старого стекла. Мы убрали все окна и поставили новые.
Мои гостиная с кухней вышли хорошо. Внутренние стены мы сломали, чтобы получилась открытая планировка и помещение приняло нужную форму. Дальше мы принялись за обстановку. Я раздобыл – после долгих поисков – растения нужного типа. Ох, эта португалка! Внушительная дама: голос, мощное сложение. Она тяжело выгрузилась из своего фургона, таща за собой эти замечательные, буйно разросшиеся, зеленые папоротники и ползучие растения, фонтанами бьющие из своих белых керамических горшков.
– Эти не подходят, – сказал я Энни. – Слишком разросшиеся, слишком зеленые.
– Зачем не нрабились? – бушевала португалка. – Мои раздения здоробый! Хороший раздения!
– Я понимаю, что они хорошие, – ответил я. – В том-то и проблема. Мне нужны старые, жухлые, в жестяных кашпо.
– Кажпо не подходид! – с этими словами она шлепнула меня ладонью по руке. – Им мездо надо, опора надо. Я знаю, чего надо!
Позади нее, за окнами на той стороне двора, на крышах напротив люди трудились не покладая рук – заменяли шифер, который мы положили. Он оказался слишком кроваво-красным, не таким оранжевым, как надо. Португалка зажала длинный лист между пальцами, сунула мне под нос и свободной ладонью снова шлепнула меня по руке.
– Смодри! Нюхай! Мои раздения оч-чень здоробый!
Я вырвался и пошел к Назу, а Энни тем временем избавилась от нее. В тот же день мы нашли какие-то полумертвые растения в какой-то старьевой лавке.
На следующий день привезли холодильник. Мы ухватили его не на том упомянутом мной ранее американском аукционе, а на интернет-аукционе, который нашел Наз. Выглядел он в точности как надо, но дверцу слегка заедало всякий раз, когда ее открывали, прямо как предсказывал Грег, говоря, что так всегда бывает с дверцами холодильников, кроме тех, что в кино.
– Достали! – возмущался я. – Нет, ну они просто достали! Строят из себя настоящих мастеров – (эту деталь холодильника они рекламировали на сайте) – так неужели нельзя сделать так, чтоб дверцу не заедало? Ну какой, спрашивается, во всем этом смысл, если ее все равно заедает?
– Что вы имеете в виду? – спросила Энни.
– Это… Нет, это просто… Ну не должна она так, черт побери!
Я сел. Я был не на шутку расстроен.
– Не волнуйтесь, – сказала Энни. – Нужно просто заменить резину.
Кого-то отправили за новой резиной. Ожидая, пока ее привезут, мы проверили, как пахнет жарящаяся печенка. У хозяйки печенки над плитой была установлена вытяжка, труба которой с наружной стороны здания была повернута к окнам моих кухни и ванной. Печенку купили в тот же день – свиную печенку; однако тут обнаружилось, что, если жарить на одной сковородке, запах получается недостаточно сильным. Кого-то отправили купить еще сковородок и побольше печенки. Готовить ее стали сразу на четырех сковородках. Мы с Энни ждали у меня в квартире.
– Ну как? – спросила она.
– Отлично, – сказал я ей. – Брызжет и скворчит как раз с нужной громкостью, как надо. Только одна вещь не вполне…
– Что?
– Запах какой-то странный.
– Странный? – повторила она и, добавив в свою трещащую рацию: – Погодите минутку, – снова обратилась ко мне: – Странный?
– Ага. Странный такой, на кордит немного похоже.
– Кордит? Я и не знаю, какой у кордита запах. Но знаете, в чем тут, по-моему, дело? В том, что сковородки новые.
– Опять в самую точку! Наверняка так оно и есть.
Последние два дня были посвящены «подметанию».
Я, Наз, Энни и Фрэнк перемещались по дому и повсюду мели в поисках ошибок – несоответствий, упущений. Нашли так много, что думали уже, придется все отложить. Повторяющийся черно-белый узор на полу протянулся через кусок нейтрального пространства на третьем этаже; дверца консьержкиного шкафчика была покрашена – такого рода вещи. И более мелкие детали: масляно-дегтяное покрытие в коридоре, под устаревшими светильниками, слишком сильно блестело; бросалось в глаза, что замазка, на которой держались новые старые окна, всего несколько дней как застыла; и так далее. Наконец, часто, поправляя что-то одно, мы тем самым лишь смещали другое. Все соседи к тому времени уже были натасканы и отрабатывали свои реконструированные жесты на местах, но при этом, перемещаясь туда-сюда в ходе репетиций, они нарушали расположение предметов, тщательно нами продуманное. Без помех не обходилось. Одна из подчиненных Энни вообще неправильно поняла слово «подметание».
– Что вы делаете?! – спросил я, обнаружив ее на лестнице, которую она в буквальном смысле подметала – и это после того, как мы целую вечность потратили, чтобы легонько приперчить ее автобусными билетами и окурками сигарет.
– Я… – вымолвила она. – Я думала, вы…
– Энни! – закричал я, обращаясь к верхним пролетам.
Добившись, чтобы все было в точности как надо, мы все равно еще четыре раза прошлись повсюду метлой. Мы перескакивали с одной мелочи на другую в надежде застать какую-нибудь ошибку врасплох. Мы двигались снизу вверх и снова вниз, по двору, вверх по фасаду здания напротив, туда, обратно и снова вверх по лестнице, опять и опять.
– Нервничаете? – спросил Наз в последний день накануне срока, на который мы назначили запуск всей системы в действие.
– Да, – ответил я ему.
Нервничал я сильно. Всю неделю я плохо спал. По полночи лежал, прокручивая в воображении события и действия, которые нам предстояло, когда придет время, испытать на себе по-настоящему. Можно было прокручивать их так, чтобы все получалось замечательно, а можно – так, чтобы все шло к чертям, оборачиваясь полнейшим провалом. Иногда я прокручивал сначала провальный сценарий, за ним – удачный, чтобы неудачный перечеркнуть. Бывало и так: я прокручивал удачный, а туда вклинивался неудачный, отчего меня охватывала паника, прошибал пот. Так продолжалось каждую ночь в течение целой недели: я лежал в постели без сна, в поту, нервно репетируя в мыслях реконструкции событий, которые прежде не происходили, но, тем не менее, подобно кусочкам истории из популярной песенки Кевина, находились на грани повтора.
8
Наконец наступил день первой реконструкции. Одиннадцатое июля.
Начать мы решили в два часа дня. Утро я провел у Наза в офисе; напоследок мы с ним наскоро пообедали. Атмосфера там царила серьезная, тяжелое молчание лишь изредка прорывал звонящий телефон или потрескивающая рация; в этих случаях один из сотрудников Наза отвечал приглушенным тоном.
– Что такое? – каждый раз спрашивал я Наза.
– Ничего, – тихо отвечал он. – Все под контролем.
В полвторого я ушел. Когда я выходил, люди Наза, стоявшие у двери по трое или четверо с каждой стороны, образуя некое подобие туннеля, пожелали мне удачи; лица их были мрачны и суровы. Наз спустился со мной на лифте, вышел на улицу, потом, когда подъехала машина, повернулся ко мне лицом и пожал мне руку. Он оставался в офисе, чтобы руководить всей деятельностью отсюда. Пока наши руки держались одна за другую, его темные глаза не отпускали моих, а в самой глубине черепа жужжала эта спрятанная за ними штука.
Наш водитель доставил меня из офиса к дому. Ходьбы там было всего две минуты, но он отвез меня на той же машине, на которой мы ездили повсюду, пока все это устраивали. Я сидел сзади и наблюдал за тем, как мимо скользят улицы: железнодорожный мост, стадион с проволочной зеленой сеткой, с побитыми футбольными воротами, с желтыми, красными и белыми линиями разметки, прямоугольниками, дугами и кругами. Я повернул голову, чтобы посмотреть в заднее окно, и только-только успел увидеть, как верхушка офиса Наза исчезла из виду. Тогда я повернулся обратно – и тут мой дом подъехал к машине, надвинулся на меня, будто высеченный из монолитного блока, все с той же надписью «Мэдлин-Мэншенс», выбитой в камне над парадным входом.
Водитель остановил машину перед ним. Энни ждала на тротуаре. Она открыла дверцу, и я шагнул наружу.
– Полная готовность? – спросила она.
Я не знал, что ответить. Полная или нет? Накануне вечером все было как будто бы на месте. Энни провела здесь все утро; ей было виднее насчет полной готовности. Или она имела в виду, в полной ли готовности я? Этого я не знал. Как можно судить о таких вещах? По каким меркам мы могли бы о них судить? Меня пронизало легкое головокружение; задерживаться на этих мыслях я не стал. Я слабо улыбнулся Энни в ответ, и мы поднялись по каменным ступеням в дом.
Здесь царила та же сдержанная, напряженная атмосфера, что и у Наза в офисе. Суета и шум множества занятых людей, к которым я настолько привык за последние недели и месяцы, исчезли, сменившись серьезной, приглушенной предстартовой сосредоточенностью. Реконструктор-консьержка стояла в холле, один из костюмеров возился с тесемками ее маски. Лица ее я так и не вспомнил – точнее, вспомнил, но лишь как пустое место, – поэтому решил: ей следует надеть маску, чтобы заменить лицо пробелом. Мы раздобыли маску вроде тех, что носят хоккейные вратари, – белую, усеянную дырочками для дыхания. Я остановился перед консьержкой.
– Вы точно знаете, что именно вам нужно делать? – спросил я ее.
Последовала пауза, потом из-под маски донеслось:
– Да. Просто стоять здесь.
Голос, приглушенный пластмассой, звучал неестественно; дребезжащий и искаженный, он наводил на мысли о тех бросовых детских игрушках, что издают мычание или короткие фразы, если их потрясти. Это мне понравилось.
– Совершенно верно. Стоять здесь, в холле, – повторил я и, кивнув им с костюмером, двинулся дальше к лестнице.
Мрачный пианист уже играл наверху, у себя в квартире на четвертом этаже. Мы выбрали для него какую-то вещь Рахманинова – по крайней мере, на первое время. Он сыграл мне на пробу отрывки из произведений нескольких композиторов, и это, рахманиновское, понравилось мне больше всего. Называлось оно не то Второй, не то Третий концерт, не то Соната ля мажор или си-бемоль… минор, мажор – что-то в этом духе. Что мне в нем нравилось, так это его колебательная природа – то, как музыка поворачивала и замыкала круг. Плюс оно явно было очень сложным для исполнения; ну и хорошо – значит, пианист будет ошибаться на самом деле. Ступив на лестницу, я услышал, как он наткнулся на первое препятствие. Я замер и схватил Энни за руку.
– Слушайте! – прошептал я.
Мы стали слушать. Пианист остановился, затем снова двинулся в атаку, а когда вступил в пассаж, на котором споткнулся, замедлился совсем. Он повторил это место несколько раз, потом набрал темп и, вернувшись к началу фразы, стал играть, засекая время: раз, потом еще – немного быстрее, потом еще, и еще, и еще, с каждым разом убыстряясь, пока снова не заиграл почти на полной скорости. В конце концов он, разогнавшись, вылетел из пассажа и понесся дальше, к концу сонаты.
– Точно как надо, – сказал я Энни. – Точно.
Мы пошли дальше, вверх, мимо квартиры мотоциклиста-любителя. Его там, разумеется, не было – он возился со своим мотоциклом во дворе. По крайней мере, так я надеялся; ему положено было находиться там, а не где-либо еще. Дальше шла квартира неинтересной пары. Этажом выше, на пятом этаже, мы обнаружили Фрэнка. Он стоял на площадке с чертежом в руках, сверяя с ним стены и пол – распределение пространства заполненного и пустого. Увидев меня, Фрэнк кивнул с видом, означавшим, что он удовлетворен проверкой, опустил державшую планшет руку и сказал мне:
– Все в порядке. Удачи.
Мы пошли дальше. Завидев нас, подчиненные Фрэнка и Энни уходили с лестницы, отступали за двери; в руках у них были рации. Мы миновали дверь хозяйки печенки; за ней слышалось шарканье нескольких пар ног и звук мягкой, нежареной печенки, выкладываемой на разделочные доски. Потом мы очутились на моем этаже. Энни вошла со мной ко мне в квартиру, чтобы убедиться, что и здесь все в порядке. Все было в порядке: растения чахлые, но живые; половицы затоптанные, но теплые, ни блестящие, ни тусклые – нечто среднее; коврик, чуть разлохмаченный, лежит где надо. Мы с Энни стояли лицом друг к другу.
– Все в вашем распоряжении, – она тепло улыбнулась. – Когда будете готовы начинать, позвоните Назу.
Я кивнул. Она вышла, закрыв за собой дверь.
Перед тем, как позвонить Назу, я постоял один в моей гостиной. Расположение диванов и журнального столика, обстановка кухни: растения, стол, холодильник – все это было как надо. Внизу слышалось, как по всему дому включаются радиоприемники и телевизоры. Работал по меньшей мере один пылесос. Я шагнул в ванную и посмотрел на трещину на стене. И здесь все точно как надо, не только трещина, но и вся комната: краны, стена, цвета, трещина, все – идеально. Я шагнул обратно в мою гостиную, снял трубку и позвонил Назу.
– Готовы? – спросил он.
– Да.
– Хорошо. Запускаю печенку и котов. А дальше видно будет.
– Отлично.
Повесив трубку, я подошел к окну кухни и выглянул наружу. В двух домиках, стоящих на уступчатых, красных шиферных крышах здания напротив, открылись дверцы, и из каждой выпихнули по паре котов. Трое из них начали медленно петлять по крышам, каждый в своем направлении; четвертый просто уселся да так и остался сидеть неподвижно. Правда, когда я слегка перемещал голову где-то на сантиметр влево, дефект стекла создавал впечатление, будто он удлиняется и извивается. Снизу донеслось потрескивание: хлоп – это сырая печенка приземлилась в горячее масло, потом – еще раз, третий, четвертый. Несколько секунд шум стоял такой, будто в нескольких улицах отсюда пускали фейерверки; потом треск утих, перейдя в непрерывное скворчание, время от времени прерываемое щелканьем. Я побрел обратно в ванную и стал смотреть на котов оттуда, ожидая, пока до меня дойдет запах печенки.
Дождавшись, я шагнул обратно в гостиную и позвонил Назу.
– Не то, – сказал я.
– Что именно? – спросил он.
– Да запах. Я думал, Энни проследила, чтобы сковородки опробовали. В смысле, чтоб они не были новыми.
– Сейчас уточню у нее. Подождите.
Я слышал, как он связался по рации с Энни и повторил ей то, что я ему сказал. Слышал, как ее рация затрещала, связываясь с его рацией и снова со мной по телефонному проводу. Слышал, как она сказала ему:
– Их опробовали. Мы все это отработали.
– Она говорит, их опробовали, – сообщил мне Наз.
Потом раздалось потрескивание, и я услышал, как голос Энни спросил у Наза:
– А что не так с запахом?
– Что с ним не так? – повторил Наз.
– У него острый оттенок, – сказал я ему. – Вроде как у кордита.
– Немного напоминает кордит, – сообщил он ей.
– Он мне это уже говорил, – произнес ее голос. – Скажите ему подождать пару минут. Когда начнет доходить до готовности, должен исчезнуть.
– Подождите пару минут. Должен…
– Да, я слышал.
Я снова повесил трубку и прошел в кухню. Растения, когда я мимо них проходил, зашелестели в своих горшках, зашелестели в точности так, как мне впервые это вспомнилось. Я подошел к окну. Теперь коты рассредоточились повсюду, черные на красном фоне. Мне было видно трех; четвертый, наверное, прошмыгнул за трубу. Я протиснулся мимо края кухонного стола, достававшего мне до пояса, при этом задев его так же, как задевал в воспоминаниях, когда впервые вспомнил весь дом, – наполовину поворачиваясь боком сперва в одну сторону, потом в другую. Однако движение вышло недостаточно ловким, и рубашка, когда я проходил, слегка зацепилась за угол: не сильно, как за крючок, но все же задержалась на деревянной поверхности на лишних полсекунды, слишком плотно ее обхватив. Это было не то – не так, как мне запомнилось; в том воспоминании я проскакивал этот угол ловко, так, что рубашка задевала дерево легонько, почти незаметно, словно плащ матадора, щекочущий рог быка. Я попытался снова; на этот раз рубашка вообще не коснулась дерева. Попытался в третий раз: прошел мимо стола, повернулся боком в одну сторону, потом в другую, попытался сделать так, чтобы рубашка мимолетно задела дерево при повороте. На этот раз с рубашкой все вышло как надо, зато с поворотом – нет. Трудно это оказалось – выполнить весь маневр целиком; надо будет попрактиковаться.
Я переместился к холодильнику и потянул на себя дверцу. Дверца поддалась без сопротивления, открывшись одним плавным, слитным движением. Я закрыл ее, потом опять потянул на себя. И опять она открылась плавно. Я повторил это в третий раз – опять безупречно. Внизу пианист выходил из контрольного виража, ускоряясь на взлете к новым горизонтам. Я еще раз идеально открыл дверцу, потом закрыл ее в последний раз. Все готово, можно начинать.
Я снова позвонил Назу:
– Теперь я хотел бы выйти из квартиры. Пойду вниз мимо хозяйки печенки.
– Хорошо, – ответил Наз. – Отсчитайте тридцать секунд и выходите за дверь. Ровно тридцать секунд.
Он повесил трубку. Я тоже повесил трубку. Постоял посередине гостиной со слегка приподнятыми руками, слегка вывернув ладони кверху, отсчитывая тридцать секунд. Потом вышел из квартиры.
Двигаясь по площадке и вниз по лестнице, я чувствовал себя, словно космонавт, делающий первые шаги – первые шаги человечества – по поверхности еще не открытой планеты. Конечно, я уже сто раз ходил по этому участку – но тогда он был другим, этаж как этаж; теперь же он горел, беззвучно вибрировал, наэлектризованный значимостью. Засевшие под легким покровом песочной пыли внутри отвердевшей дегтяной массы, золотые и серебряные вкрапления в граните словно излучали некий заряд, невидимый, как радиация в природе, – и столь же мощный. Перила из цветного металла и черный, как шелк, поручень над ними светились темной, неземной энергией, которая, подхватывая уменьшенный блеск пола, умножала его темную глубину. Я повернул за первый угол, на ходу бросив взгляд в окно: проникавший со двора свет преломился, приблизившись ко мне; длинный, тонкий всплеск пересек поверхность здания напротив, потом стрелой унесся прочь, покрыв рябью более отдаленные, запредельные пространства. Я спускался, и красный шифер исчезал, заслоняемый собственной нависающей изнанкой по мере того, как угол между нами увеличивался. Затем я опять повернул, и весь фасад крутнулся от меня в сторону.
Я пошел дальше, вниз по лестнице. До меня доходили звуки, но и они подвергались физическим аномалиям, интерференции, искажению. Музыка, что играл пианист, бежала, спотыкалась и поворачивала кругом, сперва замедляясь, потом ускоряясь. Статический треск печенки пробивался сквозь осиротевшие сигналы, выброшенные на произвол судьбы из радиоприемников и телевизоров. Пылесос продолжал стонать, засасывая материю в свой вакуум. Я слышал, как мотоциклист-любитель позвякивал во дворе, стуча по гайке, чтобы ее открутить. Звяканье эхом отражалось от дома напротив, звуки эха долетали до меня почти одновременно со звуками, производимыми непосредственно стучанием, – почти, но не совсем. Я вспомнил, что однажды видел, как мальчишка пинал об стенку мяч и расстояние между ним и стеной давало ту же задержку, то же близкое к наложению звучание. Вот только не мог вспомнить, где.
Я двинулся дальше по лестнице. Подойдя к площадке шестого этажа на расстояние четырех шагов, я услышал, как у хозяйки печенки задергались и защелкали дверные замки. Потом ее дверь отворилась, и медленно вышла она, неся маленький мусорный пакет. На ней был голубой кардиган; волосы были обвязаны платком, по краям которого пробивались несколько прядей: белые, похожие на проволоку, они торчали надо лбом, словно тонкие, точеные змейки. Появившись в дверях, она прошаркала вперед, затем согнулась, чтобы поставить мешок, одновременно прижав левую руку к спине. Потом, осторожно поставив мешок, замерла и, не разгибаясь, повернула голову, чтобы взглянуть на меня.
Мы репетировали этот момент целую вечность. Я показывал ей, как именно следует нагибаться: наклон плеч, траектория, которую медленно прорезала в воздухе ее рука, обнося мешок вокруг ног и опуская наземь (я велел ей представить себе маршрут, который проделывает тонарм на старых граммофонах: сначала вбок, потом вниз), показывал, как именно ее левая рука должна лежать на пояснице: повыше бедра, средний палец направлен строго вниз. Все это мы довели до блеска – однако слова, которые она должна была мне говорить, нам найти не удалось. Сколько я ни копался в памяти, точная реплика так и не пришла в голову, как не пришло и лицо консьержки. Не желая навязывать себе эту фразу или, что еще хуже, просто выдумывать что придется, я решил дать старухе возможность предложить свою. Велел ей не составлять предложение заранее, а наоборот, дождаться момента, когда я пройду мимо нее на лестнице во время настоящей реконструкции – вот этого момента, который как раз наступил, – и озвучить те слова, что придут ей на ум именно тогда. Так она и сделала. По-прежнему не разгибаясь, повернув лицо ко мне, она выпустила зажатый в руке мешок и сказала:
– Все тяжелей и тяжелей становится.
Я застыл. «Все тяжелей и тяжелей становится», сказала она. Стоя напротив нее, я обдумывал эти слова. «Все тяжелей и тяжелей становится». Это мне нравится. Очень хорошо. Она стареет, и поднимать мешок ей становится все тяжелей и тяжелей. Она улыбнулась мне, так и не разогнувшись до конца. Я почувствовал: это именно то, что надо; все как раз так, как мне представлялось. Стоя неподвижно и глядя на нее в ответ, я сказал:
– Да. С каждым разом.
Эти слова просто пришли мне в голову. Я произнес их и, повернув, двинулся дальше, по следующему лестничному пролету. На пару секунд я почувствовал себя невесомым – или, по крайней мере, по-иному ощутил свой вес, ставши легким, но в то же время плотным. Мое тело словно скользило, легко и без усилий, в окружающей его атмосфере: грациозно, медленно, подобно танцору в воде. Ощущение было замечательное. Правда, когда я дошел до третьей или четвертой ступеньки этого нового пролета, ощущение это ослабло. К пятой или шестой оно прошло совсем. Я остановился и обернулся. Голова хозяйки печенки снова исчезала в ее квартире, а ее рука притягивала за нею дверь.
– Подождите! – проговорил я.
Дверь перестала закрываться, и хозяйка печенки снова высунула голову наружу. Вид у нее был весьма нервный. Сзади, из квартиры, раздавался шум.
– Все было превосходно. Я хотел бы повторить это снова.
Хозяйка печенки кивнула:
– Хорошо, дружочек.
– Начну с самого верха первого пролета.
Она опять кивнула, снова прошаркала наружу к своему мусорному мешку и, подняв его, снова прошаркала в квартиру и закрыла дверь. Я направился вверх по лестнице, но, не дойдя до поворота, услышал, как ее дверь позади меня снова открывается и кто-то более быстрый, более тяжелый выходит оттуда на площадку.
– Погодите минутку, – произнес мужской голос.
Я обернулся. Это был один из подчиненных Энни.
– Что такое? – спросил я.
– Если вы собираетесь начать с верха вашего пролета, а не из квартиры, как раньше, откуда она узнает, когда открывать дверь?
Я задумался над этим. Вопрос был справедливый. За спиной у мужчины появилась Энни.
– В чем дело? – спросила она.
Я объяснил ей. Немного подумав, она сказала:
– Надо, чтобы кто-нибудь за вами наблюдал и просигналил нам, когда придет время ее выпускать. Только кто же это может сделать так, чтобы самому не мешаться под ногами?
– Те, кто отвечает за котов! – сообразил я.
– Ну конечно! – воскликнула Энни.
Людям, которые выпихивали котов на крышу здания напротив, из окон верхнего этажа того здания будет видно, когда я поверну на лестничной площадке; там есть окно.
– Пусть наблюдают за мной и свяжутся с вами по радио, когда я буду… дайте подумать… когда открылась дверь? – Я вернулся к ступеньке, на которой стоял, когда защелкали и задергались дверные замки у хозяйки печенки. – На третьей сверху.
– Я с ними напрямую не связана, – Энни подняла руку, в которой держала рацию. – Придется действовать через Наза.
Она связалась с ним по радио, и коммуникационная цепь была налажена. Людям, отвечавшим за котов, велели наблюдать за мной из того здания, когда я буду проходить мимо окна там, где перила поворачивают, и, как только я окажусь на третьей ступеньке следующего пролета, дать команду открыть дверь – через Наза, который, сидя у себя в офисе в нескольких улицах отсюда, должен был выполнять роль связующего звена между двумя группами. На то, чтобы это наладить, ушло минут десять. Когда нужные звенья встали на место, все кроме меня вернулись в квартиру к хозяйке печенки, ее дверь снова закрылась, а я пошел по лестнице обратно на верхнюю площадку первого пролета.
Я постоял там, чуть заметно покачиваясь вперед-назад на широко расставленных ногах. Я чувствовал, как точка приложения силы перемещается от пяток к носкам через дугообразное сухожилие между ними, подошвенную фасцию, потом снова обратно – трехзвенный передаточный механизм. Легонько качнувшись несколько раз назад – вперед, я снова направился вниз по лестнице.
На этот раз я задержался перед окном у первого поворота. Я даже прислонился к нему, приникнув лбом к стеклу; так я стоял в тот день, когда нашел дом, этажом выше. Следящих в здании напротив, двух человек, отвечавших за котов, мне видно не было – но я знал, что они там. Будь они стрелками, снайперами, в этот момент им бы ничего не стоило взять меня на прицел. Я легко провел руками по стеклу. Покалывание началось в правом бедре, стало просачиваться кверху, вдоль позвоночника. Я поглядел на ветви дерева, что росло внизу, во дворе – его листья танцевали, потряхиваемые ветерком.
Отведя голову, я двинулся было дальше вниз, но задержался, когда на глаза мне попалось черное пятнышко, стремительно двигавшееся на фоне здания напротив. Оно исчезло настолько быстро, что я принял его за еще один оптический эффект, загогулину, дефект стекла. Я попытался воспроизвести его, снова прижав лоб к окну и опять его отведя, но черное пятнышко больше не появлялось. Попробовал несколько раз – безуспешно. Однако мне не померещилось: мазок черного, быстро двигавшийся на фоне здания напротив, был.
В конце концов я сдался и двинулся дальше вниз. Оказавшись на третьей ступеньке, я услышал, как за дверью хозяйки печенки что-то затрещало или зашуршало. Возможно, радио, а возможно, это шуршал по полу ее мешок с мусором. Через секунду послышалось дерганье задвижки; потом дверь открылась, и она снова прошаркала наружу, держа в руке мусорный мешок. Она опять согнулась, чтобы поставить мешок, прижав при этом левую руку к спине; опять взглянула на меня и произнесла свою фразу:
– Все тяжелей и тяжелей становится.
Я ответил ей, как и прежде. Снова возникло ощущение скольжения, легкой плотности. Момент, в котором я находился, словно растянулся и превратился в водоем – тихий, прозрачный водоем, в своей умиротворенности поглотивший все вокруг. И снова, когда я вышел из зоны возле ее двери, ощущение пошло на убыль. Дойдя до третьей ступеньки следующего пролета, я, как и прежде, обернулся и сказал:
– Снова.
Мы повторили все снова – но на этот раз ничего не получилось. Она очертила мусорным мешком горизонтальную дугу вокруг ног и, согнувшись, начала опускать его наземь, как вдруг он выскользнул у нее из руки и упал с громким дребезгом. Она наклонилась поднять его, но я ее остановил.
– Да пусть его. Теперь прервалось… в общем, как надо не выйдет. Давайте снова начнем с верхнего этажа. И пусть это пятно уберут.
Из правого нижнего угла ее мешка подтекало, и на полу осталось мокрое, липкое с виду пятно. Кто-то вышел и подтер его.
– Теперь слишком чисто выглядит, – заметил я, когда подтирать кончили.
Опять вышла Энни, посмотрела.
– Придется снова посыпать пылью с песком.
– Сколько это займет времени? – спросил я.
– Как минимум час, пока не станет выглядеть, как прежде.
– Час? – повторил я. – Это слишком… Мне надо, чтобы…
Мой голос затих. Я сильно расстроился. Мне хотелось проникнуть обратно во все это прямо сейчас: водоем, легкость и скольжение. Но поделать я тут ничего не мог; если пол будет не той фактуры, как надо не получится. Совладав с собой, я объявил:
– Ладно, делайте. Пойду дальше.
К хозяйке печенки я решил вернуться позже. К тому же, она была лишь частью реконструкции – мне еще многое надо было успеть, много мест зафиксировать.
Я пошел к квартире пианиста. Когда я проходил мимо его двери, музыка зазвучала отчетливей и резче; потом, когда я двинулся с его этажа вниз, снова утихла, поплыла. На площадке под ним я миновал квартиру неинтересной пары. Это оттуда доносился шум пылесоса. Судя по звуку, пылесос таскали туда-сюда по ковру. Должно быть, этим занималась реконструктор-жена. Я двинулся дальше вниз, через нейтральный участок, мимо квартиры мотоциклиста-любителя. Со двора по-прежнему доносилось его звяканье, но теперь эхо было не столь сильным – возможно, здесь, внизу, мешали деревья и качели. Я пошел дальше, ко входу в парадное.
Здесь это ощущение начало возвращаться: то же чувство наэлектризованности, интенсивности. Моя консьержка стояла, как ей было велено, – стояла совершенно неподвижно посреди парадного в своей белой хоккейной маске. Позади нее, слева (от меня справа) находился шкаф; рядом – еще одна полоска белого, нейтрального пространства. Когда я обходил ее по кругу, разглядывая со всех сторон, ее коротенькие руки и лишенное черт лицо, казалось, источали значимость такой концентрации, что создавалось ощущение едва ли не смертельной опасности. Я склонил голову на один бок, потом на другой; присел на землю, посмотрел на нее оттуда. Она походила на статую в гавани, возвышающуюся над гранитом, – или на шпиль, реактор, вышку связи. Через некоторое время я почувствовал, что ее воздействие на таком близком расстоянии стало чрезмерным, а потому открыл дверцу шкафа и шагнул внутрь.
Тут были щетка, тряпка с ведром и огромный пылесос, все в тех положениях, в которых я их сначала вспомнил, а после набросал. Был тут и еще один предмет – странной формы агрегат для чистки гранитных полов. Поначалу мысль о нем мне в голову не приходила, но потом, когда однажды утром я его тут обнаружил, он показался вполне уместным, и я решил его оставить. В шкафу я пробыл долго. Здесь было тесно, тепло. Я почувствовал, что забрался в один из самых глубинных отсеков видения, которое воплотил в жизнь вокруг себя. Это было хорошее положение – в хорошем месте, с хорошим обзором. Дверца шкафа была чуть приоткрыта; через эту прорезь я смотрел на стоящую в парадном консьержку. Она стояла ко мне спиной, маска была завязана у нее на затылке. Ее плечи поднимались и опадали – она дышала. Я видел ее, как видит жертву убийца: из укрытия, глядя на ее спину через тонкую прорезь.
Через некоторое время я вышел из шкафа, пересек полосу нейтрального пространства и вернулся к подножию лестницы. Я уже готов был выйти в сад, но тут услышал, как входная дверь позади меня, та, что вела на улицу, отворилась. Я обернулся. В дверь только-только вошел маленький мальчик – это был один из учеников пианиста, явившийся на урок. Он зашагал через парадное к тому месту, где стояла консьержка, но, заметив меня, смутился. Ему было, наверное, лет десять или одиннадцать. На спине у него висел небольшой ранец – один из предметов Энниного реквизита. У него были прямые темные волосы и веснушки. Мы стояли друг напротив друга, я и он, совершенно неподвижно – трое совершенно неподвижных людей в парадном: я, этот маленький мальчик и консьержка. Вид у него был испуганный. Я улыбнулся ему:
– Иди, иди. Все будет хорошо.
При этих словах маленький мальчик снова начал двигаться. Он прошел мимо меня и направился вверх по лестнице. Когда он поравнялся со мной, я посмотрел на его ранец, на его изношенные кожаные ботинки. Я наблюдал за тем, как он уходил вверх и вдаль, поворачивая и уменьшаясь. Он исчез из виду на третьем этаже, и шаги его остановились. Я услышал приглушенный звонок в дверь; затем остановилась и фортепьянная игра. Я услышал, как со скрежетом отъехал табурет пианиста, потом – как его шаги направились к двери. Подождав и убедившись, что мальчика впустили, я вышел во двор.
Он был полон уличных шумов: отдаленные машины и автобусы, поезда и самолеты, общий невнятный грохот, что пронизывает воздух городов. Наверху, на четвертом этаже, ребенок начал играть гаммы. Они лились из окна пианиста, но, не сдерживаемые стенами, в отличие от звуков его собственной игры на лестничной клетке, рассеивались в летнем воздухе. Я видел дым, тянущийся из отдушины в кухне у хозяйки печенки прямо надо мной. Видел подоконник моей ванной, но самого стекла не видел – угол был слишком острым. Я снова опустил глаза. Мотоциклист-любитель находился в трех ярдах слева от меня. Он перестал стучать по своему болту и теперь поворачивал его, что-то откручивая. На земле под мотором его мотоцикла образовалась лужица масла; она была чем-то похожа на тень, но более плотная. Я постоял рядом с его мотоциклом, глядя на лужицу, потом сказал:
– Когда закончите, оставьте это здесь.
– Что оставить? – спросил он, глядя на меня снизу, слегка прищурившись.
– Лужицу оставьте.
– Как – оставить?
– Проследите, чтоб ее не размазали и не засыпали. На случай, если мне захочется ее попозже зафиксировать.
– Зафиксировать?
– Неважно. Проследите, чтоб не стерлась, и все. Ясно?
– Да, – ответил он. – О'кей.
Я отошел от него к качелям. Не хватало еще, чтобы он заставлял меня объяснять, что я хотел сказать этим «зафиксировать». Что хотел, то и сказал. Его дело – выполнять, что я ему говорю; я ему за это деньги плачу. Придурок. А зафиксировать ее я действительно хотел: ее форму, ее тень. Они были важны, и я не хотел их потерять. Я подумал, не вернуться ли к себе в квартиру за листком бумаги, на который можно будет перенести лужицу, но решил заняться этим позже, когда его не будет. Хотя, если пойдет дождь… Я сел на качели и взглянул на небо. Непохоже было, чтобы собирался дождь: небо было голубое, по нему лишь изредка проплывали облака. Через какое-то время я соскользнул с качелей, толкнул их, чтобы продолжали раскачиваться взад-вперед, и улегся под ними на спину, наблюдая, как они раскачиваются у меня над головой на фоне неба. Проплывающие облака двигались медленно, а качели двигались быстро. Голубизна была неподвижной, но в вышине два самолета разрезали ее на части своими следами, состоящими из водяного пара, подобно тому, как мы с Назом когда-то разрезали город при помощи наших булавок и ниток. Лежа на спине, я позволил рукам слегка скользнуть по траве в стороны, вывернул их ладонями кверху, дождался, пока по телу снова поползут мурашки. Так я пролежал очень долго, покрываясь мурашками, глядя на небо…
Позже, вечером того же дня, я лежал у себя в ванне, отмокая, созерцая трещину. Последний ученик пианиста ушел, и он начал сочинять: сыграет фразу, потом надолго остановится, прежде чем снова ее сыграть, привесив к концу новую полуфразу. Внизу потрескивала и скворчала печенка. Я чувствовал ее запах. Он по-прежнему был не вполне таким, как надо, – в нем по-прежнему присутствовал этот горьковатый оттенок, напоминавший кордит. Я снова упомянул это в разговоре с Назом, когда закончил принимать ванну.
– Постараемся исправить, – сказал он мне. – Ну, а помимо этого, как, на ваш взгляд, все прошло?
– Все прошло… ну, в общем… – начал я, не зная, что ему сказать.
– Вы считаете, успешно?
Успешно? Трудный вопрос. Что-то получилось, что-то нет. Моя рубашка слегка зацепилась за разделочную доску, зато холодильник открывался идеально. Хозяйка печенки придумала эту замечательную реплику, но потом, пытаясь реконструировать свои движения в третий раз, уронила мешок. И еще, конечно, проблема с запахом. Но можно ли назвать это успехом? Успехом в чем? Рассчитывал ли я, что все мои движения мгновенно станут слитными и безупречными? Разумеется, нет. Рассчитывал ли я, что обходного пути через понимание, которым я, что бы ни делал, вынужден был идти весь прошлый год – всю свою жизнь, – удастся избежать вот так, сразу: взять и срезать, будто ненужный нерв, слепой рукав реки, который испарится сам? Нет, над этим придется работать, много работать. Но сегодня мои движения были другими. Ощущались по-другому. И мои мысли тоже, мое сознание как единое целое. По-другому, лучше. Это было…
– Это было начало, – сказал я Назу.
– Начало? – повторил он.
– Да. Очень хорошее начало.
В ту ночь мне снилось, что я и весь мой персонал – Наз, Энни, Фрэнк, хозяйка печенки и пианист, и мотоциклист-любитель, и консьержка, и ученик, плюс все подчиненные Наза, Фрэнка и Энни, координаторы, мелькающие за дверьми, люди, следящие в здании напротив, а также их помощники, – мне снилось, что все мы соединились – физически, взявшись за руки и встав друг другу на плечи, словно труппа цирковых акробатов. Соединившись таким образом, мы выстроили фигуру, похожую на самолет. Это был старый, примитивный самолет – биплан, из тех, на каких пионеры авиации, возможно, выполняли рекордные трансатлантические перелеты.
Поднявшись в воздух, мы, не нарушая строя, летали над моим домом и окрестными улицами. С высоты нашего полета виден был двор с деревьями и качелями, с лужицей масла под мотоциклетным мотором. Во дворе видны были и мы сами, наши реконструированные дубли: мотоциклист-любитель, стучащий и откручивающий болты; я сам, лежащий под качелями. Видны были коты, шмыгающие по красным крышам. Если заложить вираж на север и немного спланировать, видно было здание Наза, снаружи сине-белое, с антеннами на крыше. В окна его верхнего этажа видны были дубли сотрудников из офиса Наза; они координировали действия в моем доме. Эти действия тоже было видно через ставшие прозрачными стены: хозяйка печенки, кладущая наземь свой мешок, разговаривающая со мной, проходящим мимо, пианист, репетирующий своего Рахманинова, консьержка, ученик – все до единого.
Мы снова сделали вираж и увидели стадион с белой, красной и желтой разметкой. Там бегали спортсмены, совсем как тогда, когда я был в коме. Я снова вел репортаж. Все шло гладко, удачно, пока я не заметил, что рядом с воротами лежат эти старые, замасленные части эскалатора – те самые, которые я видел тогда разложенными на станции «Грин-парк». Как только я их увидел, все пошло наперекосяк. Все перепуталось: действия в моем доме, подчиненные Наза, спортсмены и репортаж – все. Спортсмены падали, натыкаясь друг на друга; поток моей речи прерывался и пересыхал; мусорный мешок у хозяйки печенки лопался, разбрасывая протухшие, заплесневелые шматы несъеденной печенки по всему двору; цепи качелей обрывались; черные коты орали и гонялись за собственными хвостами. А тут еще наш самолет – самолет, который мы выстроили, переплетясь телами: мотор его глох, он круто пикировал вниз, на землю, поверхность которой сминалась, будто старая жестянка…
За секунду до катастрофы я проснулся в холодном поту и почувствовал неприятный запах застывшего жира.
9
Жир сделался, что называется, настоящей проблемой. За следующие несколько дней и недель хозяйка печенки пережарила небольшую гору свиной печенки. У нее постоянно работали три или четыре сковородки. Возможно, она не сама занималась жаркой – возможно, это помощники, подчиненные Энни, бросали все это на огонь, ломоть за ломтем, ждали, пока ломти начнут извиваться и скворчать, переворачивали и снимали их с огня, снова и снова. Кто бы там непосредственно ни занимался готовкой, жира выпаривалось такое количество, что им был окутан весь дом. Он засорил вытяжку, труба которой была повернута в сторону окна моей ванной. Прочистить эту наружную часть оказалось трудно – к ней было не подобраться изнутри. Пришлось нам нанять этих мойщиков окон – их обычно видишь болтающимися с верхушек небоскребов, – чтобы пришли и выскребли жир. Делали они это, подвиснув рядом с трубой. Зрелище было не для слабонервных. Я велел на всякий случай очистить двор под ними. Мне ли не знать, как и что падает с неба.
Эти люди не упали – зато падали коты. Именно это я видел в день первой реконструкции, когда прижался щекой к окну на повороте между этажами, моим и тем, где жила хозяйка печенки, а потом отвел голову, – черный мазок, который я принял за оптический обман. Это был не обман – это один из черных котов упал с крыши. К концу второго дня реконструкций упало три. Все насмерть. Поначалу мы купили только четырех; одного для создания нужного мне эффекта было недостаточно.
– Что будем делать? – спросил Наз.
– Еще достаньте.
– Сколько еще?
– Если каждые два дня будем терять по три, при такой частоте, пожалуй, понадобится довольно много. Непрерывно пополняющийся запас. Подавайте их туда, наверх, по мере необходимости, и все.
– Вас это не расстраивает? – спросил Наз два дня спустя, когда мы вместе стояли у меня в кухне, глядя, как внизу, во дворе один из его подчиненных засовывает расплющенного кота в мусорный мешок.
– Нет. Нельзя же рассчитывать, что все сразу получится идеально. Идет процесс обучения.
Более серьезную проблему представлял собой пианист. Однажды я застукал его на месте преступления, за намеренным жульничеством – вот это меня действительно расстроило, всерьез. Я всю вторую половину дня провел за тем, что сосредотачивался на нижних участках лестницы, изучал, как свет падает через большие окна на узорно выложенный пол. Я уже упоминал, что на полу был повторяющийся узор. Прямой солнечный свет, падая на пол, как это бывало каждый день в течение трех часов четырнадцати минут на третьем этаже, заполнял собой белые коридоры между прямыми черными линиями узора, словно заливающая лабиринт вода, в замедленном режиме. Я успел понаблюдать за тем, как это происходит, на верхних этажах и теперь работал на нижних. Я заметил, что тут, внизу, свет казался глубже: более плотный, менее летучий. Наверху в нем было больше пылинок – их поднимал туда теплый воздух на лестничной клетке. Достигнув верхних этажей, они зависали, словно звездочки в огромных галактиках, почти без движения, и от этого воздух казался легче.
Короче говоря, я лежал на полу, наблюдая за этим явлением – можно сказать, размышляя, – а фортепьянная музыка тем временем шла по кругу, повторялась в фоновом режиме, и тут я увидел, как навстречу ко мне по лестнице поднимается пианист.
Это, разумеется, было физически невозможно – в этот самый момент я слушал, как он репетирует Рахманинова двумя этажами выше. Возможно или невозможно, но он был здесь, поднимался по лестнице навстречу ко мне. Заметив меня, он резко остановился, потом решил повернуть назад, но было уже поздно – он понял, что игра проиграна. Он снова сделался неподвижен. Его глаза без особой надежды забегали по лабиринту этажа, словно ища выход из затруднения, в котором он оказался, и в то же время понимая, что не найдут; его лысая макушка побелела больше обычного. Он промямлил:
– Здравствуйте.
– Вы что… – начал я, но не смог закончить фразу. Меня накрыла волна головокружения. Фортепьянная музыка по-прежнему лилась из его квартиры в залитую солнцем лестничную шахту.
– У меня было прослушивание, – пробормотал он.
– А кто же тогда… – спросил я.
– Запись, – объяснил он, по-прежнему бесцельно блуждая глазами по этажу.
– Но в ней ошибки! И повторы, и…
– Моя запись. Я сам ее сделал, специально. Это ведь практически одно и то же.
Теперь настала моя очередь побелеть. Зеркал в доме не было, но будь они здесь и посмотри я в одно из них, я несомненно увидел бы себя абсолютно белым: белым и от ярости, и от головокружения.
– Нет! – закричал я. – Нет, не одно и то же! Никак не одно и то же, нет!
– Почему?
Его голос был по-прежнему монотонным и невыразительным, но слегка дрожал.
– Потому что… Это совершенно не то! Это не одно и то же, это ведь… Совсем не одно и то же!
Я кричал изо всех сил, однако голос мой звучал надломленно и слабо. Я едва дышал. Когда он поднялся по лестнице ко мне, я лежал на боку, наполовину приподнявшись – такое полулежачее положение, как у этих умирающих римских императоров на картинах. Я попытался встать, но не мог. Изнутри подступила паника. Я попытался вести себя официально. Заставив себя сделать глубокий вдох, я сказал:
– Этим вопросом я займусь через Наза. Вы можете идти. Я предпочел бы остаться один.
Он повернулся и ушел. Я тут же отправился к себе в квартиру. Не успел я туда добраться, как меня стошнило. Я перевалился через порог ванной и, когда меня перестало выворачивать, еще долго-долго стоял, держась за раковину. Почувствовав себя лучше, я поднял глаза к трещине. Благодаря этому мне снова удалось сориентироваться, головокружение прошло. Пусть этот дурной человек против меня, дом все равно на моей стороне. Придя в себя настолько, чтобы начать двигаться, я пошел в гостиную, сел на мой диван и позвонил Назу.
– Это абсолютно недопустимо! – сказал я ему, объяснив, что только что произошло. – Просто абсолютно!
– Уволить его? – спросил Наз.
– Да! Нет! Нет, не увольняйте. Он идеально подходит – в смысле, то, как он выглядит. И то, как играет. Даже то, как говорит, этот отсутствующий монотонный голос. Но задайте ему по первое число! Как следует! Посильнее! Ну, то есть в переносном смысле. Пусть врубится: этот номер у него больше не пройдет. Заставьте его это понять!
– Я переговорю с ним прямо сейчас.
– Вы где сейчас?
– У себя в офисе. Я подойду. Вам что-нибудь принести?
– Воды, – сказал я. – С газом.
Я повесил трубку – и тут же перезвонил ему.
– Когда будете с ним разговаривать, выясните, как часто он это проделывал.
Наз явился с водой через полчаса. Пианист якобы сожалел о случившемся – он не сознавал, насколько это жизненно важно, чтобы он все время играл по-настоящему.
До этого он использовал кассету всего дважды, когда ему надо было заняться чем-то другим, и…
– Чем-то другим?! – перебил я. – Я ему плачу не за то, чтобы он занимался другими вещами! Три раза как минимум!
– Он согласен больше так не делать, – сказал Наз.
– Ах вот как, согласен, значит? Как мило с его стороны. Может, зарплату ему поднимем?
Наз улыбнулся.
– Повесить ему камеру видеонаблюдения? – спросил он.
– Нет. Никаких камер. Но какой-нибудь другой способ убедиться, что он все делает как положено, найдите.
Та штука в глубине его глаз пожужжала, и он кивнул.
Было вполне естественно ожидать от этого парня, чтобы он играл, раз ему платят за игру – и притом огромные деньги. И часы работы были не такие уж страшные; обычно я переводил дом в режим «включено» на шесть-восемь часов в день, как правило, разбивая это время на двухчасовые промежутки. Иногда мог получиться промежуток длиной в пять часов. Однажды так у меня прошла целая ночь и половина следующего дня. Но это была моя прерогатива: так было сказано в контрактах, подписанных всеми реконструкторами и всеми сотрудниками, крупным шрифтом сказано, вот, читайте.
Я перемещался по территориям дома и двора, как мне заблагорассудится; именно так, как планировал в первую нашу беседу с Назом. Я бродил повсюду, подчиняясь своим побуждениям. Бывали дни, когда мне хотелось заняться сбором данных: набросками, измерениями, записями. Тогда я, к примеру, снимал копию с лужицы масла под мотоциклом – как она удлиняется, какие волнистые у нее края, – а после относил рисунок к Назу в офис, делал несколько фотокопий и прилеплял эти копии рядком к стене моей гостиной, при этом поворачивая каждую фигуру, постепенно увеличивая угол до трехсот шестидесяти градусов. Таким образом мне удавалось охватить множество мест: закоулки, углы, образованные стенами, части перил. Иногда вместо того, чтобы их зарисовывать, я прижимал к ним кусок бумаги и тер – так, чтобы их поверхность оставила след, мазок. А то засекал время, за которое солнечный свет после полудня сперва заливал каждый этаж, а после вытекал обратно, или – за сколько дойдут до полной остановки качели, если толкнуть их с определенной силой.
Порой же у меня пропадало всякое ощущение меры, расстояния, времени, и я просто лежал, наблюдая, как плавают пылинки, или качаются качели, или нежатся коты. Бывали дни, когда я вообще не выходил из моей квартиры, а вместо того сидел в моей гостиной или лежал в моей ванне, созерцая трещину. В таких случаях дом оставался в режиме «включено»: пианист должен был играть – играть по-настоящему, мотоциклист-любитель – долбить и стучать; консьержка должна была стоять у выхода из парадного в своей хоккейной маске, хозяйка печенки – жарить свою печенку; однако передвигаться по дому и наносить им визиты я не собирался. Достаточно было знать, что они здесь, в режиме «включено». Я часами напролет лежал в моей ванне, в полувзвешенном состоянии, а из-за движущихся клубов пара смутно пробивалась трещина со своими выступами и извилинами.
Я усиленно работал над определенными действиями, определенными жестами. Например, над протискиванием мимо моего кухонного стола. То, как это вышло в первый день, меня не удовлетворяло. Мне не удалось пройти мимо него как следует, моя рубашка слишком долго тащилась вдоль края. Рубашке полагалось легко коснуться дерева – поцеловать его, не более. Вопрос состоял в том, как слегка повернуться, чтобы пройти боком… Довольно сложный маневр; я отрабатывал его снова и снова: снижая скорость вдвое, вчетверо, почти совсем до нуля, выясняя, как должна действовать каждая мышца, как должен поворачиваться каждый сустав, каждый шарнир. Мне опять вспомнился бой быков, потом крикет: как бэтсмен, решив не бить по мячу, встает прямо на его пути, позволяя ему просвистеть мимо своего втянутого подвздошья, в миллиметре от груди, а то и чиркнуть по неплотно прилегающим складкам рубашки, когда он пулей проносится мимо. Я перевел дом в режим «выключено» на целый день, пока репетировал этот маневр: шагал, слегка поворачивался, одновременно приподнимаясь на носках, ждал, пока рубашка заденет стол – чуть-чуть, как судно на воздушной подушке касается воды, потом снова поворачивался прямо и отходил. Затем, на следующий день, я попробовал все по-настоящему, переведя дом в режим «включено». После двух дней работы у меня на боку в разных местах появились три синяка, но это окупалось чувством гладкости, скольжения, которое я испытал в те несколько раз, когда все получилось: это погружение, эта умиротворенность.
Над сценой между мной и хозяйкой печенки я тоже усиленно работал. Не то чтобы меня разочаровала наша реконструкция в тот первый день; все было в порядке, не считая уроненного мешка. Просто мне хотелось повторять ее снова и снова. Сотни раз. Больше. Никто не подсчитывал. Во всяком случае, я – нет. Обычно я разбивал последовательность на составные части – угол ее головного платка и наклона ее согнутой спины, менявшиеся, когда я перемещался с одной ступеньки на другую, разворот ее шеи, когда голова ее поворачивалась ко мне, и самозабвенно во все это окунался. Однажды мы целое утро провели, снова и снова возвращаясь к моменту, когда ее лицо переключалось с последнего слога обращенной ко мне фразы, «-ся», на то, чтобы прервать зрительный контакт, отвернуться и увести сперва плечи, а под конец и все тело назад в квартиру. В другой день мы сосредоточились на мгновении, когда ее мусорный мешок оседал в гранит пола, меняя форму по мере того, как его содержимое, больше не поддерживаемое в пространстве ее рукой, перестраивалось в положение покоя. Я раскладывал составные части целой последовательности и наслаждался ими, потом опять складывал вместе и наслаждался целым – а потом снова разбирал.
Раз, когда я стоял у окна кухни, глядя вниз, во двор, мне в голову пришла одна идея. Я позвонил Назу, чтобы рассказать про нее.
– Мне бы хотелось иметь модель дома.
– Модель?
– Да, модель – масштабную модель. Велите Роджеру сделать.
Роджером звали нашего архитектора.
– Знаете, когда заходишь в лобби общественного здания, когда их обустраивают, там бывают такие маленькие модели, где показано, как все будет выглядеть по окончании.
– А, да, понятно, – сказал Наз. – Я с ним свяжусь.
Роджер доставил мне модель через полтора дня. Она была замечательная. Высотой три фута, шириной – четыре. Там имелись двор, и здание напротив, и даже стадион. Были там и маленькие фигурки: мотоциклист-любитель рядом со своим мотоциклом, пианист со своей лысой макушкой, хозяйка печенки со своим платком и вьющимися прядями волос, консьержка со своими коротенькими руками и белой маской. Он сделал даже крохотные тряпку и пылесос для ее шкафчика. Все это было видно, поскольку часть стен и перекрытий он сделал из прозрачной пластмассы. Те, что прозрачными не были, он заполнил деталями: выключатели и дверные ручки, повторяющийся узор на полу. Участки нейтрального пространства он сделал белыми. Кроме того, некоторые части стен и крыши снимались, так что можно было залезть внутрь. Как только Роджер ушел из моей квартиры, я позвонил Назу.
– Дайте ему премию побольше.
– Сколько? – спросил Наз.
– Ну, не знаю – побольше. И еще, Наз…
– Да?
– Я хочу, чтобы вы… Так, а ну-ка…
Фигурки персонажей были передвижными. Разговаривая, я взял одну – хозяйку печенки – и стал ее перемещать, чтобы она прыжками спустилась по лестнице во двор.
– Я хочу, чтобы вы велели хозяйке печенки спуститься по лестнице, к мотоциклисту-любителю.
– Сейчас?
– Да, сейчас.
Спустя две минуты я стоял у своего окна, наблюдая за тем, как она – настоящая хозяйка печенки – выходила, шаркая ногами, во двор. Я подтащил модель Роджера к окну, чтобы видеть одновременно и модель, и двор. Взяв фигурку мотоциклиста-любителя, я поместил ее на качели.
– А теперь, – сказал я Назу, – я хочу, чтобы мотоциклист-любитель пошел и сел на качели, которые к нему ближе.
Не прошло и полминуты, как я увидел: настоящий мотоциклист-любитель поднял глаза на дверь дома. Он с кем-то разговаривал; что говорилось, я не слышал, потому что пианист играл своего Рахманинова; но это мне было и не нужно. Мотоциклист-любитель взглянул на мое окно, потом поднялся на ноги, подошел к качелям и сел на них.
– Лучше пусть он встанет на колени, – сказал я Назу.
– На колени?
– Да; не сядет, а встанет на колени. Он должен стоять на коленях в точно той же позе, в какой стоит на коленях у своего мотоцикла.
В такой позе была сделана фигурка. Ее конечности не двигались. Еще несколько секунд, и настоящий мотоциклист-любитель сменил позу на качелях, так что теперь он упирался одним коленом в сиденье.
– Так, а теперь… – продолжал я. – Пианист! Он может пойти посмотреть.
Я заставил фигурку пианиста проделать именно это: подойти к окну и выглянуть на улицу. Спустя пару секунд фортепьянная музыка этажом ниже смолкла; затем – звук отодвигаемого назад стула, затем – шаги; затем его настоящая лысая макушка выскочила из его настоящего окна. Я поднял модель и поставил на подоконник, чтобы иметь возможность опускать глаза на голову, высовывающуюся в модели, и одновременно смотреть на настоящую. Расстояние было такое, что обе они казались одного размера.
Прежде чем отослать их всех назад на их посты, я велел мотоциклисту-любителю посильнее толкнуть качели. В то время, когда он это делал, то же сделал с моделью качелей и я. Я наблюдал, как и те, и другие раскачиваются. На каждое качание настоящих качелей приходилось два с половиной качания миниатюрных качелей. И остановились они прежде настоящих. Я долго стоял у окна, наблюдая за угасающими движениями настоящих качелей. Мне вспомнились заводные музыкальные игрушки фирмы «Фишер Прайс», как они замедляются, когда у них кончается завод, до тех пор, пока он не кончится совсем. Тут начинает казаться, будто эта игрушка никогда уже не издаст никакой музыки, однако стоит ее чуть-чуть подтолкнуть, и из нее всегда слышится один последний полузвон, и еще один полу-полузвон, и еще, и еще, с каждым разом все меньше и меньше, и так часами – или неделями – после того, как она в первый раз остановится.
На следующий день я поставил мою модель на пол в моей гостиной. Я снова принялся двигать фигурки и одновременно давать инструкции Назу по телефону, но только теперь смотреть я не ходил. Просто знать, что это происходит, было достаточно. Я заставил консьержку забрать мусорный мешок, выставленный хозяйкой печенки, мотоциклиста-любителя – два часа простоять на коленях в парадном, пианиста – еще два часа просидеть на закрытой крышке рояля лицом к окну; все это время, пока они занимались этим по-настоящему, я сидел на одном и том же месте на полу в моей гостиной. На другой день я лежал рядом с моделью, глядя на нее под тем же углом, что и солнце. Мой взгляд врывался через верхнее лестничное окно и заливал узорный лабиринт пола, затем медленно – очень медленно, едва различимо – заволакивался, терял фокусировку, темнел и отступал, исчезая за самой дальней границей этажа спустя четыре часа семь минут после своего первого появления. Я проделал это со всеми этажами, где предварительно замерил время: от четырех часов семи минут на верхнем до трех часов четырнадцати минут на третьем.
В течение следующего месяца я покидал здание – в смысле, всю зону реконструкции: здание, плюс двор, плюс участок улицы между ними и офисом Наза, где были мост и стадион, – всего дважды. В первый раз – чтобы сходить за покупками. Все это обычно делали за меня, но однажды у меня возникло желание сходить и самому проверить, что происходит во внешнем мире. Оказалось – ничего особенного. Во второй раз я заметил, что у моей старой, покорябанной «Фиесты», припаркованной у стадиона, спустилось колесо. Я уже несколько месяцев на ней не ездил и не собирался, но, увидев спущенное колесо, вспомнил ту мастерскую по ремонту шин рядом с моей старой квартирой – ту, у которой задержался в день заключения договора, не зная, пойти ли домой или двинуться дальше в аэропорт.
Как только я вспомнил эту шиномонтажную мастерскую, она тут же начала мне ясно представляться: окна ее фасада, тротуар, где стоял рекламный щит, кафе по соседству. Я вспомнил, что на крыше кафе рядом с горой шин была приделана аляповатая модель жестянки бобов. Шины были выстроены и на улице перед мастерской, вертикально укрепленные в стойке. Когда эти подробности ожили у меня в памяти, место – казавшееся мне, когда я там жил, настолько обыденным, что я его почти не замечал, – окутала атмосфера чего-то интересного. Заинтригованный, я решил его посетить. Я взял у мотоциклиста-любителя кое-какие инструменты, заменил шину, поставив запаску, а потом поехал туда, где жил раньше, чтобы отремонтировать спущенную.
Место как будто не изменилось с тех пор, как я видел его в последний раз. На улице перед мастерской по-прежнему были выстроены в стойке шины, громоздились они и на крыше, рядом с аляповатой моделью жестянки бобов, рекламирующей кафе по соседству. Шины были обычные, настоящие, но рядом с огромной жестянкой казались уменьшенными, словно игрушечными. К фасаду мастерской тоже были прислонены шины, сложенные одна на другую, как бывает на картинговых трассах. Позади них раскрашенные объявления рекламировали специальные скидки на шины – и новые, и использованные, а также бесплатную установку. На тротуаре перед мастерской стояло небольшое прямоугольное устройство: вертикальный щит высотой до пояса, насаженный на палку, вставленную в массивное основание. На ветерке щит быстро вращался вокруг палки, и перед прохожими одно за другим мелькали два сообщения. Оба сообщения гласили: «Автошины».
В нескольких шагах от щита на тротуаре покачивалась более хитроумная реклама – ребенок, одетый в костюм «Мишлен Мэн». В костюме его талия напоминала неохватную белую шину, которая покачивалась при движении. Ему было, наверное, лет десять-одиннадцать. Видно было, что это мальчик, потому что верхнюю часть костюма, голову, он не надел. Ей завладели двое ребят постарше; эти двое стояли у входа в мастерскую, пиная голову туда-сюда, словно футбольный мяч. Когда я подъехал, они перестали ее пинать и неторопливо подошли к моей машине. Они смотрели на мои шины очень серьезно, нарочито вытягивая шеи – несомненно подражая родителям или кому-то еще, хозяевам мастерской.
Я вышел из машины.
– У вас тут царапина, – сказал старший из ребят; ему было лет пятнадцать.
– Знаю, – ответил я ему, – я не по этому поводу. Я по поводу спущенного колеса.
Паренек чуть помладше, вместе с которым они пинали голову, двинулся в обход машины, – проверить шины с пассажирской стороны.
– В багажнике, – сказал я им.
Обойдя машину сзади, я открыл его. Двое мальчишек принялись вглядываться внутрь, как гангстеры в кино – в тех сценах, когда гангстеры открывают багажник, где припрятали тело или запас оружия. Ребятам, когда я открыл им багажник, тоже вспомнились такие сцены; это было очевидно. Они вгляделись внутрь, потом старший залез туда и вытащил колесо. Тот, что помладше, попытался ему помочь, но он отмахнулся от его руки. Самый младший, одетый в мишленовский костюм, подошел, переваливаясь, и попытался включиться в процесс, но его, в свою очередь, отпихнул средний.
– Тебе на улице стоять положено! – повысил он голос.
– А ты чего раскомандовался? – крикнул в ответ младший.
– Да заткнитесь вы! – велел им старший.
Средний опустил глаза. Лицо его вспыхнуло от обиды. Младший в своем костюме победоносно зашагал рядом с ним. Старший парнишка внес колесо в мастерскую. Я последовал за ним. Средний парнишка ввалился за мной, но остался в дверях, чтобы загородить дорогу младшему. Больше в мастерской не было никого.
– А где настоящие рабочие? – спросил я.
– Я и есть настоящий, – сказал старший. Вид у него был обиженный.
– Ну, в смысле… эти… хозяева.
– На обед ушли, – ответил он.
– Кафе рядом, – добавил средний.
– Ладно, могу вернуться, когда… – начал было я, но остановился, увидев как старший паренек окунул мою шину в корыто с водой и начал ее медленно поворачивать. Он, видимо, знал, что делает. Сосредоточенно, напрягая глаза, он всматривался в мутную воду. Я тоже всмотрелся; это занятие – наблюдать, как нижний край шины входит в воду и медленно вращается, – поглощало. Через несколько секунд парнишка остановился и, указав куда-то пальцем, произнес:
– Вот где у вас прокол.
Я последовал за его пальцем глазами. Из серебристой прорези на поверхности резины поднимались пузырьки воздуха. Похоже было на минеральную воду, только грязную.
– Смогут они отремонтировать? – спросил я. – В смысле, когда вернутся.
– Я и сам могу отремонтировать, – сказал парнишка.
Он вытащил шину из воды и поднес ее к какому-то станку. Шина была довольно большая для его роста; ему приходилось поддерживать ее коленом. Трущаяся шина оставляла черную грязь на его одежде, и без того кругом перемазанной грязью. Он сел за станок и нажал ногой на педаль, от чего шину обхватило несколько зажимов. Потом его нога нажала другую педаль, и шина с хлопком спустилась. Он принялся намазывать ее клеем из банки. Рука его при этом двигалась быстро, окуная и намазывая, кисточка так и мелькала туда-сюда. Исчезла та нарочитая манера, с которой он держался, подойдя к машине; теперь ее затмила искренняя сосредоточенность мастера, знающего свое ремесло. Средний парнишка наблюдал за ним, стоя чуть поодаль. Младший парнишка тоже наблюдал. Оба следили за тем, как он взмахивает кисточкой, взглядами, полными восхищения – едва ли не страстного желания.
Он нажал ногой на педаль; станок повернулся между его ладоней на четверть оборота, и он мазнул клеем ближайший участок. Нажал на другую педаль, и колесо крутнулось обратно, так, чтобы он смог мазнуть участок с другой стороны от прокола. Намазав все, что хотел, он снова окунул руку в корыто, зачерпнул воды и похлопал по шине рукой, а мы трое все стояли, не двигаясь, и благоговейно, будто прихожане во время крещения, наблюдающие за ним у купели.
Рука парнишки без усилий поднялась и щелкнула рукояткой сбоку от станка. Станок зашипел, его тиски выпустили мое колесо и скользнули обратно. Та же рука потянулась к плечу за синей трубкой, находившейся по соседству. Трубка висела чуть в стороне от поля его зрения, но помощь руке не требовалась – она точно знала, где трубка. Пальцы ее воткнули трубку в мою шину, большой надавил на стопор, внутрь потек воздух. Минуту спустя шина была заклеена, накачана и катилась по асфальту назад к моей машине. Он снова поднес ее к багажнику и положил обратно.
– Может, ее обратно надеть? – спросил я. – В смысле, чтобы ездить на ней?
– Нет. Оставьте как запаску. Их чередовать надо.
– Чередовать, ну да, – сказал я. – Хорошо.
Скажи он мне что угодно, я все равно ответил бы «Хорошо». Я постоял еще немного, глядя на него. Остальные тоже. Между двумя другими мальчишками как будто наступило перемирие. Через некоторое время я спросил его:
– Так что, тебе заплатить, или…
– Да. Мне заплатите. Десять фунтов.
Я заплатил ему десять фунтов. Вспомнив, что в бачке стеклоомывателя у меня пусто, я попросил его долить туда. Он бросил взгляд на среднего парнишку и слегка приподнял подбородок; средний парнишка бросился в мастерскую и вынес оттуда литр голубой жидкости, которую они с младшим залили мне в бачок стеклоомывателя, действуя на этот раз вместе, синхронно: младший держал крышку, пока средний заливал, потом передал крышку среднему, и тот ее закрутил, пока он, младший, относил пустую бутыль к ведру. Они закрыли мне капот, и я снова сел в машину.
Перед тем, как отъехать, я нажал на кнопку системы омывания стекла, убедиться, что она работает. На стекло должна была брызнуть жидкость, однако ничего не произошло. Я понажимал еще. Опять ничего. Я вышел, снова открыл капот и проверил бачок. Там было пусто.
– Все куда-то делось! – сказал я.
Мальчишки всмотрелись внутрь. Старший встал на колени и заглянул под машину.
– Пятна нет, – сказал он. – Не протекло. Должно тут быть.
Повернувшись к среднему мальчишке, он сказал:
– Сходи еще бутыль принеси.
Еще одну бутыль принесли и залили в бачок. Я снова сел в машину и нажал на кнопку системы омывания. Снова ничего не произошло – и снова, заглянув в бачок, мы обнаружили, что он пуст.
– Два литра! – сказал я. – Куда все делось?
Испарилось, улетучилось. И знаете, что? Ощущение было замечательное. Не спрашивайте меня, почему – было, и все. Как будто у меня на глазах произошло чудо: материя – эти два литра жидкости – превратилась в не-материю; не в избыточную материю, беспорядок или хлам, но в чистую, бестелесную голубизну. Пресуществилась. Я взглянул на небо; оно было голубое и бесконечное. Я снова взглянул на парнишку. Его комбинезон и лицо были перемазаны грязью. Он принял на себя эту грязь, чтобы свершилось чудо, подобно христианскому мученику, которого бичуют, распинают, разрисовывают, словно каракулями, стигматами. Я почувствовал эйфорию – эйфорию и вдохновение.
– Если бы только… – начал было я, но остановился.
– Что? – переспросил он.
– Если бы только все можно было…
Я снова умолк. Я знал, что хотел сказать. Стоя на месте и глядя на его чумазое лицо, я сказал ему:
– Спасибо.
Потом я сел в машину и повернул ключ зажигания в замке. Двигатель завелся – и в этот момент из приборной панели вырвался шквал голубой жидкости, вырвался и каскадами обрушился вниз. Хлестало из радиоприемника, из панели обогрева, из кнопки аварийной сигнализации, спидометра, счетчика пробега. Хлестало и обдавало меня с головы до пят: рубашку, ноги, пах.
10
Вместо того, чтобы как можно скорее выскочить из машины, я сидел, не мешая голубой жидкости хлестать и обдавать меня с головы до пят. Кончив хлестать, она начала струиться, потом сочиться, потом капать. Я продолжал безучастно сидеть, пока она не перестала течь. На это ушло много времени: стоило решить, будто она выжала себя всю до последней капли, как спустя несколько секунд она умудрялась выжать еще полкапли, а спустя еще несколько секунд – еще пол-полкапли.
Медленно, неуверенно подобравшись к машине, трое мальчишек вгляделись внутрь. Младший ахнул, увидев мои брюки, насквозь пропитанные липкой голубой жидкостью. Двое других ничего не сказали – только смотрели, не отрываясь. Я тоже смотрел, не отрываясь; все мы смотрели, не отрываясь, на приборную панель и на мои ноги. Долгое время мы так и оставались неподвижны. Потом я поехал к себе.
Добравшись, я снял с себя мокрую одежду и принял ванну. Я лежал в ванне, глядя на трещину и размышляя о случившемся. Это было нечто очень печальное – не в обычном смысле слова, но в более крупном масштабе, в масштабе, в каком измеряются по-настоящему великие события, вроде исторических эпох или смерти звезд, – очень, очень печальное. Казалось, произошло чудо, чудо пресуществления, наперекор самим законам физики, законам, которые заставляли качели останавливаться, дверцы холодильников заедать, а большие, ничем не поддерживаемые предметы – падать с неба. Это чудо – этот триумф над материей – как будто бы случилось, а потом выяснилось, что ничего подобного – что оно провалилось, полностью, с треском, что его водные ошметки рухнули наземь, превратив сцену триумфального взлета в сцену бедствия, катастрофы. Да, это было очень печально.
Я все лежал в ванне, прокручивая это событие в голове, прочесывая его грани. Там присутствовали аляповатая модель жестянки и наваленные горой шины, крутящийся щит, покачивающийся шинный костюм младшего паренька, станок с тисками и педалями да синяя трубка, полная воздуха. Я вспомнил, как паренек внес шину из багажника моей машины в мастерскую, как у него на рубашке осталась грязь; потом – как его руки вились вокруг нее, намазывая клей, заново ее накачивая. Я лежал, вспоминая, так долго, что ванна остыла, а моя кожа покрылась морщинками. Прошла вечность; я вылез и позвонил Назу.
– Я подумываю об еще одном проекте и хочу, чтобы вы посодействовали мне в его организации.
– Конечно, – ответил Наз. – Расскажите мне о нем.
– Я хотел бы в точности воспроизвести одно конкретное место.
– Небольшую часть здания? – спросил он.
– Нет. Другое. Шиномонтажную мастерскую.
– Думаю, это не проблема. Скажите, где она, и я прямо сейчас позвоню Роджеру, попрошу, чтобы он соорудил вам еще одну модель.
– Мне не модель нужна, – объяснил я Назу, – а копия в натуральную величину. Я хочу, чтобы Роджер воспроизвел эту мастерскую в точности, до мельчайших подробностей. Далее мне потребуется, чтобы реконструкторы прогнали определенное событие, детали которого я обрисую позже. В качестве реконструкторов мне нужны дети, трое: пятнадцати, тринадцати и одиннадцати лет. Плюс один мужчина моего возраста. Всего четверо человек плюс помощники. Мне потребуется, чтобы они прогоняли это событие постоянно, безостановочно.
На том конце провода наступила пауза. Я представил себе офис Наза в сине-белом здании: то, как расставлены столы, подзорную трубу у окна. Через некоторое время он произнес:
– Как они с этим справятся?
Вопрос был резонный, но у меня имелся ответ:
– У нас будет несколько групп, сменяющих друг друга, как в эстафете.
– В эстафете?
– Да. Мы будем их чередовать.
На том конце провода наступила новая пауза. Я снова сосредоточился на его офисе, сжимая трубку. Наконец он ответил:
– Хорошо.
Его подчиненные нашли склад за городом, в Хитроу. Он был на окраине территории, принадлежащей аэропорту, – ряд старых ангаров для маленьких частных самолетов, из тех, что сдавались напрокат корпорацией, всем этим управлявшей. Там легко разместилась копия самой мастерской в натуральную величину, включая крышу с шинами и аляповатую модель жестянки бобов, плюс копия улицы перед ней, где парнишка в костюме «Мишлен Мэн» покачивался рядом с крутящимся щитом, гласившим «Автошины – Автошины», – а также, само собой, где липкая жидкость, вырвавшись из приборной панели, каскадами обдала меня с головы до ног.
Еще они заплатили настоящим рабочим из шиномонтажа, людям, сидевшим во время этого эпизода в кафе, полштуки – сущую ерунду, – чтобы те позволили Роджеру, Фрэнку и Энни прийти и составить подробный план всего, что было в мастерской: зафиксировать расположение полок, вещи на них, их размещение, возраст и рабочее состояние, размеры аляповатой модели жестянки бобов, станок внутри с его педалями и тисками, синюю трубку, наполненную воздухом, и так далее. Разумеется, требовалось, чтобы все инструменты работали. Владелец настоящей мастерской, кругленький человек лет сорока с чем-то, вышел и показал нам, как всем этим оборудованием пользоваться. Он позанимался с группой пятнадцатилетних ребят, пока те не научились окунать шины в воду и высматривать шелковистые пузырьки, ногами зажимать и крутить колесо, одновременно смазывая его клеем, тянуться рукой за спину, чтобы взять трубку с воздухом и подвести ее к вентилю, не поворачивая головы. На это ушло какое-то время.
Что касается позиций и движений, ими я, как и прежде, занялся сам. Я показал реконструктору-парнишке в мишленовском костюме, где стоять и покачиваться, а другим двум – как пинать туда-сюда его голову. Я заставил их пинать ее с минимальными затратами движений, стуча по ней ногами механически, словно они – зомби или роботы. Водителю, человеку, реконструировавшему мою роль, полагалось выходить из машины медленно. На него, как на консьержку, надели белую маску хоккейного вратаря, чтобы его личность не вытесняла собой мою – или, точнее, чтобы сюда не вмешивались вообще никакие личности. Мне нужны были только движения и слова, все без тени эмоций, нейтральное; нужно было, чтобы реконструкторы разыгрывали движения безо всякой игры, произносили слова безо всяких чувств, бесстрастными голосами, монотонными, как у моего пианиста. Старший из ребят должен вынуть шину из багажника, поднести ее к станку и закрепить; средний должен попытаться помочь ему поднять ее, а старший должен оттолкнуть его руку; младший должен подойти к ним, а потом притаиться за дверью. Я показал им, куда ступать, как поднимать, как пинать, где стоять. Большую часть времени они должны были просто стоять, абсолютно неподвижно.
Через десять дней мы готовы были начинать. Я велел построить возвышение, помост, слегка напоминающий оперную ложу, потому что любил наблюдать за действиями в моем доме сверху и хотел иметь подобную возможность и здесь. На случай, если мне вздумается перемещаться по самой территории реконструкции, я дал установку, что реконструкторов это смущать не должно. Однако начать наблюдать за реконструкцией я решил с помоста. На десятый день после исходного события, где-то во второй половине дня Наз подал мне знак, что все готово; я кивнул ему в ответ, и процесс начался.
Перед щитом «Автошины – Автошины» включили мощный вентилятор, чтобы заставить его крутиться. Спустя несколько мгновений синяя «Фиеста» медленно проехала по складскому помещению мимо парнишки в мишленовском костюме и остановилась рядом с тем местом, где двое ребят постарше пинали туда-сюда его голову. Вышел водитель в белой хоккейной маске. Старший парнишка медленно, монотонным голосом протянул:
– У… вас… тут… царапина.
Наступила пауза, потом водитель ответил:
– Знаю… я… не… по… этому… поводу.
Последовала новая пауза. Выходило хорошо, очень хорошо. Все они избегали встречаться глазами друг с другом, в точности как я их проинструктировал. Я испытал нечто среднее между чувством скольжения, возникшим, когда хозяйка печенки заговорила со мной на лестнице во время первой реконструкции в моем доме, и появлением мурашек, которые ползли у меня по правому боку в ряде других случаев. Это смешанное чувство усилилось, когда мы дошли до места, где парнишка протянул:
– Я… и есть… настоящий.
Когда произошел взрыв липкой голубой жидкости, я, хоть и намеревался покинуть свою ложу и спуститься к машине, чтобы понаблюдать, обнаружил, что прирос к земле. Мне было видно игравшего меня реконструктора, которого облило на водительском сиденье: ноги раздвинуты, руки приподняты над рулем, тело бессильно под обрушившимися на него двумя литрами. Смешанное чувство стало еще сильнее, и я оказался прикован к своему месту на помосте. Спуститься мне удалось лишь во второй раз, когда это чувство улеглось. На этот раз я стоял у машины и наблюдал, как хлещет жидкость. Фрэнк с Энни создали в машине целую водопроводную мини-систему, которая всасывала голубую жидкость в мешок, разрывавшийся при втором включении двигателя. Хлестала она не совсем так, как надо, но дело было сложное. На то, чтобы подправить этот момент, ушло еще два прогона. Имелись и другие мелкие неполадки: неправильно было установлено давление воздуха в синей трубке; запаска была недостаточно грязной, чтобы должным образом запачкать парнишкин комбинезон – вещи довольно мелкие. В целом же все прошло хорошо – очень хорошо.
Первая группа выполнила шесть прогонов. Каждый прогон занял двадцать минут, минута туда, минута сюда, плюс минут шесть на перерыв. Против перерыва я не возражал – мне как бы даже нравилась пауза, это зависание: сцена ведет собственный отсчет по часам, проходит через нулевую отметку, начинается снова.
Первая группа занималась этим три часа, потом на смену ей пришла вторая группа. Я понаблюдал, как и они все повторили шесть раз, затем понаблюдал, как третья группа повторила все дважды. Под утро я решил уйти.
– Сказать им, чтобы прекратили? – спросил Наз, когда я надевал куртку.
– Нет. Ни в коем случае. Пусть продолжают. Когда истекут три часа, замените их четвертой группой. И дальше так и чередуйте.
– Как долго?
– Постоянно. Безостановочно. И еще, Наз…
– Да?
– Когда будете сами уходить, оставьте кого-нибудь, кому доверяете, следить, чтобы никто нам тут ничего не выкинул, вроде пианиста.
– Но он же не сможет следить постоянно.
Верное замечание. Секунду подумав над этим, я сказал ему:
– Значит, выберите нескольких человек, и пусть работают посменно, вот как реконструкторы. Их тоже чередуйте.
За следующие две недели я снова приходил туда пять раз, чтобы понаблюдать за жидким голубым взрывом и событиями, подводящими к его реконструкции. В течение некоторых из этих сеансов мне удавалось как следует собраться, сосредоточиться одновременно на нескольких вещах. Они ведь не так уж долго длились. Например, через три минуты после начала я мог обратить особое внимание на то, что происходит сразу после момента, когда старший паренек отталкивает в сторону руку среднего, – на то, как средний поворачивается в сторону навстречу младшему. Или же я мог наблюдать за маршрутом машины. От ее шин на полу склада оставались отпечатки; в ходе повторов сцены она проезжала обратно по собственным следам: иногда чуть левее или правее, иногда более или менее точно повторяя предыдущую конфигурацию. Когда я пришел в третий раз, у меня появилась идея.
– Я хочу сменить маршрут машины, – сказал я реконструктору-водителю.
– Как это? – спросил он; вид у него был очень усталый.
– Не надо вот так сдавать назад, когда возвращаетесь на исходную позицию в конце каждой сцены. Вместо этого я хочу, чтобы вы проезжали дальше вперед, разворачивались и выезжали вот здесь, а потом разворачивались в другую сторону и снова возвращались.
– Значит, мне восьмерку делать?
– Именно.
Эту поправку воплотили в жизнь. На протяжении следующих часов и дней машина оставляла на полу восьмерку – жирную черную линию, составленную из идущих вместе башенок и плоскогорий, за границы которой слегка выступали обособленные линии и углы – свидетельства самых беспорядочных маршрутов. Совсем рядом, справа на полу было большое липкое пятно – результат того, что сюда раз за разом хлестала голубая жидкость, сотни литров. Я подробно зарисовал линию и пятно в мельчайших деталях и, прижав прямо к ним листы бумаги, сделал отпечатки, которые потом прилепил к стенам своей квартиры. Если достаточно долго, не отрываясь, на них смотреть, они принимали разные формы: птиц, зданий или переплетенных частей космических станций, – и тогда вся собранность с меня слетала, заменяясь мечтательностью. Точно так же она слетала во время самой сцены реконструкции. Я мог вовсю сосредоточиться на каком-нибудь аспекте последовательности, а в следующую секунду, будто околдованная змеей птица, поддаться гипнозу движений: «Фиеста» медленно катится по своей хорошо укатанной восьмерке, колесо подплывает к мастерской на парнишкином колене, рука парнишки отталкивает руку другого, скользят тиски, хлещет голубое – и так до бесконечности, все повторяется, монотонно, чарующе.
В такие мгновения звуки, сопутствующие эпизоду приобретали сходство с колыбельной. Голоса реконструкторов эхом отдавались от рифленого потолка; надо всем этим низко пролетали, свистя и постанывая, самолеты: одни направлялись бог знает куда, другие возвращались бог знает откуда. Жидкость при взрыве издавала звук сначала бегущий, потом капающий. Вентилятор принимался гудеть перед началом каждого прогона и прекращал после его окончания. С окраин сцены, из-под ее поверхностей возникали другие звуки – звуки, спрятанные в замкнутом пространстве, где шарканье ноги среднего паренька переплеталось с шуршанием костюма младшего, или где хлестание жидкости переплеталось с вибрацией крыши. Порой эти звуки, казалось, превращались в голоса, произносившие слова и фразы, которые мне толком так и не удалось разобрать.
Я проводил там много времени, наблюдая. Еще я проводил много времени у себя в гостиной, неотрывно глядя на зарисовки, на отпечатки, а то лежал в ванне и думал про реконструкцию, зная, что она продолжается постоянно, непрерывно. Иногда я целиком сосредотачивался на каждом моменте, каждом маневре, иногда думал совершенно о другом. На пару дней я вернулся к изучению моего дома; там я дважды переводил все в режим «включено», каждый раз на десять часов подряд с перерывом всего лишь на два часа. Потом я поехал на машине обратно в Хитроу и просмотрел сцену с шиной пятнадцать раз.
Как раз в тот день я потребовал ввести еще одно новшество. Вызвав на склад Фрэнка и Энни, я спросил их:
– Можно ли как-нибудь сделать, чтобы голубая жидкость не хлестала?
– Ну конечно, – ответил Фрэнк. – Просто не будем делать так, чтобы она хлестала. Выведем триггер из действия.
– Да, но ведь тогда жидкость останется в бачке, – сказал я.
Он утвердительно кивнул.
– Так не пойдет, – объяснил я ему. – Надо сделать так, чтобы она исчезала из бачка, а заново не появлялась. Просто исчезала, и все.
Энни с Фрэнком переглянулись. Потом Энни робко произнесла:
– Но ведь это невозможно.
– Знаю, но в этом-то и… В смысле, неужели нельзя как-нибудь сделать, чтобы это произошло?
Последовала новая пауза, затем Фрэнк ответил:
– Да нет, вообще-то нельзя.
– Я хочу, чтобы она шла вверх, пусть это сложнее – в смысле, сложно, – все равно. Чтобы шла наверх и исчезала. Превращалась в небо.
Они оба немного подумали над этим. Потом Фрэнк сказал:
– Можно сделать так, чтобы жидкость поднималась кверху. Например, по трубке. Можно подвести трубку от бачка, в котором она находится, к потолку. Можно даже пропускать ее через крышу и распылять все это кверху мелкими брызгами. Но это…
– Это мне нравится, – сказал я. – Попробуйте. И еще что-нибудь в этом роде попробуйте. Посмотрим, что у вас получится.
В тот день, по дороге назад в Брикстон я решил поехать в обход, мимо мастерской-оригинала. Я был один за рулем своей «Фиесты». Приблизившись к железнодорожному мосту перед самой мастерской, я заметил, что движение впереди перекрыто. Кое-какие машины разворачивались и направлялись обратно, в ту сторону, откуда я только что приехал. Я понял, в чем дело, оказавшись футах в двадцати от светофора рядом с мостом: за ним был полицейский кордон, обозначенный линией – желто-черной лентой. Это была лента того же типа, какую использовали, чтобы обозначить зону осады за два месяца до аварии; только в тот раз это случилось где-то в сотне ярдов отсюда, за мастерской. А эта новая зона начиналась рядом с телефонной будкой, откуда я звонил Марку Добенэ, и тянулась вдоль Колдхарбор-лейн, где не было никого, кроме полицейских; они стояли и расхаживали вокруг.
Я подъехал к ленте и, не обращая внимания на сигнал регулировщика развернуться, прижался к обочине, остановил «Фиесту», вышел и направился к нему.
– В чем дело? – спросил я.
– Тут происшествие, – ответил он. – Просьба развернуться и ехать обратно, к следующему перекрестку…
– Что за происшествие?
– Стреляли. Будьте любезны, вернитесь к машине и…
– В кого стреляли?
– В мужчину. Мы информацию посторонним не сообщаем. Просьба вернуться к машине и следовать обратно, к следующему перекрестку…
На плече у него затрещала небольшая рация, и какой-то голос произнес что-то, чего я не разобрал. Я вгляделся в пространство за ним. Там посередине улицы стояли два полицейских мотоцикла плюс несколько машин: три обычных белых полицейских легковушки, белый полицейский фургон, красная машина – из этих, специальных – и машина металлически-голубого цвета, без опознавательных знаков, с установленной на крыше диодной мигалкой. По средней части дороги шли два человека в белых комбинезонах.
– Поезжайте обратно, – сказал мне регулировщик. – Здесь машину оставлять нельзя. Придется вам поехать в обход, через Камберуэлл или центр Брикстона.
– В обход, – повторил я. – Да, конечно.
Успев бросить еще один взгляд через его плечо, я снова сел в машину и отъехал. Войдя в свою квартиру, я услышал на автоответчике голос Наза – он наговаривал сообщение. Я снял трубку.
– Это я, – сказал я. – Настоящий я. Я только что вошел.
– А я как раз собирался вам оставить сообщение о том, какая идея появилась у Фрэнка с Энни. Они разработали такую идею по поводу жидкости. Вы потребовали…
– Послушайте… Мне нужно кое-что выяснить.
– Да?
– Тут на Колдхарбор-лейн стреляли в кого-то. Не могли бы вы разузнать, что случилось?
– Сейчас попробую.
Он перезвонил через час. В кого-то действительно стреляли. Подробности были неясны, но дело, кажется, связано с наркотиками. Произошло все рядом с конторой «Движение». Темнокожий мужчина тридцати с чем-то лет. Он был на велосипеде; двое других темнокожих мужчин подъехали на машине и выстрелили в него. Он умер на месте. Что еще я хотел узнать?
– А что еще вам удалось узнать? – спросил я у Наза.
– Пока ничего. Но могу держаться в курсе событий, пополнять информацию по мере ее поступления, если хотите.
Я представил себе, как темнокожий мужчина умирает рядом со своим мотоциклом перед телефонной будкой, откуда я звонил Марку Добенэ в день заключения договора. Представил себе, как двое других темнокожих мужчин стреляют в него из машины. Оставались ли они в машине? Я не знал. Я вспомнил, как мужчина вкатывал в помещение конторы такси автомат для продажи «Кока-колы», а тем временем в окошке телефона отсчитывались секунды. «Транспортная компания "Движение". Аэропорты, вокзалы, легкие перевозки».
– Алло! – вклинился голос Наза.
– Да, – сказал я ему. – Держите меня в курсе. И еще, Наз…
– Да?
– Я хотел бы приобрести этот участок, как только полиция закончит им заниматься.
– Приобрести? – повторил он.
– Снять. Получить разрешение на его использование.
– Для чего? – спросил Наз.
– Для реконструкции.
11
Судебная экспертиза – это вид искусства, никак не меньше. Да что там: это выше, утонченнее любого вида искусства. Почему? Потому что это настоящее. Взять хотя бы один аспект – скажем, диаграммы: заполненные контурами, стрелками, штриховкой, они похожи на абстрактные картины, авангардные вещи прошлого века – пляски форм и потоков, тонкостью и мастерством выполнения не уступающие крыльям бабочки с их расцветкой. Однако это произведения отнюдь не абстрактные. Это свидетельства реальной жестокости. В каждой линии, в каждом наброске, в каждом ракурсе – в самих чернилах пульсирует почти нестерпимое насилие, рвущееся с безмолвного белого листа мрачным криком: здесь что-то произошло, кто-то умер!
– Прямо как крикет, – сказал я однажды Назу.
– В каком смысле? – спросил он.
– Каждый раз, когда мяч уже пролетел мимо, а белые линии там, куда он попал, все еще наэлектризованы, а от шва остался след, а…
– Не понимаю.
– Это… в общем, это так, и все тут. Каждый мяч – как преступление, убийство. И это совершается снова и снова и снова, а комментатор должен комментировать, иначе он тоже умрет.
– Умрет? Почему?
– Он… неважно. Я вот тут выйду.
Мы проезжали в такси мимо Кингс-Кросса. Наз ехал на встречу с кем-то, кто был знаком с полицейским-судэкспертом. Я направлялся в Британскую библиотеку почитать про судебную экспертизу. Этим я занимался уже не один день, ожидая, пока Наз подготовит почву для реконструкции смерти этого темнокожего мужчины. Иначе я, наверное, сошел бы с ума – так сильно было мое импульсивное желание ее реконструировать. Реконструировать ее по-настоящему мы не могли, пока не раздобудем заключение о ней – заключение, составленное полицейским отделом судэкспертизы, который занимался этим делом. Наз прочесал все контакты в своей базе данных в попытках найти способ достать это заключение, а я тем временем перебивался чтением, жадно глотая все книги по судебной науке, какие мог найти.
Я читал учебники для студентов, общие вводные материалы для широкой публики, доклады, сделанные экспертами на конференциях высшего уровня. Прочел руководство, которое должен был вызубрить наизусть каждый профессиональный судебный следователь в стране, и сам вызубрил его наизусть. Оно было разбито на параграфы, сперва пронумерованные числами, затем – заглавными буквами, затем – римскими цифрами, затем – строчными буквами; нумерация менялась по мере того, как абзацы все дальше и дальше отступали от полей слева. Каждый отступ соответствовал шагу или полушагу в цепи действий, которой необходимо придерживаться, когда проводишь судебное расследование. Весь этот процесс в высшей степени формализован: нельзя просто взять и сделать; все надо делать медленно, разбивая движения на фазы, у которых есть разделы и подразделы, и каждый подчиняется строгим правилам. При этом следует даже надевать специальные костюмы, подобно тому, как японцы при совершении чайной церемонии надевают кимоно.
Важны схемы. По месту преступления движутся, следуя определенной схеме, которую заранее выбирает главный следователь. Иногда он велит двигаться вперед по прямым, как на соревнованиях по плаванию. Или, покрыв местность сеткой, разрезает ее на зоны и закрепляет за каждым следователем по одной. Или приказывает вести поиски по спирали. Будь я сам главным следователем, я бы взял в качестве схемы восьмерку и заставил бы каждого из своих подчиненных ползать по одному и тому же месту бесконечно повторяющимися кругами, снова и снова раскапывать одни и те же улики, одни и те же отпечатки, отметины и следы, записывать их всякий раз как будто по новой.
Схемы и шаблоны в судебных расследованиях встречаются на каждом шагу. Следователи должны уметь находить и распознавать отпечатки, оставленные, например, кроссовками, пальцами и шинами. Так, шины образуют ребристый шаблон с двумя парами неровных полос; бывают шаблоны агрессивно-ребристые – то же самое, что ребристые, но по углам из полос торчат зубцы; еще бывают шестиугольные блоки с перевернутой буквой v в каждом (такие были у моей «Фиесты»); направленные шаблоны – кирпичиками, как две примыкающие стены, если смотреть из угла; блочные – то же самое, что направленные, но кубиками; криволинейные, где видна сетка, линии которой беспорядочно изгибаются и перекручиваются. Кроссовки оставляют сотни различных шаблонов. Самое сложное – отпечатки пальцев; разнообразие их завитков и треугольников бесконечно; среди них не найти двух одинаковых.
Так вот, все эти схемы и шаблоны необходимо заносить в протокол. Фиксировать, как я в тот день зафиксировал пятно под мотоциклом. Чтобы зафиксировать отпечатки пальцев, их посыпают порошком, легонько дуют, чтобы убрать порошок, не приставший к микроскопическим сырым выступам, оставленным пальцем при касании, потом к оставшемуся порошку прижимают ленту, а когда снова отнимают, на ней остается шаблон. Отпечатки обуви и шин фиксируют так: заливают штукатурный раствор в форму, вырезанную резиновыми выступами в земле или грязи, и, дождавшись, пока застынет, снова вынимают; тем самым выдолбленное действием пространство превращается в твердую материю. Если отпечатки сделаны на бетоне мокрой обувью или шинами, их приходится зарисовывать. Следуя стандартной процедуре, зарисовки полагается делать постоянно, чтобы остались записи о размерах мебели, дверей, окон и так далее, о расстояниях от предметов и тел до входов и выходов; совсем как делал я: и когда впервые вспомнил свой дом, и после начала реконструкций.
Следует также постоянно фотографировать, как делала Энни, когда мы готовили здание. Фотографии существуют четырех типов: отдельные улики снимают крупным планом, взаимные положения близко связанных вещей – со среднего расстояния; с дальнего расстояния делают снимки, на которых виден какой-нибудь ориентир, чтобы установить местонахождение сцены преступления; и, наконец, бывают фотографии, сделанные с других точек обзора; правда, мне думается, что третий и четвертый тип – более или менее одно и то же. Если бы меня интересовали фотографии – а они меня не интересуют, – я бы стал снимать и с воздуха: сперва с подъемного крана, потом с описывающего круги аэростата, с высоты, позволяющей смотрящему различить на месте преступления посреди крупных шаблонов образы и формы, о которых по прошествии лет археологи-вольнодумцы скажут, что их назначением было служить ориентирами при посадке на Землю космическим кораблям высшей расы пришельцев.
Каждый день, как только меня выгоняли из библиотеки, я звонил Назу, узнать, как продвигается его деятельность. Он связался с тем человеком из полиции, и тот за крупную взятку обещал снять для нас копию судебного заключения по данному конкретному делу.
– Так где же оно? – спросил я его через неделю.
– Ожидается в конце следующей недели, – ответил Наз.
– В конце следующей недели! Еще целую вечность ждать. А предварительный вариант наш человек раздобыть не может?
– Это и есть предварительный вариант. Он еще не написан.
– За что же я тогда налоги, на фиг, плачу?
– Кстати, – сказал Наз. – Вас Мэттью Янгер искал.
– Да пошел бы он, – и я повесил трубку.
На следующий день я снова пошел в библиотеку. Все, что там имелось на тему о сборе информации на месте преступления, я уже прочел, поэтому начал читать об оружии. Я засел за отчет некого д-ра М. Джаухари, дипл. спец., к.ю.н., чл. Академии криминалистики и директора центральной криминалистической научной лаборатории, Калькутта. По крайней мере, таковым он был в 1971 году, когда вышел отчет. Доктор Джаухари объяснял, что огнестрельное оружие действует, как тепловой двигатель, преобразуя химическую энергию, запасенную в боезаряде, в кинетическую энергию пули. В качестве иллюстрации он обсуждал сходства и различия между системой устройства огнестрельного оружия и системой устройства двигателя внутреннего сгорания. В последнем испарившийся бензин сжимается в цилиндре с помощью поршня; затем запальная свеча поджигает бензин, превращая его в расширяющиеся газы; давление, вызванное расширением этих газов, в свою очередь вызывает давление, которое толкает поршень. Так работает – или работал в 1971 году – двигатель внутреннего сгорания. Огнестрельное оружие, объяснял доктор Джаухари, устроено похожим образом: капсюль, боезаряд, патронник и пуля – это, соответственно, запальная свеча, бензин, цилиндр и поршень; только пуля, вместо того, чтобы вернуться в начальное положение и выстрелить снова, летит дальше, прямо в воздух. Двигатель – это нечто вроде одиночного выстрела, который бесконечно повторяется.
Доктор Джаухари подходил к делу серьезно. Прежде чем приступить к описанию видов оружия, он обрисовал их действие.
Огнестрельное оружие, —
писал он, —
представляет собой устройство, позволяющее послать снаряд на значительное расстояние со значительной скоростью. В силу своей способности нанести человеку смертельный удар, даже при стрельбе с большого расстояния, оно стало излюбленным инструментом людей в деле умерщвления себе подобных. Известны также случаи, когда оно было задействовано при самоубийствах и случайной стрельбе.
Люди даже не задумываются об этих основополагающих фактах, когда смотрят по телевизору программы о войне или полицейские шоу. Люди слишком многое воспринимают как должное. Всякий раз, когда стреляет пистолет, на сцену выходит вся история инженерного дела. Как, впрочем, и дел политических: война, убийство, революция, террор. Пистолеты – не просто реквизит истории, ее действующие лица; они – сама история, они прокручивают в своих барабанах одно будущее за другим и, выметнув из своих дул настоящее, отбрасывают в сторону пустые гильзы прошлого.
В оружии важно еще одно: оно прекрасно. Пролистывая фотографии, диаграммы и иллюстрации, которые доктор Джаухари использовал, чтобы продемонстрировать эволюцию оружия в ходе веков, а также различия между пистолетами, винтовками, пулеметами и автоматами, я начал понимать, сколько в этом предмете, оружии, прекрасного. В любом оружии. Разумеется, оно бывает прекрасным по-разному, в зависимости от аккуратности отделки, кривизны рукоятки, толщины ударника и дюжины других факторов. Но одно то, что это – оружие, означает, что все оно прекрасно. Дух захватывает от того, что вещи столь маленькие, столь приятные для глаза, столь безвредные на ощупь могут содержать в себе такую силу. И еще: как они свисают прямо с тела, нежно баюкаемые, словно младенцы, погруженные в сон – до момента извержения, когда прекрасное возносится на новый уровень. Ведь без насилия, без смерти прекрасного не бывает.
В конце концов в полиции объявился один из наших людей. Однажды вечером Наз принес мне в квартиру заключение. Он вручил его со словами:
– Когда будем просить у администрации разрешение на использование участка, надо будет решить, на какую лицензию подавать. Можно…
– Потом, – сказал я и, взяв заключение, закрыл перед ним дверь.
Заключение пришло в запечатанном конверте, без пометок. Открывая его, я снова почувствовал, как от основания моего позвоночника в стороны разбегаются мурашки. Страницы были плохого качества, текст плохо выровнен – ксерокс делали в спешке. Язык, которым он был написан, оказался понятным, что меня удивило. Я ожидал, что там будут сплошные полицейские термины: люди будут «следовать», а не идти, вместо людей будут «субъекты», а каждое существительное и действие будет предваряться словом «предполагаемый». На самом деле текст был ясный, без прикрас.
Убийцы, говорилось там, —
припарковали машину возле бара «Грин Мэн», вышли и открыли огонь из автоматов «узи». Пострадавший сел на велосипед и попытался уехать, но слишком резко свернул на улицу Белинда-роуд и, когда переднее колесо под ним вильнуло, упал на асфальт.
Я представил себе, как переднее колесо виляет и он падает. Наверное, он уже тогда понял: ну все, допрыгался. В заключении говорилось, что он снова поднялся и сделал еще два-три шага по Белинда-роуд, а убийцы тем временем продолжали в него стрелять. Потом он упал в последний раз. К тому времени, когда приехала «скорая», он был уже мертв.
Подробные схемы заполняли собой не одну страницу. На них был показан план местности, где происходила стрельба: телефонная будка, улица, поребрик, заградительный столб, даже лужа, в которую частично стекла кровь жертвы. На них было показано его положение: сперва – как он стоял в телефонной будке, потом – как пытался убежать, потом – как упал, поднялся и снова упал. На них были показаны положения убийц: как они парковали машину, как шли к нему, стреляя. Трое мужчин были нарисованы контуром, а внутри контуров стояли номера, как бывает в детских книжках-раскрасках. Движения и направления были указаны стрелками.
Чем дольше я смотрел, не отрываясь, на эти картинки, тем сильнее становилось покалывание в верхней половине тела. Оно переместилось в мозг, как бывает, когда съешь слишком много глютамата натрия в китайском ресторане. Мурашки распространились по всей голове. Схемы как будто приобретали все большую и большую значимость.
Они превратились в карты, где показан зарытый клад, потом – в инструкции по сборке мебели, потом – в военные планы, в контуры наступления, крутого и разветвленного маршрута, которым придется всю зиму идти по горам и равнинам. Меня унесло в эти горы и равнины, я парил бок о бок с генералами, пехотинцами, поварами, слонами. Когда я снова поднял глаза от схем, то увидел Наза, стоявшего перед моим диваном с еще одним человеком.
– Когда вы вошли? – спросил я его. – Кто это?
– Этот человек – врач, – сказал Наз. – Я здесь уже полтора часа.
Я попытался спросить его, что он хочет этим сказать, но слова долго не складывались. Другой человек открыл чемоданчик и вытащил то ли ручку, то ли фонарик.
– Вы сидели вот так, – продолжал Наз, – с совершенно отсутствующим видом, и все. Меня не замечали, не слышали. Когда я помахал рукой у вас перед лицом, вы даже глазом не повели.
– Давно это было? – спросил врач.
– Все в порядке, – сказал я.
– Все последние полтора часа, – ответил ему Наз. – Только что кончилось, когда вы вошли.
– Он никаких травм не переносил в последнее время? – с этими словами врач включил свой фонарик-ручку. – Как его зовут?
– Все в порядке, – повторил я. – Пускай он уйдет.
– Не двигайте головой, – попросил врач.
– Нет. Наз, пускай он уйдет, сейчас же. Убирайтесь из моего дома, а то я велю вас арестовать.
– Как же я могу вам помочь, если вы мне не даете? – сказал он.
Я скользнул взглядом мимо его уха, и мне показалось, что я увидел, как с крыши упал еще один кот.
– Приказываю вам сейчас же покинуть мой дом, – велел я этому человеку.
Он постоял какое-то время не двигаясь. Наз тоже. Несколько мгновений мы, все трое, были неподвижны; и пока это продолжалось, я не возражал против присутствия врача. Я бы даже позволил ему остаться, лишь бы он вел себя прилично и не шевелился. Но в конце концов он повернулся к Назу и показал взглядом на дверь, потом сунул свой фонарик-ручку в чемоданчик и вышел. Наз проводил его. Я слышал, как эти двое перешептывались, пока я ходил умываться в ванную. Умыв лицо холодной водой, я не стал вытирать его сразу: ждал, пока с него капало, а сам в это время неотрывно глядел на трещину. Я наблюдал за трещиной, слушая, как врач спускается по лестнице.
Вернувшись в гостиную, я застал там Наза. Дверь в квартиру была закрыта.
– По-моему, вам не помешало бы… – начал Наз.
– До какой стадии вам удалось дойти? – спросил я его.
Он нашел реконструкторов, машину с велосипедом и копии автоматов. Он звонил, чтобы сказать мне об этом, но я не отвечал.
– Когда вы звонили?
– Несколько часов назад. Вы разве не слышали звонка?
– Нет. Этого – нет.
На самом деле звонок мне смутно помнился; но то был телефон, по которому говорил темнокожий велосипедист в телефонной будке рядом с «Движением». Когда он выходил из телефонной будки, последние его слова, должно быть, еще гудели у него в голове и в голове его собеседника; их разговор к тому моменту достиг самое большее полураспада. Потом он заметил своих убийц. Знал ли он их? Если да, то все равно мог не понимать, что они явились убить его, пока те не вытащили автоматы. В какой момент он осознал, что это автоматы? Возможно, поначалу он решил, что это зонты, или блокираторы руля, или же палки. Затем, когда он осознал, когда его мозг сложил все воедино и разработал, а затем сменил план побега, он обнаружил, что выполнить этот план ему не позволит физика – она подставила ему подножку. Опять материя: мир стал дверцей холодильника, сломанной зажигалкой, двумя литрами голубой дряни. Вот тут-то, когда он полетел, его и настиг первый выстрел. Первая серия пуль, говорилось в заключении, попала ему не в голову – в тело. От этого он даже сознание не потерял. Должно быть, он понял, что в него попали, но толком не почувствовал ни этих ран, ни царапин, полученных при ударе о землю, когда он перелетел через руль; должно быть, лишь смутно осознал: что-то произошло, что-то изменилось, теперь все по-другому.
– …и еще одно разрешение от местной полиции, – говорил Наз, – но теперь, раз администрация дала добро, больших проблем с этим не будет. Однако статус мероприятия надо определить побыстрее.
– Что? – спросил я его. – Что вы говорите?
Наз странно взглянул на меня и начал по новой:
– Администрация Лэмбета не против дать разрешение на проведение реконструкции. Только непонятно, на что именно требуется лицензия. Это не демонстрация и не уличный праздник. Больше всего это напоминает такой вид деятельности, как съемки.
– Нет, – сказал я. – Никаких камер. Никаких съемок. Вы же знаете.
– Да, но в заявке нам надо все представить под видом съемок. Преподнести в качестве мероприятия установленного типа, чтобы они смогли дать нам на него разрешение. Съемки – самый простой способ. Подадим на использование местности для киносъемок, а камер никаких не будет, вот и все.
– Ладно, – согласился я. – При условии, что на самом деле ничего снимать не будем. Так когда мы можем начинать?
– На следующей неделе.
– Нет, это слишком долго!
– Мы не можем тут ничего…
– Надо быстрее! Почему завтра нельзя?
– На выписку лицензионных документов уходит несколько дней, – объяснил он, – даже при таких взятках, как у нас.
– Значит, увеличьте взятки! Если прождать целую неделю, все кончится!
– Что кончится?
Я скользнул взглядом мимо его головы. На красной крыше с дальней стороны двора виднелись три кота; это означало, что сидевшие там люди заменили того, который упал у меня на глазах. Я снова перевел взгляд на Наза.
– Послезавтра – последний срок! Самый-самый крайний!
Он подготовил все к послепослезавтрашнему дню. Получил разрешение от администрации, разрешение от полиции, наладил работу всего персонала, вспомогательного персонала и рассыльных, организовал питание и бог знает что еще. Пока я ждал, мне пришло в голову, что любое великое дело – вопрос организации. Не гениальности, не вдохновения или полета фантазии, не умения или хитрости, а организации. Постройка ли пирамид, посадка ли космического корабля на Юпитере, захват ли целых континентов или изображение библейских сюжетов на крышах часовен, все – в организации. Я решил, что по кастовой шкале люди, занимающиеся организацией, превосходят даже тех, кто осуществляет связи. Я решил, что велю Мэттью Янгеру вложить деньги в организационную промышленность, если такая есть.
Еще я, пока ждал, велел Роджеру сделать мне модель участка, где происходила стрельба. Туда входили: телефонная будка, тротуар, столбики, улица, магазины и паб. Там были машинки, которые можно было двигать, и маленький красный велосипед. Были там и человеческие фигурки: двое убийц со своими автоматами, жертва. Роджер доставил ее мне вечером накануне реконструкции. Я убрал сделанную им модель моего здания с журнального столика в гостиной и поставил на ее место эту новую модель. Всю ночь я не ложился спать – смотрел на нее. Я придал человеческим фигуркам положения, указанные в схемах судебного заключения. Заставил двоих убийц припарковать машину, шагнуть на улицу и двинуться вперед. Заставил мертвеца выйти из телефонной будки, влезть на велосипед, упасть, проковылять пару шагов вперед и рухнуть. За каждой стадией этой последовательности я наблюдал под всевозможными углами.
Почему меня так захватила смерть этого человека, которого я никогда не видел? Я решил не отвлекаться на размышления. Конечно, я знал, что между нами есть нечто общее. Его чем-то ударило, ранило, он потерял сознание, распростершись на земле; я тоже. Мы оба соскользнули в место, где царили полнейшая тьма, безмолвие, ничто, без памяти и без предвидения, место, куда не дойти никаким импульсам. Он пошел до конца, остался там, меня же засосало обратно, через невнятные стадионы к палатам в форме буквы L и обсуждениям договора; и все-таки какое-то недолгое время мы оба находились в одной и той же точке: стояли, лежали, парили, неважно. Мы оба находились в одной и той же точке и в более обыденном смысле: нам обоим довелось стоять в телефонной будке, откуда я звонил Марку Добенэ в день заключения договора, в этой кабинке, из чьей крохотной копии я теперь заставлял выходить его маленькую модель, все снова и снова. Наши пути разошлись, как только мы ее покинули: я вышел – два раза, на третий миновал ее и поехал в аэропорт, он же вышел и умер; но какое-то время мы оба стояли там, держали в руке трубку, смотрели на слова «Аэропорты, вокзалы, легкие».
Однако целиком приписать мою фиксацию на нем нашему с ним общему опыту было бы лишь половиной правды. Меньше, чем половиной. На самом деле этот человек стал для меня символом совершенства. Возможно, в его падении с велосипеда была неуклюжесть, но, умерев на асфальте у заградительных столбиков, он совершил то, что хотел совершить я: соединился с окружающим его пространством, погрузился, влился в него, заставив промежуток между ним и собой исчезнуть, – и при этом слился со своими действиями, слился до такой степени, что больше их не осознавал. Он избавился от своих разъединенности, отдаленности, несовершенства. Срезал обходной путь. Тогда и мысли, и действия распались, обернувшись идеальным равновесием. Место, на котором это произошло, было точкой попадания совершенства – всеобщего совершенства: того, чего достиг он, того, чего хотел я, того, чего хотели все остальные; они просто не знали об этом, да и в любом случае, даже знай они, у них не было восьми с половиной миллионов, с помощью которых к этому можно было бы стремиться. Это была точка священная, благословенная точка, и каждый, кто находился в ней, подобно тому, как находился в ней он, тоже становился благословен. Потому-то я должен был реконструировать его смерть: для себя самого, разумеется, но еще и для всего мира в целом. Ни один из тех, кто это понимает, не сможет обвинить меня в недостатке щедрости.
Ночью, часа в три или четыре, дождавшись самого тихого времени, я начал размышлять о том, куда исчезла душа этого темнокожего мужчины, покинув его тело. Его мысли, впечатления, воспоминания, что угодно – тот фоновый шум, который стоит у каждого из нас в голове, который не дает нам забыть, что мы живы. Все это должно было куда-то деться; не могло же оно просто испариться. Наверняка хлынуло, вытекло или просочилось на какую-то поверхность, оставило на ней какое-то пятно. Какой-то след всегда остается. Я прочесал тонкие картонные поверхности Роджеровой модели. Они были такие белые, такие чистые. Я решил их пометить и в поисках чего-нибудь, что оставило бы пятно на белом картоне, направился в кухню.
В шкафчике над кухонным столом, у которого я тренировался поворачивать боком, нашлись уксус, вустерский соус и голубая мятная эссенция. Я взял чистую бумажку и поэкспериментировал с каждым из них. Самое лучшее пятно получилось от вустерского соуса – никакого сравнения со всем прочим. Найдя недопитую бутылку вина, я попытался сделать пятно на бумаге и с его помощью. Консистенция оказалась менее густой, но цвет вышел замечательный. Похоже было на кровь.
– Кровь! – обратился я вслух к своей пустой квартире. – Как же я сразу не подумал про кровь?
Я взял из ящика ножичек, кольнул его острием палец и стал сжимать плоть и кожу. Наконец на ранке вырос маленький шарик крови. Держа палец вертикально, чтобы не потерять этот шарик, я вернулся в гостиную и, прижав его к картону, кровью нанес на середину дороги свой отпечаток. А после, усевшись, смотрел на него до утра.
Это был громадный отпечаток, протянувшийся от одного края тротуара к другому, контуры его завихрялись вокруг столбиков, машин и магазинных фасадов, описывали круг у телефонной будки и шли назад, единым большим, волнообразным росчерком охватывали убийц вместе с их жертвой. Последние, разумеется, были слишком малы, чтобы разглядеть его да и вообще понять, что он есть. Нет, он был различим только сверху – аэродром для высших, более разумных существ.
12
Настоящие поверхности, увиденные мною в тот же день, были потрясающими. Если схемы напоминали абстрактные картины, то сама дорога походила на работы старых мастеров, этих голландцев, где слои масляной краски подернуты густой рябью. Асфальт на ней был старый, в изломах и трещинах. А линии разметки! Они были выцветшие, истонченные временем и светом до слабого эха инструкций, некогда так смело ими провозглашаемых. Дорога, подобно большинству дорог, имела поперечный уклон. Недавно прошел дождь, и, хотя центральная ее часть уже высохла, ее покрывали мокрые следы шин. По краям же она была все еще мокрой. Рядом со швами, где дорога примыкала к поребрику с мощеным тротуаром, смешанные по всем правилам вода и грязь образовывали мутные, рябоватые гребни. Местами они сбегались в лужи, по центру которых висели большие грязевые облака; окаймлявшие их канавки были тронуты ржавчиной, постепенно сходившей на нет, словно художник сполоснул в них свою кисть.
Повсюду были беспорядочно разбросаны жвачка, сигаретные окурки и бутылочные крышки; они тонули во внешней оболочке пространства, сливаясь с асфальтом, камнем, грязью, водой, мутью. Доведись вам вырезать отсюда десять квадратных сантиметров, как вырезают из поля на школьных практических занятиях по географии – десять сантиметров в длину на десять в ширину, плюс десять в глубину, – вы обнаружили бы столько всякого материала для анализа, столько слоев, вообще столько материи, что ваши исследования, разошедшись во всевозможных направлениях, продолжались бы до бесконечности, пока вы наконец не подняли бы в отчаянии руки и не объявили ждущему от вас отчета начальству: «Здесь слишком много всего, слишком много материала для обработки, просто слишком много».
Я приехал на место реконструкции с юга. Там, где Шекспир-роуд переходит в Колдхарбор-лейн, под мостом, пересекающим дорогу, перпендикулярную мосту, на котором меня остановили в день, когда стреляли по-настоящему, через улицу была протянута полицейская лента. Туда отрядили полицейского, перекрыть движение. Я показал ему пропуск, который часом раньше прислал мне с курьером Наз; он пропустил меня. Не обращая внимания на подошедшего поздороваться со мной Наза, я задержался рядом с полицейским и спросил его:
– Вы были здесь в тот день, когда стреляли?
– Нет, – ответил он.
– Я имею в виду, не именно вот здесь, а вообще на той стороне отгороженной зоны?
– Нет, в тот день меня там не было.
Я пристально глядел на него еще несколько секунд, потом мы с Назом двинулись дальше.
– Как спали? – спросил Наз.
Я вообще не спал. От усталости пятнистый рисунок мокрых и сухих участков на тротуаре казался четче. Воздух был ясным, но не ярко-голубым; солнце пробивалось через тонкий слой белых облаков. В его свете возникали тени и отражения: от столбиков и телефонной будки, на поверхностях луж.
– Неважно, – сказал я. – Сколько у нас времени?
– До шести вечера.
– Продлите, – велел я ему.
– Больше времени они нам не дадут.
– Заплатите им. Предложите вдвое больше того, что мы уже заплатили, а если откажутся, еще вдвое больше. Место между натянутыми лентами – все наше?
– Да.
Отгороженный участок протянулся между мостом и светофором, где меня остановили в первый день, но основное пространство реконструкции составляло лишь какую-нибудь треть этого места. Остальные две трети были отданы под обеспечение: машины и ящики, столы, большой фургон с открытыми задними дверцами – оттуда две женщины выдавали кофе. Все машины были припаркованы странно: не ровно вдоль тротуара, а как попало, беспорядочно, прямо поперек дороги.
– Так обычно бывает, когда произошла авария, – сказал я Назу.
– Что вы?
– Или когда ярмарка, – продолжал я. – Если на траве.
– А, вот вы о чем. Ну да. Мне всегда нравились ярмарки.
– Мне тоже.
Мы улыбнулись друг другу, и я окинул взглядом наше место. Один из подчиненных Фрэнка, знакомый мне по моему зданию, вынимал из ящика копии автоматов и вместе с еще одним человеком относил их к фургону, откуда две женщины разносили кофе. Еще один человек выходил из тускло-красной «БМВ», которую припарковал посередине дороги у светофора. Еще один, незнакомый мне коротышка, стоял в двух футах позади него, наблюдая за происходящим. Я снова взглянул на землю. Помимо слоев и трещин там имелись еще и канализационные устройства: земля была усеяна дырами и стоками, размещенными согласно плану, существовавшими со времен прокладки дороги. В асфальт была вделана небольшая крышка, на которой значилось «вода», и еще одна, почти точная копия первой, с надписью «Лондонский транспорт». На другой, побольше, покруглее, вделанной в пожарный кран, имелись две надписи, ЕМ124 и В125, еще на одной просто стояла буква С. Столько всяких отверстий, ведущих в туннели и трубопроводы, стоков и точек подачи, коммуникаций, уводящих бог знает куда. Видно было, что работа нам предстоит большая.
– Где реконструкторы? – спросил я.
– Вон там, – Наз показал на фургон.
Позади него стояли трое темнокожих мужчин и пили кофе. Двое из них были те самые, на которых я указал Назу в день, когда мы сняли театр «Сохо»; третьего я видел впервые. Он выписывал маленькие круги на красном спортивном велосипеде, пытаясь удержаться, не касаясь ногами земли.
– Это жертва? – спросил я.
– Да, – ответил Наз.
– Отстраните его. Его место займу я. Двое других пусть подойдут ко мне. И еще, Наз…
– Да?
– Я хочу побольше заплатить людям, которые все организовали.
– Кого вы имеете в виду?
– Людей, которые работали с вами над координацией всех отдельных элементов. Не тех, которые непосредственно что-то делают, а тех, благодаря кому у других все согласовывается. Понимаете?
– Да. Но вы им и так много платите.
– Значит, заплатите еще больше.
С этими словами я прижал большой палец к другому, прямо к тому месту, куда несколько часов назад воткнул ножик. Деньги – как кровь, рассуждал я. Я лишь едва кольнул себя; там осталось еще много для других.
Наз подошел к троим темнокожим мужчинам у фургона. Я видел, как он отводит в сторону того, что ездил кругами на велосипеде, и разговаривает с ним. Мужчина слез с велосипеда, еще немного поговорил с Назом, потом, крупно шагая, вернулся к фургону, сунул руку внутрь, вытащил сумку и направился к полицейской ленте. Тем временем двое других неторопливо приблизились ко мне. Я проинструктировал их:
– От вас требуется вот что: подъехать на «БМВ» оттуда, от светофора, вон туда, прямо к самому «Грин мэн».
– Ваш сотрудник нам разъяснил, что за чем идет, – сказал один из них.
У него был лондонский акцент и приветливое, улыбчивое лицо.
– Да, но вы должны припарковаться ровно на том месте, понимаете? В точности. Капот, перед, нос – чтобы все было в точности на том месте, не дальше, чем край второго окна «Грин мэн». Паркуетесь там, потом выходите – автоматы берете с собой – и идете через улицу, стреляя в меня.
– В вас? – спросил он же.
– Да. Роль жертвы буду реконструировать я. Через улицу вы должны идти помедленнее, с ленцой, и при этом стрелять в меня. Только не стреляйте до… а ну, пойдемте со мной.
Я подвел их к телефонной будке.
– Начну отсюда. Вы подъезжаете, я как раз вышел из будки. Или как раз выхожу. Сажусь на велосипед и начинаю крутить педали, еду в этом направлении, вот сюда. Вот тут вы и должны начать стрелять, когда я подъезжаю вот сюда, где начинается «Движение».
– А где нам стоять? – снова спросил мужчина.
– Там.
Мы пошли назад через улицу, я подвел их к пятачку прямо посередине, где трещины расходились, образуя похожий на соты узор из повторяющихся шестиугольников.
– От машины идете сюда. Но только до этого места. Стрелять можете и дальше, но как дошли до этого места, тут же прекратить двигаться вперед. Я попытаюсь свернуть вот на эту улицу, Белинда-роуд, а руль велосипеда подо мной вильнет, и я свалюсь. Потом я снова встаю, тут вы снова стреляете, а я снова падаю. Пока все это происходит, вы, ребята, стойте здесь. Немного постояли – и обратно к машине. Да, давайте вот так. Вот так, и все.
Теперь заговорил другой. У него, в отличие от его приятеля, был сильный вест-индский акцент.
– Вы начальник.
Я подал знак говорившему по телефону Назу. Он подошел к нам.
– Готовы? – спросил он.
– Да, – ответил я. – Какие новости насчет времени?
– Работаю над вопросом.
Он подозвал Фрэнка и Энни. За ними поспевали еще двое: подчиненный Фрэнка плюс тот человек, которого я видел несколькими минутами раньше, когда они вместе таскали оружие. В руках у каждого было по автомату.
– Сид, – сказал Фрэнк, желая представить помощника. – Он занимается спецэффектами, мы с ним вместе работали над несколькими фильмами. Сейчас он ребятам покажет, как действуют автоматы. Вы можете, если хотите, занять свое положение.
– О'кей, – сказал я, но остался посмотреть, как этот Сид будет разъяснять действие автоматов.
– Значит, так, – начал Сид, – это копии девятимиллиметровых «узи», стреляют холостыми. Грохот от них что надо. Тут у вас два магазина, – продолжал он, показав на два металлических блока, которые держал подчиненный Фрэнка, – защелкиваются вот здесь, снизу. Давайте попробуйте.
Он протянул двум темнокожим автоматы. Подчиненный Фрэнка дал им магазины. И то, и другое они держали неуклюже. Ни один не мог как следует защелкнуть свой магазин. Сид показал им, как уткнуть приклад «узи» в живот, под самые ребра, как левой рукой ввести снизу вверх магазин, нащупывая гнездо и зацеп. Они несколько раз попробовали, удовлетворенно кивая, когда получалось. Я им завидовал. Подумал, не попросить ли, чтобы и мне дали попробовать, но решил, что нечего потакать своим прихотям. К тому же дело не стояло на месте. Фургон с кофе передвинули, место реконструкции полностью очистили от персонала. Двоих темнокожих вели к «БМВ» и вручали им ключи. Мне подавали велосипед. Я взял его, подкатил к телефонной будке, прислонил к ограде рядом с ней, потом открыл дверь телефонной будки и шагнул внутрь.
Уличные звуки отхлынули, и я снова оказался в коконе – в том самом коконе, куда был помещен, когда у меня из стены были выдраны телефонные провода в день заключения договора. В кабинке имелась полочка. Возможно, этот темнокожий, чьи последние секунды я реконструирую, положил на эту полочку свою записную книжку, пока звонил по телефону в последний раз. Какая она была, эта книжка – потертая, толстая и разбухшая? Желтая? Мне она представлялась желтой, потрепанной, но не толстой. Потом она сделалась синей и тоненькой, вроде тех словариков, что бывают в школе.
На окне над полочкой был нарисован по трафарету силуэт фигурки связного, дующего в рожок. За ним виднелся зарешеченный фасад конторы «Движение», на окне были краской выведены слова «Аэропорты, вокзалы, легкие, перевозки, любые расстояния». Буквы, выведенные белым, имели синий ободок, который залезал направо, за край каждой буквы, так что казалось, будто она отбрасывает тень. Правым концом надпись упиралась в витрину соседнего магазина электротоваров; там была другая вывеска, гласившая: «Свет». Что означает «легкие»? Я снял телефонную трубку. Я не стал ни звонить, ни пихать деньги в щель – просто стоял, держа трубку в руке. Когда моя телефонная розетка была выдрана из стены, она лежала на полу и выглядела омерзительно: что-то, вылезшее из чего-то.
Внутри кабинки было тихо. На улице – никакого движения. Машины моего персонала, растянувшись поперек дороги, образовывали изолирующую стену между зоной реконструкции и внешним миром. Перед и между машинами неподвижно стояли люди – много людей, все мои – и неотрывно глядели в мою сторону, на телефонную будку. Потом я услышал, как заводится мотор «БМВ»: звук, когда запальная свеча поджигает сжатый бензин, когда расширяющийся газ выстреливает поршнем, снова и снова, сперва медленно, потом быстрее, потом, через несколько секунд, так быстро, что отдельные выстрелы сливаются в гул бесконечного самоповторения, без начала и конца. Дело пошло.
Краем глаза я увидел, как «БМВ» проехала мимо телефонной будки по дальней стороне улицы, и еще – как она отразилась в металле стены кабинки. Снова повесив трубку на рычаг, я открыл дверцу будки. Вышел, развернул свой велосипед и перекинул правую ногу через раму. Двое мужчин выходили из машины, задом въехав туда, куда я им показывал. Они припарковались в точности как надо, ровно там, где я им велел. Очень хорошо. В позвоночнике у меня снова началось покалывание.
Я оттолкнулся ногой от тротуара, и велосипед покатился вперед; руль его подрагивал. Когда его переднее колесо миновало лежавший на земле белый пенопластовый стаканчик, я взглянул наверх и влево, на тех двоих. Вытащив свои автоматы, они держали их наставленными на меня. Тот, что с вест-индским акцентом, открыл огонь.
Его автомат издавал страшный шум. Не прошло и полсекунды, как огонь открыл и другой. Одновременный шум двух автоматов был прямо-таки оглушающим. У приветливого мужчины с лондонским акцентом лицо во время стрельбы исказилось. На лице у другого не отразилось ничего – безразличное лицо убийцы.
Покалывание усилилось, когда я приподнял ягодицы от седла и начал остервенело крутить педали: мимо забранных решеткой окон конторы «Движение», вниз по скату, ведущему на Белинда-роуд. Те двое продолжали шагать на меня, пересекая Колдхарбор-лейн и стреляя по мере наступления. Прямо перед лужей, в которой вымыли кисть, на обочине Белинда-роуд я резко повернул колесо велосипеда вправо и перелетел через руль. Пока я падал на землю, в голове у меня поднялась настоящая буря образов: угол черного бара без названия, золотой отблеск, кусочек неба, фонарный столб, асфальт и цветные узоры, плавающие на поверхности лужи. Когда я перестал катиться и остановился, узоры приняли форму греческих или русских букв. Я отвел глаза от лужи, взглянул наверх, туда, где были мужчины; они перестали стрелять и стояли неподвижно, в точности там, где я велел им стоять, возле шестиугольников-сот на дороге. Все хорошо.
Мужчины ждали, пока я снова поднимусь. Я оттолкнулся руками и заметил, что они онемели. Хорошо, очень, очень хорошо. Я встал и почувствовал, как покалывание бросилось мне в голову. Двое снова начали стрелять. Я отвернулся от них, упал на колени, потом подождал, пока верхняя часть тела вновь опустится наземь, чтобы лицо легло на асфальт. Так я пролежал несколько секунд, совершенно неподвижно. Потом перекатился на спину и снова поднялся. Двое садились обратно в машину.
– Подождите! – крикнул я им.
Они остановились.
– Подождите! – снова крикнул я. – Не надо отъезжать. Даже назад к машине отходить не надо. Когда закончите стрелять в меня в последний раз, просто повернитесь ко мне спиной и остановитесь.
– Когда остановимся, что нам делать? – спросил тот, что с лондонским акцентом.
– Ничего. Просто остановитесь и стойте там спиной ко мне. На этом мы закончим всю сцену, только задержитесь ненадолго в этом положении. О'кей?
Он кивнул. Я посмотрел на его друга. Тот тоже кивнул, медленно.
– Хорошо, – сказал я. – Давайте еще раз.
Мы вернулись на свои места. Снова оказавшись в телефонной будке, я посмотрел в окошко. «БМВ» разворачивалась у светофора, рядом с тем коротышкой, которого я заметил прежде. Чуть больше половины персонала и резервной группы решили стоять на том конце площадки и наблюдать оттуда; еще человек восемь собрались на дальнем конце, на том, откуда я приехал, под мостом. Стекло в кабинке было чистым, без ряби, в отличие от окон в моем доме. Тем не менее я инстинктивно перевел глаза на крышу здания на той стороне дороги, стал обшаривать ее взглядом в поисках котов, потом осознал свою ошибку и отвернулся.
Решетка на фасаде конторы «Движение», как я заметил, приглядевшись, на самом деле состояла из четырех решетчатых щитов, каждый из которых делился на три части, сделанные из пересекающихся металлических полос. Похоже было на миллиметровку, где большие квадратные участки включали в себя меньшие, которые обрамляли контуры, определяли координаты и взаимное расположение каждой отметки и объекта, лежащих за ними, – готовая сетка для криминалиста. Квадраты сетки были по большей части пустыми. Правда, за левый нижний, ближайший к тротуару на углу Белинда-роуд, были засунуты два букетика цветов. Они висели вверх ногами, обернутые в целлофан. В двух колонках сетки от них располагались выведенные краской слова «Транспортная компания "Движение". Аэропорты, вокзалы, легкие, перевозки, любые расстояния». Они проходили по всем трем большим квадратам колонки; последние две буквы в слове «движение», «и» и «е», залезали на следующую колонку, ту, что справа; еще правее, на соседней витрине, было написано «Свет». Там говорилось «легкие перевозки», а не «легкие», затем «перевозки»; это я уже знал, просто забыл, что знал.
Тускло-красная «БМВ» снова проехала мимо телефонной будки. И снова я увидел ее дважды: один раз краем глаза, один раз – отраженной в металлической стене кабинки; только теперь она показалась мне более плоской и удлиненной. Когда водитель выключил мотор, в течение примерно полусекунды я различал отдельные выстрелы поршня, пока они замедлялись и замирали. Я открыл дверцу телефонной будки, вышел и сел на велосипед. И снова покалывание включилось, когда я проезжал мимо белого пенопластового стаканчика. И снова двое вытащили автоматы, а я остервенело нажал на педали. На этот раз, когда велосипед нырнул с тротуара на дорогу, я почувствовал, как теряю высоту, вроде того, как бывает в самолете, когда он снижается. Когда я перелетал через руль, в голове у меня поднялась та же буря образов: часть черного бара без названия, золотой отблеск, кусочек неба, фонарный столб, асфальт и лужа с плавающими на ее поверхности греческими или русскими буквами. Я поднялся, подождал, пока они застрелят меня во второй раз и, снова упав, улегся лицом на асфальт, глядя на ходовую часть припаркованного фургона, на узорную разметку на одном из его колпаков.
В этот раз я пролежал там дольше, чем в прошлый. Сзади не доносились ни шум, ни шаги; двое убийц запомнили, что я им говорил, и стояли совершенно неподвижно. Я долго лежал там, на асфальте, покрываясь мурашками, глядя на колпак.
Потом я поднялся, и мы повторили все снова, и снова, и снова.
После пятого прогона эпизода со стрельбой я остался удовлетворен тем, как нам удавались все действия: движения, позиции. Теперь можно было начать работать над тем, что лежало под их поверхностью, над тем, что было внутри, над глубинным.
– Давайте все повторим на половинной скорости, – сказал я.
Темнокожий с лондонским акцентом нахмурился.
– В смысле, нам ехать медленнее? – спросил он.
– Ехать, идти – все.
Один из подчиненных Наза шагал к нам с планшеткой в руке. Отмахнувшись от него, я продолжал:
– Все. Как прежде, только на половинной скорости.
– Как в повторах по телевизору?
– Вроде того. Только не надо все делать в замедленном режиме. Делайте нормально, но со скоростью в два раза ниже нормальной. Или с нормальной скоростью, но чтобы на все уходило вдвое больше времени.
Оба пару секунд постояли, осмысливая то, что я сказал. Потом мужчина повыше, тот, что с вест-индским акцентом, начал кивать. Я заметил, что его губы скривились в улыбке.
– Вы начальник, – снова сказал он.
Мы опять заняли свои позиции. На этот раз, оказавшись внутри телефонной будки, я исследовал каждую из имеющихся там поверхностей. Мой человек, моя жертва, наверняка осознал значение всего этого; с другой стороны, его мозг наверняка снова вычеркнул большинство этих деталей, избавился от них, как от обыденных, не имеющих отношения к делу. Ошибка; возможно, отнесись он к окружающей его обстановке более внимательно, какая-нибудь ассоциативная связь могла бы стать предупреждением о том, что вот-вот произойдет, даже спасти ему жизнь. Наверное, он сделал что-то не то, перешел кому-то дорогу, нарушил какой-то закон преступного мира. Так что посмотри он повнимательнее на металлическую стену кабинки и осознай тот факт, что мимо медленно, наверное, чересчур медленно проезжает тускло-красная «БМВ», и свяжи это с моментом, когда он в последний раз видел эту машину или ее отражение, с людьми, которые при этом присутствовали… кто знает? Трафаретная фигурка на окне, связной понимал: тут что-то не то; он пытался огласить это с помощью своего рожка – протрубить какое-то предупреждение; его свободная рука, та, что не держала инструмент, была поднята в знак тревоги. А потом – тишина, подобная тишине в лесу, когда хищник выходит на охоту, остальные же прячутся под землю, все, кроме его добычи, слишком погруженной в свои заботы – обнюхивание корней, жевание травы, сны наяву, – чтобы различить вопиющие сигналы…
Я стоял, держа в руке трубку. На полоске цифрового окошка горело «опустите монеты». Снаружи окна «Движения» сулили оттуда, из-под сетки, настежь открытые, широкие пространства, за которыми открывались еще более широкие дали: аэропорты, вокзалы и перевозки. Свет. Прямо под висящими цветами в целлофане стояла пустая зеленая пивная бутылка; она словно предлагала им себя, будто вазу: им достаточно было просто покинуть свое место в сетке, спуститься вниз и снова повернуться как надо. Тротуар, когда я ступил на него в этот раз, выглядел еще более узорчатым, чем прежде. Его запачканные плиты шли мимо кабинки телефона и конторы «Движение» в сторону Белинда-роуд, а дальше, не дойдя до нее футов трех, уступали дорогу короткому стаккато кирпичной кладки, прежде чем растаять в асфальте, уложенном там, где тротуар нырял на собственно дорогу. Похоже было на лоскутное покрывало, узорчатое, ручной работы покрывало, раскинутое для того, чтобы этому человеку было где сделать последние шаги, а потом лечь и умереть, – смертное ложе, застеленное покрывалом. Мне пришло в голову, что мир – или судьба, или, может быть, сама смерть, что бы это слово ни означало, – видимо, по-своему любил этого человека, раз подготовил для него столь щедро затканное полотно, желая подобрать его и укутать в свою ткань.
Убийцы, запарковавшись, выходили из машины. За спиной у них высились, безучастные, окна «Грин мэн». Когда мой человек, мертвец, увидел двоих мужчин, направлявшихся, вытащив автоматы, к нему, в тот момент, когда его первое предчувствие чего-то недоброго в воздухе – предчувствие, наконец-то сложившееся из этих крупиц: расположение тел и предметов, ухмылка на лице у одного мужчины и холодное, безразличное выражение у другого, – когда оно, это предчувствие, перешло в стопроцентное понимание и ему сделалось ясно: они явились его убить, тогда, в эту секунду, в эту долю секунды он, должно быть, обшарил пространство вокруг себя в поисках выхода, места, куда можно убежать, спрятаться. Он, должно быть, представил себе пространство за окнами, пространство, виденное им прежде: зал паба с высокими стульями и бильярдным столом, за ним – туалеты с окном, ведущим во дворик с другой стороны. Его сознание, должно быть, попросило это пространство принять его, укрыть; ему было сказано: «Нет, туда не добраться, тебя застрелят; это просто невозможно». Оно, должно быть, спросило то же самое у окна конторы «Движение»; ему было сказано: «Нет, тут решетка, и даже не будь ее, через стекло не пролезть». Возможно, оно даже обратилось к дырам, вделанным в поверхность улицы: к водостоку и к тому люку, где значилось «Лондонский транспорт», и к тем, со строчками букв, и даже к тому, на котором просто стояла буква С; ему было сказано, раз за разом: «Нет, сюди не войти; придется поискать другой выход».
Те двое снова вытащили автоматы и теперь поднимали их, чтобы направить на меня. Я перекидывал правую ногу через седло велосипеда, глядя на них и на пространство вокруг нас. Путь к побегу был только один – полоска тротуара на противоположной стороне Белинда-роуд. Она вела мимо черного бара без названия к мосту и дальше, прочь, вдоль Колдхарбор-лейн. Отделенная от дороги чередой столбиков, она походила на желоб, скат, канаву – что-то выводящее в другое место, где не было мужчин с автоматами, направленными на меня. Потому-то мой человек и выбрал это направление. Достигнув спуска на Белинда-роуд, проезжая мимо лужи, куда скоро предстояло хлынуть его крови, он уже наверняка понял, что так у него ничего не выйдет. Потому-то он и сменил направление. На этот раз я перелетел через руль спокойно, хладнокровно, без суеты приветствуя уже знакомые детали надвигавшегося на меня ландшафта.
Небо на этот раз пришло в полное соответствие с собой, облака чередой убегали в размотавшуюся непрерывную белизну. Внешняя стена черного бара была отделана рельефами, выступами, длинными полосами золотой краски. Решетка над окном конторы «Движение», отраженная в луже и наблюдаемая под этим углом, походила на сетчатый потолок площадки автоаттракциона. Буквы были за ней. Они вовсе не были греческими или русскими – это были «А» и «R» в слове «Аэропорты», перевернутые водной поверхностью. Слева от лужи на земле валялись две бутылочные крышки. Я лежал и смотрел на них. Мой человек тоже наверняка их видел. Это были крышки от пивных бутылок. Он, наверное, посмотрел на них и подумал о людях, выпивших пиво, и спросил себя, почему нельзя, чтобы он сам пил его, это пиво, в каком-нибудь другом месте, может, за столом с друзьями или дома с семьей, прямо сейчас, вместо того, чтобы лежать здесь и ждать, пока его убьют. За крышками валялся полиэтиленовый пакет из магазина. Сбоку на пакете были напечатаны слова «А тебе досталось?» За миг до того, как подняться в последний раз, я шепнул – луже, белому небу, черному бару и рябоватой, замусоренной поверхности дороги вокруг меня:
– Да, мне досталось.
Двое нападающих убивали меня не торопясь. Замедленный темп, в котором они поднимали свои автоматы и стреляли из них, как бы подразумевавшееся под этим отсутствие эмоций и интереса, полный отказ от попытки к бегству с моей стороны, хотя времени у меня было достаточно, – все это превратило наши действия в пассивные. Мы их не совершали – они совершались. Из автоматов стреляли, в меня попадали, возвращали на землю. Поверхность земли была такая же, как всегда: ни холодная, ни теплая. Лежа на ней в очередной раз, я взглянул на телефонную будку. Теперь она располагалась горизонтально; трафаретный связной был на боку, с простертыми руками, фигура, обведенная судэкспертами, – именно этим через какой-нибудь час предстояло стать мне. Я повернул голову в другую сторону. Все было скошено: столбики отклонялись от меня, вздымаясь, подобно пьедесталам, подобно колоннам храмов или акрополей. Экстерьер черного бара проходил через улицу по диагонали, золотые отметины на нем складывались в точки и тире. Двери его пожарного выхода были закрыты; две сине-белые надписи на них гласили: «Выход не загораживать»; эти слова повторялись дважды. Когда я позволил своей голове слегка откатиться назад, все это, кроме одного из двух слов «выход», закрыл столбик. Видел ли это мой человек за секунду до того, как жизнь вытекла из него в направлении лужи? «Выход»?
Над словом «выход» – облако, белое и цельное. Повсюду царила неподвижность. Я лежал, ничего не делая, и глядел. Я так долго там пролежал, что уже и глядеть перестал – просто лежал с открытыми глазами, а вокруг тем временем ничего не происходило. Тени стали длиннее, гуще; небо слегка потемнело, заняло более прочное положение. Повсюду стояла тишина, абсолютная тишина, ни звука – лишь сосредоточенное в одном месте молчание целой толпы людей, застывших, как и я, в ожидании, бесконечно терпеливых.
Я так и не ушел. По крайней мере, сам. Остались неясные воспоминания: меня поднимает, я парю, поддерживаемый над каким-то днищем, со мной обращаются нежно и деликатно; однако доверять им толком нельзя. С какой-либо уверенностью я могу сообщить только одно: некоторое время спустя я опять оказался у себя в гостиной, где тот же самый доктор, а может быть, другой, светил мне в глаза своим фонариком.
13
Все следующие три дня меня то уносило в транс, то выносило обратно. Это было похоже на кому без потери сознания: в течение долгих промежутков времени я не двигался, не реагировал ни на какие раздражители вокруг – ни на звук, ни на свет, ни на что – и при этом находился в полном сознании. Мои глаза были широко открыты, и казалось, будто я целиком во что-то погружен. В таком состоянии я проводил по нескольку часов подряд.
Про эти трансы мне было известно от Наза с доктором Тревельяном. Тревельян – так звали врача с кожаным чемоданчиком и фонариком; во всяком случае, одного из них. Возможно, все они, эти врачи, смешались у меня в голове. Как бы то ни было, доктор Тревельян, у которого был фонарик и всевозможные другие приспособления, каковые он держал в потрепанном кожаном чемоданчике, часто приходил ко мне в квартиру наблюдать меня. Поделать я тут ничего толком не мог: был слишком слаб, чтобы его вышвырнуть, и до того часто проваливался обратно в транс, что не способен был даже как следует отдавать приказы. Странно, однако, вот что: я не возражал против его присутствия. Он вел себя очень тихо. Не мельтешил, не расхаживал взад-вперед, даже не шевелил руками, изучая меня. Он тихо стоял, пассивный, словно статуя, наблюдая за мной с расстояния нескольких футов – или, приблизившись, застывал надо мной со своим фонариком, крепко зажатым в правой руке, и тогда на меня падал луч желтого света. Случалось, он описывал мое состояние в разговорах с Назом. Я слышал его объяснения:
– У него проявляются автономные симптомы травмы: маскообразное лицо, редкое моргание, симптом зубчатого колеса, постуральное напряжение, мидриаз…
– Мидриаз?
– Расширение зрачков. Все эти симптомы свидетельствуют о катехоламиновом истощении центральной нервной системы. Плюс высокий уровень опиоидов.
– Опиоидов? – повторил Наз. – Наркотиков он точно не принимает. Иначе я бы знал.
– Я не хочу сказать, что он принимает наркотики, – ответил Тревельян. – Но реакции на травму часто сопутствуют эндогенные опиоиды. То есть тело само себе вводит обезболивающее – причем сильнодействующее. Проблема в том, что оно может оказывать довольно приятный эффект – настолько приятный, что организм начинает требовать еще. Чем сильнее травма, тем сильнее доза, а следовательно, и побуждение вызвать выделение этих веществ по новой. Достаточно разумные подопытные животные снова и снова возвращаются к источнику травмы, будь то кнопка под током или что-нибудь еще, хотя знают, что их снова ожидает шок. Они поступают так, просто чтобы получить свою дозу: возбуждение, успокоение…
– По-вашему, с ним происходит то же самое?
Я услышал, как Тревельян задал встречный вопрос:
– В него ведь не стреляли? Я хочу сказать, в реальной жизни?
– По-моему, нет, – ответил Наз.
Я сидел молча, не шевелясь, и слушал, как они меня обсуждают. Мне нравилось, что меня обсуждают, – не потому, что от этого я выглядел интересным или важным, а потому, что становился пассивным. Я слушал их довольно долго; потом их беседа затихла – меня снова унесло в транс.
Я уже говорил, что так продолжалось три дня, хотя тогда это было непохоже на три дня. Это было непохоже ни на какой промежуток времени. Каждый раз, когда я пересекал границу очередного транса, время теряло актуальность, останавливалось, каждое мгновение расширялось до предела, становясь огромной теплой желтой заводью, в которой я мог просто лежать, пассивно, без конца. Что происходило дальше, ближе к центру транса, я сказать не могу. Знаю, что я это испытывал, но никаких воспоминаний об этом у меня нет – никакого отпечатка, ничего.
На четвертый день, окрепнув настолько, чтобы снова начать передвигаться по квартире, я велел принести мне газеты. В двух из них были репортажи об очередной стрельбе. Это произошло в Брикстоне в день нашей реконструкции, меньше чем в полумиле от нас. Двое пеших мужчин застрелили одного в машине. Пока тот стоял в пробке, они подошли к окну, подняли пистолеты и застрелили его через стекло. Умер он мгновенно, ему снесло голову, все разлетелось по сиденьям и приборной панели. Это было якобы связано с первым убийством: месть, ответный ход, что-то в этом роде.
Я позвонил Назу:
– Вы слышали о том, что опять стреляли?
– Да, – ответил он. – Странно, верно?
– Я хотел бы, чтобы вы заново осуществили действия, которые предприняли на той неделе, и организовали реконструкцию и этого события.
– Я так и думал, что вы, наверное, захотите. Займусь.
Я вышел в магазинчик на углу купить еще газет. День подходил к концу. На прилавке были сложены экземпляры вечерней газеты с заголовком «Брикстон: война за территорию обостряется, застрелен третий человек».
Я не мог понять, в чем дело. Насколько мне было известно, застрелили пока только двоих: моего парня на красном велосипеде, а потом этого другого мужчину в машине. Возможно, в машине было двое людей, и застрелили обоих. Но тогда почему «третий человек»? Разве не правильнее было бы сказать «второй и третий человек»? Кроме того, газета была сегодняшняя. Испытывая легкое головокружение, я ее купил.
Вскоре все выяснилось: оказывается, произошел еще один случай стрельбы, совсем рядом с Брикстон-хилл. На этот раз убийцы воспользовались мотоциклом. Пострадавший возвращался к себе в квартиру, они подъехали к нему и застрелили, не снимая шлемов и не слезая с мотоцикла, а потом снова умчались. Это мне понравилось: мотоцикл, его петляющие маневры, то, как он проскакивает мимо машин и столбов прямо на тротуар, где этот человек, должно быть, копошится с ключами перед своим домом. Потом – то, как он, должно быть, увидел собственное лицо, отразившееся, словно в объективе «рыбий глаз», в козырьках его убийц, совсем как в павильоне кривых зеркал. Это нападение было местью за месть, еще одним ответным ходом. «Война за территорию». Мне представились материалы для благоустройства и озеленения, такие нагроможденные друг на друга квадраты дерна, затем – квадраты шахматной доски, затем – сетка фоторобота. Я вернулся в квартиру и снова позвонил Назу.
– Вы знали, что произошло еще одно?
– Да, – сказал Наз. – Мы только что об этом говорили. Вы попросили меня организовать его реконструкцию.
– Нет. Это я знаю; но произошло еще одно, другое.
На том конце стояла тишина.
– Алло! – сказал я.
– Да. Так что, мы…
– Обязательно! Мы и его реконструируем. И еще, Наз…
– Да?
– Вы не могли бы сказать Роджеру…
– Конечно. Я об этом уже думал. Вторая будет доставлена мне сегодня вечером. Велю ему сделать и модель третьего.
Спустя час я перевел свой дом в режим «включено». Перед тем, как начать, я устроил в парадном собрание. Там были все реконструкторы, плюс Фрэнк с Энни и их люди, и помощники этих людей со своими рациями и планшетками. Я обратился к ним со второй ступеньки.
– Я хочу все замедлить, – сказал я им. – Чтобы все происходило медленнее – намного медленнее, намного.
Как можно медленнее. По сути, вы вообще должны почти не двигаться. Это не означает, что вы должны прекратить делать свои дела, выполнять свои действия. Я хочу, чтобы вы их выполняли, но выполняли так медленно, чтобы каждое мгновение… чтобы каждое мгновение… как будто оно способно растянуться – понимаете? – и быть… если бы каждое мгновение было… ну, дальше неважно; вам это знать необязательно. Но главное: вы должны выполнять свои действия очень медленно, но при этом все-таки их выполнять. Ясно?
Люди переглянулись друг с другом, потом снова повернулись ко на мне, неопределенно кивая.
– Вот вы, например, – продолжал я, показывая на моего пианиста, – вам надо каждую ноту, каждый аккорд держать как можно дольше. У вас ведь есть для этого педаль, так?
Лысая макушка моего пианиста побелела, он перевел глаза с пола на мои ноги.
– Педаль? – мрачно повторил он.
– Да, педаль. У вас их две: та, что приглушает звук, и та, что его растягивает. Так ведь?
Он задумался, потом грустно кивнул, и голова его побелела еще сильнее.
– Вот и хорошо. Начинайте как обычно – нет, в два раза медленнее, – а когда замедлитесь, когда дойдете до самой замедленной части, просто держите аккорд как можно дольше. Если потребуется, можете снова ударить по клавишам. Понятно?
Мой пианист опустил глаза на пол и снова кивнул. Потом зашаркал обратно к лестнице.
– Подождите! – окликнул его я.
Он остановился, по-прежнему не отрывая глаз от пола. Я еще несколько секунд смотрел на его лысую макушку, потом сказал:
– Ладно, можете идти.
Затем я повернулся к консьержке:
– Ну, вы и так в статичном состоянии. Я хочу сказать, вы просто стоите тут, в парадном, и ничего не делаете. И это хорошо. Но теперь я хочу, чтобы вы ничего не делали еще медленнее.
Вид у нее, у моей консьержки, был сбитый с толку. Она была без маски, держала ее в руке, но лицо ее было маскообразным – вроде этих театральных масок, существовавших в древние времена: нервное, изможденное, полное какого-то первобытного ужаса.
– Я вот что имею в виду: вы должны медленнее думать. Не просто медленнее думать, но медленнее осознавать все окружающее. Скажем, если вы двигаете глазами под маской, двигайте их медленнее и думайте про себя: «Теперь я вижу этот кусок стены, все еще этот кусок, а теперь, медленно-медленно, дюйм за дюймом, участок рядом с ним, а теперь край двери, только я не знаю, что это дверь, потому что у меня пока не было времени это понять», – и думать все это надо тоже очень медленно. Понимаете теперь, что я имею в виду?
Ужас на ее лице, казалось, слегка усилился, когда она кивнула мне в ответ.
– Это важно, – объяснил я ей. – Я пойму, все ли вы делаете как надо. Будете делать как надо, я распоряжусь, чтобы вам дали бонус. Все вы получите бонус, если выйдет как надо.
Я распустил собрание и велел людям занять свои позиции. Поднявшись к себе в квартиру, я, пока ждал, смотрел на трещину в ванной. Давно я этого не проделывал. В воздухе висел запах – запах застывшего жира. Я высунул голову из окна и посмотрел вниз, на вытяжку, установленную у хозяйки печенки. Она снова засорилась. Жир, законопативший ее щели, стал чернеть. Наружу начинал пробиваться новый выброс пара, сопровождаемый звуком начинающей скворчать печенки. Не прошло и нескольких секунд, как до меня дошел запах новой печенки. У него по-прежнему был этот острый, горьковатый оттенок, словно у кордита. Мы много раз пытались от него избавиться, но не смогли; к тому же, кроме меня, никто запах кордита не чувствовал. Но я-то чувствовал, вне всякого сомнения – кордит.
У меня в гостиной зазвонил телефон. Это оказался Наз, он сообщил мне, что все готово.
– Все совсем замедлили? – спросил я его.
– Совсем замедлили, точно как вы требовали, – ответил он.
Я вышел из квартиры и пошел вниз по первому лестничному пролету. Вначале я шел очень медленно, однако после нескольких шагов мне это надоело, и я снова переключился на обычную скорость. Меня правила не ограничивали; всех остальных – да, но не меня.
Пианист, игравший вдвое медленнее обычного, как я его просил, сделал свою первую ошибку и повторил пассаж, затем снова, затем снова, с каждым разом все медленнее и медленнее. Я остановился у окна на первом повороте лестницы и взглянул на улицу. Задержал взгляд на уровне видневшегося на стекле дефекта, потом переместил голову на несколько миллиметров вниз, чтобы дефект наполз на кота, который крался по крыше напротив. Моя голова очень медленно съехала набок, при этом кот остался в центре дефекта, словно дефект был прицелом ружья, а кот – мишенью. Слегка подергивая головой вбок и обратно, я обнаружил, что могу заставить кота передвинуться туда, где он был секундой раньше. Я занимался этим довольно долго; чем дальше кот продвигался вперед, тем дальше я подпихивал его назад, туда, где он был прежде, легонько двигая и подергивая головой, чтобы заключить его в круг. В конце концов он исчез из виду, и я двинулся дальше.
Моя хозяйка печенки выходила из своей квартиры. Когда ее взгляд поймал мой, я замедлил шаги на лестнице. Я смотрел на нее и медленно вдыхал и выдыхал. Двигаясь с половинной скоростью, она опустила свой мешок с мусором на пол, разжала руку, в которой он был, и повернула голову ко мне. Я замедлился еще больше, она тоже замедлилась, настолько, что сделалась почти статичной: спина согнута, правая рука зависла в полуфуте над мусорным мешком. Она ничего не сказала. Я тоже. Ноты пианиста слились в единый аккорд, который он держал точно по инструкции. Я неотрывно смотрел на нее и чувствовал, как границы моего зрения расширяются. Стены вокруг ее двери, выходящий из-под порога мозаичный пол, потолок – все это словно растянулось и осветилось. Я почувствовал, как меня самого уносит туда, к этим поверхностям, как меня в очередной раз уносит по направлению к границе транса.
К этому моменту и она, и я двигались так медленно, что, строго говоря, уже не двигались. Так продолжалось долго; потом, по-прежнему не давая нашим взглядам разойтись, я очень медленно, очень осторожно перенес правую ногу назад, на одну ступеньку вверх. Моя хозяйка печенки медленно отвела назад, к мешку с мусором, правую руку. Двигаясь все так же медленно – почти неощутимо, – я снова сменил направление и снова перенес правую ногу вниз. Она снова убрала правую руку от мешка, все в том же темпе. Я повторил цепочку, подпихнув фрагмент сцены, на котором мы задержались, назад, к моменту перед самым его началом; она последовала за мной. Мы повторили это несколько раз; потом остановились полностью, зависнув каждый посередине своего текущего действия.
Мы долго стояли так, лицом друг к другу. Аккорды пианиста растянулись, податливые, как эластик, когда его растянешь так, что он открывает тебе свои внутренности, обнажает свои трещины, поры. Аккорды растянулись и сделались мягче, богаче, шире; потом они скакнули обратно, восстановившись при новом ударе по клавишам. Мы с моей хозяйкой печенки продолжали стоять. Мы стояли, все стояли и стояли – а затем я снова оказался у себя в ванне, где лежал, наблюдая, как вокруг трещины клубится горячий пар. Затем меня подняли, подержали, положили. Затем – пустота.
На следующий день я пошел наблюдать, как на узорно выложенный пол лестницы из окон падает солнечный свет. Я лежал на маленькой площадке, где ступеньки поворачивали между третьим и четвертым этажами, и смотрел, не отводя глаз. Солнце заполнило белые коридоры между прямыми черными линиями узора, будто вода, в замедленном движении заливающая лабиринт: все как и в первый раз, когда я наблюдал за этим несколько недель назад, но на сей раз свет, казалось, сделался как-то выше, резче, острее. К тому же он, казалось, заливал пол быстрее прежнего, а не медленнее.
На этот раз я не соскочил в транс – отнюдь. Я снова сел и задумался, почему кажется, что это происходит быстрее, когда весь дом по моему желанию работает медленнее. Я решил засечь время, пошел взять у Энни часы, но тут сообразил, что мне придется подождать до завтра, когда солнце снова все зальет, а потом уйдет с этого пятачка. Я снова распустил дом, немного отдохнул и на следующий день в то же самое время занял свое место, имея при себе часы Энни – точный спортивный секундомер, отмерявший десятые и сотые доли секунды.
Прежде, когда я засекал время, весь процесс занимал три часа четырнадцать минут. Это я помнил. Сегодня, когда передний край луча добрался до места, я пустил секундомер и принялся наблюдать, как этот край потихоньку просачивается в глубь площадки, словно авангард войск, первые разведчики и снайперы. За ним более смелым, широким блоком наступала основная колонна света. Она оккупировала пол, не делая секрета из своего присутствия, покрывая всю равнину своим слепящим блеском, своими трубами и флагами, и пушками. Я лежал, наблюдая и засекая время, дожидаясь, пока стрелка часов добежит до того самого момента, когда, несколько минут спустя после окончательного ухода основной колонны, последние растянувшиеся части – световой арьегард, – бросив прощальный взгляд назад, на покинутый лагерь, и испугавшись собирающихся отрядов темноты, поспешат дальше.
Прежде, когда я засекал время, это занимало три часа четырнадцать минут. Теперь же на все ушло меньше трех часов. Если быть точным, два часа сорок три минуты и двадцать семь целых сорок пять сотых секунды. Это мне не понравилось. Что-то было не так. Я вызвал Фрэнка с Энни.
– С солнцем что-то не в порядке, – сказал я.
Ни тот, ни другая не ответили сразу. Потом Энни спросила:
– В каком смысле – не в порядке?
– В том смысле, что свет проходит по полу слишком быстро. Я замерил время, в течение которого луч падает из этих окон на пол, с момента, когда он первый раз его касается, до того, когда уходит. Я его замерял в самом начале наших реконструкций, а сегодня опять замерил – и могу вам сказать совершенно точно, что теперь он движется быстрее, чем тогда.
Последовала еще одна пауза, потом Энни тихим, нервным голосом рискнула высказать предположение:
– Время года изменилось.
– Какое время года? – спросил я.
– С тех пор, как вы засекали в первый раз, прошло время, – объяснила Энни. – Теперь время года изменилось, отодвинулось от летнего солнцестояния. Солнце расположено к нам под другим углом.
Я довольно долго размышлял над этим, а поняв, сказал:
– Ну да. Конечно. То есть… конечно. То есть я об этом знал, но… то есть я… Спасибо. Можете идти, оба.
Фрэнк и Энни прошмыгнули обратно на свои посты. Я остался сидеть в тусклом свете лестничной клетки, глядя вверх. Мне представилось солнце в космосе, маленькая звезда, по сравнению с другими звездами не больше этих крохотных пылинок, которые я видел зависшими у верхушки лестничной клетки несколько недель назад, когда настоящее солнце было к нам ближе. Меня поразило, что пылинки и сейчас там, наверху, прямо надо мной, ни с чего не свисают, просто плавают в обычном воздухе, ни холодном, ни теплом, и что когда солнце полностью исчезнет, они могут упасть.
Модели были доставлены на следующий день – сделанные Роджером модели второго и третьего происшествий со стрельбой. Они были прекрасны, еще подробнее, чем первая. В витрине обувного магазина рядом с тем местом, где мужчину застрелили в машине, стояли крохотные туфельки, а улица, где упал третий человек, была обсажена деревьями. В тот же день, попозже, были доставлены протоколы экспертизы, и я внимательно их прочел. У Наза все было готово к первой из новых реконструкций; через два дня мы собирались реконструировать второй случай стрельбы. Я как следует отдохнул, чтобы набраться сил, и почти неделю не впадал в транс. Однако во время реконструкции, стоило нам замедлиться до половинной скорости, как я совершенно ослаб, потерял связь с реальностью, и меня снова пришлось отнести домой.
Дальше последовал день, заполненный трансами, следовавшими друг за другом с короткими промежутками. Третью реконструкцию Наз планировал провести на следующий день после второй, но вынужден был отложить ее на два дня, пока ко мне не вернулись силы. Во время нее произошло то же самое – меня унесло. Вокруг меня образовалось такое расширение пространства, да и момента времени тоже: подвешенное состояние, наступление пассивности, и так без конца; за ними – исчезновение мотоцикла, деревьев, тротуара по мере того, как меня уносило все глубже, к сердцевине, не оставлявшей отпечатков.
За этим последовали еще два или три дня, заполненных трансами. Я всплывал на поверхность, словно ныряльщик, поднимающийся набрать в легкие воздуха, ровно столько, сколько ему нужно, чтобы опять нырнуть, броситься назад, к своим глубоководным пещерам, колышущимся прядям водорослей, диковинным рыбам, к чему-то, что его так захватило. Иногда меня что-то подцепляло, вздергивало и вытаскивало наружу, прямо на свет, где обнаруживался Тревельян со своим фонариком, направленным внутрь меня. Его луч падал на расчерченные поверхности моего сознания, но занять их ему удавалось лишь ненадолго, после чего он отступал, и внутри снова сгущалась тьма.
Оттуда, из глубины, извлекались странные вещи, кусочки воспоминаний, которые, должно быть, плавали где-то прежде, подобно осколку кости у меня в колене. Я слышал, как водители «скорых» беседуют о том, как им приходилось спасать людей, на которых что-то упало, и обсуждают шансы на выживание, в каждом случае разные.
– Строительные леса – это не так уж страшно, – говорил один из них. – А вот кирпич…
– Кирпич – это смертельно, – согласился его коллега. – Но я бы на вертолеты поставил – они хуже всего. Был я как-то на месте вертолетной аварии. На земле опасность не только в том, что тебя раздавит; нельзя и про крутящийся винт забывать. Запросто напополам разрежет. А взрыв…
– А, взрыв, это да, – повторил первый.
Какое-то время я отчетливо слышал их голоса, потом они затихли.
Еще один вывороченный кусочек воспоминания касался какой-то земли, попавшей мне на рукав. Откуда она взялась? Кажется, из горшков с растениями, вроде тех буйных, зеленых, которые доставила в мой дом португалка, – хотя земля из ее горшков мне на рукав не попадала. Эта земля, которую я вспомнил в трансе, просыпалась на меня там и сям, вконец завалив своей кусочной дребеденью: сотня кусочков, и все катаются туда-сюда, повсюду пачкают, вообще лезут куда не надо. Этот образ уступил место другому видению: в нем странный тип из «Догстара» снова и снова повторял: «Куда все девается?», стоя у моего столика и злобно тараща глаза. Присутствовавший там Грег объяснял этому типу:
– Он хочет быть настоящим, вот и все. В этом вся причина.
Странный тип снова повторил свою реплику, но, хотя слова были те же самые, вышло почему-то «Все тяжелей и тяжелей становится». Хлынула голубая дрянь, потом опять появились двое водителей «скорых» – они разглядывали обломки крушения.
– История, – сказал один. – Они смертельные, эти осколки. Смотри: пропеллер, втулка.
– Мусор, – сказал другой. – Балласт. Эти кусочки, тут все повторяется[2]. Настоящее событие ему и обсуждать-то нельзя.
Их голоса снова угасли вместе с картиной крушения, и я обнаружил, что, будучи в полном сознании, неотрывно смотрю на сделанную Роджером модель первого происшествия со стрельбой. Модель спустили с журнального столика на ковер, на котором я, как выяснилось, лежал, так что она оказалась вровень с моей головой; только ее вертикальная плоскость была для меня горизонтальной, и наоборот. Прямо перед глазами у меня был участок дороги, где стояли двое стрелявших, место, где трещины расходились, образуя похожий на соты узор из повторяющихся шестиугольников. Этот узор в модели Роджера воспроизведен не был, но я его ясно помнил. По мере того, как отпечаток шестиугольников делался в моем сознании отчетливее, то же происходило и с моим воспоминанием о том моменте, том конкретном моменте, когда мы с двумя темнокожими стояли там перед самым началом реконструкции; когда я подвел их к месту и велел им стрелять оттуда. Я велел им остановиться там, продолжать стрелять, но дальше не продвигаться. Тот, что повыше, с сильным вест-индским акцентом, сказал мне: «Вы начальник», а потом я спросил Наза, удалось ли ему выторговать для нас дополнительное время. Теперь, когда я лежал на полу рядом с моделью Роджера, вспоминая данный момент инструктажа, момент этот приобрел глубокую значимость.
Я сел, дотянулся до телефона и позвонил Назу.
– Вы уже к нам вернулись? – спросил он.
– Я хотел бы организовать еще одну реконструкцию.
– Не знал, что был еще один случай стрельбы.
– Я хотел бы, – объяснил я, – устроить реконструкцию момента непосредственно перед началом реконструкции первого случая, когда мы, я с ними, стояли на дороге и я говорил им, где встать. Я хочу устроить реконструкцию этого момента.
Наступила пауза; та штука в глубине его глаз пожужжала, потом он сказал:
– Превосходно. Место то же?
– Возможно, – сказал я ему. – Над этим я еще подумаю.
– Прекрасно. Свяжусь с теми двумя реконструкторами, получим…
– Нет! Тех же самых не надо. Для реконструкции их ролей нам нужны другие люди.
– Вы правы, – сказал Наз. – Абсолютно правы. Я должен был сам сообразить. Сейчас же этим займусь.
Через час он мне перезвонил.
– Я нашел двоих. И людей на роли дублеров. Их тоже надо реконструировать.
– Господи! Ну конечно! Мне же понадобятся новые реконструкторы, чтобы реконструировать стояние на заднем плане. Ведь и там тех же людей задействовать нельзя.
– И еще, – продолжал Наз. – Я дал указание нашим сотрудникам не говорить никому, зачем эту сцену, которую они будут реконструировать, нужно прогонять. Так будет сложнее, интереснее.
– Да, и тут вы правы. Действительно.
Повесив трубку, я понял, что Наз меняется. Он всегда целиком отдавался моим проектам, с того самого первого дня, когда я познакомился с ним в «Проект-кафе»; однако тогда его отдача была чисто профессиональной. Теперь же к его встроенному организаторскому таланту примешивалось нечто новое: своего рода сдержанное рвение, тихая страсть. Он защищал мои труды с яростью приглушенной, но непоколебимой. Как-то днем, или утром, а может, вечером, зависнув над границей транса, я слышал, как он спорит с доктором Тревельяном.
– Эти реконструкции необходимо прекратить, – говорил Тревельян, понизив голос.
– Исключено, – тем же тоном отвечал ему Наз.
– Но от них его состояние явно ухудшается! – повысив голос, настаивал Тревельян.
– Все равно исключено, – голос Наза звучал все так же ровно, спокойно. – К тому же это вне сферы вашей компетенции.
– Лечить его – вне сферы моей компетенции? – голос Тревельяна превратился в рычание.
– Указывать ему, что делать и чего не делать, – Наз был спокоен как всегда. – Это решает он. Вас, как и меня, наняли, чтобы обеспечить ему возможность продолжать осуществлять свои проекты.
– Как он их сможет продолжать, если умрет! – снова прорычал Тревельян.
– Есть такая опасность? – спросил Наз.
Тревельян ничего не сказал, но через несколько секунд я услышал, как он фыркнул и швырнул в чемоданчик какой-то инструмент.
– Ждем вас завтра в это же время, – сказал Наз.
Тогда я, несмотря на состояние, в котором пребывал, понял, что Наз полностью включился в игру. Не просто включился – вовлечен во всю эту игру в той же степени, что и я, хотя и по совершенно иным причинам. Более полно я это осознал двумя днями позже, во время просветления. Наз сидел со мной у меня в гостиной, занимаясь организацией реконструкции того момента в ходе реконструкции стрельбы – того момента, когда я говорил тем двоим, где им стоять. Он дорабатывал детали: кому что делать, когда, какую долю информации сообщить разным участникам, где стоять настоящим дублерам, раз их первоначальные позиции будут заняты реконструкторами-дублерами, и так далее. Перед ним на журнальном столике были разложены все эти записи, списки и диаграммы, но последние пять минут он на них совершенно не смотрел. Он просто неотрывно смотрел перед собой, в пространство. Вид у него был странный, какой-то пьяный; на миг мне показалось, что это он вот-вот соскочит в транс.
– Наз! – обратился я к нему.
Ответил он не сразу. Пока та штука у него внутри обрабатывала информацию, глаза его оставались отсутствующими. Такое я уже видел, несколько раз; но теперь обработка как будто переключилась на более высокую передачу – на несколько передач, разогналась до предела и выше, стала до того интенсивной, что еще немного – и этого будет не вынести. Как у него голова не взорвется от одного только этого безумия, поразился я. Я практически слышал жужжание – жужжание его вычислений и всей его родословной: сидящие ряд за рядом клерки, писцы, учетчики, их пишущие машинки, папки, арифмометры – в глубине его черепа все это сходилось в гигантские системы, жадные до исполнения более сложных команд. Наконец жужжание замедлилось, глаза снова ожили, Наз повернул ко мне лицо и сказал:
– Спасибо.
– Спасибо? – повторил я. – За что?
– За то… – начал он, потом остановился. – Просто за то… – он снова замолчал.
– За что, за что?
– Мне никогда еще не доводилось управлять таким количеством информации, – ответил он в конце концов.
Теперь глаза его сверкали. Да, Наз действительно был рьяным фанатиком, но фанатизм его был не религиозным – бюрократическим. И он был действительно пьян: он был заражен, его влекло вперед, к своего рода экстазу. Влечение это проистекало всего лишь из возможности управления информацией, которую открывали для него мои проекты, каждый следующий сложнее, экстремальнее предыдущего. Мой исполнитель.
Однажды, выйдя из транса, я обнаружил, что лежу у себя на диване. В тот же момент, когда я осознал, где нахожусь, я понял и то, что в комнате есть кто-то еще. Подняв глаза, я решил, что вижу доктора Тревельяна. Доктор Тревельян был, как я уже упоминал, коротышкой, с усами и потертым чемоданчиком, который всегда держал при себе. Этот коротышка стоял в моей гостиной, но на сей раз никакого чемоданчика не было, да и усов тоже. Это был коротышка, но не доктор Тревельян, не кто-нибудь из моих знакомых, хотя мне показалось, что я его смутно узнал. В руке у него был раскрытый блокнот с откинутой первой страницей. Он смотрел на блокнот, потом на меня, потом опять на блокнот. Так он стоял некоторое время; в конце концов он заговорил.
– Итак, – сказал он. – Это и есть человек, который разыгрывает сцены смерти местных бандитов, погибших от чьей-то руки.
Теперь я сообразил, откуда его знаю: он присутствовал на реконструкции первого происшествия со стрельбой; только приехав, я увидел этого человека, стоявшего позади ждущего «БМВ». Вид у него был полуофициальный: щеголеватый, но слегка потрепанный. Недощеголеватый. Угольно-серый пиджак, в волосах – седые пряди. Ему было, наверное, лет сорок с чем-то.
– Вы полицейский? – спросил я.
– Нет. – Опять посмотрев на свой блокнот, он продолжал: – Кроме того, это – человек, который построил здание, где повторяются и продлеваются определенные рутинные и на первый взгляд бессмысленные моменты, повторяются до тех пор, пока не приобретут черты едва ли не священнодействия.
В его выговоре слышался легкий шотландский оттенок. Голос был суховат. Говорил он тоном, подобным тому, каким мог бы обращаться адвокат к присяжным или серьезный профессор истории – к своим студентам. Я лежал и слушал его.
– Более того, он, словно заевшую пластинку, в течение трех последних недель снова и снова проигрывает тривиальнейший инцидент – случай, когда при посещении им шиномонтажной мастерской там что-то пролилось, – резидуал.
– Я и забыл про это.
– Он говорит, забыл? – Этот риторический вопрос он произнес голосом слегка повышенным, потом опять снизил тон и двинулся дальше. – Задействованы не менее ста двадцати актеров. Собраны были и использовались пятьсот одиннадцать предметов реквизита: шины, знаки, банки, инструменты, все в рабочем состоянии. И это лишь для сцены в шиномонтажной мастерской. Количество людей, в том или ином качестве нанимавшихся в ходе всех пяти реконструкций, наверное, приближается к тысяче. – Он опять остановился, давая время переварить эту цифру, затем продолжал: – Все эти действия, в которые было вложено столько энергии, столько человеко-часов, столько денег, все это, взятое целиком, ставит перед нами вопрос: с какой целью?
Он остановился и пристально посмотрел на меня.
– Быть может, – внезапно начал он снова, – он считает себя своего рода художником?
Он по-прежнему пристально смотрел на меня, словно призывая дать ответ.
– Кто, я?
Его взгляд с притворным интересом обшарил пустую комнату, затем снова остановился на мне.
– Нет, – сказал я ему. – Я в искусстве никогда не был силен. В школе.
– В школе он никогда не был силен в искусстве, – повторил он, затем пустился в другом направлении: – В таком случае он, возможно, воспринимает эти действия как своего рода вуду? Магию? Шаманское действо?
– Что такое шаманское?
Как раз в этот момент вошел Наз. Он, видимо, знал этого человека; кивнув ему, застучал по кнопкам своего мобильного.
– Кто это? – спросил я его.
– Советник из районной администрации. Он держал нас в курсе событий относительно стрельбы и нашел нам своего человека в полиции. Не волнуйтесь, ему можно доверять.
Я не волновался – наоборот, чувствовал себя совершенно спокойным, лежал себе и слушал, как обо мне разговаривают. Снизу вверх лилась фортепьянная музыка.
– Он слушает Шостаковича, – сказал коротышка-советник.
– Это Рахманинов, – объяснил ему Наз.
– Ах, Рахманинов! И тут еще этот запах, какой-то… это не кордит?
– Да! – попытался я выкрикнуть ему в ответ, но голос мой прозвучал слабо. – Да, наконец-то! Это правда кордит! Я так и знал!
У Наза запищал телефон. Он прочел с экрана:
– Прил. к шаман [тюрк, saman с санскрит.]. Колдун, знахарь у племен урало-алтайских народностей Сибири.
– Кордит! Я же говорил с самого начала… – пробормотал я, но меня опять унесло в транс.
Этого советника я повстречал снова, на следующий день, а может, на другой. Сил у меня значительно прибавилось, и я выбрался из дому подышать воздухом возле стадиона. Прислонившись к зеленой проволочной сетке-ограде, я смотрел, как тренируется футбольная команда. Они отрабатывали удары; их тренер клал мяч за мячом на зеленое асфальтовое покрытие, среди всех этих пересекающихся линий и кругов, а они подбегали, один за другим, и били, или пытались бить, по воротам. Некоторые мячи летели мимо, рикошетом отскакивали от ограды и мешали следующему нападающему. Тренер кричал своим игрокам, чтобы подзадорить их:
– Отдача! Всю волю вкладываем в гол! Не торопимся! Замедляем каждую секунду!
Это был хороший совет. Видно было: те, кто попадал, разбивали свои движения на части, по-настоящему сосредотачиваясь на каждой. Не то чтобы у них уходило на это больше времени, чем у тех, кто промахивался; скорее они заставляли то же количество времени растягиваться. Именно это делают все хорошие спортсмены – заполняют время пространством. Именно это делают спринтеры, пробегающие стометровку быстрее, чем за десять секунд: растягивают каждую секунду, каждую долю секунды, словно мгновение – это цилиндр, в котором они заключены, и они распирают его стенки, чтобы туда поместилось больше беговой дорожки, больше дистанции, которую они успеют пробежать, прежде чем достигнут границы этой секунды. Боксер, который может пригнуться, выполнить обманный удар, вывернуться и сделать выпад так быстро, что противник даже не увидит его движения; бэтсмен, способный спокойно прочесть, расшифровать и разыграть траекторию полета и отскока несущегося мяча, – они тоже заполняют время пространством. Как и люди, которые умеют ловить пули; это не так уж и сложно, надо лишь обеспечить себе достаточно места для маневра. Наблюдая за тем, как бьют по воротам эти футболисты, я почувствовал, как меня захлестнула волна грусти, мне было жаль, что тех троих убили, но еще больше было жаль другого: в реконструкциях мне не удалось заполнить момент их смерти таким количеством пространства, чтобы вернуть их, подпихнуть обратно к жизни. Понимаю, это невозможно, но я все равно чувствовал свою ответственность – и грусть.
Тренер ввел новое правило: если игрок промахивается, он должен обежать вокруг поля по оцепляющей его дорожке. Трое или четверо из них неспешно бежали по ней, под сломанными громкоговорителями.
– В коме, – произнес голос рядом, – ему приходилось вести репортажи.
Это снова оказался коротышка-советник. Он стоял рядом со мной у ограды, пальцы его были просунуты сквозь ромбовидные зеленые дыры. Должно быть, он стоял тут уже какое-то время, а я его не замечал.
– Да, – сказал я. – Это правда.
Насколько мне помнилось, я не рассказывал ему эту часть, про спортивные сны, которые видел в коме, когда лежал без сознания в те недели после аварии.
– Там был некий формат, и я должен был ему соответствовать, иначе умер бы.
– И с тех самых пор он чувствует себя ненастоящим. Поддельным.
– Да, – ответил я.
Эту часть я, насколько мне помнилось, тоже ему не рассказывал; видимо, рассказал, когда соскальзывал в транс, а потом забыл.
– Так когда же за последнее время он чувствовал себя наиболее настоящим? – спросил коротышка-советник. – Когда он чувствовал себя наименее поддельным?
Это был очень уместный вопрос. Последние несколько месяцев я был до того занят, до того увлечен – переходил от одного проекта к другому, от реконструкций в доме к новым, в мастерской, а потом – к стрельбе, что ни разу не остановился, чтобы все их осмыслить, сравнить и противопоставить, задуматься над этим вопросом: какая вышла лучше всего? Все они имели целью, единственной целью, одно: позволить мне стать непринужденным, естественным, слиться с действиями и предметами, пока не останется ничего, что нас разделяло бы, – и ничего, что отделяло бы меня от того, что я испытывал в каждый конкретный момент; чтобы не требовалось ни осознавать, ни сперва учиться, потом подражать, чтобы не было ничего из разряда б/у, никакого самокопания, ничего – никакого кружного пути. Чтобы стать настоящим, я предпринимал невероятные усилия. И все-таки ни разу не остановился и не спросил себя, получилось ли. Можно сказать, что об этом спросил меня Наз после первой реконструкции в доме – и вопрос показался мне странным. Настоящесть, к которой я стремился, была не из разряда вещей, которые можно взять и «сделать» раз и навсегда, а потом сказать: теперь у меня это «есть»; нет, это было состояние, режим – такой, в который мне необходимо было возвращаться снова и снова. Опиоиды, говорил доктор Тревельян; эндогенные опиоиды. Наркоман не останавливается, чтобы спросить себя: получилось ли? Ему просто нужно еще: еще большие дозы, еще чаще – еще.
И все-таки это был вопрос, уместный в данной ситуации, – вопрос, заданный здесь, перед этим зарешетченным полем, коротышкой-советником. Выбравшись на улицу после многодневных трансов, я чувствовал себя всевидящим, свежим, освеженным. Стук футбольных мячей, ударяющих по клетке ворот, был резким; вопрос же настроил на резкость все мое сознание, превратил меня в спортсмена, заставил меня замедлить время, растянуть его, распирая его стенки и перемещаясь внутри него. Я вернулся мыслями на три месяца назад, еще дальше – прямо в Париж, к ощущению удавшейся проделки, которое испытал с Кэтрин. Вернулся к спокойствию, чувству парения, которое возникло, когда я проходил мимо моей хозяйки печенки, выставлявшей наружу мусорный мешок; к своему восторгу при виде того, как голубая дрянь, словно дематериализовавшись, превратилась в небо; к интенсивному, сокрушительному покалыванию, пронзившему меня подобно молнии, когда, лежа на асфальте у телефонной будки, я раскрылся и стал пассивным, и остававшемуся со мной в последующие дни. Так я дождался, пока мои мысли добегут до нынешнего утра. И все-таки ответом на простой вопрос – когда я чувствовал себя наименее ненастоящим – ни один из этих моментов не был.
Постепенно мне стало ясно, что это был другой момент, возникший не в процессе распланированной реконструкции, а случайно: без помощников, переговорных устройств, архитекторов, своих людей в полиции и протоколов экспертиз, без фортепьянных циклов, разрешений и разграниченных зон. Я был тогда один – один и все-таки в окружении людей. Они текли мимо меня на площади перед вокзалом Виктория. Пассажиры. Я шел на встречу с Мэттью Янгером, я вышел из метро, как раз начинался час пик, и пассажиры – мужчины и женщины в деловых костюмах – спешили мимо меня. Я стоял неподвижно, лицом в другую сторону, ощущая, как они спешат, текут. Я вытянул руки вперед, ладонями кверху, ощутил это начинающееся покалывание – и внезапно мне пришло в голову, что моя поза похожа на позу нищего, протягивающего руки, выпрашивающего мелочь у прохожих. Покалывание нарастало; через некоторое время я решил действительно начать попрошайничать. Я принялся бормотать:
– Подайте… подайте… подайте…
Так я продолжал несколько минут, неопределенно глядя перед собой и бормоча «подайте». Никто мне ничего не подал; мелочь их мне была не нужна, да и ни к чему – я только что получил восемь с половиной миллионов фунтов. Но находиться в данном конкретном месте, прямо сейчас, в данном конкретном положении по отношению к остальным, к миру – это вызвало во мне такое спокойствие, такое напряжение, что я едва не почувствовал себя настоящим. Теперь, стоя рядом с коротышкой-советником, я вспомнил, как я – точнее не скажешь – едва не почувствовал себя настоящим. Повернувшись к нему, я произнес:
– Это было, когда я стоял перед вокзалом Виктория – искал контору своего брокера – и просил у прохожих мелочь.
Коротышка-советник улыбнулся; улыбка подобного сорта подразумевала, что он знал, каков будет мой ответ, еще до того, как прозвучали мои слова.
– Требовать денег, которые ему абсолютно не нужны, – сказал он. – Вот что заставило его почувствовать себя наиболее настоящим.
– Да, требовать денег; но было еще и чувство…
– Какое?
– Словно я – по ту сторону чего-то. Завесы, ширмы, закона – не знаю…
Мой голос стих. Коротышка-советник довольно долго смотрел на меня, потом сказал:
– Требовать денег, перейдя на ту сторону, говорит он. Возникает вопрос: что дальше?
Что дальше? Еще один уместный вопрос. Надо устроить что-нибудь вроде тогдашней сцены у Виктории. Может быть, просто реконструировать именно это: снять площадь, персонал сделать текущими мимо пассажирами, а самому стоять лицом к ним, вытянув руки, и просить у них мелочь. Я представил себе эту картину, но она, по правде говоря, не захватила мое воображение. Реконструировать ее будет мало; тут будет чего-то не хватать, недоставать чего-то главного.
Я закрыл глаза, и передо мной тут же возник образ: образ ружья, затем – нескольких пистолетов, целая выставка, все разложены, как на диаграммах доктора Джаухари, начищены до блеска, выгнутые приклады, толстые затворы. Образ разросся: теперь все мы, я и мой персонал, стояли, выстроившись, прямо как в моем сне – фаланга в форме самолета. Мы находились на размеченной поверхности, на площадке внутри помещения, разбитой на участки, разрезанной ширмами, проходя через которые, мы оказывались по ту их сторону. Мы стояли фалангой и требовали денег, стояли по ту сторону чего-то с пистолетами в руках; вся эта сцена была глубокой, прекрасной и настоящей.
Мяч, ударивший по клетке ворот на асфальтовом поле, выбил меня обратно в реальность. Я повернулся к коротышке-советнику и сказал:
– Что дальше? Дальше я хотел бы реконструировать налет на банк.
14
Неделю спустя мы с Назом снова оказались в «Проект-кафе». Мы пришли туда на встречу с человеком по имени Эдвард Сэмюэлс. В свое время Сэмюэлс был знаменит как организатор вооруженных ограблений; равных ему в Британии по многочисленности и смелости дел было немного. Помимо бессчетных налетов на банки за ним числились и другие кражи. Он воровал предметы искусства, одежду, табачные изделия, телевизоры – и все это целыми партиями. Воровал он всегда по-крупному. Угонял грузовики и обчищал склады. Большие вещи запросто исчезали в его руках. За это он получил в преступном мире прозвище «Слонокрад»; близким знакомым якобы разрешалось сокращать эту кличку и звать его просто Слоном.
Криминальная карьера Сэмюэлса не была абсолютно безоблачной. Он дважды попадал в тюрьму, во второй раз получил одиннадцать лет, из которых отсидел семь.
В тюрьме он начал учиться. Прошел несколько школьных курсов, потом сдал несколько экзаменов по общеобразовательным предметам, стал изучать криминальную психологию. Написал автобиографию «Слон», которую ему удалось опубликовать незадолго до выхода из тюрьмы. Это и позволило Назу выйти на Сэмюэлса и устроить нашу встречу – прочитав книгу, он связался с его агентом.
Всю эту историю Наз рассказал мне, пока мы ехали на такси в ресторан. Когда он рассказывал, я представлял себе Сэмюэлса. Представлял я его себе высоким, довольно спортивным. Вышло более или менее правильно. Я узнал Сэмюэлса сразу, как только мы вошли. Это был крупный мужчина лет пятидесяти, с прямыми белыми волосами. Высокие скулы, по-своему красив. Он принес с собой экземпляр своей книги – точнее, так я решил поначалу: книга, которую я принял за его, лежала на столике прямо перед ним, но, когда я сел и взглянул на нее, оказалось, что называется она «Психопатология преступления».
– Все еще учитесь? – спросил я его.
– В университете, уже половину отучился.
Голос у Сэмюэлса был хрипловатый, простонародный, однако в нем слышалась уверенность, свойственная скорее представителю среднего класса.
– Заразился я. В тюрьме с ума сойдешь, если голову чем-нибудь не занять. Убийцам и всяким психам качалки хватает, но у кого есть хоть немного мозгов, тому лучше это время на самообразование потратить.
– А почему криминальная психология? – спросил я.
– В тюрьме были психологи, изучали нас, – Сэмюэлс крутил в руках хлебную палочку. – Ну, я и попросил одного дать мне какие-нибудь книжки почитать. Сначала он мне дал то, что предназначено для пациентов: как управлять эмоциями, как справиться с тем да сем. Недели не прошло, как я его попросил показать те, что он сам читает. Книги для психологов.
– Вроде учебников?
– Именно. Когда их читаешь, тебе как будто неожиданно дают ключ к твоему же прошлому. Чтобы ты его осознал. Если не хочешь повторять события, их надо осознать.
Подумав хорошенько над словами Сэмюэлса, я сказал ему:
– Но я же хочу повторять события.
– Назрул мне так и сообщил. Он говорит…
– А осознавать их не хочу. Это…
Мой голос затих. Появился официант. Мы с Назом заказали рыбный суп, кеджери и газированную минералку; Сэмюэлс заказал купаты из оленины и красное вино.
– Вы нас тут раньше не обслуживали? – спросил я официанта.
Он отступил на шаг и посмотрел на меня:
– Возможно, сэр. Теперь я вас запомню.
Когда он ушел, я сказал Назу:
– Разузнайте все про него, когда будем уходить. Он мне может понадобиться для чего-нибудь в будущем.
– Обязательно, – Наз безошибочно понял, что я имел в виду.
Я снова повернулся к Сэмюэлсу:
– Ну что ж… Наз проинформировал вас насчет того, что нам нужно?
– А как же. Вы мне хотите заплатить огромную сумму за советы, как инсценировать ограбление банка.
– Реконструировать, – сказал я, – да. Как, сможете нам помочь?
– Наверняка. Я недавно выступал в качестве консультанта в криминальном фильме. Но вы ведь не фильм снимаете?
– Нет, – сказал я. – Однозначно. Камер не будет – только реконструкторы, в действии.
– Но принцип такой же? Вы хотите инсценировать…
– Реконструировать, – поправил я его.
– Реконструировать, – продолжал он, – ограбление банка.
– Да, – сказал я, – верно. Но вплоть до мельчайших подробностей, таких, которые вам бы и в голову не пришло вставить в фильм. В кино есть только то, что попадает в камеру, – только фасад, столько, сколько надо, чтобы снаружи все выглядело правильно. Я хочу, чтобы все было правильно на самом деле. Досконально правильно, внутри.
– Для зрителей? – спросил он.
– Нет, – ответил я. – Для себя.
Сэмюэлс откинулся на стуле и нахмурил брови. Несколько секунд он молчал; потом спросил:
– Где?
– В складском здании возле Хитроу. Там мы воссоздадим банк, само помещение. Сделаем точную копию.
Пришел официант с напитками. Я наблюдал за тем, как он ставит их на стол. Непременно устрою какую-нибудь реконструкцию с ним, как только руки дойдут, решил я. Он снова отошел. Я откинулся на стуле, широко раскинул руки и обратился к Сэмюэлсу:
– Итак!
– Итак… – повторил он, ожидая дальнейшего разговора.
– Итак, расскажите мне про ограбления банков.
– О! Ну да; с чего же начать? – он взял другую хлебную палочку, положил перед собой. – Пожалуй, для ваших целей лучше будет, если я расскажу об их хореографии.
– Хореография? Как в балете?
– Да, вроде того. Кто где стоит, кто что делает и когда, как все двигаются – все это заранее расписано.
– Хореография, – сказал я. – Это хорошо, очень хорошо.
– Да, – согласился Наз. – Это очень хорошо.
– И притом, – продолжал Сэмюэлс, показав сперва на правый конец палочки, затем на левый: не только со стороны грабителей. Со стороны банка тоже.
– Как это? – спросил я. – Они же не знают, что должно произойти ограбление.
– А! – воскликнул Сэмюэлс. – Вот и неверно. Они не знают, когда оно должно произойти. Но пока существуют банки, будут и ограбления, это известно наверняка. Всех сотрудников банков основательно муштруют, чтобы к этому подготовить. Их действия четко запрограммированы. В каждом отделении даже вывешивают семь правил, так, чтобы всем сотрудникам было видно.
– Семь? – переспросил я.
– Первое: соблюдать спокойствие и не провоцировать грабителей. Второе: активировать сигнализационное устройство сразу же, как только это возможно будет сделать без риска. Третье: выдавать только требуемую сумму, обязательно вместе с «куклой».
– Что такое «кукла»?
– Это дополнительные деньги, которые всегда держат отдельно для передачи грабителям. Обычно они меченые, а иногда внутри бывает баллончик с чернилами, который где-то через час должен взорваться. Так вот, правило четвертое: не отвечать на звонки – если, конечно, они вам сами не велят. Пятое: не трогать записку с требованиями, если они ее вручат, и не прикасаться ни к чему из того, к чему прикасались они. Шестое: наблюдать за грабителями: голос, рост, лица, если на них нет масок. Седьмое: запомнить, в каком направлении они скрылись.
Он отпил вина, прежде чем продолжить:
– Так вот, с точки зрения грабителей важными являются первые три. Поведение сотрудников запрограммировано определенным образом, грабители это знают, сотрудники знают, что они знают, а грабители знают, что те знают, что они знают. Так что в идеальном варианте ограбление проходит по устойчивой схеме типа «действие-противодействие»: А совершает действие X, в ответ В совершает действие Y, тогда А совершает действие Z, и так и все взаимодействие разворачивается.
Объясняя это, он разломил хлебную палочку надвое, превратил одну половинку в А, а другую половинку в В. Желая продемонстрировать, как они взаимодействуют друг с другом, он менял их положение на скатерти. Мы с Назом наблюдали за ними, слушая.
– Я говорю «в идеальном варианте», – продолжал Сэмюэлс, – поскольку эта схема обеим сторонам на руку. Грабители получают деньги, а сотрудники банка остаются живы. Вся эта картина рушится, когда в нее вторгается какой-нибудь фактор, никем не предвиденный и не встроенный в схему. – Чтобы это проиллюстрировать, он поставил между двумя половинками палочки солонку. – Какой-нибудь герой прыгает на одного из грабителей – была не была; истеричка командам не подчиняется; кто-нибудь пытается выбежать на улицу…
– Как с морковкой! – воскликнул я.
– Не понял, – Сэмюэлс снова нахмурил брови.
– Это… неважно. Продолжайте.
Сэмюэлс помедлил, потом возобновил рассказ:
– Эта предопределенная схема – когда она действует, что обычно и происходит к большому облегчению обеих сторон, – сильно перевешивает в пользу банка. Но только с того момента, как сработает сигнализация. Их цель – не помешать вам ограбить банк, а запустить конвейер, который позволит полиции сцапать вас после вашего ухода. Предотвратить запуск этого конвейера вы не можете, а счет времени от момента нажатия кнопки сигнализации до прибытия полиции идет на минуты: пять, семь, иногда всего две. Ваша задача – не помешать им это сделать, а выкроить себе достаточно времени на то, чтобы попасть внутрь, обратно наружу и снова к себе прежде, чем они это сделают.
– Как этого можно добиться? – спросил я.
– С помощью шока. Видите – и тут психология. Врываешься, стреляешь на испуг, размахиваешь пистолетом – и сотрудникам до того страшно делается, что они не могут ни кнопку нажать, ничего!
Тон его изменился. Он бросил бутафорские палочки; глаза его прямо-таки сверкали, словно загоревшись от воспоминаний о том, как он врывался в банки и размахивал пистолетом. Он снова отпил вина, вытер губы и продолжал:
– Они прямо как зайчики в свете фар – застывают. Заходишь внутрь, спокойно отводишь их от окошек, заставляешь лечь. Пользуешься их шоком, чтобы создать… мостик, что ли… такое подвешенное состояние, в котором можно действовать. Небольшой анклав, дефиле.
Я посмотрел на сидевшего напротив Наза и приподнял бровь. Он кивнул, вынул свой мобильный и нажал несколько кнопок. Пришел официант с нашей едой. Купаты из оленины, заказанные Сэмюэлсом, он по ошибке поставил передо мной. Они были серые и сморщенные, как хобот слона. Я представил себе, что пытаюсь украсть слона, а потом обнести его забором, избавиться от него, так, чтобы он просто улетучился.
– Куда все девается?
– Не понял, – переспросил Сэмюэлс.
– Я… ничего. Неважно.
Какое-то время мы молча ели; потом Сэмюэлс снова заговорил:
– Значит, так: это ограбление банка, которое вы хотите реконструировать. Оно какое-то конкретное? Одно из моих?
Я положил нож с вилкой и на минуту задумался над его словами. Пока я думал, эти двое смотрели на меня. В конце концов я сказал им:
– Нет, не конкретное. Комбинация нескольких, настоящих и мнимых. Тех, что могли произойти, тех, что произошли, и тех, что могут произойти когда-нибудь в будущем.
Как раз в этот момент у Наза запищал телефон. Он пробежал курсором по тексту на экране и прочел вслух:
– Дефиле (defile). В военной терминологии – узкая тропинка, вдоль которой солдаты могут идти только узкой колонной или по одному, особ. горное ущелье или узкий проход. Дефилирование, марширование колонной. 1835 г. Тж. глагол: загрязнять, развращать. От французского défiler и среднеанглийского defoul.
– Очень хорошо, – сказал я. – Просто очень хорошо.
– Да, – откликнулся Наз. – Превосходный термин. Марширование колонной.
– Дефиле во времени, – продолжал я. – Обходной маневр.
– И это тоже, – согласился Наз.
– Что-что? – не понял Сэмюэлс.
Я повернулся к нему со словами:
– Мы вас берем.
Следующие несколько дней мы посылали людей в город на поиски банков, способных послужить нам моделью для реконструкции. Особое внимание им было велено обращать на пути доступа и побега. Хорошими местоположениями считались углы. На главных улицах обычно бывает сильное движение, способное задержать полицейские машины. Боковые же улицы относительно невелики, так что их можно перекрыть во избежание преследования, и они часто заводят в лабиринт жилых районов, что дает кучу возможностей. Близость к полицейскому участку, естественно, нежелательна. Я распорядился, чтобы на поиски банков отправилось вдвое больше людей, чем несколько месяцев назад на поиски моего здания. Их отчеты доставляли к Назу в его штаб, размещавшийся в сине-белом здании рядом с моим; результатами были утыканы карты, заполнены диаграммы и таблицы; я, как водится, не обращал на них ни малейшего внимания.
Банк, разумеется, нашел я сам. Он находился в Чизике, неподалеку от реки. Я открыл там счет. Положил на него четверть миллиона фунтов, и меня тут же пригласили на встречу с менеджером. Причины заскочить туда – сделать вклад или снять деньги, забрать карточку, занести анкету и так далее – находились у меня почти ежедневно в течение недели. По моему распоряжению Сэмюэлс, Энни и Фрэнк тоже открыли там счета и часто заходили в банк, чтобы ознакомиться со внутренней обстановкой. Наз поручил кому-то найти архитектурную фирму, в свое время перестраивавшую здание, и приобрести копию чертежей, чтобы не ошибиться в измерениях и масштабах, когда будем реконструировать интерьер. Там был каменный пол, частично покрытый ковром; я велел Фрэнку запомнить не только узор на полу, но и все имевшиеся на нем и на ковре трещины и пятна. Энни купила в магазине шпионского оборудования в Мэйфере скрытый фотоаппарат и сняла стены – объявления и плакаты на них, места, где они были прилеплены, их надорванные или обтрепанные края, – чтобы их, как и само пространство, можно было точно воспроизвести.
На сооружение копии банка внутри склада в Хитроу ушло две недели. Цепь, включавшую шину с каскадами голубой дряни, я закрыл, велев демонтировать копии магазина и кафе, вскоре после того, как решил устроить ту реконструкцию, где я даю указания своим убийцам; потом, как только принял решение реконструировать налет на банк, я забросил и ее. Однако двух водителей, исполнявших мою роль в реконструкции с голубой дрянью и шиной, мы оставили: одного в качестве реконструктора-водителя машин, на которых мы, реконструкторы-грабители, должны будем подъехать к месту действия, где его покинем, другого – вести бронированный фургон, который должен будет приехать забрать деньги, предназначенные для кражи.
Энни сфотографировала улицу перед самым банком: тротуар, отметины на нем. Рядом со зданием был крохотный тупик, где едва-едва можно было припарковать один фургон. Сюда должен был въехать наш бронированный фургон; мы несколько раз наблюдали за тем, как это проделывал настоящий. По всей длине этой улочки проходила желтая ограничительная линия. Дойдя до торца тупика, которым кончалась улица, линия закруглялась под тем же углом, что и беговая дорожка рядом с моим домом. Поначалу сотрудники городских служб нарисовали ее под прямым углом – там все еще виднелся старый, наполовину смытый первый слой краски, который шел дальше, к углам тупика, – но потом они, или, может, пришедшие им на смену через несколько лет, передумали и скруглили ее. Кто-то, должно быть, принял такое решение: то ли сами рабочие, то ли комитет дорожного хозяйства Чизика в процессе закрытого совещания в здании администрации. Как бы то ни было, Энни это сфотографировала, и мы все достоверно воссоздали: ту же кривую, тот же виднеющийся из-под нее слой, наполовину смытый.
Сэмюэлс подолгу наблюдал за банком с улицы, засекая время приездов фургона. Они их меняют, объяснил он, но если наблюдать достаточно долго, можно вычислить последовательность изменений и частоту ее повторения. Рано или поздно она обязательно начнет повторяться, сказал он мне. Это всего лишь вопрос терпения; надо ждать, пока не вырисуется картина.
– Терпение – это мне нравится, – сказал я. – Но я заметил, что вы не записываете время.
– Я все это вот сюда заношу, – он постучал себя по голове. – Потому меня и прозвали Слоном – память у меня цепкая.
– Я думал, это потому…
– И поэтому тоже. Все это у меня в книжке есть. Я вам подарю экземпляр.
Он так и сделал, однако читать ее я не стал. Был слишком занят, наблюдая, как все складывается воедино. Три недели спустя после нашей первой встречи с Сэмюэлсом в «Проект-кафе» мы были готовы начать репетировать реконструкцию. На эту репетицию требовалось много. Она, как и предупреждал нас Сэмюэлс, включала в себя столько хореографии. Тут присутствовали реконструкторы-грабители, реконструкторы-сотрудники, охранники из фургона и публика, как внутри банка, так и снаружи – всего тридцать четыре реконструктора. Это была самая смелая – с большим отрывом – изо всех предпринимавшихся мной реконструкций. И самая сложная в смысле управления информацией. Стены офиса Наза облепили диаграммы: диаграммы планирования, пошаговые диаграммы, диаграммы Вена, списки и указатели, и пояснения к диаграммам, спискам и указателям. Когда я заходил к нему туда по вечерам после репетиций, он всегда был занят: то вычерчивал еще одну, то составлял аннотацию к уже существующей, а то просто сидел за столом посреди всего этого, молча, с остекленевшими глазами, а по всей комнате стояло беззвучное эхо его бешеного жужжания.
План у нас был такой: в крохотный тупичок рядом с банком должен заехать бронированный фургон, чтобы доставить новые деньги – те, что для кражи не годятся, поскольку их ничего не стоит отследить, – и забрать инкассаторские сумки со старыми банкнотами, которые нам и были нужны. В этом фургоне поедут четверо реконструкторов. Двое из них понесут новые деньги в банк, третий будет сопровождать их до самого входа, но внутрь не войдет, а четвертый останется в фургоне. Охранники поступают так, чтобы создать непрерывные линии обзора, от помещения банка до фургона, с помощью человека у дверей: вроде того, как стервятники парят, растянувшись длинной цепочкой, в миле друг от друга, так что, если один увидит пищу и направится вниз, те, что по бокам от него в этой цепи, тоже направятся вниз, к нему, и вскоре об этом станет известно всей цепи.
Попав в здание банка, реконструкторы-охранники номер один и два должны пройти к дальнему окошку, где их впустят – через тамбур с двойными дверьми, известный среди сотрудников как «шлюзовая камера», поскольку пока не закроешь одну дверь, не откроется другая, – в защищенное бронированным стеклом помещение. Благополучно добравшись до этого помещения, они должны передать новые мешки реконструктору-кассиру, который вслед за этим выпишет им квитанцию; они тем временем будут ждать, пока мешки со старыми банкнотами, хранящиеся внизу, в подвале, поднимут на уровень первого этажа на небольшом электрическом лифте.
Вся эта операция должна была происходить не на виду у зала обслуживания. Правда, имелась одна точка, откуда все было видно. Мы поставили реконструктора-сообщника в очередь к окошку информации; как только увидит, что лифт с деньгами пришел, он должен выйти из банка. Это у Сэмюэлса называлось «маяк» – сигнал реконструкторам-грабителям, что пора включаться в действие.
Мы должны будем ждать в двух машинах, припаркованных по разные стороны улицы. Первая должна подъехать и остановиться напротив въезда в тупичок, заблокировав бронированный фургон. Трое из нас должны выбежать из этой, еще трое – из другой машины, и все мы одновременно направимся к банку. Реконструктор-грабитель номер один должен швырнуть реконструктора-охранника номер три на пол и занять его место, держа дверь нараспашку, чтобы выстроить нашу собственную цепь обзора, как у стервятников. Реконструкторы-грабители номер два, три и четыре должны вбежать в зал банка и образовать фалангу; при этом номер два выстрелит «на испуг» из своего дробовика в потолок, затем опустит ружье, направит его на реконструкторов-сотрудников банка и велит им отойти от своих окошек, в то время как номер три также направит на них ружье. Тем временем реконструкторы-грабители номер пять и шесть должны пройти вперед и разбить двери шлюзовой камеры с помощью кувалд. Когда они окажутся внутри отсека, защищенного бронированным стеклом, к ним присоединится номер три, который, пока номер два держит под прицелом реконструкторов-сотрудников и клиентов, поможет им вынести из банка мешки – по одному на каждого, три больших мешка, которые надо держать обеими руками впереди живота, – а под конец номер четыре присоединится к номеру один у дверей, эти двое выйдут вслед за остальными, и все удерут на двух машинах. Вся сцена ограбления должна была длиться не более девяноста секунд.
Мы проиграли ее бесчисленное число раз. В начальных прогонах у нас все ходили с метками на спине: Г1, Г2 и так далее у грабителей, С1 и так далее у сотрудников, номера с буквой П у членов публики. Мы все походили не то на марафонцев, не то на участников конкурса бальных танцев. Мы то добавляли кое-что, то кое-что убирали. Например, когда грабитель номер пять в первый раз шел по залу со своим мешком, он споткнулся о дефект на ковре и упал. Все засмеялись, а я сказал:
– Всегда так делайте.
– Что, падать?
– Нет, просто спотыкайтесь, но до конца не падайте.
Я рассчитал, что, если он намеренно будет слегка спотыкаться, это предотвратит спотыкание по ошибке – так сказать, предвосхитит подобное событие. После еще нескольких прогонов дефект разгладился. Я велел Фрэнку подсунуть под ковер кусочек дерева, чтобы получился выступ, – пусть грабитель номер пять полуспотыкается каждый раз. Еще одной деталью, которую я подправил, был момент, когда сообщник, стоявший в очереди к окошку информации, покидал банк, – включение «маяка». На репетициях в первые несколько дней он просто делал шаг в сторону, поворачивался и уходил. Выглядело это неуклюже. Я чувствовал, что можно сделать лучше, но не вполне понимал, как. Спустя неделю меня осенило, и я сказал:
– Это надо делать, как тайт-энд.
– Чего? – переспросил реконструктор.
– Тайт-энд в американском футболе.
После аварии я часто смотрел американский футбол по телевизору, в больнице, поздно ночью, когда не мог уснуть. Он оказывал на меня гипнотическое действие – то, как фигуры на поле, выстроенные в бесконечно повторяющиеся статичные ряды, включались в игру по условным сигналам тренеров, подаваемым с боковых линий. Иногда сигнализировали даже двое, один подавал ложные сигналы, чтобы запутать дешифровальщиков команды противника.
– Это тот, который мяч бросает? – спросил меня реконструктор-сообщник.
– Нет. Это квотербек. Тайт-энд – это тот, который играет на линии, но имеет право еще и принимать мяч. Поэтому он часто размещается там же, где и остальные, когда они ждут, присев. А потом, перед самым началом игры, перед подачей-снепом, он от них отделяется и бежит позади других лайнменов, параллельно им. Я хочу, чтобы вы вот так выходили из очереди. Не бегом, естественно, но чтобы отделялись таким же образом.
– О'кей.
Мы попробовали. Выглядело это прекрасно.
Еще недели через две без малого, когда мы отработали большинство движений, реконструкторам-грабителям номер пять и шесть было велено разбивать двери шлюзовой камеры по-настоящему. Ломать их было нелегко. Наблюдая за тем, как они разбивают первую, затем перемещаются в пространство между дверьми, затем разбивают вторую и двигаются дальше, я представлял себе полярных исследователей, передвигающихся по льду, или альпинистов: как им приходится закрепляться в каждом новом положении, сколь бы малое продвижение вперед оно ни гарантировало, и лишь потом переходить в следующее. Еще мы пользовались настоящими ружьями. Наз раздобыл несколько дробовиков – из тех, какими пользуются для стрельбы по фазанам. Настоящие ружья нам требовались для момента, когда реконструктор-грабитель номер два стреляет «на испуг». Стрелял он в потолок, и оттуда падали кусочки штукатурки. Когда я впервые их увидел, то вспомнил Мэттью Янгера, как на него упали хлопья штукатурки, когда он приходил ко мне в дом, когда там все устраивали. Странно, но, придя тем вечером домой, я обнаружил на автоответчике сообщение от него.
– Свяжитесь со мной, пожалуйста, – говорилось в записке. – Ваши акции взлетают, однако риск достиг уровня практически недопустимого, и у меня имеются сомнения по поводу общей устойчивости этого сектора. Звоните мне на работу или во внерабочее время по телефонам…
Слушая его голос, я думал о том, что сказал мой коротышка-советник: что я источаю магию, словно шаман. Возможно, Мэттью Янгер позвонил мне и оставил сообщение в тот самый момент, когда падала штукатурка. Этого я никогда не узнаю. Правда, с коротышкой-советником я действительно встретился; на следующий день он появился в воспроизведенном банке.
– Совсем как он говорил – тогда, у футбольного поля, – сказал он. – Налет. Он будет инсценировать ограбление банка.
– Да, – сказал я. – Реконструировать.
– И снова, и снова реконструировать, надо полагать, – продолжал он. – При том, разумеется, что его конечная цель – как бы тут выразиться? Достичь – нет, примкнуть к некой подлинности посредством этого странного, бессмысленного резидуала.
Тут мне как раз пришлось занять свое место – я был реконструктором-грабителем номер три, – но когда мы снова отрепетировали операцию, я пошел его искать, чтобы спросить, что он имел в виду под «резидуалом». Он уже два раза использовал это слово. Однако найти его я не смог.
Следующие пару прогонов я решил побыть в стороне. Я поставил вместо себя идентификатор – одного из запасных реконструкторов, – отошел и стал наблюдать. Все выходило очень хорошо. То, как нога грабителя номер один, чуть согнутая, придерживала дверь открытой; то, как двигалось, описывая дугу по залу, ружье грабителя номер два, стоявшего во внутреннем дверном проеме, в то время как грабитель номер три делал то же самое, но быстрее и находясь при этом в центре помещения, – словно вторая и третья стрелки часов, слегка разнесенные; то, как сообщник-тайт-энд поворачивался, отделяясь от очереди, наклоняя плечи так, что левое было немного ниже правого, а потом снова выпрямляя их; вид служащих, посетителей и охранников, лежавших на полу в горизонтальном положении, статичных и жалких, – во всех этих движениях и позициях была интенсивность, распространявшаяся далеко за их пределы. Стоя и наблюдая за ними, я почувствовал, как у основания позвоночника снова начинается знакомое покалывание.
Подошедший Сэмюэлс некоторое время стоял рядом со мной, наблюдая, как реконструкторы отрабатывают свои тесно переплетенные комбинации.
– Мы тоже, бывало, так делали, – сказал он через какое-то время.
– Делали что?
– Прогоны. Имитации. Перед каждым крупным ограблением. Мы не просто на бумаге разбирали – мы еще и репетировали, как сейчас.
Я повернулся и посмотрел на него.
– Вы хотите сказать, что заранее реконструировали ограбления? – недоверчиво спросил я.
– Ну да, я же говорю. Только, пожалуй, не реконструировали – преконструировали. А так да, конечно.
Я серьезно задумался над его словами. От этого у меня начала кружиться голова. Подойдя к Назу, я сказал, что хочу поехать домой.
– Что? – переспросил он, сосредоточенно уставившись в пространство.
– Мне надо домой, – повторил я.
Он еще несколько секунд смотрел, не отрываясь, прямо перед собой; в конце концов повернулся ко мне со словами:
– А, да. Я распоряжусь, чтобы вас отвезли обратно.
Через час я снова лежал у себя в ванне, глядя на трещину на стене. Снизу долетала фортепьянная музыка. Клубы пара, поднимавшегося из ванны, напоминали картины налета на банк: дуги ружей, полуспотыкание на выступе. Я по-прежнему размышлял над тем, что сказал Сэмюэлс. Я попытался распланировать все это на поверхности воды: одно скопление мыльной пены превратил в здание – дубликат банка в Хитроу, вместе с нашими в нем упражнениями; другое сдвинул влево и превратил в банк в Чизике – настоящий банк, который послужил нам моделью для копии; образовав третье, я сдвинул его вправо и превратил в те места, где Сэмюэлс со своей бандой когда-то, прежде чем брать банки, репетировал повороты, и прицелы, и выходы – все эти преконструкции. Я долго лежал и наблюдал за тремя скоплениями пены, сравнивая их. По прошествии времени я накрыл руками скопления справа и слева от первого и снова подтянул их к центру ванны, соединив все три вместе.
Пока я этим занимался, меня посетило прозрение. От него меня тряхнуло, чуть ли не пронизало током, как будто вода наэлектризовалась. Я выскочил из ванны, нагишом вбежал в гостиную, сорвал с аппарата трубку и набрал телефон Наза.
– Я уже в офисе, – сказал он. – Я начал записывать, где находятся объекты и люди второго ряда. Те, что не участвуют в реконструкции напрямую: вещи вроде журнального столика и лестницы. На случай, если вы в будущем решите реконструировать подготовку. Мы можем…
– Наз! Послушайте! Наз!
– Что?
– У меня есть идея, – подавившись, я почувствовал вкус мыла. Я был до того возбужден, что почти не мог говорить. – Я хотел бы, – продолжал я, – перенести реконструкцию налета на банк в настоящий банк.
Последовала пауза, потом Наз сказал:
– Это хорошо. Да, очень хорошо. Я займусь организацией, поговорю с банком.
– Организацией? Какой организацией?
– Чтобы обеспечить помещение. Естественно, нам придется делать это в воскресенье. Или в выходной.
– Нет! Не надо получать у них разрешение.
– Не понимаю. Я думал, вы только что сказали, что хотите сделать это в банке. В банке, который мы взяли в качестве модели, в Чизике, так?
– Так! Но я не хочу, чтобы они знали, что мы собираемся это сделать. Мы просто сделаем это, нашу реконструкцию, прямо там, в банке, и все!
– А как же сотрудники? Нам придется заменить настоящих сотрудников реконструкторами.
– Нет, не придется! – сказал я ему. – Мы просто уберем наших реконструкторов-сотрудников и используем настоящих.
– Но откуда они узнают, что это реконструкция, а не настоящее ограбление?
– Они не узнают! Но это неважно; они ведь обучены делать в точности то, что обучены делать реконструкторы. И те, и другие должны реконструировать одни и те же движения абсолютно одинаково. Наз! Вы слушаете?
Последовала долгая, долгая пауза. Когда Наз наконец заговорил, голос его был очень глубоким и очень медленным.
– Это замечательно, – сказал он. – Просто замечательно.
15
Наз согласился. Разумеется. Сейчас, если пораскинуть, как говорится, задним умом, кажется странным, что он не попытался меня отговорить или оборвать наши профессиональные взаимоотношения – просто уйти, бросить, и все. Согласившись с моим решением, он поставил под угрозу все, что у него было: свою работу, будущее, даже свою свободу. По закону задуманное нами квалифицировалось как ограбление банка. Двух мнений тут быть не могло. В глазах сотрудников, посетителей и прохожих, полиции это не будет представлением, имитацией, воспроизведением; для них это будет налет – простой, обыкновенный, чистейшей воды. Ограбление банка.
Да, сейчас, если посмотреть со стороны, это кажется странным; но если мысленно вернуться обратно, к моменту, когда мы находились внутри того времени, составляли с ним одно целое, странным это вовсе не кажется. Еще до того, как Наз решился на это пойти, его организационный талант воспалился, раздулся до размеров одержимости, граничившей с исступлением. Когда мне случалось проснуться рано утром и взглянуть из окна моего дома в сторону его, я видел горящий там тусклый свет и понимал, что он работает, склонившись в одиночестве над своими данными, будто некий монах-гностик, что трудится не покладая рук при масляной лампе, переписывая священные тексты. Вид у него был нездоровый, больной от недостатка сна. Щеки стали бледными, желтушными. Он, как и я, пристрастился – правда, к другому наркотику. Эта последняя схема, с ее сложными переплетениями, с ее высочайшими ставками, обеспечивала ему дозу более совершенную, более качественную, чем прежде. Нет, перед тем, как отдать приказ, я не останавливался, чтобы подсчитать вероятность положительного отклика, – мне это и в голову не приходило; но если бы пришло, если бы я был в состоянии остановиться и подсчитать, то по размышлении понял бы, что он, вне всякого сомнения, согласится.
А я? Почему я решил перенести реконструкцию ограбления в сам банк? По той же причине, по которой делал все, что делал, начиная с вечеринки у Дэвида Симпсона: чтобы быть настоящим, чтобы стать свободным, естественным, срезать кружной путь, который увлекает нас в обход главного, мешает нам прикоснуться к сердцевине событий, – кружной путь, который превращает нас во вторичных, во второсортных. Я чувствовал, что уже совсем близок к цели. Наблюдая в тот день за движениями реконструкторов во время репетиции, за дугами, которые описывали их ружья, за поворотом их плеч, за позами лежащих ничком посетителей и служащих – наблюдая за всем этим, ощущая, как вверх по позвоночнику снова пробегают знакомые мурашки, я чувствовал, что вплотную подхожу к ней, к этой сердцевине. Я преследовал ее месяцами, крадучись, точно так же, как до того преследовал мой дом; преследовал, вооружившись небольшим арсеналом уловок и денег, силы, пассивности и терпения, двигался по ветру, встречая на пути многочисленные следы и закономерности, шел от реконструкции к реконструкции, оттачивая и заостряя свое умение, – и наконец почуял добычу. Теперь мне надо было совершить решающий бросок.
Но для этого требовался гениальный скачок – скачок на новый уровень, такой, что содержал бы в себе, поглотив без остатка, все уровни, на которых я действовал до сих пор. Слова Сэмюэлса о прогонах, брошенные невзначай, открыли передо мной выход на этот другой уровень; я продвинулся туда, наверх, когда сгреб вместе три скопления мыльной пены, благодаря этому действию и последовавшему за ним прозрению. Да, вынуть реконструкцию из специально обозначенной зоны и поместить обратно в мир, в реальный банк, сотрудники которого не знают, что это реконструкция, – это вернет мои движения и жесты на исходную позицию, к исходному моменту, в точку, где реконструкция сливается с событием. Это позволит мне проникнуть в сердцевину и жить внутри нее, быть совершенным, идеальным, настоящим.
Таким образом, наши с Назом цели совпадали. Я был нужен ему настолько же, насколько он был нужен мне. А он мне был действительно нужен, больше, чем когда бы то ни было. Для того, чтобы моя реконструкция оправдалась – чтобы создать дефиле, о котором говорил Сэмюэлс, это пространство, как у спортсменов, где мы могли бы перемещаться и делать свое дело, – нам надо было скоординировать все абсолютно идеально. На повторный шанс надеяться не приходилось; никакие мелкие несинхронности, никакие выскальзывающие мусорные мешки, протекания на пол и падающие коты – и уж ни в коем случае никакие прогулы или использование кассет взамен – не допускались. И потом, обязательно было не только полностью контролировать движение и материю – каждую поверхность, каждый жест, все до последнего полуспотыкания на выступе ковра, – обязательно было еще и контролировать информацию. К информации нам следовало относиться так же, как к материи: предотвращать ее утечку, просачивание, протекание, капание, называйте как хотите: проникновение не туда и превращение в хаос. Именно на этом попадаются грабители банков, которым удается, не наследив, убраться с самого места ограбления. Сэмюэлс уже рассказывал нам о таком: кто-то с кем-то поговорил, тот рассказал кому-то еще, тот рассказал своей подружке, та рассказала трем своим друзьям, ну, а вскоре это становится известно всем и рано или поздно доходит до ушей полиции.
– Если бы наш налет был настоящим, – объяснял мне Наз, когда мы как-то вечером сидели у него в кабинете, в окружении его диаграмм, – я имею в виду, обычным, в деле было бы замешано восемь человек: пять грабителей, двое водителей и тот, кто отвечает за «маяк».
– Сообщник-тайт-энд, – сказал я.
– Верно. Но в нашей операции участвуют тридцать четыре основных реконструктора, плюс шесть непосредственно задействованных ассистентов – те, которые все время должны там находиться; правда, необходимость в этих последних отпадет с того момента, когда место действия будет перенесено в настоящий банк, – как, разумеется, и в двадцати семи из основных реконструкторов. Хотя говорить, что «необходимость в них отпадет», не вполне правильно, поскольку нужно, чтобы они продолжали считать, что останутся необходимыми до самой последней минуты. Итак, с учетом этих тридцати четырех, плюс шесть, плюс одиннадцать ассистентов второго ряда и еще двадцать восемь (по заниженным оценкам) – третьего: поставщики питания, строители, таксисты – по сути, все, кто бывал на складе больше одного раза, – с учетом их всех нетрудно себе представить, что, поставь мы в известность хотя бы нескольких из этих людей за пару следующих дней, вероятность утечки информации практически равна ста процентам.
– Ну, значит, мы им просто не скажем. Никому из них.
– А: так не получится, – ответил Наз. – Водителям надо будет выучить маршруты побега, а также – на случай, если первые маршруты будут заблокированы – вторичные маршруты, третичные и так далее. Б: само по себе это составляет только половину проблемы – нет, одну треть. Помимо внешней утечки как до, так и после операции, существует внутренняя утечка – состоящая в том, что реконструкторам станет известно о перемене плана, – защита от которой тоже необходима. И потом, существует боковая утечка. Посмотрите: у меня тут изображено.
Он указал на диаграмму со скоплениями стрелок вокруг трех кругов. Мне снова представились скопления пены в ванне, как я разъединил их, а затем соединил.
– Под боковой утечкой я понимаю утечку, происходящую между различными группами персонала: реконструктор – реконструктор, реконструктор – ассистент, ассистент – ассистент второго ряда и так далее. Перестановок тут множество.
– Так что же нам делать? – спросил я его.
– Значит, так, я подразделил всех участников на пять категорий по принципу ЧНЗ или «что надо знать». Внутри каждой категории требуется принять решение по двум вопросам: сколько человеку надо знать и когда ему это надо знать…
В этом духе он продолжал целую вечность. Я отключился и с головой ушел в кривые и стрелки диаграмм, прослеживая в них дуги и пируэты, входы и маршруты побега, дефиле. Когда лекция Наза подошла к концу, было уже светло. В итоге, кажется, выходило, что структура ЧНЗ подобна пирамиде: наверху, в первой категории, мы с Назом; под нами, во второй, двое реконструкторов-водителей, в следующей – пятеро других реконструкторов-грабителей и так далее, каждый слой шире предыдущего. Слой номер два следовало проинформировать о смене места действия прежде других слоев. Слою номер три можно было сообщить в последнюю минуту, причем даже тогда не сообщать, что настоящие сотрудники банка не будут знать, что это реконструкция; не сообщать даже, что это настоящие сотрудники банка. Мы просто скажем, что привлекли новых реконструкторов-сотрудников, публику и охранников, чтобы все выглядело более свежо, более реалистично. Что касается слоя номер четыре…
– Хорошо, – сказал я. – Как хотите. Поехали обратно на склад.
Мне не терпелось снова за все это приняться: снова движение, дуги в размахе, отделяющиеся плечи. Когда мы добрались, я объявил:
– Теперь ко всей сцене мы добавим кое-что новое. Будем репетировать, как мы садимся в машины и отъезжаем.
– Вот как? – сказал Сэмюэлс.
– Да. Немного расширим.
Следующие два дня он ставил хореографию этого эпизода: кто к какой машине бежит; которая трогается первой; каким образом одна, разворачиваясь, на мгновение притормаживает посередине дороги, чтобы заблокировать движение, давая возможность другой рвануть наперерез в переулок. Места, где начинались эти улицы, мы разметили краской, продолжив аккуратно скопированную разметку, нанесенную нами прежде, выходящую из широкого складского входа, из дверей ангара наружу, на бетонную аэропортовскую площадку. Я хотел, чтобы разметка была сделана как можно аккуратнее: белый пунктир, означающий «уступи дорогу», желтые линии. Там было это здоровое темное пятно на бетоне – видимо, пролили моторное масло или гудрон еще до нас; оно было полутвердым, словно черная плесень, или небольшой нарост, или родимое пятно, проросшее из поверхности земли. Я велел людям Энни убрать его, соскрести. В Чизике на дороге масляного пятна не было. Они накинулись на него, вооружившись щетками, потом лопатами, потом всевозможными химикалиями, но оно не поддавалось. На третий день прогонов сцены побега, после того, как я поставил вместо себя идентификатор, чтобы понаблюдать за всем этим со стороны – как машины разворачиваются, останавливаются, едут наперерез, возвращаются кругом, – это темное пятно все цепляло мое внимание, когда машины проезжали мимо него. Меня это раздражало. Я вспомнил кое-что, услышанное на днях от коротышки-советника, и подозвал Наза.
– Что? – спросил он.
– Скажите, пусть найдут в словаре слово «резидуальный».
– Резидуальный?
– Ре-зи-ду-аль-ный.
Наз отстучал на своем мобильном сообщение и встал рядом со мной, наблюдая за тем, как машины разворачиваются и едут наперерез. Его глаза, все такие же запавшие, темно светились. Через некоторое время он произнес:
– Потом нам придется исчезнуть.
– Исчезнуть?
Я взглянул на небо. Оно было голубое. Стояла ранняя осень, день был ясный, безоблачный.
– Как это – исчезнуть?
– Убраться. Замести следы. Нам следует уничтожить все остатки нашей деятельности здесь, а самим вместе со всеми реконструкторами убраться подальше.
– Куда же мы все денемся?
– Устроить это весьма непросто. Существует несколько…
Как раз в этот момент запищал телефон. Пролистав список опций, он прочел:
– Остаточный. В медицине: сохранившийся после перенесенного заболевания, приступа.
– Остаток – как та половина, – сказал я. – Осколок.
– В математике: оставшийся после вычитания. В химии: остаточный (о содержании элемента), примесный. В экономике: резидуальный доход – постоянный, пожизненный доход физического лица, являющийся побочным, не требующий дальнейших вложений труда и капитала. Резид…
– Наросший.
– Что?
– Продолжайте.
– Резидуальный период. Резидуальный фильтр. Резидуальная погрешность измерений.
– Это потому, что время года другое. Только он не так его употреблял.
– Кто?
– Коротышка-советник. Он употреблял его как слово типа… в общем, типа предмета.
– Существительное, – сказал Наз. – Какой коротышка-советник?
– Да, правильно – существительное. Этот странный, бессмысленный резидуал… И произносил он его не так: у него выходило «ц», а не «з». Ре-ци-ду-ал. Скажите, пусть поищут такое написание.
– Какое написание?
– Ре-ци-ду-ал.
Наз снова что-то отстучал на мобильном. Я отвернулся, опять взглянул на небо. Где-то в миле от нас, на основных полосах выруливали, разворачивались и взлетали самолеты, эти громадные стальные ящики, битком набитые людьми и их барахлом: стонали, покрывались мурашками, вытягивая руки вперед ладонями кверху и поднимаясь ввысь. Самолеты, взлетевшие раньше, превращались в точки; те зависали на время в воздушной дали, прежде чем исчезнуть. Я вернулся мыслями к моей лестнице, потом к реконструкции с шиной и каскадами липкой жидкости, которую мы устраивали тут же, на складе. Я велел Энни и Фрэнку придумать что-нибудь, какое-нибудь приспособление, которое не давало бы голубой дряни падать на меня, а наоборот, заставляло бы все частицы подниматься кверху, сливаться с небом, исчезать. Фрэнку пришло в голову пропускать ее через трубку, чтобы она шла к потолку, а затем через крышу, преобразуясь в облако капель.
– Можно и так, – сказал я.
– Что такое? – переспросил Наз.
– Всем испариться и разбрызгаться кверху. Когда нам придется, как вы сказали, исчезнуть. Уничтожить следы и все такое.
В его глазах появилось отсутствующее выражение, а в глубине зажужжала та штука. Над нашими головами пролетел еще один самолет, стонущий, покрывшийся мурашками.
– Или просто сесть на самолет. Чтобы убраться подальше.
Наз напрягся всем телом. Он абсолютно застыл, его мускулатура приостановилась на то время, пока вся энергия организма уходила на вычислительную часть. Через некоторое время физическая часть снова включилась, и он произнес:
– Самолеты – это очень хорошая мысль.
Подумав еще немного, он добавил:
– Два самолета. Нет, три. Нам придется отделить реконструкторов, которые были в банке, от остальных. Им нельзя смешиваться, пока они не сядут в самолет.
– Отлично. Как скажете.
– И потом… – начал Наз; раздался писк телефона. Взглянув на него, Наз сунул его обратно в карман и продолжал: – И потом, нам придется также отделить…
– Это насчет словаря? – спросил я. – Что они говорят?
– Слово не найдено.
– То есть как – не найдено?
– «Рецидуал» – слово не найдено, – повторил он.
У меня начала кружиться голова.
– Оно должно там быть. Ре-ци…
– Я так и написал, в точности как вы мне сказали. Они говорят, слова «рецидуал» в словаре нет.
– Ну, так велите им, пускай найдут словарь побольше! – мне было уже не на шутку плохо. – А если увидите там этого коротышку-советника…
– Какого коротышку-советника?
Я прислонился к наружной стене здания – копии банка, к белой каменной плите. Камень был ни теплый, ни холодный; поверху шел зернистый слой, как бы соскальзывавший со сплошного камня под ним. Поблизости разворачивались и ехали наперерез машины.
– Я хотел бы… – начал я. – Наз…
Наз не обращал на меня внимания. Он стоял совершенно неподвижно, гладя вдаль, за взлетные полосы. К счастью, именно в этот момент подошел Сэмюэлс, обхватил меня за талию и поддержал.
– Вам домой надо, – сказал кто-то.
Меня отвезли назад, в мой дом. Наз пришел через несколько часов, посреди ночи. Выглядел он ужасно: с землистыми щеками, осунувшийся.
– Нашли? Ну что? – спросил я его.
– Существует только один способ… – начал он.
– Какой один способ? Какое отношение это имеет…
– Только один способ остановить утечку информации. Чтобы быть абсолютно уверенными.
– Да, но как же «рецидуал»?
– Нет, это важнее. Послушайте…
– Нет! – я сел на диване. – Это вы послушайте, Наз: что важнее, решаю я. Рассказывайте, что они нашли.
Его взгляд на пару секунд уткнулся в точку где-то поблизости от моей головы. Я видел, как он прокручивает только что сказанное мной через свою систему проверки данных и приходит к выводу, что я прав: что важнее, решал действительно я. Без меня – ни планов, ни ЧНЗ-диаграмм, ничего. Он склонил голову набок, сунул руку в карман, вытащил мобильный и сказал:
– Они нашли похожие слова, но не это. Смотрели в полном двенадцатитомном словаре. Зачитать вам, что они нашли?
– Конечно!
– Реципиент – государство, физическое или юридическое лицо, получающее к.-л. платежи, доходы. Рецидив – возврат, повторение после прекращения болезни, преступления…
– Мэттью Янгер считает, что я подвергаюсь слишком высокому риску, – сказал я. – Но риск – это хорошо. Как вообще все это могло бы произойти, не подвергнись я риску?
– Рецидивист – тот, кто совершает повторное преступление. Рецидивный – относящийся к… и так далее. Но это все. «Рецидуала» нет. – Наз положил мобильный обратно в карман и начал снова: – Мне нужно обсудить дело чрезвычайной…
– По-моему, это может быть что-то связанное с музыкой. Рецидуал. А! Позвоните моему пианисту. Он должен знать.
– Позвоню после того, как мы покончим с этим делом, которое я должен с вами обсудить. Это жизненно важный вопрос. Я понял, что есть только один способ наверняка…
– Нет. Сейчас же позвоните!
Наз снова помедлил, понял, что у него нет другого выхода, кроме как подчиниться, встал и позвонил куда требовалось. Через пять минут мой пианист был в моей гостиной. Один пучок волос у него был примят, а другой торчал из виска вбок. Глаза у него были припухшие, один запекся спросонья. Он медленно прошаркал вперед, потом остановился в трех-четырех ярдах от меня.
– Что такое «рецидуал»? – спросил я у него.
Он мрачно уставился на ковер и ничего не сказал. Однако я видел, что он расслышал мой вопрос, поскольку его лысая макушка побелела сверху.
– Рецидуал, – повторил я. – Это наверняка что-то, связанное с музыкой.
Он продолжал молчать.
– Вроде всяких capriccioso, – продолжал я, – con allegro – знаете, как на полях пишут. Композиторы. Или тип произведения, название, как бывает концерт, соната; а тут рецидуал.
– Бываед ресидадиф, – печально пробормотал мой пианист.
– Что?
– Бывает речитатив, – произнес он своим нудным, монотонным голосом. – В опере. Recitatif. Recitativo. Когда наполовину поют, наполовину говорят.
– Это хорошо, но…
– Или резонанс, – продолжал он, и его лысая макушка побелела еще больше.
– Резонанс, – повторил я. – Да.
Я поразмышлял об этом. В конце концов мой пианист спросил:
– Мне можно идти?
– Нет. Останьтесь.
Я продолжал неотрывно смотреть на его макушку, дожидаясь, пока все вокруг сольется с ее белизной. Смотрел я долго. Как долго, не знаю – я потерял счет времени. В конце концов его не стало; моим вниманием пытался завладеть Наз.
– Что? Где мой пианист?
– Послушайте, – сказал Наз. – Есть только один способ.
– Какой один способ?
– Один способ добиться наверняка, чтобы утечки информации не было.
– А, опять…
– Единственный способ, – голос Наза стал тихим, начал подрагивать, – это устранить каналы, по которым она может утечь.
– В каком смысле – устранить?
– Устранить, – снова сказал он.
Голос его дрожал так сильно, что напомнил мне ложки в этой игре, бег с яйцом, как они дрожат и гремят, – так, словно задача донести то, что он хотел сказать, была непосильной. Он все еще дрожал, когда Наз опять заговорил:
– Убрать, изъять, заставить испариться.
– А, испариться. Легкое облачко, да. Это мне нравится.
Теперь Наз смотрел на меня в упор. Казалось, его глаза вот-вот лопнут.
– Я могу это устроить, – теперь его голос превратился в хрип.
– Ну и отлично, давайте.
– Вы понимаете?
Я посмотрел на него, силясь понять. Он может устроить так, чтобы каналы испарились. Каналы – значит, люди. Он снова заговорил, более медленно.
– Я… могу… это… устроить, – прохрипел он снова.
Капли пота у него на висках увеличивались. Испариться, подумал я, Наз хочет заставить этих людей испариться. Я снова представил себе, как их пропускают через трубку и подбрасывают кверху, как они становятся облаком, сливаются с небом. Сперва я подумал о тех реконструкторах, которые будут со мной в банке, представил себе, как они дематериализуются, делаются голубыми, невидимыми, пропадают. Они испарятся первыми. Но дальше идут другие, те, кого отстранили; им тоже придется испариться. А дальше…
– Сколько каналов вам понадобится заставить испариться? – спросил я.
Он посмотрел на меня в ответ, бледный, возбужденный, больной, и прохрипел:
– Все. Всю пирамиду.
Я снова взглянул на него, попытался понять и это. Вся пирамида – сюда входили не только реконструкторы, сюда входили и все ассистенты: Энни, Фрэнк, их люди и люди, которые осуществляли связь между их людьми и людьми других людей. И второстепенные ассистенты тоже: электрики, плотники и поставщики питания.
– Всех их! – воскликнул я. – Каждого! А как же вы…
– Когда они будут в воздухе, – голос Наза по-прежнему хрипел. – Мы поднимем их всех в воздух – всех, до последнего члена вашего персонала, – и тогда…
– До последнего члена! Это значит, мою хозяйку печенки и моего пианиста! И моего мотоциклиста-любителя, и мою неинтересную пару, и мою консьержку тоже!
– Это единственный способ, – повторил Наз. – Мы поднимем их всех на самолете, и тогда…
Он замолчал, но глаза его по-прежнему смотрели на меня в упор, пытаясь удостовериться, что я понимаю смысл его слов. Я отвернулся и мысленно увидел, как самолет взрывается и преобразуется в облако.
– Ух ты! – произнес я. – Красота.
Я снова мысленно увидел эту картину: самолет стал подушкой, которая распоролась, и наружу, сливаясь с воздухом, хлынула ее начинка из перьев.
– Ух ты! – прошептал я.
Я увидел самолет в третий раз: на этот раз он раздулся, раскрылся, словно цветок, который прорывается сквозь свою внешнюю оболочку и разлетается миллионами крохотных брызг пыльцы, превращаясь в свет.
– Ух ты! Вот это красота, – произнес я.
Какое-то время мы сидели молча, Наз потел, его распирало, я снова и снова и снова прокручивал в голове эту картину. Наконец я повернулся к нему со словами:
– Да, отлично. Давайте.
Наз поднялся и пошел к двери. Я велел ему перевести дом в режим «включено»; он ушел; я забрался в ванну.
Там я пролежал остаток ночи, представляя себе взрывающиеся самолеты, раскрывающиеся цветы. Я был счастлив – счастлив, что увидел такой прекрасный образ.
Я слушал, как ноты у пианиста бежали, спотыкались, шли по кругу, слушал, как скворчала печенка, слушал неясное электрическое гудение телевизоров, пылесосов и вытяжек. Слушал, и меня охватывала нежность – еще несколько раз, и всему этому настанет конец. Моя пирамида была подобна пирамиде фараона. Фараоном был я. Они, все остальные, были моими верными слугами; моей наградой им было разрешение сопровождать меня на первом отрезке моего прощального путешествия. Наблюдая, как от воды идет пар, вверх, мимо трещины, я представлял себе моих людей: поднятые в воздух, абстрагированные, обрамленные, словно святые на церковных витражах – каждый вечно исполняет свою собственную роль. Хозяйка печенки рисовалась мне ярко раскрашенной и двумерной, слегка наклонившейся вперед, опускающей мешок с мусором; пианист – сидящим в профиль за роялем, репетирующим; мотоциклист-любитель – плоским, стоящим на коленях, возящимся со своим мотором. Ассистенты рисовались мне обрамленными, с яркими переговорными устройствами и яркими планшетами в руках, одетыми в яркую, разноцветную спецодежду; выпускатели котов воссоединились с котами, которых они отправили туда прежде; участники массовки парили по краям, будто хор херувимов. Все это я представлял себе ночь напролет, лежа в ванне, наблюдая, как поднимается – испаряется – пар.
Наз зафрахтовал самолеты: огромный для всех остальных и крохотный реактивный, частный – для нас. Он что-то сказал им, неважно, что: слою номер два одно, слою номер три другое, слою номер четыре – еще что-то и так далее, рассчитав, чтобы каждая из его историй вписывалась в остальные, чтобы поведение группы Б с точки зрения группы Г не противоречило истории номер четыре, а банк знаний группы В, столкнувшись с историей номер два, не перетек в банк группы А и не закоротил поведение этой группы по отношению к… и так далее, и так далее. Каждый аспект был предсказан и предвиден; конечной целью было посадить их всех в самолет прежде, чем станут видны трещины в истории (основная нить легенды включала в себя поездку в Северную Африку, некий проект в тех краях, очередную реконструкцию, суммы настолько громадные, что никто не смог бы отказаться), поднять их всех в воздух, чтобы испарились, распылились. Он потихоньку убегал на потайные встречи с сотрудниками аэропорта, с ирландскими республиканцами или с мусульманскими фундаменталистами, или бог знает с кем, а когда возвращался, вид у него был, как всегда в последнее время, бледный, безумный, целеустремленный.
Я за всем этим не следил – это было не нужно да и ни к чему; я был полностью поглощен нашими репетициями, маршрутами и передвижениями, дугами, фалангами и линиями, отделением, подрезанием, остановками, поворотами назад. Побег мы отрепетировали столько раз, что от шин на асфальте остались несмываемые следы, прямо как от шин «Фиесты» в другой реконструкции, в той, с каскадами голубой дряни. Рядом с ними по-прежнему виднелось черное пятно – большой, темный, полутвердый нарост моторного масла или гудрона. Оно перестало меня раздражать, я начал размышлять о том, как оно образовалось: наверное, здесь что-то произошло, какое-то событие, оставившее этот след. Однажды, когда мы кончили репетировать, я подошел к нему, присел рядом, потыкал в него пальцем. Оно было твердым, но не вызывающим, не враждебным. Его поверхность, если посмотреть с расстояния в дюйм, не больше, была покрыта мелкими порами, растрескавшимися, открытыми; там виднелись дорожки, ведущие внутрь нароста.
– Как губка, – сказал я.
– Что вы? – спросил появившийся рядом со мной Сэмюэлс.
– Как губка. Мясистая. Кусочки.
Сэмюэлс посмотрел вниз, на пятно, потом сказал:
– Назрул хочет, чтобы вы с ним куда-то поехали.
В этот день, как напомнил мне Наз, когда мы возвращались на машине в Чизик, нужно было сообщить реконструкторам-водителям о переносе места реконструкции обратно в настоящий банк.
– Они составляют слой номер два – помните? – сказал Наз. – Им надо отрабатывать езду по улицам. Предназначенная для них легенда – легенда номер три, версия номер один; ни в коем случае не путать с версией номер два.
– Хорошо. Как хотите.
Мы стали отрабатывать езду по улицам вокруг настоящего банка. Эпизод с поворотом, движением наперерез и остановкой мы прогнали непосредственно перед банком только один раз да и то в упрощенном варианте, чтобы не привлекать внимания; зато по всем остальным улицам мотались без конца. Стояла осень; деревья начинали коричневеть, желтеть, краснеть. Когда я позволял взгляду застыть и расфокусироваться, эти цвета сливались в однородный, непрерывный поток. Через несколько недель, подумал я, листья опадут и будут лежать повсюду кучами, пока их кто-нибудь не увезет.
– Как артишоки, – сказал я.
– Это маршрут номер семь, – объяснял Наз реконструктору-водителю номер один. – Маршрут номер семь, версия А. Запомните.
– А может, просто сгниют. Сольются друг с другом и с асфальтом.
– В этом месте, – продолжал Наз, – вы можете переключиться на маршрут номер восемь, в зависимости от параметров. Есть три…
– Листья тоже иногда оставляют следы, – сказал я. – Очертания на асфальте, собственные скелеты. Как фотографии. Или Хиросима. Когда опадут.
Позже, когда нас везли назад к складу, Наз сообщил мне:
– Осталось два дня. Механизм будет запущен сегодня вечером.
В голове у меня снова прокрутилось изображение раскрывающегося самолета. Я понаблюдал за ним, улыбнулся, потом взглянул из окна машины назад. Движение в западной части Лондона было медленным. Я повернул голову вперед и стал, не отрываясь, смотреть через звуконепроницаемое стекло на плечи шофера. Скоро и он тоже дематериализуется. Я почувствовал огромную симпатию к этому человеку. Не отрываясь, я внимательно смотрел на его куртку, дожидаясь, пока ее синие очертания и складки закрепятся в памяти, чтобы помнить их потом, когда его не станет. Мы проехали Шепердс-Буш, потом вырвались на шоссе и набрали скорость. В этот момент Наз повернулся ко мне и спросил:
– Так когда у вас произошел контакт с кордитом?
– С кордитом? Да я его, по-моему, в жизни не видел.
16
Наконец этот день наступил. А впрочем, может, и нет.
С одной стороны, все действия, которые мы задумали выполнить, уже произошли. Произошли бессчетное число раз: во время наших репетиций на складе, во время учебных ограблений, которые устраивались для настоящих сотрудников банка и настоящих охранников, и во время тысяч, возможно, десятков тысяч ограблений, состоявшихся с тех пор, как человечество впервые ввело в обращение деньги. Они происходили регулярно, всегда и повсюду, и их повтор, устроенный нами здесь, в Чизике, этим солнечным осенним днем, был не более чем эхом – эхом эха, отзвуком отзвука, подобным неясному воспоминанию о том, как где-то, когда-то какой-то мальчик пинал об стенку мяч: первоначальный мальчик давно забыт, растворился, пропал, замененный бесчисленными мальчиками, пинающими мячи об стенки на каждой улице, в каждом городе.
С другой же стороны, прежде это событие не происходило – и, поскольку было не настоящим, а инсценированным, хоть и инсценированным в настоящем месте, произойти никогда не могло. Оно всегда должно было вот-вот состояться, зафиксированное в будущем, нависшем совсем рядом с нами и все-таки недоступном. Я и остальные реконструкторы походили на группу поборников еще не основанной религии: мы терпеливо ждали, когда покажется наше божество, когда оно явит себя нам, спасет нас, и все наши жесты были жестами поклонения, актами предвосхищения.
Не знаю. Но одно я знаю точно: все пошло черт-те как. Не так, как надо. Материя, несмотря на все мои приготовления, все мои уловки и попытки ее перехитрить, сделала гениальный финт. Перехитрила меня в ответ. Снова подставила мне подножку. Я знаю две вещи: во-первых, все пошло черт-те как; во-вторых, это был очень счастливый день.
Итак, вернемся к моменту – долгому, растянутому моменту, – в течение которого мы, замерев в готовности на своих местах, ждали, когда все начнется; вернемся к нему еще раз: мы сидели ввосьмером – шесть реконструкторов-грабителей и двое водителей – в двух машинах, припаркованных по разные стороны улицы перед банком. Сидели молча, в ожидании. Другие реконструкторы в моей машине заинтересованно смотрели в окна, наблюдая за покупателями, за деловой публикой, за мамашами с колясками и инспекторами парковки, за тем, как эти люди расхаживали взад-вперед по тротуару, входили в магазины и выходили из них, переходили дорогу, толклись на автобусных остановках. Они внимательно наблюдали за этими людьми, высматривая пробелы в их образах – несоответствия в одежде, в движениях, и так далее, – способные выдать в прохожих реконструкторов, каковыми – так им было сказано – те являлись. Они взглядом провожали этих людей за угол, пытаясь определить границу зоны реконструкции. Им было сказано, что зона будет широкой и не так четко очерченной, как те, где в свое время проходила стрельба; что ее размытые очертания под прикрытием боковых и задних улиц будут постепенно, почти незаметно сливаться с настоящим пространством. Так им было сказано – но они все равно высматривали какую-нибудь границу.
Наблюдал и я, с таким же интересом. Я смотрел, как зачарованный, на движущихся прохожих: на их осанку, на сочленение их суставов. Все они делали всё в точности как надо: стояли, двигались, да всё – и при этом даже не знали, что они это делают. Сама поверхность тротуара казалась наэлектризованной, на взводе, совсем как лестница в моем доме, когда я двигался по ней вниз в день первой реконструкции. Отметины на поверхности дороги – точные копии тех, что были перед моим складом, так хорошо знакомых мне своими линиями, окраской, структурой и расположением, – словно пропитались такой же значимостью, от которой возникало ощущение смертельной опасности. Вся местность словно беззвучно пульсировала энергией, пульсировала так, что заставила бы датчики – если бы для подобных вещей существовали датчики – надрываться, пока их стрелки не зашкалят и не сорвут пружины.
Время от времени я отпускал свой взгляд пробежаться до угла, высматривая, как и другие реконструкторы, границу, хоть и знал, что границы не было, что зоны реконструкции не существовало, или она была бесконечной, что в данном случае означало одно и то же. В основном же я медленно двигал головой: вперед, вдоль корпуса дверцы, где металл переходил в стекло, все больше надвигаясь на окно, в котором все больше открывалась улица. Она безостановочно подступала, накатывала, ширилась, все больше и больше: люди, деревья, фонарные столбы, машины и автобусы, фасады магазинов с зеркальными витринами, в которых плыло и разрасталось все больше машин, автобусов, людей и деревьев, и все это медленно накатывало, подступало ко мне, сюда.
– Едет, – сказал один из реконструкторов, – фургон едет.
Мне уже бессчетное число раз доводилось слушать, как он произносит эти же слова, на репетициях. Я сам их для него написал. Я велел ему произносить в точности эти слова, повторять «едет» и добавлять во второй половине фразы «фургон», хотя речь и так шла о фургоне. Я слышал их уже не раз и не два, произносимые в точности тем же тоном, с той же скоростью, громкостью и в той же тональности; но теперь эти слова были другими. Во время репетиций они были точными – точными в том смысле, что, когда реконструктор их отрабатывал, наш фургон-копия подъезжал и парковался на улице-копии. Однако теперь они были не просто точными – они были истинными. Фургон – настоящий фургон с настоящими охранниками внутри – подъезжал, заруливал в настоящий тупик и парковался. Он возник по собственной воле, и от этого прозвучавшие слова сделались наиболее истинными из всех, что когда-либо произносились. Фургон не просто подъехал – появился; появился на сцене, подобно существу, появляющемуся из пещеры, или пятну, отметине, изображению, появляющемуся на фотобумаге, когда ее обмакивают в раствор. Он появился: маленький поначалу, затем стал расти, а затем сделался большим и встал на месте – на этом самом месте, где ему и полагалось стоять.
Я наблюдал за ним, абсолютно поглощенный. Сходство с фургоном, который мы использовали на складе, было идеальным. Более чем идеальным – все было совершенно одинаково: модель, размер, номерные знаки, выцветшее покрытие по бокам, то, как загибались его края; но было тут и нечто большее – большее, чем суммарное сходство. Разместившийся над стертой и перенаправленной желтой линией, покоящийся на вздутых резиновых шинах, с бесцветными, затоптанными ступеньками, ждущими, чтобы на них поставили ногу, с грязными поворотниками и выпирающей сзади выхлопной трубой, тут он казался больше, бока его – более выцветшими, шины – более вздутыми, края – более загнутыми, ступеньки – более затоптанными, более готовыми принять вес и снова его отпустить, поворотники и выхлопная труба – более грязными, более выпирающими. В самом его присутствии было нечто чрезмерное, нечто ошеломляющее. От этого я вдохнул – резко, неожиданно; от этого у меня вспыхнули щеки и защипало в глазах.
– Ух ты, – прошептал я. – Это же просто… ух.
Фургон появился на сцене; из него появились люди, и все событие появилось, как появляется фотография. Мне даже не требовалось это видеть. Я закрыл глаза, чтобы все разворачивалось у меня в голове. Я представил себе сцену внутри банка: охранники номер один и два отмечались у дальнего окошка; проходили через шлюзовую камеру, через первую, а потом через вторую дверь, во внутреннее помещение. Они передавали мешки с новыми банкнотами кассиру; тот, безупречно подражая нашему отстраненному от дела реконструктору-кассиру, выписывал им квитанцию и звонил, чтобы из подвала доставили мешки со старыми банкнотами – те, что были нужны нам. Они ждали; мы ждали; ждал охранник в фургоне, а также затоптанные ступеньки, поворотники и выхлопная труба; ждала улица: желтые и белые линии, поребрики и тротуары – все это ждало, ждало, а лифт тем временем издавал тонкий электрический писк, его тросы были натянуты под весом этих бесформенных грузов, выносимых из чрева здания, выталкиваемых наружу, в мир.
По-прежнему не открывая глаз, я наблюдал за тем, как мешки, поднимаемые с пола кабины, появляются на свет. По моему телу снизу вверх распространилось ощущение подъема; я почувствовал, как поднимаются органы у меня внутри. Я наблюдал за тем, как реконструктор-тайт-энд отделяется от очереди у окошка информации и, наблюдая за этим, ощущал себя невесомым, легким и в то же время плотным. Когда он отделялся, плечи его наклонялись так, что левое было немного ниже правого; вот они накренились, подобно крыльям самолета, описали полукруг по воздуху над ковром, а потом снова выпрямились; он же тем временем проскользнул к самому концу очереди, двигаясь параллельно стоящим в ней людям, и направился к двери.
Я резко, со вздохом выдохнул воздух, открыв рот, как человек, вынырнувший из глубины и появившийся на свету, и, когда воздух из меня вырвался, открыл глаза и раскрутил всю сцену, выдохнул на свет и ее. Все вышло в точности как надо, все было на месте, где положено, и вело себя как положено: банк, дорога, линии на ней, фургон. Из дверей появлялся реконструктор-тайт-энд. Затем появлялся и я сам, появлялся из машины и скользил через дорогу к дверям банка, натягивая хоккейную маску, а мое скольжение и натягивание воспроизводили четверо других реконструкторов-грабителей, скользивших из четырех различных положений – с двух сторон двух машин – к одной и той же точке, к одной и той же двери, будто синхронные пловцы, скользящие из углов бассейна к центру, чтобы образовать там некую фигуру.
Фигура эта была мне знакома – знакома очень хорошо. Я знал, какая часть куда движется и как меняет форму целое, потоком перемещаясь по земле. Я это создал; я это выдумал. Я наблюдал за всем этим извне, набрасывал и прикидывал сбоку и сзади. Я переносил составляющие и ракурсы действия в Назовы таблицы, на его пирамиды и диаграммы, смотрел, как они собираются и растворяются в струйках пара, поднимающихся от поверхности моей ванны. Я раз за разом занимал свое положение здесь, повсюду перемещался, шагая, поворачиваясь, размахивая, пока каждая моя частичка не поняла на инстинктивном уровне, куда ей двигаться в каждой точке своей траектории. Но с данным моментом ничто из этого сравниться не могло. Когда мы с остальными ворвались в двери, чтобы занять свои места в фаланге, я понял, что нахожусь где-то не здесь; что я добрался до некой камеры, очень хорошо мне знакомой, до отсека, расположенного глубоко внизу, под внешней поверхностью движений и позиций. Я находился в самой середке схемы, сливался с ней, был ее частью, а она тем временем менялась и, в который раз имитируя саму себя, преобразовывалась и начинала становиться настоящей – здесь, сейчас.
Дефиле раззявило рот. Все границы – предметов и поверхностей, окошек и экранов, ковра, даже границы секунд – как будто отодвинулись, оставаясь на своих местах; обычные расстояния и измерения сделались огромными. Я мог бы сделать что угодно – другие и глазом моргнуть не успели бы: мог бы все кругом обежать, выйти и переставить машины на улице, поменять местами младенцев в колясках, вскарабкаться по стене банка и прогуляться по потолку или же просто постоять там вверх ногами. На деле я остался внутри того момента, когда проходил мимо реконструктора-грабителя номер один, пока он стоял над охранником номер три в самых дверях. В этом моменте, во мгновении, когда я проносился мимо него, я задержался надолго, осмысливая положение его ноги, угол его колена, прямую линию его левой руки, державшей охранника снизу, в то время как правая рука, поднятая так, что кисть оказалась на уровне головы, приставляла к голове охранника пистолет. Я втянул в себя все до капли, вобрал, словно промокашка или сверхчувствительная пленка, дождался, пока оно пройдет насквозь, через меня, в меня, пока я сам не стану поверхностью, на которой оно появится.
Потом вступил звук – звук ружья, стрелявшего на испуг. Звук был настолько удлиненным, растянутым, что сделался мягким и пористым и оттого словно замедлился, полностью перешел в гудение, тихое и успокаивающее. Штукатурка на потолке раскрошилась и полетела вниз, тихонько, кусочками – снежок-пудра. Свою реплику произносил реконструктор-грабитель номер два:
– Всем лечь.
Эту реплику он не прокричал, а скорее произнес голосом, лишенным интонации: ничего не выражающим, обычным, совсем как голос, каким я велел реконструкторам-мальчишкам из шиномонтажа произносить их реплики во время реконструкции с голубой дрянью. Эта реплика тоже была удлиненной; она словно растянулась по обе стороны от себя самой, выстроила себе внутренний отсек, где ее можно было почти неуловимо произносить, укладываясь в произнесение более долгое, – произносить в мельчайших подробностях, нежное эхо.
Потом все стихло. Посетители и служащие, настоящие, заменившие реконструкторов-посетителей и реконструкторов-служащих, которых мы отстранили, лежали на полу, как дети, укладываемые спать. Над ними, как свисающая с кроватки радионяня, ходило из стороны в сторону ружье реконструктора-грабителя номер два. Я тоже повел своим в сторону, заставил его описать по залу дугу, будто маятник часов перенесли в горизонтальную плоскость – маятник старинных часов, медленный, монотонный, повторяющий одно и то же движение.
Тут раздался другой звук – позвякивание треснувшего стекла; это номер четыре приступил к реконструкции разбивания первой двери тамбура; потом из этого звука вырос второй – номер четыре приступил к реконструкции разбивания следующей двери. Стекло было высокотехнологичным, современным стеклом, что крошится мелкими кусочками и осыпается, а не разбивается на неровные осколки; осыпалось оно мягко, позвякивая, как музыкальная шкатулка, старая, антикварная, вызванивающая медленную, высокую мелодию, колыбельную.
Я принялся за цепочку, которую мне полагалось реконструировать в этот момент: начал перемещаться по залу через разбитый тамбур, чтобы присоединиться к номерам четыре и пять, взять один из мешков и отнести его назад, к двери, а потом на улицу. Это я тоже отрепетировал бесконечное число раз – но теперь все было по-другому. Мешок, совсем как фургон, был более весомым, чем мешки, которыми мы пользовались прежде: его плетение было более равномерным и повторяющимся, нить – более волокнистой, маленькие, обособленные скопления букв и цифр, разбросанные по его поверхности, – более загадочными, чем на тех, что я носил на репетициях. Он был более мешковатым. Вздувался он совсем как мусорный мешок у хозяйки печенки: неравномерно вздувался, слегка неуклюже. Поднять его было трудно; я почувствовал, как он растягивается, почувствовал, как его вес рассеивается по верхней части моего тела, действует на каждый мускул. Теперь все мои мускулы были сочленены, работали сообща, сливались, пока я его нес, воедино, сливались, не дожидаясь моих объяснений, как им сливаться.
– Система, – сказал я кассиру. – Причем этому мне не нужно сперва учиться. Все и так идет гладко.
Все и так шло гладко. В моих глазах содержимое этого мешка не имело цены. Деньги в нем были для меня подобны мусору – мусору, мертвому грузу, материи, – и по этой причине он был ценным, бесценным, драгоценным, как золотое руно или потерянный ковчег, или розеттский камень. Держа его в руках, я проскользнул по залу к двери. Номера четыре и пять проскользнули передо мной.
Номер два по-прежнему стоял на месте, переводя ружье с одного угла зала на другой и обратно, медленный и равномерный, как поливальная установка. Я слегка приподнял свой мешок, когда мы с ним проходили тамбур шлюзовой камеры, потом снова опустил его, чтобы он скользнул по ковру, как кукурузник, опрыскивающий посевы, скользит над пшеничными полями. Я опустил глаза, чтобы они следовали за поверхностью ковра по мере нашего скольжения, чтобы не отставали от его идеально воспроизведенного золота на красном, от его поворотов и срезов, от того, как они регулярно повторялись на протяжении нескольких ярдов, а дальше ускорялись, делаясь короче там, где ковер собрался в складки на возвышении у дефекта, на котором номер пять, скользивший в двух футах впереди меня, вот-вот должен был реконструировать свое полуспотыкание. Мой взгляд двинулся вперед, к его ноге, и задержался там, наблюдая, как она предчувствует дефект; я видел, как нога взмывает вперед: ее пальцы направлены вниз, назад, подворачиваются, словно пальцы ноги балетного танцора…
Но на этом ковре дефекта не было. Откуда бы ему там взяться? На складе был – так уж вышло. На репетициях, после того, как номер пять споткнулся об него в тот раз, я велел ему полуспотыкаться каждый раз, когда будет его пересекать. Я даже распорядился, чтобы Фрэнк подсунул под ковер кусочек дерева, чтобы излом остался на месте. За недели репетиций номер пять настолько привык об него полуспотыкаться – по десять, двадцать раз на дню, снова и снова, – что полуспотыкание стало инстинктом, второй натурой. Теперь, когда шла сама реконструкция, он так же, с такой же силой рванулся вперед, так же повернул пальцы ноги – но дефекта не было. Ковер был ровный. Я видел, как его ноги нащупывали дефект, как продолжали нащупывать, уже оставшись позади, пока все тело двигалось дальше. Все тело продвинулось так далеко, что в конце концов вздернуло позади себя ногу в воздух. Его нога поднималась у него за спиной, как единое целое, пока не стала горизонтальной, потом двинулась дальше и наконец оказалась так высоко, что его плечи поехали вниз и он свалился.
Он свалился; но прежде, чем это произошло, верхняя часть его тела полетела вперед над ковром – без поддержки, подхваченная собственным импульсом. Его руки потянуло назад, как руки парашютиста в свободном падении; его грудь выпятилась вперед, как грудь лебедя. Мне вспомнилась виденная однажды фигура на носу корабля – фигура на носу старого корабля с поднятой головой, с телом, выставленным навстречу волнам. Я видел, что он вот-вот врежется прямо в номер два. Думая про морковки и про авиадиспетчеров, я наблюдал, как разворачивается столкновение.
Первой в контакт вступила его голова. Она вошла второму в живот; тот поддался в точности так, как поддается буфер на одном конце части состава, когда к нему присоединяют новую часть. Голова пятого въехала номеру два в живот, однако шея его, казалось, пошла в другую сторону, создать встречный поток; морщинки волнами побежали по ее коже назад, к плечам. Похоже было на эти зоны смятия, которые встраивают спереди в современные машины. Номер два издал ворчание, его собственные плечи ссутулились, левая рука выпустила ружейный ствол, поднялась в воздух, затем упала номеру пять на спину, где и осталась мягко лежать, удерживая тело пятого, в то время как оба они начали падать.
Падение их было долгим и медленным. Как только пятый врезался во второго, одна нога его приподнялась от земли; однако правая его нога приросла к месту и какое-то время удерживала всю композицию переплетений: две головы, два торса, четыре руки, три ноги, мешок и ружье. Казалось, она пытается внушить себе, что способна выдержать эту завязанную узлом комбинацию, всю эту зависшую в воздухе материю, удержать ее на плаву, перенести в какое-то воображаемое будущее. Это, разумеется, было не так – ей противостояло земное тяготение. Я наблюдал, как она подломилась – так в старых фильмах подламываются ноги жирафа, когда его подстреливают охотники, – а затем сдалась, примирившись с неизбежным ударом о землю.
Однако номер два не сдался целиком: его тело – все его части, за одним исключением, а также новые появившиеся у него части, части номера пять – приземлилось на большой участок ковра, в процессе удара перекрутившись и сложившись, где-то сжавшись еще сильнее, а где-то разомкнувшись, оторвавшись, но правая рука осталась в воздухе. В ней по-прежнему было зажато ружье, ладонь обхватывала приклад, указательный палец цеплялся за спусковой крючок. Наверное, некий инстинкт – дернуть на себя то последнее, что еще уцелело, – заставил второго нажать на него. Ружье выстрелило. Номер четыре, стоявший прямо передо мной, обмяк и тоже рухнул.
Теперь вся сцена замерла, как тогда у меня на лестнице, когда мы с хозяйкой печенки замедлились настолько, что полностью остановились. Второй и пятый лежали без движения на полу, наполовину соединенные, наполовину разъединенные, словно акробаты, застывшие посередине упражнения. Четвертый лежал в позе эмбриона, скрюченный, неподвижный. Я неподвижно стоял на полу позади него. Единственным, что двигалось, был темно-красный поток, идущий у четвертого из груди. Поток начинался у него в груди и набегал на ковер.
– Вот это красота! – прошептал я.
По залу разнеслись жалобные стоны, рябью побежавшие от сотрудников и посетителей, что-то вроде коллективного бормотания спящих; это снившийся им сон попал в зону турбулентности. Стоявший у дверей реконструктор-грабитель номер один подошел, стянул с себя маску, посмотрел на четвертого и произнес:
– Господи!
Лицо его было белым. Он стянул с четвертого маску. Лицо четвертого тоже было белым. Глаза его были пустыми. Он был явно мертв. Первый поднял глаза и громким голосом объявил:
– Прекратить реконструкцию!
Никто не ответил. Первый поглядел вокруг, на стонущих людей. Сделал три шага по направлению к углу, где лежали двое посетителей. Почуяв его приближение, они застонали сильнее, извиваясь, пытаясь зарыться в землю. Первый наклонился, положил руку на плечо одному из них и сказал:
– Он ранен. Необходимо сейчас же прекратить реконструкцию!
Посетитель испустил вопль и брыкнул ногами от страха. Первый отвернулся от него и закричал сотрудникам за окошками:
– Все, прекратили! Прекратили реконструкцию! Сейчас же прекратить!
Никто не шелохнулся. Разумеется, никто не шелохнулся. Что прекратить? Прекратить реконструкцию было невозможно. Прекратить ее не смог бы даже я сам. Да мне и не хотелось. Происходило нечто чудесное. Я посмотрел на второго с пятым, лежащих на полу. Теперь они напоминали скорее не акробатов, а статуи. Мешок, выскользнувший у пятого из руки, и ружье, лежащее теперь подле руки второго, казались мне кусками лишней материи, содранными, чтобы открыть их самих. Открывалось и нечто другое – нечто все время существовавшее, присутствовавшее, но спрятанное; теперь же оно появлялось, возникая повсюду. Оно было ощутимо; я чувствовал это новое появление в самом воздухе. Другие тоже его чувствовали: пятый, первый и второй глядели вокруг, на посетителей и сотрудников, друг на друга, глаза их расширялись, тела становились все более и более напряженными, пытливыми, возбужденными. Затем номер первый сказал голосом, дрожащим от медленного ужаса, так тихо, будто самому себе:
– Они не знают.
– Что? – спросил пятый.
– Они не знают, – повторил первый. – Эти люди не знают, что это реконструкция.
На мгновение, пока пятый и второй переваривали только что сказанное первым, наступила тишина. Номер первый повернулся ко мне и все еще дрожащим голосом прошептал:
– Это по-настоящему!
Теперь покалывание действительно вышло из берегов: оно растекалось от основания моего позвоночника, растекалось по всему телу. Я снова был невесомым; момент снова расправил свои границы, сделался тихим, прозрачным водоемом, в своей умиротворенности поглощающим все остальное. Я уронил голову назад; мои руки начали подниматься от боков, ладони – выворачиваться кверху. Я ощущал, что меня поднимает, что мое тело стало невыносимо легким и в то же время невыносимо плотным. Интенсивность возрастала до тех пор, пока не взорвались мои чувства – все, разом. Повсюду вокруг меня раздавался шум, хор: вопли, крики, стук, трезвонящие сигнализации, бегающие вокруг, натыкающиеся на предметы и друг на друга люди. Я опустился на колени рядом с номером четыре. Кровь из его груди набегала равномерной, широкой колонной, маршируя по равнине ковра, отчего золотые линии узора рябили, как флаги на ветерке. Мешок его съехал на пол, как некогда мешок хозяйки печенки; содержимое мешка, больше не поддерживаемое в пространстве его рукой, перестроилось в состояние покоя. Кровь огибала мешок, увлажняла один из его краев, завихрялась, образуя позади складки лужицу, как будто протекал он, а не его хозяин.
Дальше колонна крови встала на месте и разбила лагерь, образовав удлиненный овал, темно-красное пятно. На его поверхности я видел отражавшуюся стену, плюс разбитые стеклянные двери тамбура, край окошка, часть плаката на стене, потолок. Номер четыре раскрылся, сделался диаграммой, схемой, отпечатком. Я лег, распластавшись так, что моя голова оказалась у самой лужицы, и стал следить за отражениями. Предметы – обрубок двери, окошко, угол плаката – абстрагировались, отделились от окружавшего их пространства, освободились от расстояний и теперь все вместе плавали в этой лужице репродукций, как мой персонал в своем церковно-витражном раю.
– Домысел, – сказал я, – созерцание небес. Деньги, кровь и легкие. Перевозки. Любые расстояния. Свет.
Я приблизил голову к телу четвертого и ткнул пальцем в рану у него в груди. Рана была выступающей, не ввалившейся; частички его плоти прорвались сквозь кожу и поднялись, как поднимающееся тесто. Плоть была и твердой, и мягкой; податливая на ощупь, она держала форму. Поднеся глаза к ней вплотную, я увидел, что она прошита крохотными отверстиями – естественными отверстиями, размером с булавочный укол, похожими на отверстия для дыхания. Между ними, там, где в него вошли дробинки, открывались трещины гораздо более крупные, беспорядочные. Кое-что внутри туннелей, образованных внутренностями трещин, я разглядел, но дальше они поворачивали и сужались, исчезая у него в глубине.
– Да, и правда как губка, – сказал я.
Потом я шел из банка пешком. Шел совершенно спокойно. Остановить меня никто не пытался. Все они бегали и кричали, и сталкивались, и падали; но вокруг меня был цилиндр, шлюзовая камера. Я шел спокойно: к выходу, наружу, снова на солнце. Я шел через улицу, мимо желтых и белых линий, где не было пятна-нароста. Потом я снова сидел в машине, она отъезжала, прочерчивала дугу по центру улицы, притормаживала, потом скользила дальше. Улица медленно вращалась вокруг: мамаши с колясками и машины на дороге, и инспекторы парковки, и люди на автобусных остановках, и другие окна, полные их отражений, – все вращалось вокруг меня. Я был космонавтом, подвешенным, медленно вращающимся среди галактик, состоящих из разноцветной материи. Я закрыл глаза и почувствовал движение, вращение; потом опять открыл их, и меня залил солнечный свет. Он струился у солнца из груди, хлестал, бил каскадами, брызгами отлетал от машинных колес, капотов и ветровых стекол, ручейком тек вдоль дорожных линий и разметки, пульсируя, бежал мимо людских ног и по водостокам, капал с крыш и деревьев. Он разливался повсюду, плескал через край – слишком много, так много, что не впитать.
– Так, может, и ничего, что падает, – сказал я.
– Где остальные? – спросил реконструктор-водитель.
– У них одинаковая структура, – объяснил я ему.
– Что-что у них? Второй выстрел зачем был?
– Одинаковая структура. Свет и кровь.
Теперь с нами в машине сидели двое других реконструкторов: по-моему, пятый и второй, а может, пятый и первый. Не четвертый, это точно. Мы повернули и наскочили на другую машину, притормозили на миг, потом заскользили дальше.
– Поцарапал меня, а сам взял и уехал, – сказал я им. – Парень в Пекэме. Я разозлился тогда, но теперь уже все в порядке. Все в порядке – даже осколок у меня в колене. Та самая половина.
Все было в порядке – абсолютно все. Я чувствовал себя очень счастливым. Свернув с основной дороги, мы петляли по улочкам – по тем же, по которым тренировались петлять два дня назад. Дорогу с обеих сторон обрамляли те же деревья: дубы, ясени и платаны, чьи листья, красные, коричневые, желтые, так же сливались в цветной поток. Некоторые листья падали, трепетали на солнце, планируя вниз. Было там и одно хвойное дерево – это не сбрасывало покров.
– Рецидуальное дерево, – указал я на него остальным, когда мы проезжали мимо.
Они меня не слушали. По-моему, они были очень недовольны. Они подняли шум, кричали на реконструктора-водителя, снова и снова рассказывали ему, что все это было по-настоящему, а не реконструкция. Я обернулся к ним со словами:
– Но ведь это была именно реконструкция. В том-то и вся прелесть. Она стала настоящей по ходу дела. И все благодаря тени дефекта – того дефекта, который остался от другого дефекта, когда мы его убрали.
Это их, по-моему, совсем не успокоило. Они кричали, визжали и скулили, а мы все ехали и ехали, сквозь разноцветный листопад. Один из них все спрашивал, что же им всем теперь делать.
– Да ничего, просто продолжайте, – сказал я ему. – Продолжайте, и все. Все будет в полном порядке.
Я вспомнил, как говорил это мальчику на лестнице. Мне представилось его обеспокоенное лицо, его ранец, его ботинки. Я взглянул в упор на реконструктора, задававшего мне этот вопрос, ободряюще улыбнулся ему и произнес:
– Возвращаться туда вам нельзя. Они не поймут. Поехали со мной, и все уладится.
По-моему, он понял, что я прав. Конечно, ему нельзя было возвращаться в банк. Что бы он стал там делать? Объяснил бы, что все это была инсценировка? Подкинул бы ко всему прочему еще и этого добра: что-нибудь про дверцы холодильников, сигареты, морковки, Де Ниро? Да он и не знал об этих вещах; даже проинструктируй я его, он вряд ли смог бы изложить это особенно связно. Он был весьма возбужден. Все они были возбуждены. Они стонали и хныкали, и скулили, и вопили. Я немного послушал их, пытаясь определить ритм различных звуков, стонов, причитаний, визга – что за чем следует, сколько времени занимает вся последовательность, как часто повторяется, – но быстро сдался. Чересчур сложно, с ходу не уловить; придется как-нибудь организовать реконструкцию. Я стал глядеть из окна назад, на сливающиеся, падающие листья. Они растворились в бетоне, в мостах, опорах и эстакадах, когда, миновав Шепердс-Буш, мы влились в шоссе. Бетон тоже вливался, струился повсюду вокруг, кренился и раскручивался над головой, снизу отклонялся, таял и пропадал, чуть позже появлялся снова, струился обратно, сходился: эти струящиеся формы, эти колонны, вся эта материя.
Наз ждал на складе. Он стоял снаружи, в самых воротах перед площадкой. Открыв дверцу машины, он взглянул на меня.
– Вы в крови!
– Деньги, кровь и свет, – сказал я ему, сияя, и вышел из машины. – Наз, это было замечательно!
Наз просунул голову внутрь машины, где по-прежнему сидели рыдающие, скулящие реконструкторы. Когда они начали жаловаться, рассказывать ему о том, что случилось, с ним произошла странная перемена. Не резкая, не истерическая; похоже было скорее на то, как ломается компьютер: когда экран, вместо того, чтобы взорваться или заставить изображение плясать как попало, просто зависает. Он вытащил голову из машины; тело его напряглось, глаза остановились, а та штука в глубине тем временем пыталась жужжать. Заинтересовавшись, я посмотрел на него и сразу понял, что жужжать она больше не может – зависла. Остальные накинулись на него с криками: он знал, он их подставил, номер четыре умер, они – убийцы, то да се. Он просто стоял на асфальте, наглухо замкнувшись. Вокруг него струился солнечный свет, каскадами ниспадая повсюду. Когда его глаза снова включились – вполсилы, как будто уже в режиме завершения работы, – он спросил, где остальные реконструкторы.
– Кто знает? – ответил я, входя в помещение. – Едут, схвачены, все еще в банке. Не знаю. Ого, вот это да!
Копию банка снесли. Еще видно было, где раньше поднимались от земли окошки и стены; от них остались пеньки да немного мусора, несколько щепок, несколько прорех и дыр. Похоже было на разодранный, затертый план местности – тень копии. Я медленно пробежал глазами по ее поверхности. Позволил им задержаться на месте, откуда отделялся сообщник-тайт-энд, потом – на месте, где стоял я, приросши к месту, пока мое ружье описывало дугу над полом. Ружье все еще было при мне. Я стоял на месте, где прежде стоял реконструктор-грабитель номер два, лицом к окошкам и тамбуру. Я приподнял дуло ружья левой рукой и заставил его снова описать дугу, медленно поводя им из стороны в сторону. Пробежался взглядом туда, куда лифт доставил три мешка, которые мы должны были нести; пробежался назад, по участку, где был ковер, отображая на этот голый цементный пол его золотые линии, их повороты и срезы на красном фоне, то, как они повторялись.
Я опять скользнул глазами по этому месту, не набирая высоты, но на этот раз в обратном направлении, как должен был увидеть его второй, когда мы втроем приближались к нему с мешками. Он тоже должен был увидеть, как нога пятого нащупывает дефект, потом – как тот валится с ног, как торс пятого летит ему навстречу, подхваченный собственным импульсом. И он должен был понять, что столкновение неминуемо, что его никак не остановить. В помещении склада появился второй, настоящий реконструктор-грабитель номер два. Он, как и я, вошел с той стороны, где была копия лифта, внутренний отсек. Он плакал, бредя вперед, медленно, бесцельно. Прокручивание всего события с его точки зрения увлекло меня настолько, что я начал терять равновесие. Моя левая нога сама собой поднялась, а левая рука отпустила дуло ружья; я втянул в себя живот и ссутулил плечи; правая нога подломилась, выпрямилась, потом кувыркнулась назад, увлекая за собой и все остальное, за одним исключением, все, кроме моей правой руки, которая осталась в воздухе: ладонь по-прежнему обхватывала приклад ружья, указательный палец цеплялся за спусковой крючок.
Номер два находился на таком же расстоянии от меня, на каком номер четыре находился от него, когда он, второй, застрелил его, четвертого, в банке. Он все еще двигался вперед, брел в мою сторону. И я его застрелил. Произошло это полуинстинктивно; как я и подозревал, это был рефлекс – дернуть на себя то последнее, что еще уцелело, то есть спусковой крючок; дернуть так, словно это – неподвижная точка, откуда тело можно вытянуть обратно вверх. Однако сказать, что только это заставило меня нажать на спусковой крючок и застрелить второго, было бы неверно. Я сделал это, потому что мне так хотелось. Видя, как он стоит здесь в положении четвертого, тогда как сам я стою в его положении, прокручивая сперва в голове, а затем в теле его медленное падение, я почувствовал необходимость застрелить его – такую же, что в тот день у вокзала Виктория заставила меня просить мелочь у прохожих. По сути дела, я сделал это под влиянием движений, позиций и мурашек – вот и все.
Новый выстрел эхом раскатился по складу. От этого мурашками покрылись стены – стены, потолок, пол. Покрывшись мурашками, они гудели и пели, и возносились. Взлетевшие с пола опилки вихрем кружились в воздухе; кусочки мусора подпрыгивали. Номер два тоже вознесся; он взлетел с того места, где стоял, взлетел, как вертолет, прямо вверх; только он одновременно двигался вверх и слегка назад. Зависнув ненадолго в воздухе, второй рухнул обратно на землю.
Я встал, подошел туда, где он лежал, и посмотрел на него сверху. Он лежал на спине.
– Он должен быть на боку, – сказал я, ни к кому конкретно не обращаясь.
Я опустился рядом с ним на колени и подтянул его; теперь он лежал в такой же эмбриональной позе, в какой под конец оказался номер четыре. Он тоже был явно мертв. У него тоже текла кровь – но не такая чистая, как у номера четыре. В ней были такие кусочки, такие крупицы и комки. Я ткнул пальцем в его незащищенную плоть. Она была очень похожа на плоть четвертого: такой же губчатой структуры, одновременно мягкая и твердая.
В помещение склада вошел Наз. Он двигался медленно-медленно. В конце концов он остановился в нескольких футах от меня и пробежал глазами по полу к тому месту, где кровь второго собиралась в лужицу.
– Ух ты! Вы только поглядите, – сказал я. – Да это же просто… это самое. Обрывок. Кусочек повторяется.
Я снова потыкал пальцем в незащищенную плоть второго, почувствовал, как она сперва чуть поддалась, потом ощутил ее сопротивление.
– Правда, красота? – обратился я к Назу. – Можно все убрать – заставить испариться, скопировать, видоизменить, – а это все равно останется. Сколько угодно раз.
Наз не отзывался – просто стоял на месте, замкнутый, закрытый, отсутствующий. Ничего путного от него было не добиться. Мне пришлось отвести его обратно к машине и самому сесть за руль, чтобы доехать до терминала аэропорта неподалеку; по дороге двое оставшихся реконструкторов хныкали и тряслись рядом со мной. Мы запарковались на стоянке длительного пользования. Я попросил Наза раздать нам всем наши билеты. Он лишь наполовину повернул ко мне голову и ничего не сказал. Я залез к нему в пиджак, нашел билеты, раздал их реконструкторам, оставив себе два наших. Сказал всем, что в здание терминала мы войдем вместе, а потом разделимся: двое реконструкторов направятся к своему выходу, а мы с Назом пойдем к специальной стойке регистрации для частных самолетов.
– Нам придется проходить через металлоискатель? – спросил я Наза.
Наз молча смотрел в пространство перед собой.
– Наз! Нам придется…
– Нет, – ответил он.
Его голос изменился, став чем-то средним между тем, монотонным, каким говорил со мной мой пианист, и тем, какой я велел изображать моим реконструкторам.
– Это хорошо! – заметил я. – Втягиваетесь понемногу.
Я сложил свое ружье и упаковал его в сумку. Теперь оно мне нравилось, я хотел иметь его при себе, повсюду носить, как король повсюду носит свой скипетр. Я чувствовал себя королем в еще большей степени, чем обычно. Наз вышел из игры, и я принял на себя верховное командование всеми непосредственными делами: оргвопросами, документацией, всем. Я объявил, обращаясь к машине в целом:
– Волноваться не о чем. Сегодня очень счастливый день. Прекрасный день. А теперь мы все отправимся в воздух.
Мы вышли из машины, двинулись дальше через парковку и вошли в здание терминала: я первый, остальные тащились сзади. Я скомандовал остановиться, построил их всех вместе и уже собирался отправить двоих реконструкторов куда следует, как вдруг мое внимание привлекла одна вещь. Это опять была кофейная точка, стилизованная под Сиэттл. Мы находились не на том терминале, где я встречал Кэтрин, но на этом терминале точка тоже имелась – хотя и не совсем в том же месте. Прилавок, касса и кофейные аппараты тоже были расположены иначе, хотя все они были были такого же размера, формы и цвета, что и те, в точке на первом терминале. Все было такое же, но немного другое. Я приблизился к прилавку.
– Девять маленьких капучино, пожалуйста.
– При-вет! Девять одинарных… девять?!
– Угу, – сказал я ему, показав свою бонус-карточку и протянув двадцатифунтовую бумажку. – Мне еще девять осталось. Значит, девять плюс один.
Он начал выстраивать чашки, но тут меня осенило, и я сказал ему:
– Остальные восемь можете не давать. В смысле, остальные девять. Мне нужен только оставшийся. Дополнительный.
Вид у него сделался озадаченный.
– Я же не могу проштамповать карточку и дать вам дополнительный; надо сначала остальные девять пробить.
– Да нет, за девять я заплачу. Но нужен мне только десятый. Девять можете оставить себе, или выбросить, или как хотите. В следующий раз возьму еще девять.
– В следующий раз?
– Неважно.
Я расплатился; он проштамповал мою карточку и протянул мне новую, с уже проштампованной первой чашкой, затем дал мне мой дополнительный кофе. Я вернулся туда, где были построены остальные. Там остался стоять один лишь Наз, замкнутый, отсутствующий.
– Куда делись реконструкторы? – спросил я его.
Он, разумеется, не ответил. По-моему, он даже не понял вопроса.
– Ну, ладно. Пускай будет утечка. Это хорошо. Так где наша стойка?
Я окинул терминал взглядом. В нескольких ярдах от нас был газетный киоск. Перед ним на стоящей отдельно рекламной доске был вывешен вечерний заголовок. «Обвал акций», – гласил он.
– Это тоже хорошо! Нет, это замечательно! Все нарастает, потом обваливается. Как солнце.
Я нашел нашу стойку. Она оказалась шире обычных стоек, что было странно – ведь самолеты, на которые тут регистрировали, были меньше. Мы зарегистрировались; женщина спросила, есть ли у нас какой-нибудь багаж; я сказал, нет, только эта маленькая сумка, я возьму ее с собой в качестве ручной клади. Нас провели через небольшую дверь на площадку и, посадив в странный электромобиль, немного похожий на багги для гольфа, отвезли через аэропорт к полосе, на которой шеренгой выстроились самолетики. Тут мы вылезли, прошли несколько футов по полю и забрались по ступенькам в крохотный реактивный самолет. Нас поприветствовала стоявшая у двери стюардесса.
– Ваш друг себя хорошо чувствует? – спросила она у меня, когда мы проходили мимо нее.
– О, с ним случился шок. Впрочем, этого следовало ожидать. А вообще сегодня очень радостный день.
Кокпит находился всего в нескольких ярдах от наших сидений. От пассажирского салона его отделяла небольшая, настежь распахнутая перегородка. Когда мы проходили мимо этой дверцы, пилот полуобернулся и сказал:
– Добро пожаловать на борт, ребята.
Мне понравилось, как он полуобернулся, как крутнул корпусом, не поворачиваясь целиком. И то, как произнес свою реплику. Он произнес ее так, как положено пилоту. Надо будет как-нибудь устроить реконструкцию всего этого. Мы сели. Стюардесса сказала, что нам уже дали разрешение на взлет, а как только взлетим, она готова будет предложить нам напитки. У нее есть вино, крепкие напитки, чай, кофе, вода…
– Кофе! – сказал я. – Я выпью еще кофе.
Наз не попросил ничего. Он просто смотрел прямо перед собой, как статуя. Стюардесса попросила его пристегнуть ремень; не дождавшись от него никакой реакции на свою просьбу, она наклонилась и сама его пристегнула. Проверила и мой, потом ахнула:
– Ой! У вас кровь на запястье. И на лице тоже немножко. Давайте я вам тряпочку принесу.
– Не беспокойтесь, – улыбнулся я ей. – Все совершенно нормально. Возьму с собой в воздух немного беспорядка. Так будет даже правильно.
Она неловко улыбнулась мне в ответ, потом пошла и пристегнулась к собственному сиденью. Мы вырулили через поле, затем повернули, подождали, снова повернули и начали разгоняться по длинной полосе; самолет покрылся мурашками, завис над землей. Мы взлетели, сделали вираж, поднялись, пробились сквозь маленькое одинокое облачко, потом выровнялись. Стюардесса принесла кофе. Она протянула его мне на подносе, как когда-то секретарша Мэттью Янгера, только на этот раз чашка была обычная, а не состоящая из трех частей. Я пригубил кофе, взглянул на Наза. Он по-прежнему смотрел прямо перед собой, но теперь еще и обливался потом, бормоча про себя бессмысленные обрывки слов. Бедняга Наз. Он хотел, чтобы все было было идеально, аккуратно, хотел систематизировать, подшить в папки всю материю, чтобы избавиться от беспорядка. Это ему урок. Живыми нас делает именно материя: поток кусочков, шрамовая ткань, визитная карточка самой первой мировой катастрофы и долговое обязательство, гарантирующее самую последнюю. Попробуйте ее разутюжить на свою беду. Наз попробовал, и все у него пошло черт-те как. Я попытался разобрать, что он такое бормочет. Кажется, это были какие-то данные: цифры, времена, встречи, места – все они, покинув свой пост, суматошно пробирались к дверям, потом катились с него – крысы, бегущие с тонущего корабля.
В кокпите у пилота потрескивало радио. От этого мне вспомнилась Энни со своими подчиненными. Они улетели какой-нибудь час назад; возможно, их самолет уже взорвался. Интересно, подумал я, над морем или над сушей. Если над сушей, кое-что из обломков могло и упасть на кого-нибудь, тогда у меня остался бы наследник. Я представил себе, как группа людей, расследующих авиакатастрофы, месяцами реконструирует самолет, собирает кусочки фюзеляжа, все до последнего, складывает их вместе, как головоломку, реконструирует положения пассажиров и багажа: кто где сидел, что у кого было в сумке и так далее. А там, в банке, группа экспертов из полиции уже предпринимает необходимые шаги, главный следователь разрабатывает схему розыска, его подчиненные делают наброски и собирают отпечатки, сотрудники полиции допрашивают свидетелей; рано или поздно они доходят до двух реконструкторов, найденных кем-нибудь безумно лопочущими в туалете аэропорта, заставляют их описать весь эпизод, снова и снова. Я посмотрел вниз, на тесно прижатые друг к другу, сбитые в кучу поля, и поверхность всего мира представилась мне отгороженной, разграниченной, разбитой на сетки, в которых бесконечно повторяются самовоспроизводящиеся схемы.
Это видение померкло, когда из кокпита появилась стюардесса. Казалось, она немного не в себе.
– Диспетчерская просит нас повернуть назад, – сказала она.
– Повернуть назад? – повторил я и, немного поразмышляв над этим, улыбнулся ей. – Пожалуй, не надо. Все и так может выйти довольно хорошо.
Она снова неловко улыбнулась мне в ответ.
– Тогда я пойду скажу капитану. Что все нормально, раз вы так говорите.
С этими словами она исчезла в кокпите. Несколько секунд спустя мы сделали вираж и повернули. Моя чашка с кофе сползла по столику вбок; кофе расплескался через край на его поверхность. Мы снова выровнялись. Кофе тонкой струйкой потек обратно к центру столика, к моему рукаву. Я не убрал руки – я хотел, чтобы он ее запачкал. Он был похож на смолу. В свое время Мэттью Янгер извинился и протянул мне платок. «Обвал акций», сообщалось в заголовке. Номер пять свалился, номер четыре рухнул. Наз обливался потом, бормотал. Я подозвал стюардессу.
– Вам салфетку? – спросила она, разглядывая пролитый кофе.
– Нет, дело не в этом. Дело в том, что я хотел бы снова повернуть обратно.
– Снова обратно?
– Да. Теперь я хотел бы вернуться на первоначальный курс.
Она повернулась и направилась обратно в кокпит. Через несколько мгновений самолет снова вошел в вираж, но на этот раз мы поворачивали в другую сторону. Я почувствовал, как вес в салоне и в моем теле смещается, на миг почувствовал себя невесомым – ощущение, как будто что-то держит тебя над самой поверхностью чего-то. По столику снова побежал кофе. Самолет повернул, потом опять взял прежний курс. Я улыбнулся и посмотрел в окно. От низкого солнца на горизонте немногочисленные облака в небе светились голубым, красным, лиловым. Не успевшие исчезнуть следы пара над ними сделались кроваво-карминными. Наш след наверняка виден с земли: восьмерка, плюс тот первый кусочек, когда мы только взлетели, более бледный, уже отплывший в сторону, ненужный, рецидуальный – остаток. В кокпите снова затрещало радио. Пилот крикнул, обращаясь ко мне:
– Теперь они приказывают нам повернуть обратно.
– Приказывают! – повторил я. – Вот это здорово.
Мы повернули и начали выходить на обратный курс.
Стюардесса неподвижно стояла у двери салона, избегая встречаться со мной глазами. Через пару минут я крикнул пилоту:
– Я хотел бы, чтобы вы еще раз повернули обратно!
– Нельзя! – прокричал он в ответ. – Команды гражданской авиации вы отменить не можете.
– Вот еще новости. Что, разве ничего нельзя…
Мой голос затих; я размышлял, что делать. Мне это нравилось: вот так поворачивать туда-сюда в воздухе, делать вираж в одну сторону, выравниваться, потом снова делать вираж в другую; нравилось такое ощущение невесомости, подвешенности. Я не хотел, чтобы это прекращалось. Я огляделся, и тут мне в голову пришла блестящая идея.
– Скажите им, что я вас угоняю! – крикнул я в ответ пилоту.
Я залез в сумку, вытащил свое ружье и снова распрямил дуло. Стюардесса завизжала. Наз не прореагировал. Пилот опять крутнул корпусом, полуобернулся, увидел наставленное на кокпит ружье и заорал:
– Господи! Не стреляйте, а то мы все погибнем!
– Не беспокойтесь, – сказал я ему. – Ни о чем не беспокойтесь. Я не дам нам погибнуть. Просто хочу, чтобы цепочка не прерывалась.
Опять затрещало радио. Пилот заговорил приглушенным, настоятельным голосом, объясняя диспетчерской, что происходит. Диспетчерская что-то протрещала ему в ответ; он снова полуобернулся ко мне и спросил:
– Куда мы направляемся?
– Направляемся? Никуда. Продолжайте вот так, и все.
– Как – вот так?
– Поворачивать назад, потом поворачивать вперед. Потом снова поворачивать назад. Вот как сейчас.
Он снова заговорил по радио; оно затрещало в ответ; он полуобернулся ко мне и спросил:
– Вы хотите, чтобы мы все время вот так поворачивали, вперед и назад, как сейчас?
– Угу. Продолжайте, и все. По той же схеме. Все будет хорошо.
Я снова посмотрел в окно. Я был по-настоящему счастлив. Мы пролетели через небольшое облако. Облако, увиденное вот так, изнутри, было зернистым, как рассыпанная земля или пылинки в лестничном пролете. Рано или поздно солнце сядет навсегда – сгорит, лопнет, погаснет, – и у Вселенной кончится завод, как у игрушки фирмы «Фишер Прайс», пружина в которой раскрутилась до самого конца. Не будет больше ни музыки, ни движения по кругу. Или, может, у нас просто кончится горючее, еще до того. Пока же облака накренились, еще раз наступила невесомость; мы входили в вираж, снова поворачивая назад.
Примечания
1
Scion – отпрыск, потомок (англ.).
(обратно)2
Аллюзия на упоминавшуюся выше песню «История повторяется» («History Repeating») британской группы «Пропеллерхедс» («Propellerheads»).
(обратно)

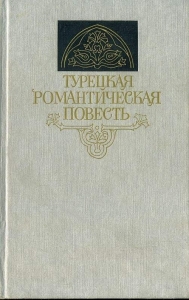









Комментарии к книге «Когда я был настоящим», Том Маккарти
Всего 0 комментариев