Лариса Кравченко Пейзаж с эвкалиптами
Австралию, как известно, открыл капитан Кук, когда в 1770 году ого корабль «Индэвор» уткнулся днищем в изрытые водой, ракушками облепленные подводные камни Ботани-бэй — Ботанической бухты сегодняшнего Сиднея. В отлив камни обнажаются, вода со звоном стекает с их черных ноздреватых поверхностей, и можно увидеть мемориальную доску, зеленоватую от морской поросли.
Сняв босоножки, она перебралась босиком вброд до этих камней и постояла сосредоточенно — невозможно быть в Австралии и не коснуться точки возникновения ее в нашем цивилизованном мире!
С камней виден берег, ярко-зеленый — под плюшевой австралийской травой, по которой можно и нужно ходить и которую в Австралии стригут все и всюду и постоянно говорят об этом. Можно подумать, проблема номер один этого зеленого континента — не зарасти травой!
По кромке берега, вдоль подножия холма шел пожилой мужчина в джинсах и фетровой шляпе с загнутыми нолями (как в ковбойских кинофильмах) и толкал перед собой машинку для стрижки травы. Машинка жужжала, вода хлюпала о камни, над историческим местом стояла солнечная, прозрачная тишина осеннего дня, как бывает у нас в сентябре, а здесь — в апреле.
Коренастые и развесистые деревья с круглыми кронами взбегали поодиночке по склону холма, смыкаясь в пятнистую груду парка. Островерхие, как ели, неизвестной породы деревья окружали обелиск из грубого серого камня с соответствующим английским текстом. На траве вокруг обелиска сидели и лежали на животах австралийские дети в одинаковых сине-голубых юбочках и шортах, рубашечках с галстуками, в плоских соломенных шляпках с полями (образца прошлого века) и серьезно записывали на планшетах то, что говорил им спортивного вида мальчик-преподаватель (тоже в шортах).
А выше обелиска, на солнцепеке, сидела на расстеленном пледе Вера в сине-красной, как английский флажок, блузке, и махала ей рукой, и на часы показывала — время!
Вот чего не хватало ей позарез в Австралии — времени! Просто выспаться, просто остановиться и оглядеться. С момента приземления в Брисбене Австралия несла ее, словно карусель, без передышки. И утром сегодня, когда она шла под душ по полированным полам в доме Сашки и Анечки (где «стояла», как у них здесь говорят), что-то качнулось у нее в голове, словно земля повернулась резко на оси, и она вынуждена была ухватиться рукой за розовую в цветочках стенку ванной комнаты.
— Хватит, — сказала она Вере, когда та заехала за ней на своей бежевой, как кенгуру, машине. — Я больше не могу. Вези меня куда-нибудь, где потише, — к капитану Куку!
— Но у пас сегодня встреча с девочками в «Мандарине»…
— Тем более. Часа два на воздухе. И помолчать!
И капитан Кук не обманул! Можно было вытянуться на траве и увидеть небо, постоянно голубое, какого не бывает у нее дома — в Сибири, в соседстве с хвойной разлапистой веткой. И бухту с высоты пригорка — плоскую и синюю, перегороженную эстакадой причалов, такую просторную, что за краями ее едва угадывалось присутствие колоссального города. Только цистерны нефтехранилища на мысу, уменьшенные расстоянием, источали металлическое сияние.
И можно было запросто, сняв босоножки, пройти по песчаной береговой кайме, сырой от набегающей воды, и навестить прочие монументы соратникам Кука, щедро разбросанные по побережью, и английский флаг на флагштоке, на ветру шевелящийся, — как символ и напоминание. Белый, одноэтажный домик музея просвечивал в глубине зелени, и из представленных там экспонатов и карт с «Индэвора» не составляло труда уяснить, что же именно произошло на этом берегу две сотни лет назад.
…Трое аборигенов вышли из леса навстречу капиталу Куку. Правда, общего языка они с ним не нашли (вероятно, потому, что еще не понимали по-английски). Однако после незначительных береговых инцидентов (копья против ружей!) капитан Кук привел эту землю под власть английской короны и двинулся дальше на север, вдоль берегов Австралии, претерпевая различные морские трудности — налетал на рифы и чинил спасти, что дало возможность потомкам его в каждой такой точке берега поставить монументы и кафе «У капитана Кука».
В одном они пили чай, когда ездили с сестрой Наталией на север, на ананасные плантации. На сухом песке, недалеко от воды стоял деревянный желто-черный корабль со всеми мачтами и реями, только без парусов — точная копия, уменьшенная, того самого «Индэвора» и рядом — ресторанчик в стиле кают-компании с круглыми окошками и рулевым колесом на степе. Традиционный английский чай с булочками, сливками и клубничным джемом принес сам хозяин — типичный морской волк с рыжими баками и загорелыми коленками. Иллюзия, что вы побывали у капитана Кука, — полная!
Итак, тишина плыла над Ботани-бэй. Они лежали рядом на зеленом склоне, две женщины, и молчали. То ли потому, что одна из них устала беспредельно на второй месяц путешествия, то ли потому, что все уже было сказано в эти дни свиданий-воспоминаний. А может быть, ни о чем главном для каждой они просто не могли говорить, потому что последнюю четверть века прожили на разных материках?
— Послушай, мы же опаздываем! Тебе еще нужно переодеться! И я должна накормить тебя! Я еще ничем тебя сегодня не кормила!
Ничего ей не нужно. Удивительно, все они здесь стараются, в первую очередь, накормить ее! Или ее Сибирь в их понимании нечто вроде «голодного края»?
— Лучше завези меня по пути искупаться в океане! Последний раз в Сиднее…
— Завезу, — говорит Вера. — Только у нас уже не купаются — вода двадцать градусов!
— Я купаюсь у себя, в Обском море, при одиннадцати…
— Ты сумасшедшая. Ты всегда была сумасшедшей, — говорит Вера, словно еще раз убеждаясь в ее неизменности. — Прощайся со своим капитаном Куком и поехали!
Машина стояла в тени деревьев, однако красные кожаные сиденья горячо нагрело солнцем, и пришлось застилать их полотенцем.
На выезде из парка они сфотографировались на прощанье у белой доски, подле большого декоративного якоря. Вера попросила привратника — сухонького старичка в фуражке и мундире, пропускавшего через шлагбаум и взимавшего плату за посещение мемориального места, сфотографировать их вместе, что он и сделал, с той смесью доброжелательства и угодливости, что замечала она здесь всюду у людей служебной подчиненности. Они встали на травянистый пригорок перед якорем, обнявшись. Ветер раздувал волосы и обвивал тело платьем свободного покроя. Так и вышли они на цветной фотографии — две современных женщины неопределенного возраста, только в лицах разность какая-то — ощутимая, — не понять, в чем именно?
Они ехали к океану по окружной дороге вдоль бухты. И шел с одного края, отгораживая их от воды, белый песчаный сыпучий вал, покрытый ветряными наносами, как в пустыне. Солнце отражалось в песках ослепительно. Двое парней, длинноволосых и полуголых, с досками для катания по волнам шли через пески, оставляя следы, словно лестницей в небо. Океан ровно гудел где-то рядом за барьером. Океан — вот что, пожалуй, самое здесь прекрасное! Только времени у нее на него не хватает!
Вера запарковала машину на площадке в тупичке выходящей к пляжу улицы. Пляж безграничен и пуст — белая пологая дуга, внутри которой двигалась, шипела и пенилась аквамаринового цвета стихия. Купальный сезон кончился, но флажки на шестах, ограждающие место купания, продолжали нести службу (не от акул, как думала она, наслышавшись вначале, а от коварства морских течений, оказывается).
Она скинула платье в машине и под Верины назидания побежала далеко вниз, к воде. Она уже знала, что нельзя так запросто войти в океан, как в ее родные российские моря — в любое безветрие волна выше ее ростом подходила к берегу и обрушивалась с высоты, и можно только улучить мгновение и окунуться в газированный раствор воды и песка, стремительно утягивающий в глубину. Она знала повадки океана, но даже это мгновенное погружение в живую, теплую, дышащую воду наполняло восторгом все существо.
Соленые капли на коже высушивал ветер, сообщая состояние легкости, как возвращение молодости. И вообще все это путешествие в чужую жизнь было странным и неожиданным возвратом к давно забытым вещам, присущим ее молодости. Между тем, что было тогда, и теперешним лежал целый пласт событий, равный эпохе, и она привыкла думать: то, что было тогда, ушло, растворилось во времени. Оказалось — оно существовало здесь, на совершенно постороннем берегу, сконцентрированное, видоизмененное внешне, но сохранившееся по своей сути. И оттого все эти педели она жила в состоянии нереальности, словно это не она говорит и двигается в ярком, не похожем на ее нормальное существование мире, а смотрит затянувшуюся киноленту.
Вера накрыла ей плечи махровым полотенцем, переодеться не дала: «Зачем? Все равно сейчас пойдешь дома под душ!» И так они ехали через весь город, минуя центр, по магистралям, где в одном с ними ритме шли разноцветной массой в четыре полосы машины, замирая у светофоров и устремляясь вновь, и нескончаемый этот поток движения уже не вызывал любопытства, как вначале, а только головокружение до дурноты. И они ехали через городские районы, по торговым улицам, лишенным какой-либо индивидуальности пестротой бесконечного «шоппинга»[1] настолько, что она почти не различала их. Главное, что занимало ее сейчас, — то, что едет она через весь людный город раздетой, и купальное полотенце на плечах не закрывало ее, а наоборот как бы обнажало, потому что это немыслимо для нас — оказаться на улице в таком «банном» виде! И она мучилась от стыда на перекрестках, когда в двух шагах от нее люди переходили на зеленый указатель «WALK», а Вера смеялась:
— Во-первых, никому до тебя нет дела, во-вторых, ты в своей машине, и это твое право ехать, как тебе удобнее, а в-третьих, всем понятно, что ты едешь с пляжа — у нас так принято. И успокойся, ради бога!
Дом Веры. За полтора месяца путешествия она видела много домов. Достаточно, чтобы определить, чем они отличаются от домов ее мира и в чем схожи между собой. Как ни странно, при всем комфорте и разнообразии, они схожи больше, чем наши типовые квартиры, потому что там с первого шага можно попять, чем живет человек, круг души его, а здесь — только как живет: чуть выше — чуть ниже — ступеньки на лестнице благосостояния… А все остальное? Или просто нет этого, остального?
Комнаты слишком просторные и пустоватые, на наш взгляд, полы затянуты кремовыми паласами под плинтус, стены гладкие, пастельных топов с какой-нибудь одной картиной пейзажного содержания, и почти нет мебели — никаких полированных стенок с книгами, только пара объемных кресел перед столиком для напитков, только одна большая ваза на полу, с декоративной цветущей веткой — дом Веры… (Удивительно, в стране вечного лета она почти не встречала в комнатах живых цветов, только точные до правдоподобия копии — целое олеандровое дерево с белыми восковыми лепестками стояло в вестибюле в доме тетушек, в то время как сад рядом — цвел!)
Она переодевалась в спальне у Веры, где тоже не было ничего, кроме снежной королевской кровати с одной резной спинкой — под старину, спальне холодноватой не столько от белизны встроенных шкафов, сколько тем необъяснимым ощущением пустоты, свойственной комнате, где женщина живет одна… Пожалуй, это женское состояние и было единственным, что соединяло их с Верой сегодня. И еще — Димочка, пожалуй…
Итак, она надевала платье для клуба «Мандарин» — синее шелковое, широкое, по последней сибирской моде, потому что считала, что только так — в своем и свойственном ей — должна быть на собрании девочек из своей юности.
А Вера колдовала на кухне, пластиковой и до предела механизированной. Чистила экзотический фрукт, розово-желтый и ни на что не похожий, в блестящей под сталь раковине. На длинном и узком окне над мойкой колебалась прозрачно-оранжевая шторочка — под цвет сковородок. За окном виднелся зеленый травяной квадрат дворика с похожей на остов пляжного зонта вертушкой для сушки белья. Небо уже золотилось с краю над гребнями черепичных кровель.
— Давай быстро! Я забыла, что сегодня в городе вечерний шоппинг, и мне не удастся запарковать машину!
— Ты еще не видела моего Димочку! — сказала Вера, когда, совсем готовые, они стояли в дверях дома. — По-дожди, я позову его. Он уже должен приехать из университета.
Комнату Димочки она видела прежде, когда Вера показывала дом, и была это нормальная мальчишеская комната, — книжки стопками на полу и стеллажах, в живописном развале шнуры и колонки стерео под ногами, совсем как у ее Ребенка дома, даже кеды для баскетбола на столе — Вера ничего здесь не трогает, потому что Димочка этого не любит.
Он вышел к ним в холл, длинноногий и очень стройный мальчик, вернее юноша, гармонично сложенный, что достигается спортом, с белокурой и кудрявой головой, несколько женственной, по сравнению с тем, как выглядят, парни из ее мира. И эту свою красивую голову с Вериными, серыми в крапинку, глазами он нес с грациозной манерой превосходства, только непонятпо — над чем именно…
Они оказались абсолютно разными — Верин Димочка и ее Димка. Хотя они одних лет и оба студенты, и оба — русские, разумеется. Такой заграничный мальчик, корректный и сдержанный — частная английская школа. Вовсе ему не нужна была эта встреча с подругой матери с другого материка, однако ни одной черточкой он не выдал этого. И они поговорили, о чем смогли — о его занятиях и планах на жизнь. Планы совершенно четкие — специализироваться, добиться успеха в отрасли, что он выбрал. Как это не похоже на ее Димку — открыто-беззаботную физиономию его, когда ничего не нужно добиваться, просто учиться, и никто не выгонит, даже если завалишь кое-что на сессии, — пересдашь, и никаких проблем! И оттого, наверное, открытость его, и улыбчивость, и грубоватость (после службы в армии), и все нужно куда-то лететь, схватив на ходу кусок хлеба и колбасы из холодильника — на занятия, на свадьбу к приятелю, в кино с девчонкой — пешком, конечно! (Это у Димочки — своя машина, потому что иначе нельзя, и Вера купила ему при поступлении в университет маленькую серую).
Совсем другие лица человеческие. Или это чужая английская речь с детства так формирует лицо и губы — артикуляцией — в многозначительную складку у Димочки? Говорит он очень правильно, без акцента, как-то слишком правильно и замедленно, как бывает, когда мысленно переводят фразу с одного укоренившегося языка на посторонний.
Только своими шпурами и кассетами схожи, видимо, их два мальчика!
Продолжать дискуссию о призвании и профессии некогда, Вера тянет ее за рукав в машину.
Темнота в Сиднее ложится рано и сразу, как у пас на юге. Вера включила, фары, и в их свете полетел асфальт, исчерченный белыми разделительными полосами. Задние огни машин, красные, как волчьи глаза, обступили их и пошли вместе слитной стаей. Шорох движения. Густая мягкая чернота.
На повороте к Гайд-парку они остановились у светофора.
— Ой, я но на ту полосу выстроилась! Теперь я по поверну! Может быть, этот меня пропустит?!
Справа от них надвинулся и встал «трак»[2], обдавая угарным запахом газа и разогретой резины.
— Посмотри, траки пошли — значит, забастовка кончилась! (Непроизвольно она начинает вникать в их дела!) Ты не слышала, они добились чего-нибудь?
Траки — это грузовые фургоны, размерами в наш шестидесятитонный вагон, только яркой окраски — алой пли оранжевой. И это — собственность шофера. Андрей рассказывал ей: первое, что он сделал, когда приехал сюда, купил трак. И сам возил камни и руду из карьеров.
Трак — главная, как ей объяснили, транспортная сила Австралии. Железные дороги, хоть и государственные, но хилые какие-то, похожие на те (рельсы и семафоры), что показывают у пас в кинофильмах из времеп Анны Карениной. И конкуренции с траками, естественно, не выдерживают.
В забастовку траков они угодили, когда ездили в прошлые выходные дни в Канберру с Сашкой и Анечкой.
Они вылетели из-за поворота на взгорок, и Сашка снизил скорость. Повторяя изогнутый рельеф зеленых холмов, на синеватой автостраде видные издалека, как цветные кубики, стояли в застывших колоннах траки. Забили три полосы проезжей части и даже узкого прохода для легковушек, как на других дорогах, не оставили.
— Ты посмотри, ты посмотри, что делают! — закипятился Сашка.
Анечка отнеслась к забастовке равнодушно, утомленная поездкой, нездоровьем, а может быть, гостьей — столь долгим в их доме ее пребыванием?
На шоссе топтались громогласной кучкой эти могучие мужики с сильными голыми ляжками, мускулатурой под трикотажными майками и несколько растолстевшими от пива животами. Пили из железных баночек неизменное «биру»[3] и, видимо, обсуждали свои профсоюзные дела. Девушки или жены, выражая солидарность, слонялись здесь же — на траве и в жидкой тени эвкалиптов. Одна, в длинном платье, но с голыми плечами, в очках от солнца сидела на раскладном стуле прямо на обочине и читала газету, словно у себя в садике. Мужчины спорили между собой и с теми, кто хотел проехать и кого они не пропускали.
Боком к шоссе встала синяя полицейская машина, и двое полисменов в голубых рубашечках — за рулем и рядом — наблюдали, опершись головами на руки, со скучающим видом: никто никого не убивал, а внутренние профсоюзные страсти их не касаются! При виде Сашкиной красной машины один вышел из сонного состояния, подошел к ним и вежливо объяснил, что здесь дорога перекрыта, следует свернуть на ту проселочную, и сообщил, сколько километров им предстоит сделать в объезд.
Сашка разворачивался со злостью. Во-первых, проезд по проселку сулил запыленность его красной красавице. Во-вторых, как служащий государственной компании, он не одобрял этих забастовщиков — льготы, которые они выбьют в своей области, могут ударить по другим, по нему, в частности.
В кузовах траков гнили помидоры, недовезенные от фермы до магазинов, протухали цыплята вездесущей фирмы «Кентукки-Чикенс». Владельцы траков требовали снижения налогов за пользование дорогами.
— Что-то им пообещали, и сегодня они разъехались, — сказала Вера. — Может быть, попросить этого пария, чтобы он пропустил меня?
Она выглянула в открытое окно и обратила снизу вверх к человеку за рулем свои, совсем прежние, серые обаятельные глаза (те самые, что любил некогда без ума и теперь любит, кажется, Ленька-изыскатель в невообразимо далеком городе Бийске). Она что-то сказала по-английски, парень улыбнулся и махнул рукой. Вера включила скорость, нырнула направо, прямо под носом красного чудовища и устремилась на зеленый свет по соседней полосе.
И вот восемь красивых женщин сидят в зале китайского ресторана сиднейского клуба «Мандарин», не в том общем зале, где на белых скатертях торчат красные конусы еще не тронутых салфеток и пустовато в будний день, а в отдельной беседке, резной, из красного лака, с драконами — копии тех, подлинных, что видела она в юности на дворцовом холме в Гирине. И восемь красивых женщин были тогда студентками одного института — Харбинского политехнического. В черных тужурках с зелеными кантами, в прическах пятидесятых годов, с золотыми звездочками Союза советской молодежи на лацканах. Вот как это было! И такими красивыми они не были тогда, просто молодыми. А теперь она смотрела на них поочередно, сидящих за круглым столом, традиционным для китайских харчевен, словно окупалась в прошедшее.
Вера, строгая подружка, такая правильная везде и во всем, что даже любовь смогла затоптать в себе и уехать, потому что сочла эту любовь неправильной. Элегантный английский костюм. Лицо — ровное под косметикой. Только ниточка-морщинка у рта — старение или горечь?
Юлька — балерина Юлька, что летала лебеденком в пачке по институтской сцене. Маленькая модная женщина, вся в чем-то сборчатом, на завязочках, от «Дэвид-Джонса». Снимающий возраст загар — после пляжа, бассейна, тенниса.
И Анечка здесь — жена Сашки. Они не были близки прежде. Это Сашка был другом, верным и настоящим, а потом предавшим своим отъездом в Австралию. Теперь он не Сашка — Алекс. Но для нее — Сашка, мальчик с одной улицы, Железнодорожной… (Анечка — трогательная хрупкость и нежность, неизменная, словно не прошло четверти века с последнего студенческого бала. Обманчивая моложавость женщины, не родившей ребенка. Лицо сегодня усталое — простоять день у кульмана что-то да значит.)
И еще девочки. Девочки пятидесятилетние…
Официант-китаец с круглым лицом лавочника и с наглостью, присущей всем лавочникам мира, кидал им на стол пиалы, палочки-«койдзы» и заказные блюда с непроизносимыми названиями. Девочки возмущались, что он обслуживает их не на уровне принятого здесь сервиса. (Возможно, это объяснялось тем, что были они одни, без мужчин, и он принял их не за тех, кем они были в действительности, — инженеры и жены инженеров?) Сашка с прочими мужьями сидел в нижнем зале «Мандарина» и наслаждался пышным, как клумба, «шведским столом» и игральными машинками-автоматами.
В перерыве между креветками и мясом под соусами, острыми и сладкими, с ананасами и бамбуком, шел разговор о том, что интересовало их: кто кем стал из ребят там у нее, в Советской России, и как это все было — на целине, и о детях — какими вырастают и что в будущем? И она отвечала и говорила, повторяя много раз сказанное за другими столами. И слова, вторым планом присутствовало в ней ощущение нереальности того, что происходит с пей.
…За неделю до вылета сюда было сообщение ТАСС о событиях на вьетнамской границе. И хотя это не касалось ее кровно — мало ли что и где происходит, не то чтобы тревожно, а нехорошо как-то было у нее от этого на душе. Может быть, потому, что за все эти годы привыкла она, как и окружающие ее люди, пристрастно воспринимать даже мелкие горячие точки на карте, потому, что все было взаимосвязано в судьбах мира и се страны. Даже ехать ей почему-то не захотелось, хотя все уже было готово — заграничный паспорт и билет куплен туда и обратно — разноцветная книжечка на двух языках, с голубыми крыльями Аэрофлота. В Москве, по дороге в Шереметьево, с совсем посторонней женщиной говорили они об этом в автобусе, потому что не могли оставаться равнодушными.
А через сутки она перелетела на пятый материк и словно провалилась в глухой колодец. Никто ничего не знал (русские, в частности) и не хотел знать. Какое им дело до Вьетнама, в этой, никогда не защищавшей себя, Австралии?! А сюда война не дойдет, через океан, они убеждены в этом! И потому можно позволить себе — не знать!
И это незнание того, что составляло ее мысли там, дома, кроме всех прочих житейских вещей, отделяло ее сейчас от круга девочек, милых, красивых и, видимо, искренне к ней расположенных. И этот китайский ресторан, и официант, швыряющий на стол тарелки, в их сознании ассоциировался с общей и в общем-то доброй юностью, не более…
Сашка пришел из нижнего зала, тоже весь красивый, в сером костюме (брюки нормальной длины — по-вечернему) и в красном галстуке.
— Как вы тут развлекаетесь? Вас не обижают? Надо было мне самому заказать все вначале, и был бы другой разговор.
Официант увидал Сашку — члена клуба и завсегдатая, понял свою промашку, — принял их за одиноких женщин, — мигом перестроил выражение лица и теперь выполнял, что от него требовалось, с положенной в Австралии улыбкой.
Они спустились из своей беседки стиля «принцессы Турандот» по винтовом красной мохнатой лестнице. Потом сидели в нижнем вестибюле в больших кожаных креслах и ждали, пока приведут машины со стоянок. Потом они прощались, уже окончательно, потому что на днях она уезжала из Сиднея и вряд ли увидит их когда-нибудь.
Потом Сашка вел машину домой по вымершему ночному центру, когда здания становятся похожими на отвесные черные скалы, никаких пешеходов! (Пешеход, как категория, в городской Австралии почти не существует.)
— Показать тебе на прощанье «Чайна таун»[4]? Вот этого ты еще ни видела…
Они завернули куда-то совсем рядом, и вдруг вспыхнула улица — светящиеся, красно-желто-зеленые иероглифы, драконы и лотосы, вазы из фарфора и боги, многорукие, как науки, — за витринными стеклами — приметы романтики Китая. Каким образом они так плотно сконцентрировались, прижились на совсем посторонней земле? И это помимо того, что куда бы ее ни везли по Австралии, всюду встречали и приглашали их китайские ресторанчики с изогнутыми крышами, красными фонарями и всем прочим, что истерлось из ее памяти за двадцать пять лет жизни в России.
…Мирная и беззаботная страна — Австралия! Настолько мирная, что на распахнутых воротах некоторых воинских частей со всеми подробностями расписано название, помер и характер подразделения — для всеобщего сведения! И часовой стоит в этих воротах в легкой, тропического образца, форме горчичного цвета, поза — свободная, ноги — расставлены, на шляпе — страусовое перо (как в итальянском кинофильме «Женщины и берсальеры»).
Сашка рассказывал (хотя и привирал, возможно), как однажды, по дороге на дачу в районе Науры, чтобы сократить путь, он заскочил в неизвестные распахнутые ворота. Время было ночное, и он долго метался в машине между какими-то пакгаузами и казармами, не находя выхода. Пока такой же, по-видимому, «декоративный» часовой не сжалился над ним и не разъяснил, сколько нужно еще сделать поворотов по территории, и покажутся другие открытые ворота. Возможно, Сашка прибавлял, для красного словца, но все же…
…В день отлета из Москвы ей нужно было срочно сделать австралийскую визу. День предстоял уплотненный и хлопотный, и она приехала с утра пораньше в переулок, где укромно разместились особняки разных экзотических посольств, и в том числе — австралийское.
Посольство было еще закрыто. Стояло серое, с оттепелью, мартовское утро, и она ходила мимо ворот по обледенелому тротуару, чтобы не замерзнуть. И, естественно, разглядывала герб страны, куда она собиралась с мирными гостевыми целями. На щитке на цветной эмали поблескивали изображения кенгуру, стоящего на задних лапах, знаменитого страуса эму и еще неизвестных райских птиц и растений.
Пожилой милиционер в черном полушубке, замерзший к утру и соскучившийся на дежурстве, вышел из своей будки и подошел к ней — поговорить.
— Что, смотрите на ихний герб? Чистый зоопарк!
Земля, которую господь бог запроектировал если не раем, то, по крайней мере, — садом. Правда, говорят, он несколько превысил норматив на пустыню…
Ну что ж, ей предстояло самой увидеть и разобраться…
Часть первая Купание в океане
1
До Сингапура она летела еще на своем родном ИЛ-62, и потому, наверное, не было никакого ощущения «заграницы». Все привычно, как в сотнях командировочных полетов, только чуточку элегантнее одеты стюардессы — те же русские синеглазые девчата, но уже в иного покроя красных сарафанах-комбинезонах, чем на внутренних авиалиниях, да чуть поизысканней стандартный ужин с холодной курицей и добавлением вермута «за счет фирмы», что совершенно ее не интересовало, но вызвало оживленные реплики у пассажиров мужской категории. Самолет был набит такой дружелюбной российской публикой, что среди нее терялись отдельные индусские семьи с экзотически одетыми женщинами и дипломатического типа иностранцы, суховатые и сдержанные.
Этим рейсом летела в Сингапур на смену команда рыболовецкого судна, и моряки из Одессы при посадке и в полете продолжали шумно острить и вступать в разговоры с попутчиками, как это принято у пас в путешествиях. И полдороги, пока не сморил сон, она болтала о разном с сидящим рядом мужчиной — кто она и откуда и зачем летит в эту неведомую Австралию. И было странно представить себе, что вот-вот это доброе окружение распадется, и она окажется один на один с «заграницей».
Проснулась она над Бомбеем, когда над рыжей высушенной равниной внизу стоял оранжевый, во все небо, рассвет и окна в самолете светились, как прожекторы. Пролетел на косом развороте город золотистых оттенков, в пальмах и зданиях, сине-белая береговая полоса океана, приземистые хижины, как куски глины, велосипедисты в белом на дорогах…
И все равно это не было еще ощущением «заграницы», потому что выходили они на стоянку все вместе, поеживаясь после сна, и изумлялись внезапному лету поело нормальной московской зимы.
В легком, как кафетерий, вокзальчике аэропорта моряки, уже знакомые с распорядком на заграничных линиях, устремились к бару, где вежливый черно-кудрявый человек в белом кителе подавал апельсинового цвета напитки в бутылочках с соломинкой. Но она не пошла туда, хотя ей тоже хотелось пить после ночи в самолете, а бродила возле киосков с грудами индийских бус и слонов из кости и сандалового дерева.
Потом объявили посадку. Аэродромные власти в синих тюрбанах, синих шортах и толстенных шерстяных гольфах, но без нижней их части, точнее в сандалиях на босу ногу, выпускали их по посадочным талонам, разделяя на два потока — мужчин и женщин. А в проходе за занавеской женщина в пепельном (форменном) сари вежливо, но настойчиво проводила руками по всему телу, проверяя, нет ли оружия или наркотиков. И хотя это как-то покоробило не привыкшую к посягательству на личное достоинство русскую душу, все же быстро прошло, потому что родные стюардессы, сменившие красные сарафаны на голубые, стали поить их в самолете апельсиновым заграничным напитком со льдом, а мужчины-моряки продолжали разговаривать о своих корабельных делах и ухаживать за своими «единственными» двумя женщинами — буфетного и медицинского персонала. Все было как дома, пока не приземлились в Сингапуре…
В Сингапуре оказалась влажная, ошеломляющая духота. Первое ощущение на трапе самолета, что тебя накрыли с головой намоченным в кипятке полотенцем. Белесое небо за полупрозрачной пленкой пара, и давящий жар без солнца и тени.
По краю летного поля стояли бурые и зеленые кудрявые холмы, уже явно тропических очертаний. Извивались змеевидные стволы пальм, корой обмотанные, словно мешковиной. Только кроны их были не развесистые, как видела она в Индии, а взлохмаченные и круглые, как метелки.
Летное поле охватывало нагретым пространством бетона, катилось в глаза сочетанием цветов желтого и синего, видимо присвоенных сингапурской авиакомпании. Даже барьеры у дорожек желто-сине-полосатые, не говоря уже о хвостах самолетов с желтой, синими полосами обрамлен-пой, сингапурской фирменной птицей. Автобус тех же цветов, могучий и комфортабельный, где она еле-еле отдышалась от первых климатических потрясений, доставил их всех мимо газонов с неведомой остролистной растительностью к зданию вокзала, похожему на аквариум.
Моряки, изнывающие в одесских пиджаках и только что обкатывающие во всех вариантах «банную» тему, связанную с сингапурской жарой, приумолкли и слаженно пошли к стойкам, где смуглые, в белой тропической изысканности, красивые, как статуэтки, девушки выполняли формальности по прибытии. Родной Аэрофлот больше не опекал ее своими крыльями и заботами, и она осталась совсем одна в гудящем зале с дорожной сумкой к плащом на руке и с катастрофическим незнанием иностранного языка.
Тут, собственно говоря, и началась для нее «заграница».
Не то чтобы она совсем не знала английского, на котором работал этот гигантский международный аэропорт. Она изучала его в далеком детстве в школе. Остались отрывочные слова и фразы, которых для путешествия за границей было явно недостаточно. И в этом смысле авантюрной выглядела вся ее поездка в Австралию.
И она стояла с чувством беспомощности у кожаного диванчика в зале, пока к ней не подошел вежливый малайский юноша в белоснежной рубашке с галстуком и с приколотым на кармашек служебным удостоверением в прозрачном футляре. Что-то он понял сам из ее билета, что-то домыслил, видимо. Во всяком случае въездные анкеты были заполнены, и она оказалась в зале для транзитных пассажиров, где была посажена на диван против часов. И когда стрелки их подойдут к семи, ей надлежало молча показать свои разноцветные бумаги у стойки, где сине-красными полосами сверкал флаг «Бритиш эйруэйс», и ей тогда скажут, что делать дальше.
В стеклянной коробке аэропорта, в голубовато-подводном освещении, в искусственном холоде кондиционеров двигались разнообразные толпы пассажиров. Малайцы в полотняных штанах и черных бархатных шапочках. Индуски в своих прозрачных радужных расцветок тканях и с драгоценностью, продетой в ноздрю, как у нас продевают в ухо сережки. Вполне современные мальчики и девочки в брючках и рубашечках, с сумками на ремешках через плечо — из всемирной армии студентов. И конечно — туристы из Европы (Сингапур — бизнес туризма: море — плюс тридцать, и сочетание комфорта с экзотикой!). Мужчины — холено-спортивного облика, жующие беспрестанно, отчего на лице некий налет высокомерия; старухи — сухие, в белых панамках и джинсовых платьях; и женщины молодые, оголенные до предела, потому только, что здесь — жарко!
Группа японских туристов в одинаковых белых сорочках и с фотоаппаратами одной марки прошла организованно, как отряд, послушная голосу гида, командующего в мегафон.
И стюардессы. Длинноногие — согласно международному стандарту, в мини-мундирчиках всех цветов — от абрикосового до изумрудного, и малазийских компаний — точеные, словно едущие на бал, с цветами в прическах, в юбках сборчатых до полу, запахнутых, как створки раковин, но с прозрачной служебной корочкой у пояса — неизменно.
Все это двигалось, переливалось из зала вниз по эскалатору, завихрялось у киосков «Дьюти фри»[5] и сувенирных с пучеглазыми сингапурскими рыбами и прочим, скапливалось у стоек обмена валюты, под разноцветными эмблемами авиакомпаний, но, как ни странно — тихо для такого скопления, без того гула, что свойствен нашим аэропортам и вокзалам.
Загадочного вида, в дымчатых очках, военнослужащий (а может быть, просто полицейский) ходил мимо дивана, где она сидела, обтянутый по-ковбойски формой хаки, покачивая бедрами, с огромной кобурой на поясе, походкой расслабленной и спружиненной одновременно, как поступь тигра в джунглях.
Уборщица, темнокожая и кудрявая, в шлепанцах на босу ногу, толкала перед собой тележку для чистки пола.
…А всего сутки назад была вечерняя Москва, та особенная и неповторимая — весенняя, с хрустким ледком под ногами после бурного дневного таяния и солнца, вся в синих и малиновых красках угасающего дня на своих куполах и оконных стеклах. И мягкая прелесть ее фонарей, зажигающихся на бульварах, где сплетение голых еще ветвей, и снег лежит пластами, темный и ноздреватый. И цветы, желтые, как цыплята, в руках у людей на улицах — день Восьмого марта. Москва, в которой она бывала не так часто, и которую любила именно такой, и уезжать от которой ей сейчас не хотелось.
Автобус шел в Шереметьево. И была за окном щемящая грусть сизых подмосковных полей с талыми снегами и березами. Огонь, одинокий в сумерках, на братской могиле и каменные надолбы вдруг слева от шоссе, на подступах к Москве — как память. И росло в ней сожаление, что нужно отрываться сейчас от этой земли и покидать все это, не всегда бывшее своим, но вросшее в нее постепенно и потому, наверное, остро ощутимое.
За все двадцать пять лет жизни здесь у нее ни разу не возникло такого желания — оторваться от своей земли, хоть ненадолго, и устремиться в заграничное путешествие. Слишком ей хватило того «заграничного», что она видела в предыдущую жизнь, и слишком много оставалось не увиденным здесь.
И, может быть, это стремление — еще и еще увидеть кусок своей земли — было основой ее командировочной профессии? И, в конечном счете, причиной потери мужа…
…А ранее за сутки был Новосибирск. И была совсем нормальная зима. Ребенок — ее Димка, богатырь, ростом метр девяносто, выбегал утром из подъезда в ондатровой шапке — встречать заказное такси, и вернулся весь, как Дед Мороз, запорошенный. (Снег идет… Только бы летная погода!..) Шоссе на Толмачево переметала поземка — снежные струи выползали на асфальт под колеса (как некогда на проселках, на целине), а вокруг лежал белый и строгий простор, дымящийся метелью, скудный на взгляд. Но только здесь, как ни странно, она чувствовала душевное равновесие.
Перед посадкой они стояли с ребенком около турникета, она держала его за руку — большую, мужскую и теплую, и он не сопротивлялся, как обычно (тоже, наверное, не хотел в душе, чтобы она уезжала неведомо куда), и она отдавала ему последние материнские указания. Чтобы не женился, пока она ездит, чтобы его не выгнали из института и чтобы ему случайно не пробили голову! Все остальное она считала поправимым по приезде.
Объявили посадку.
— И не забудь джинсы, размер тридцать два марки «Ливайс» и обязательно голубые! — В его понятии только ради его джинсов мать летит на обратную сторону земного шара.
Собственно говоря, ей совсем не обязательно было ехать в Австралию! Наверное, с большим предвкушением радости она собиралась бы сейчас в обыкновенный отпуск по стране, по турпутевке, которые продолжала предпочитать, невзирая на возраст, разным домам отдыха и санаториям. Были места, куда она любила возвращаться спустя круг лет, чтобы вновь увидеть неотделимое от себя, но уже на новом уровне душевной зрелости. Такими были ленинградский Эрмитаж, Михайловское, не говоря уже о кремлевском дворике перед Грановитой палатой (куда она, кстати сказать, успела забежать и «отметиться» перед Шереметьевом). И были места, куда она еще не успела за свою жизнь (все как-то не удавалось) — Соловецкий монастырь на Севере…
Австралия подошла крадучись, пока не поставила ее перед фактом. Был вызов от родственников, которых она не знала по существу, и были поданы документы — так, на всякий случай, а потому уя!е все завертелось всерьез, и обратного хода не было.
Ехать так ехать! По крайней мере она увидит единственный в своем роде материк. С таким же любопытством она бы не отказалась от путешествия в пустыню Сахару, если бы туда выписали ее родственники! (Кстати, в Австралии должна быть своя необычно красная пустыня…)
Но кроме чистой географии, были у нее с пятым материком и личные невыясненные отношения…
Дело в том, что дважды Австралия могла стать ее жизнью и ее судьбой, и тогда она была бы не то, что она есть, а нечто совсем иное. И Димка ее тоже. Вернее, Димки просто не было бы. Если и сын, то в ином человеческом качестве.
И каждый раз от Австралии уводили ее исторические события. Первый раз — это был Перл-Харбор…
…В сороковом году сыновья выписали дедушку и бабушку Савчук к себе в Австралию. В Харбине от всей семьи остались только они — папа, мама и Лёлька, и ждали, когда на них тоже придут документы. Она училась тогда в школе, где на степе висели портреты последних российских императоров, и трехцветный флаг был единственным, который она считала своим на земле. Страна, где они жили, называлась Маньчжоуго, была вовсе чужой и посторонней, временным пристанищем, и только. Родиной, ей говорили — нужно считать Россию, но там пока большевики, и об отъезде туда нельзя даже думать. А в такой ситуации — жить семье в Маньчжурии или в Австралии — все едино.
В декабре сорок первого года японцы напали на Перл-Харбор (Жемчужная Гавань) и в одну почь уничтожили более половины американского флота. Ехать в Австралию оказалось немыслимо: в море подрывались на минах корабли, смертники-камикадзе пикировали с неба. Вода кипела — она видела это в кинохронике, когда их всей школой водили в «Модерн» показывать победы японской армии. Кстати, и Сингапур она увидела там впервые. Японцы захватили Сингапур, и на кинокадрах шли с поднятыми руками пленные англичане на фоне пагод и пальм города. Конечно, она и думать не могла, что когда-то будет так сидеть в этом городе на диване стеклянного аэропорта, есть московское яблоко и глядеть по сторонам.
Во второй раз от Австралии ее увела Целина.
Хотя до этого была еще Победа.
…В Харбине стоит август сорок пятого. В харбинских садах цветут гладиолусы — алые, белые, бледно-розовые. Первые, сбитые дождем, желтые листья падают на развороченную землю уже бесполезных японских окопов. А со стороны Старого Харбина входят в город но шоссе танки. Громадные, невиданные, устремленные вперед стволами орудий. Они летят, громыхая гусеницами по асфальту, как ветер победы. «За Родину!» — по-русски написано у них на броне. И она, Лёлька, в белой школьной кофточке, охвачена чем-то никогда прежде неиспытанным и ей неподвластным, что отрывает ее руки от перил Модягоуского моста и лицом поворачивает навстречу танкам. (И это она — девочка из семьи, где, правда, никто не отступал с Колчаком через Сибирь, а совсем иными путями оказались они в Маньчжурии, но все же — дедушка присягал своему «государю императору», сабля с вензелем висит у него в кабинете, как символ России…) Цветы, брошенные, рассыпаются в воздухе. Танки пролетают мимо, обдавая ее запахом нагретого железа. Танкист в черном ребристом шлеме стоит улыбающийся в открытом башенном люке и держит в руке пойманный на лету цветок.
После этого не могло быть для нее никакой Австралии.
А потом подошла Целина.
И теперь она ехала с подсознательной мыслью: посмотреть, словно прокрутить, еще два варианта своей жизни, — если бы ее увезли туда девочкой и если бы она уехала, когда уезжали Вера, Юлька, Анечка… Для себя она не допускала другого выбора, но, может быть, не права была, что отняла Австралию у родителей? Все-таки вся семья — там.
…Голос дикторши, вежливый, но невнятный, сообщил что-то о самолетах. Она, конечно, ничего не поняла, но вскинулась, потому что стрелка на часах подходила к семи, и как бы предназначенный ей «боинг» британской компании не улетел без нее!
В нижнем посадочном зале оконные стекла были черные — так рано ложится в тропиках темнота. На светящемся табло мигали цифры ее рейса, но город не тот, хотя тоже — Австралия, и она забеспокоилась: а вдруг что-то изменено или она напутала, и спросить не у кого, вернее, она просто не может! Унижает безгласность в чужой стране! И как прекрасна, оказывается, свобода родного языка, когда мы живем в ней, как воздух, не замечая ее.
Волна туристов, рослых и уверенных в себе европейцев, прихлынула к выходу и ждала посадки. Посадочные талоны у них были несколько иными, чем у нее, хотя тоже сине-красные в полосочку. Она опять начала волноваться — вдруг что-то не так! Английское семейство в рыжих веснушках, с аккуратными дорожными корзиночками и девочками, одетыми в одинаковые шляпы с бантами, тоже вроде бы летящее в Австралию, базировалось рядом с ней на диване, но настолько было само в себе изолировано от окружающих, что она не осмелилась к ним обратиться, а со своими жалкими познаниями языка — тем более.
Так и страдала до последнего мгновения, пока не раздвинулись черно-стеклянные двери, и они все пошли в ночь, в жаркую и влажную темноту, пронизанную огнями летного поля. Тупоносый автобус плыл, как рыба в глубокой воде, между корпусами самолетов, огромных и высоко поставленных, с высвеченными на хвостах марками компаний: желтой сингапурской птичкой, белым на алом ноле кенгуру — «Квонтас». И, наконец, сине-красные цвета британского флага, под защиту которого она вверяла свою жизнь на ближайшую ночь — в прямом смысле.
Очень тяжелая ночь в чужом самолете. Сна нет, потому что это — не привычный усыпляющий салон Аэрофлота. Это кинотеатр средних размеров с двумя залами, тяжело, с натужным гулом рассекающий пространство. Не спится в густонаселенном мире чужих людей, перед широкоформатным киноэкраном, где молча бежит благородная английская драма (кто хочет смотреть фильм со звуком, за особую плату получает наушники и втыкает их в ручки кресла). Ярко-зеленый английский пейзаж, где скачут красивые гнедые лошади и тоненькая мисс, в сапогах для верховой езды, очень красиво плачет из-за чего-то и обнимает лошадь за шею. Долго идут крупным планом глаза девушки и глаза лошади. И хотя все условия для сна предусмотрены — спинки сидений значительно выше аэрофлотских, и подушечки полагаются, обтянутые пестрым нейлоном, и чужие люди, в одном ряду сидящие, дружелюбны и деликатны, — нет сна! К тому же всю ночь не прекращается сервис. Несут поздний ужин, ночной чай, ранний завтрак… И не всегда разберешь, что в этих стерильно упакованных тюбиках и баночках, а при притушенном ночном освещении тем более — майонез или взбитые сливки? И столько ложек — круглая, длинная, пластмассовая. Какой есть компот, а какой сахар размешивать? Она косила глазом на соседнюю английскую даму, но все равно попадала впросак, и это опять злило ее каким-то мелочным, но унижением. На листе салата в жидком растворе плавали маленькие морские твари из семейства креветок — не по себе было с непривычки от иностранной еды. Как тут не вспомнить добром аэрофлотскую курицу!
Над круглым голубым краем земли возвышалось небо невиданной сочности красок — сочетание персикового и сиреневого, и облака шли явно не наши — клочковатые, как щипаная вата.
Неведомая земля приближалась снизу, косматая, как брошенная звериная шкура. Кудрявая зелень в красных отблесках рассвета заполняла складки и впадины. С высоты земля казалась безлюдной и не открытой еще, как во времена капитана Кука.
И вдруг кончились горы и вынырнул Сидней, как на картинке календаря, что регулярно высылали родителям в Сибирь тетки. Извилисты линии бухт, абсолютной синевы, перехваченные легкой дугой знаменитого моста, прямые, как свечки, бетонные здания, ребристые от много-этажности, плотно столпившиеся над причалами. И пеповторенные еще архитектурно белые раковины «Опера-хаус» на стыке земли и моря. А дальше, в горизонт, упиралось скопление бесчисленных низких кровель, розоватое оттенком черепицы. И все это, в ослепительном утреннем свете, рельефное от прозрачной чистоты воздуха.
Температура за бортом плюс двадцать шесть градусов.
Австралия приветствует вас!
Но все-таки окончательно она ощутила себя в Австралии только вечером того дня, когда вышла в садик около дома теток в Брисбене одна, наконец, после всего наслоения встреч, эмоций и усталости.
В саду была пружинящая под ногами австралийская трава, одно большое дерево с продолговатыми, как ладонь, мясистыми листьями (оказалось, это фикус, который растет у них здесь всюду в первобытном состоянии), и заросли, цветущие чем-то пунцовым, вроде шиповника. За решеткой садика далеко внизу гудела автострада и стояли заревом огни еще не исследованного города.
Вечер был теплый и пленительный той густой, обволакивающей темнотой, что свойственна нашему кавказскому югу, И листья шевелились, шлепая широкими плоскостями, как у пас где-нибудь в Батуми. Только по было того пряного аромата зелени и цветов почему-то…
Она подняла голову и увидела месяц. Месяц висел невдалеке от подсвеченного готического шпиля какого-то церковного здания, и что-то ей не понравилось в нем подсознательно. Нормальный алюминиевого цвета месяц. Дело в том, что висел он вниз рожками. А совсем недавно, по дороге в Шереметьево, она отчетливо видела его в обычном положении, свойственном российскому месяцу, украденному чертом в «Ночь перед рождеством» и миллионы раз описанному в литературе…
И тогда она вспомнила «Месяц вверх ногами» — книжка Даниила Гранина — все правильно! Австралия.
2
Странно просыпаться по утрам в незнакомой комнате и видеть перед глазами потолок, непривычно скошенный, и пятна света на степе, клетчатые от сетки, — окна плотно затянуты от разных тропических летающих, и занавески на толстой подкладке. Ей хочется распахнуть все это, по сибирской привычке, но не положено…
А за окном близко, через воздушный проем, уже чужое окно соседнего домика и чужая территория. Когда там подняты жалюзи, можно увидеть внутренность пустоватой комнаты, почему-то с циновками на полу и огромным, как очаг, камином. Тетушки говорили, там живет оригинал — канадский профессор. Оригинал он в том смысле, что снял этот дом. С другой стороны от него соседи — «аборидженс», как говорят тетушки, и никто не хотел тут селиться. Но канадец просто не понимал, какая разница, и поселился. Она лично тоже не понимает: видела она этих соседей — как все, в белых рубашках и шортах, ну, темноватые немного и курчавые. Перед домом у них стоит на шестке флаг, где сплетаются желто-синие цветные полосы — какой-то ассоциации… Но, говорят, еще бывают иные аборигены — вдали от городов…
Просыпается она по утрам с чувством непроходящей усталости, словно только что положила на подушку голову — еще бы, после такой непрерывной «светской жизни»! Тетушки уже ходят за дверями но коридорчику и спрашивают друг у друга: «Наша Елена проснулась?» «Наша Елена»! И нужно подыматься, опускать ноги в пушистый голубой коврик, надевать подаренный ими батистовый халатик в цветочек и идти под душ. — по утрам, как здесь принято (а не вечером, как она привыкла залезать в ванну в Сибири).
Тетушки пьют свой «орандж» и ранний чай на кухне, в таких же ситцевых пеньюарах, и она, с трудом разжимая веки даже после душа, идет к ним, потому что это единственное время, когда можно поговорить, а потом ее опять увезут куда-нибудь. Тетя Лида и тетя Валерия — обе седые, стриженные по-современному, только тетя Валерия еще подкрашена сиреневым колером.
— Что ты будешь кушать? Мы купили тебе бананов. В них есть витамин для зрения! — Здесь вообще все очень озабочены потреблением витаминов, и покупная ела насыщена ими до предела, и в рекламах по телевизору прыгают и пыряют цветущие дети, ставшие такими сильными в результате этой витаминизированной еды! На завтрак у тетушек концентрированная пшенично-кукурузная желтая шелуха, насыпанная в чашку холодного молока.
Она пьет чай с молоком, но без сахара (вредно для здоровья!) и не с хлебом, а с тостами, поджаренными в специальной машинке (чтобы не растолстеть!), и говорит о семейных событиях пятидесятилетней давности — что было после них, тетушек, в том городе Харбине, откуда они уехали совсем молодыми Девушками, и как живет теперь в Сибири их старший и любимый брат Константин. Она рассказывает про отца что-нибудь веселое, как он загорает на Обском море в свои восемьдесят с лишним и как танцует на вечерах в домах отдыха, куда ездит в зимние пенсионные сезоны регулярно. Тетушки восторгаются его бодростью и энергией, да еще в таких страшных климатических условиях: подумать только — мороз сорок градусов! Для Австралии, где самое холодное зимнее время — плюс семь, такие минусовые температуры просто невообразимы.
Дом тетушек легкий, деревянный, из ребристых досточек, как большинство старых домов в Брисбене, выкрашен белой краской и, как у нас говорят, в двух уровнях — верхние комнаты выходят в садик, нижние — прямо в переулок, узенький и горбатый. Ниже но переулку, как уже было сказано, живут канадец и «аборидженс», выше — сухощавый шотландец, который постоянно стрижет свою траву и жжет сухие листья. Тетушки сообщили ему, что у них гостья из России, и теперь он непременно раскланивается с нею и говорит что-то, по-видимому, доброжелательное. На этом соседские отношения заканчиваются. Зайти в дом запросто здесь не принято.
Вуллонгабла — старый район Брисбена, где селились первые из русских в Австралии, и потому не удивительно: пойдешь вниз через магистраль — православный собор, маленький, дощатый, но собор все-таки; пойдешь вверх по переулку — Серафимовская церковь. Надо сказать, смотрится она как-то неуместно на этой белой от зноя улочке в ряду дощатых иностранных домиков, рядом с «готикой», ниже шпиля которой и висел в первую ее ночь здесь перевернутый месяц.
В столовой у тетушек, как и всюду, мягкие от паласа полы. А все остальное — как в нормальной русской квартире дореволюционного периода: лампадка горит перед иконами и висят на стенках семейные фотографии, в том числе того деда Савчука, что уже на ее памяти уезжал из Харбина в Австралию.
А в девяностые годы прошлого века Григорий Савчук, тогда еще рослый, чернобровый хлопец с Черниговщины, уезжал с Украины на Дальний Восток, на заработки.
Ехал с другими такими же парнями, весь багаж которых состоял из деревенского деревянного сундучка, через Одессу, пароходом «Старая Москва», и если не вокруг Африки, то вокруг Индии — определенно. Три месяца валялся в трюме на парах, мучился от морской качки и взирал с изумлением на бездонные хляби океана. (Все-таки он был очень молод тогда, как ее теперешний Димка, даже еще младше.) А путешествие это считалось но тем временам даже комфортабельным, потому что его родные дядьки ехали на Дальний Восток год, на телегах по всему Московскому тракту, поскольку железной дороги через Сибирь тогда еще не было. И Савчук ехал, завербованный на постройку этой дороги, только с дальнего ее конца — от Тихого океана.
От Владивостока Савчук шел с изыскательской партией на Никольск-Уссурийский, копал шурфы и носил рейки поначалу, а затем, видимо, постигал и кое-что большее в дорожно-строительной профессии цепким своим мужицким умом. В городе Уссурийске встретил он в городском саду Марусю — барышню с толстой косой, кружевной воротничок вокруг тоненькой шейки, завитки темно-русые на висках (смотри семейную фотографию), а глаза продолговатые и золотисто-карие, как у тигренка, что привезла партия из тайги. По-видимому, и в те времена бывали внезапная любовь и отъезд на трассу из родительского дома, как во времена нашего БАМа. Одним словом, Савчук женился и увез Марусю на тот очередной будущий разъезд, где тоже тогда ничего еще не было, кроме сопок и бараков. Там родился первый сын — Константин.
А потом партию повернули на запад, на КВЖД. И ничего, практически, не изменилось для Савчука — те же распадки в зарослях ореха и лимонника, тот же пьянящий запах зелени и саранки красные в травах, и речушки каменистые, стеклянной чистоты, через которые нужно вести мостовые переходы и скальные прижимы, по которым невозможно проложить линию. И даже местные жители, звероловы и искатели женьшеня, похожи — скуластые и желто-смуглые лица (как у арсеньевского Дерсу Узала), только теперь они назывались маньчжурами.
Савчук дошел с изыскателями до Харбина, там партию отправили на юг, на Порт-Артур, а он остался на строительстве дороги, на тех самых перегонах под Мулином, где проходил с партией. И это была эпоха, когда еще тигры запросто ходили по тайге, на разъезды нападали хунхузы (так и назывался один, где их обстреляли однажды, — «Засада»), и на этот случай на станции стоял наготове шест с пучком соломы и бутылкой керосина — если шест загорался сигналом среди ночи, Маруся хватала в охапку Константина и Валерию и бежала с другими женами путейцев в здание депо — отсиживаться, пока отобьют хунхузов. Слово «хунхуз» происходило якобы от понятия «красная борода», и, по ходившей версии, они действовали по принципу Робин Гуда — грабили богатых и осчастливливали бедных, но как оно было на самом деле — в ночной стрельбе — не разберешь. (Охраняли дорогу части Заамурской стражи, и где-то на другом участке дороги, в гарнизоне под Куанченцзы, в другой семье уже росла девочка, которая станет потом женой Константина).
Дорога отстроилась и начала работать, и, видимо, Савчук уже знал кое-что в те годы и умел, если получил должность дорожного мастера и свой участок на станции Ханьдаохэцзы. И была молодость и зрелость, и был красивейший угол земли — поселок на склоне сопки, увенчанный скалой, похожей на голову Наполеона в треуголке, и река внизу, в зеленой от ивняка пойме, с каменными плитами на быстрине, где грели на солнце свои животы ребятишки и удили рыбешку. И были еще дети — Максим, Алексей, Лидия. И была, конечно, казенная квартира в красно-кирпичном доме, той типовой кавежедековской постройки, что стояли по всей полосе отчуждения от Отпора до Гродеково, и где было все для жизни русского человека — погреб-ледник во дворе и сараи-коровники и, конечно, веранда, на которой при медлительных маньчжурских закатах можно было пить чай с вареньем из всего ягодного, растущего рядом в тайге и малино-смородиновых палисадниках.
Савчук никогда не думал, что он живет фактически за границей — настолько кругом было много своих — машинистов и служащих дистанции, и Дорога возила их, не ощущая границы, в Никольск-Уссурийский, где учились в гимназии дети, в гости к родне во Владивосток и на заимку под Шкотово. И то, что произошло в России в семнадцатом году, дошло сюда поначалу таким слабым отголоском, что не обеспокоило переменой жизни. Изменялось управление Дороги. Хорвата сменил Остроумов, но поезда ходили исправно, возили грузы и пассажиров, и жалованье служащим выдавалось так же. Правда, были митинги и красные флаги. Савчук — уже солидный мужик и человек рабочий — о царском правительстве не сожалел нисколько, а о большевиках просто не знал ничего, кто такие? Руки есть — работа будет, а семья порядочная — пятеро детей! И если бы сказал тогда кто-нибудь, что нужно бросать все и немедленно — пока граница открыта, потому что Дорога с двадцать четвертого года стала советско-китайской и продолжала так же возить и работать, — немедленно забирать семью и перебираться на ту сторону, иначе он весь род свой обречет на вечную эмиграцию, он просто не понял бы. Зачем и куда? На Черниговщине ни одной родной души, ни кола, ни двора, а здесь — дом — в казенной квартире…
Теперь на Дорогу приезжало начальство, командированное из Советской России. Порядок панели — строили и красили. Появились на улицах комсомольцы, который пели — «Наш паровоз, вперед лети, в коммуне остановка». А сам Савчук уже выходил на пенсию, старший сын учился в Харбинском политехническом, дети кончали школу… И был город Харбин, странный, не похожий на другие города мира.
И тут, собственно говоря, в конце двадцатых годов, выплывает из-за черты горизонта «золотая земля» — Австралия. Там живет дядька, бежавший из Владивостока в двадцать нервом, когда Красная Армия «на Тихом океане свой закончила поход». У него ферма и, конечно, нужны родственные рабочие руки. А что делать младшим сыновьям в Харбине, захлестнутом безработной толпой свалившихся в Маньчжурию колчаковцев? А почему бы и нет? Можно же вернуться, если что — Дорога работает, словно последний кровеносный сосуд с Россией, несет живой ток крови и пульсирует. Можно еще что-то думать и выбирать…
А потом захватят Маньчжурию в тридцать втором японцы, и Дорога перейдет в их руки. Тех, кто был командирован и кто имел советские паспорта, вывезет эшелонами Советская власть на родину, а все прочие, даже никогда не бежавшие и не воевавшие с Советской властью, останутся на веки вечные за кордоном, в одну кучу сваленные с остатками разбитой белой армии и прочими враждебными беженцами. И останутся до конца жизни под одной вывеской эмигрантов.
В тридцатом году уедут к братьям в Брисбен Лида и Валерия, в тридцать девятом — дедушка и бабушка Савчук, только дед Савчук не увидит Австралии, он умрет от сердечного приступа и останется лежать на крохотной корейской станции один-одинешенек, южнее того стыка трех границ — русской, маньчжурской и корейской, где повернула когда-то их партия на изыскания КВЖД. Далеко но отпустила его от себя земля, в которую вложил он труд свой без остатка.
А что стало с теми, младшими, детьми на золотоносной земле Австралии? Во всяком случае, тоже труд (рубили сахарный тростник и корчевали заросли), достаточно тяжкий, под вечным солнцем и изнурительный от сознания — только бы зацепиться, удержаться, накопить, чтобы стоило задуматься: а может быть, лучше, если бы это были Турксиб или Днепрогэс? Если уж пот и кровь, то — на свою землю!
Дядя Алексей рассказывал: «Был со мной забавный случай…» в скитаниях по «кантри»[6] они с приятелем попросились переночевать на чужую ферму. Их пустили в пустой сарай, где были сложены на зиму мешки из-под шерсти. И они спали на этих мешках, и что-то ему было всю ночь неудобно, а приятель сказал, что ему тоже — неудобно. А утром обнаружили: под мешками семейство змей. Они лежали свернувшись, похожие на велосипедные покрышки, и были довольно несимпатичны, если знать, что от их укуса овца издыхает в течение часа. А если бы тем тоже показалось неудобным спать и они вылезли посмотреть, кто им мешает?
Этих змей всех видов, живущих в Австралии, она видела, когда ездила с дядей Максимом и сестрой Наталией на север от Брисбена на ананасные плантации.
…Наталия свернула с шоссе, притормозила перед входом в питомник, дядя Максим купил билеты и проспекты, и они прошли мимо киоска с сувенирами и живыми белыми попугаями на жердочках в просторный зеленый парк, состоящий, как принято в Австралии, из зеленых лужаек и отдельно стоящих деревьев. Наверное, австралийцы столько усилий потратили в прошлых своих поколениях на расчистку зарослей, что теперь глаз радует им только прозрачный ухоженный парк — никакой гущины.
Змеи лежали каждая в своем собственном каменном вольере с деревьями, камнями и озерками, но достаточно низком, чтобы можно было переползти и ближе познакомиться с посетителями. Наталия переводила названия — где черноголовый питон, а где тигровая змея. Они грелись на солнце, невозмутимо свернутые в клубки или вытянутые, поблескивающие бусинками глаз, с пятнистыми, растительных расцветок телами, мощными, гибкими и смертоносными. И, стоя перед этими презрительно невозмутимыми громадинами, можно было догадаться, сколько же неприятностей они доставили не привыкшим к такой живности в своей аккуратной Англии первым поселенцам Австралии, да и братьям Савчук в частности. Оказывается, перед тем, как рубить тростник, его поджигают у корня, тростнику не будет ничего, а все постороннее сгорит, и змеи выходят оттуда, пластами переползая через дороги.
В соседнем озерке, огороженном невысокой сеткой, лежали бугристые серо-зеленые, словно покрытые плесенью, бревна, и она прошла бы мимо, если бы Наталия не повлекла ее к ним фотографироваться — крокодилы! Живут, оказывается, свободно в речках Северной Австралии, и там на них охотятся аборигены!
А рядом в траве бродило такое милое, такое приятное существо в бежево-дымчатой шкурке с длинной мордашкой, почти человечьими осмысленными глазами, щипало траву и собирало что-то с деревьев передними лапками-ручками. Из сумки на животе торчали с грязными копытцами ножки и такой же бежевый хвост детеныша. Кенгуру. Вот с кем стоит поздороваться, как с коренным жителем Австралии! И столько в них дружелюбности и вместе с тем независимости — надоест ему принимать ваши ласки, отойдет и ляжет на траву в сторонку. Всюду в парках, где ей случится бывать потом, увидит она этих хозяев пятого материка, они будут жить своей жизнью, воспитывать детей, ссориться и даже влюбляться, на людей не реагируя абсолютно, словно они здесь основные и главные, а люди — случайный элемент.
На дорогах, в лесных местах стоят указатели с черным силуэтиком кенгуру: осторожно — перебегают дорогу. Только дело не в том, чтобы сохранить уникального зверя, а наоборот — взрослый кенгуру, ростом выше человеческого, может так шарахнуться на машину, что повредит эту дорогостоящую частную собственность. Об этом и предупреждают машиновладельцев. Кстати, охота на них разрешена, и хотя уничтожено их за годы австралийской цивилизации несметно, говорят, что их еще довольно много и они портят посевы на фермах, словом, ведут себя как подлинные хозяева! Куда же им податься, если вся зеленая Австралия по горам и долам разделена изгородями частных владений?
…И снова мягкое покачивание сиденья машины, в которой она пристегнута ремнем, как в самолете. Летит с равномерным шорохом серое шоссе, и Австралия, солнечно-сияющая, зеленая и голубая, входит в ее глаза на большой скорости, заполняя до краев дуновением ветра в окне машины, теплом сухой нагретой земли и той спокойной ясностью горизонтов, свойственной началу осени, а на этом материке — в особенности.
Плавные изгибы полей в разноцветных полосах, упирающихся в клочки кудрявого, серо-зеленого от эвкалиптов, австралийского буша. Ровные ряды ананасовых посадок — острые темно-зеленые листья, торчащие как перья, в которых лежит на коротенькой ножке шершавый, тяжелый желто-румянящийся плод. Живые изгороди вдоль обочины, пышный неведомый кустарник, в котором, однако, кроется полоса колючей проволоки — частное владение! И, как признаки жизни на полях, отдельные домики ферм, неизменно беленькие, краснеющие черепицей крыш или отражающие солнце оцинкованным железом. В чистоте воздуха различимы возле них водосборные баки на высоких ногах и крохотная, как улитка, машина, ползущая вперевалку к нолю, и над всем этим — на ярко-аквамариновом небе, словно нарисованные, мазки белых облаков.
Струится над полями легкий зной, неподвижно стоят жесткие не по-нашему травы, и все это так не похоже на то, что она привыкла видеть прежде, и ни с чем не сравнимо в своей индивидуальности.
Вынырнула из-под земли и стала расти навстречу странная, каменная на ровной площадке, на гигантскую голову похожая гора, вся в трещинах, вмятинах и провалах, кое-где прикрывшая грифельного цвета скалу ползучей растительностью. Наталия говорит — старинная ритуальная гора аборигенов, и там внутри действительно — ходы и пещеры, и есть легенды, с ней связанные. Находятся желающие подниматься на нее, но, вообще, это очень трудно…
— Нравится тебе наша Австралия? — спрашивает дядя. Максим. Он сидит на заднем сиденье и объясняет ей в затылок то, что летит мимо. В своей широкополой шляпе с загнутыми полями, пестрой, в. пальмовых листьях сорочке, конечно в шортах, при высоких белых носках он похож (в нашем понимании) если не на пожилого ковбоя, то уж на владельца ранчо где-нибудь в Техасе определенно. Но если отбросить все это внешнее, дядя Максим — копия ее собственного отца. Одно лицо, одна манера говорить: «Ты моя красавица!»
Она сидит, откинувшись на пружинящую спинку сиденья, обнимающую ее теплой кожей, и от скользящего движения пейзажа, а главное от неожиданной атмосферы родственной доброты и любви, в которой живет она эту первую неделю в Австралии, состояние покоя и бездумности охватывает ее, как бывает в дни отпуска на Крымском побережье. Да, собственно говоря, она и есть в отпуске!
Знакомство с плантациями завершилось «Большим ананасом». Он поднялся издалека, оранжевый, как солнце, над густой зеленью увалов и при ближайшем рассмотрении оказался башней в форме ананаса, отштампованной, видимо, из цветной пластмассы, потому что изнутри он просвечивал на солнце и без того оранжевым от заката. Внутри вертелись кадры на телеэкранах — «из жизни ананасов»: как их сеют и убирают, и была выставка, как в хорошем ананасоведческом музее. А кому это не интересно, тот может взойти по винтовой лесенке наверх и с высоты ананасового роста поглазеть на рекламно-показательную плантацию.
Старинный маленький паровозик с большой трубой тащил цепочку открытых вагончиков с полосатыми тентами вместо крыш по узкоколейке между ровных рядочков ананасов, сквозь банановые рощицы, где под гигантскими, выворачивающимися из стволов салатными листьями висели метровые грозди бананов, упакованные, по правилам растениеводства, в прозрачную пленку. Машинист паровозика, одетый соответственно под старину, разъяснял все по радио. И были тут еще разные тропические фрукты и птицы, и чего только не было! Школьные экскурсии и отдельные австралийские дети с родителями заполняли вагончики. А выше, на благоустроенном холме, сверкал стеклами ресторан, где тоже чего только не было на ананасную тематику! Похоже, что владельцы предприятия главную свою прибыль получают с туристского сервиса, а по от продажи ананасов! Дядя Максим заказал фирменное мороженое, принесенное им в разрезанных половинках ананасов, и полчаса они посидели еще на освещенной закатом террасе над всей этой красотой и возделанностью, хотя, говоря откровенно, те обыкновенные дневные поля лежали ближе к ее сердцу…
А потом был вечер на «фривей»[7] (в нашем понятии — шоссе второй категории), когда солнце уже село, облака стали серыми, и только желтое зарево озаряло их понизу, просвечивая в курчавых верхушках буша.
Они остановились около магазинчика при дороге, чтобы купить фруктов — так дешевле и все так делают, а она вышла постоять в одиночестве. Нужно было ей самой прикоснуться к земле. Люди окружали ее постоянно, и хотя они открывали ей Австралию, но и отгораживали невольно: все познается по-настоящему наедине — сущность земли и человека…
Краски ландшафта изменены, словно фотоснимок отпечатали на коричневой бумаге. И теперь, когда не было всеукрашающего солнца и растворились в сумерках рекламные щиты, изгороди и указатели, подлинная и древняя Австралия показала ей себя на мгновение: красно-бурой — своей почвой вдоль дороги и вышедшими из темноты обнаженно-белыми стволами эвкалиптов (недаром их зовут деревья-призраки). И черная гора аборигенов, мрачным конусом вставшая над лесом, вселяла ощущение первобытного трепета. Неуютно чувствовали себя здесь по ночам первые белые переселенцы!
Дядя Максим вышел из лавочки, нагруженный кульками и баночками с «дринки». Наталия включила фары, и все кончилось. Осветилась цивилизованная Австралия, и белыми полосами расчерченная «фривей» понесла их к пульсирующим огням Брисбена.
3
Город Брисбен, на реке Брисбен, впадающей в Коралловое море. Сухой жар бледно-голубого неба и нечто низкое и плоское, по холмам растекшееся своей одноэтажной застройкой. По крайней мере таким он показался ей в первые мгновения, когда ее торжественно везли из аэропорта в автомобильном кортеже родственников, она — в передней зеленой машине дяди Алексея, затем серенькая японской марки машинешка сестры Наталии, колонну замыкал брат Гаррик на французском обтекаемом «Ситроене», вывезенном из Европы. А впереди, где-то в? районе Вуллонгабла, ждали ее тети за столом, накрытым блюдами из перца и баклажан, растущих на земле Австралии так же запросто, как у нас в Одессе. И может быть, потому, что непривычно и в общем-то приятно оказалось обрести сразу целый семейный клан, из которого одни они жили в Сибири, город Брисбен, с ого дощатыми домиками на зеленых лужайках без изгороди — только цветы и декоративные камни — показался ей по-дачному красочным и благодатным.
Ее везли из аэропорта раскаленной магистралью (хотя у них здесь уже осень и тепла только тридцать градусов), и шли какие-то склады из рифленого железа и плотно сдвинутые стенками здания неизвестного назначения, и надписи, надписи, надписи на козырьках и где только возможно, и вдруг остро запахло печеным хлебом от круглых цистерн, блеснувших над крышами, и вдруг — просвет среди тесноты, — пустой участок, и на нем разноцветное скопище машин, разных, с громадной наклейкой цены каждая, как в игрушечном магазине, и над всем этим трепещутся на ветру многоцветные гирлянды флажков и бахрома, как у нас на елке. — Что это? — Да просто продажа машин. — А флажки зачем?
Родственники удивлены ее наивностью: — Реклама. Для привлечения глаз, чтобы покупали. — А разве без флажков машину не купят?
И ее везли дальше, через мост старинной постройки — одна стальная ферма на высоких опорах. Он так и называется «Исторический», и река Брисбен, средней ширины и судоходности, петляла под ним, медленная и зеленоватая отражением берегов. И центр города — Сити, с трех сторон этой рекой обведенный, вздыбился в небо справа, как скалистый остров, своими высотными офисами.
Некогда в устье реки был первый австралийский порт по вывозу шерсти (этим собственно и начинался город Брисбен), и в старой части Сити еще уцелели на берегу сооружения тех лет типа каменных складов. Но все это будет сноситься по плану застройки — сказал ей брат Гаррик (он архитектор, и, естественно, «в курсе дела»).
Кстати, к своей старине австралийцы относятся ревниво. Буквально накануне ее приезда в городе были настоящие уличные демонстрации по поводу сноса старой гостиницы в центре, в которой останавливались знаменитые гости — голливудские кинозвезды и сама английская королева. Гостиница была в «колониальном стиле» — двухэтажная с глубокими лоджиями по фасаду, забранными резными металлическими перилами. И все это, выкрашенное белой краской, смотрелось как кружево. Зданий такого типа в Брисбене множество, но именно это, памятное и помнящее королеву, к сожалению, до основания было изъедено внутри термитами и распространяло заразу на соседей. Городские власти приняли решение — снести. И тогда началась кампания протеста — пикеты перед гостиницей и прочее. Правильно или неправильно поступил мэр города, но ему эти демонстранты надоели, и в одну прекрасную ночь он отключил электроэнергию в квартале, перекрыл коммуникации и, предварительно сняв ценные белые решетки с балконов, убрал все к утру под бульдозер. Когда ее потом провозили мимо, она видела только квадрат развороченной земли с остатками щепок. Говорят, на этом месте построят точно такую же новую, по мнению австралийцев, это уже — не то…
Королеву австралийцы уважают по старой памяти, всюду ее коронованный профиль — на долларах и на обложках журналов. В самом непотребном виде можно вывешивать карикатуры на премьера, и тебе ничего за это не будет — свобода мнения, но попробуйте задеть королеву!..
Между прочим, портрет королевы Елизаветы в диадеме из брильянтов висит даже в гостиной у тетушек между портретами основоположника семьи деда Савчука, могучего мужчины с окладистой бородой, и совсем скромным — в серенькой шинели — последнего российского императора.
На первом семейном совете, за тем столом с баклажанами и тортами, к ее приезду испеченными, была выработана программа действия и распределены обязанности.
Гаррик (или Гриша — в честь деда Савчука) снял флэт[8] на Голд-Косте, и на вторую неделю ее повезут к океану. Он берет ради нее отпуск в своей градостроительной фирме, а тетушки снабжают ее всем необходимым для пребывания в таком фешенебельном месте.
Наталия везет ее в университет, где она преподает русский язык на русском факультете, дядя Максим — на ананасные плантации.
Дядя Алексей берет на себя хлопоты но обратному вылету, и в ближайшее время они отправятся вместе в компанию «Квонтас» — для выполнения всех билетных формальностей. Что она может сама — без знания английского языка?
Жена дяди Алексея взялась свозить ее в Сити для первого ознакомления с магазинами.
Жена дяди Алексея — английская дама Джейн, или тетя Жени, как ее нужно называть, настоящая австралийка, и дядя Алексей встретил ее в своих молодых скитаниях по Австралии (может быть, даже на той самой ферме, где ему пришлось некогда переночевать в компании со змеями). Судя по высказываниям тетушек, возникла романтичная любовь на фоне австралийского буша, однако она сохранилась до наших дней, и теперь у них; современно-старинный дом с камином, калорифером и кухонным благоустройством.
Тетя Жени — сухощавая и темная от вечного загара, как большинство австралиек, играет в теннис, носит короткую седую прическу и излюбленные британские цвета — синее платье и красная шляпа или наоборот. По-русски она разговаривает почти нормально — столько лет в этом семействе, еще бы!
И в одно утро, когда магистраль, ниже тетушкиного участка, уже гудела движением машин, как конвейер, а жара только начиналась желтоватым маревом но горизонту, они отправились в машине дяди Алексея (а пешком и одну ее вообще не пускают никуда из дома, даже до конца переулка). «Ты с ума сошла! Тебя украдут и увезут! Ты не знаешь города и не знаешь языка!» Она не очень верит, что будет именно так, при ее привычке приезжать в незнакомые города и одной бродить и осваиваться. Или это возможно только там, у себя дома, в России? А здесь действительно опасно?
Тетя Жени на хорошей скорости перенесла ее через мост Виктории и словно окунула с размаху в тесноту и коловращение Сити. Бронзовая с прозеленью королева Виктория промелькнула в относительно свободном пространстве перед чем-то монументальным из розового песчаника. Они запарковали машину около тротуара с тикающим счетчиком стоянки — через каждые тридцать минут нужно белить и кидать новую монетку. Это нарушало вдумчивый процесс «шоппинга» и сразу задавало определенный темп, но другого выхода у них не было.
Они бежали по Куин-стрит и по Елизабет-стрит. Козырьки на фасадах зданий перекрывали тротуар полностью, шли, смыкаясь, единым навесом от дождя и от зноя, и потому самих зданий не было видно, только яркие недра магазинов — сквозь стекла витрин и дверей, освещенные, притягивающие непроизвольно. Чтобы увидеть здание, нужно выйти, по крайней мере, на середину мостовой и изогнуть под определенным углом шею. А дома, выше козырьков, можно обнаружить примечательные: старинной архитектуры, в каменных карнизах и завитушках эпохи английского владычества. Или ультрасегодняшние: стекло и полированный камень.
Тетю Жени внешние особенности города не интересовали, она устремилась внутрь, скоро и решительно, хорошо зная топографию всех тех «Майеров», «Вулъвортов», «Дэвид-Джонсов». Она влекла ее за собой в неимоверно загруженный товарами мир, не давая остановиться и оглядеться по российской привычке и, как говорится, понять, что почем. Причем она проносилась мимо того, что действительно было красивым и добротным и стоило того, чтобы быть привезенным, согревать и радовать в Сибири. (Это слишком дорого, мы это не покупаем!) Она устремлялась к столам распродаж, где навалены были вороха пушистого трикотажа, уже чуть пережившего свой сезон и где на этикетке зачеркнута прежняя цена и поставлена новая — пусть на несколько центов ниже, но все же! А дамы, похожие на тетю Жени, с такими же седыми благородными прическами и в чулках (хотя на улице двадцать пять градусов) и с очками, повешенными на шею на серебряной цепочке, рылись с увлечением в этих ворохах, вытаскивая за рукава кофточки и майки, примеряя тут нее и бросая обратно. И горы босоножек на столах — конец лета — тоже по сниженным ценам, всех стран Азии: индийские, таиландские, корейские, китайские, на двух ремешках и вовсе на одном пальце висящие, с подошвами всех конструкций, проплывали мимо со скоростью реактивного лайнера. Маленькие, как пещеры, пестрым платьем завешанные магазинчики-ловушки, распахнутые на улицу — только зайти, и тебя окружат вниманием и заставят примерить, и не выпустят, пока не купишь, даже если не нужно тебе… А рядом с этим — экономия на центах! «Лёля, учтите, ту же вещь можно купить значительно дешевле в магазине на окраине», — поучала тетя Жени.
И они вылетали снова на свет божий, из этой вещевой вакханалии, от всех этих невообразимых предметов человеческого пользования, от пестроты надписей, этикеток, упаковок, от хорошо поставленных улыбок продавцов, со служебно-автоматическим «тэнкю», от толчеи толпы у прилавков, где однако никто тебя не заденет и ты, естественно, задеть не имеешь права, и попадали в такую же толпу, двигающуюся по тротуарам и обтекающую тебя.
Толпа двигалась яркая, по-южному оголенная (в нашем понимании, потому что в Австралии это — север, а чем южнее — тем холоднее, ближе к Антарктиде), с женскими плечами, когда платье держится на двух веревочках, и мужскими коленками, потому что самый деловой облик — светлый пиджак, рубашка с галстуком и при этом шорты с идеальной складочкой. А то пройдет некто мохнатый, бородатый, в грязной белой майке с отштампованным во всю спину попугаем, и не поймешь — кто это, и опять же в штанишках коротеньких, с разрезами по бокам и в японских шлепанцах на босу ногу.
Толпа двигалась, постукивая тонкими каблучками невесомых перепончатых босоножек, качая юбками, длинными и раскидистыми, отчего женщина становилась похожей на цветок. И как контраст — пожилые леди в холщовых блузках кремовых оттенков, с видом величайшей значимости делающие свой утренний «шоппинг». Потрясая медным колоколом, носилась в толпе толстенькая девочка в короткой юбочке. Из висящей на груди вывески значилось, что это школьники собирают пожертвования в благотворительных целях.
Когда загорелся зеленый свет «WALK» и нужно было переходить улицу, тетя Жени влекла ее по совершенно непонятной системе — поперек перекрестка, и все бежали так же, кому куда надо, а машины с четырех сторон стояли и ждали, пока это кончится.
Вылазка в Сити завершилась ничем. Видимо, тетю Жени слишком подгонял счетчик — она только успела нахватать в продуктовом подвале ярко упакованных баночек с творогом, маргарином и чем-то неведомым и помчалась кормить ленчем своего дядю Алексея. Кормит она его научно, применяя при этом явно не русскую поговорку: «Наши убийцы живут на кухне».
Когда дядя Алексей гостил у них в Сибири — было такое событие лет пять назад, — они жили с дедом (вернее с братом Константином) на даче на Обском море. Шел июль месяц, и дед, как старший брат, кормил его от души молодой картошкой со сметаной и лучком из хозяйского огорода. Правда, все это они запивали (иногда) армянским коньяком. Судя по всему, дядя Алексей чувствовал себя прекрасно. Если бы видела это тетя Жени, она пришла бы в ужас! Они подолгу спали и просыпались под пение соседских петухов и шли на обской пляж, и дядя Алексей подолгу по пояс стоял в пресной воде, прохладной по австралийским понятиям. С берега пахло полынью, а цветы полевые, незатейливые ромашки, цвели вдоль песчаной дорожки на пути к электричке. И все это нравилось дяде Алексею — бревенчатый поселок и беленая будочка, где они жили, с духовкой и подпольем, которые он не видел много лег со времен маньчжурской юности, и белые гуси, отдыхающие в зной в тени заборов, и бабки в платочках, продающие малину за дощатыми столами на базарчике. «Если бы раньше, я бы, конечно, жил здесь…» Но «раньше» не было и уже не могло быть. И дело не в том, что не всегда силен человек оторваться от обжитого и нажитого и сменить все на жизнь, не только менее теплую, но и но каким-то иным законам устроенную, сменить — это значит зачеркнуть прожитое, признать, что по по той стрелке повернул поезд когда-то, по своей ли, по чужой оплошности. И значит, напрасно было все ото: тростники, населенные гадами, и мозоли до крови, в зной и дождь, красная пыль на зубах, и овцы чужие на чужих пастбищах, и отказ от радостей ради того, чтобы копился счет в банке — на черный день, на старость…
Дом дяди Алексея в английском стиле из красного кирпича. Во дворе за домом, за грядками огурцов, вывезенных в семенах с Обского моря, гараж. Машина в нем живет самостоятельно и со всеми удобствами, как член семьи, а рядом — целые апартаменты с ванной и личной комнатой дяди Алексея.
И здесь, вдали от английского быта тети Жени, лежит на столе в красную кожу переплетенный альбом но истории КВЖД — реликвия и путь деда Савчука. Город Харбин — стрелка, от которой повернул поезд дяди Алексея… Да и ее поезд, в общем-то…
Город Харбин возник при постройке КВЖД как узловая станция на стыке трех линий: западной, восточной и южной, у мостового перехода через реку Сунгари, на пустом, по существу, берегу. Только и было там — глинобитная деревушка, да глинистый обрыв, желтая поверхность реки с квадратными парусами шаланд, да жирные от ливней дороги в полях гаоляна, по которым скрипели арбы на высоких колесах. А жители деревушки, коренастые и желтолицые, не очень приветливые, но и не вероломные, просто не мешали русским строить дорогу. Русские — сами по себе, маньчжуры — сами по себе. Хотя кто, как не сотни нанятых рабочих, маньчжур ли, китайцев, строили эту самую КВЖД вручную, копали под лопату выемки и таскали в плетенках на коромыслах землю для насыпей? (Не везти же в такую даль из России армии чернорабочих!) Везли таких, как дед Савчук, со смекалкой, годных на топографа, и на десятника, и на дорожного мастера.
Город строился, и своими улицами и домами становился похож на все российские города понемножку — кусочек от Читы и кусочек от Владивостока, даже московский Кузнецкий мост можно найти в нем, если приглядеться. И все в нем было, что положено, — массивный вокзал и кирпичное депо. Управление дороги из серо-зеленоватого камня и железнодорожное собрание с оркестровой раковиной в саду. И, конечно, был собор, как бревенчатый символ России:, на вершине пустою холма с маньчжурским названием Нанган.
И жилось в этом городе, как в российских городах: ходили на службу и ездили на извозчиках, стояли в церквах у обедни, и торговал на углу Новоторговой улицы магазин под куполом — вездесущего купца Чурина. Одно только было непохожим — китайцы. Лавочники и старьевщики, водоносы, прачки, белильщики — племя, на русский взгляд, одноликое, на ломаном русском языке кричащее, корзинками и ведрами покачивающее, шло невозбранно с черного хода в казенные квартиры хозяек и крепило финансовые и дружеские связи. И бок о бок с русским городом, от той деревушки на берегу реки и множился «Китай-город» — пригород Фуцзядян.
А потом через Харбин покатилась русско-японская война, и стал он тыловым городом с госпиталями, штабами и интендантствами. А потом через Харбин покатились осколки колчаковцев и семеновцев, всех, кто не понял, не принял Советскую впасть там, в России. И стал он главным гнездом российской эмиграции на востоке (так же, как Париж на западе). А потом, в тридцать втором году, захватили Маньчжурию и Харбин японцы, и начала сгущаться над городом черпая мгла оккупации, постепенно беря за горло каждого слежкой, застенками и голодовкой. И так — до самого дня освобождения в сорок пятом.
Три поколения русских видел странный, многослойный, как пирог, город Харбин.
Первое — поколение деда Савчука — тех, кто строил дорогу, охранял, водил поезда и ремонтировал паровозы. Россия для них была фактором реальным и неотделимым, какой-нибудь им одним памятной березовой рощицей, голубятней на улице детства или варениками из вишен, что варила некогда мать на Черниговщине. Просто в отлучке они были по житейской необходимости.
Второе — поколение свалившихся на харбинскую голову беженцев, всех этих офицеров без полков, купцов без сапог, но с золотыми рублями, зашитыми в подкладках, и просто человеческой мелкоты, неизвестно зачем, со страха ли, от непонимания ринувшейся в благословенный нейтральный Харбин — отсидеться, переждать и, конечно, домой вернуться, «когда псе успокоится».
Для этих Россия осталась отнятой и поруганной, с колокольным звоном, в первую очередь, усадебным парком, вырубленным крестьянами, или мельницей, реквизированной большевиками, с кровью, грязью вшивых теплушек, ненавистью и еще раз ненавистью.
И к этому поколению как раз подросли и влились в него дети первого — дядя Максим, дядя Алексей и прочие. Поколение в прямом смысле потерянное — ничего своего, кроме кавежедековского Харбина, не имевшее, всю эту мразь чужого отступления впитывавшее непроизвольно. И все вместе они вертелись, споря, враждуя, устраиваясь кто как — зубами вырывая друг у друга работу и, наконец, с облегчением и надеждой уезжая за границу — в Америку и в Австралию…
И, наконец, третье поколение. Дети тех, кто все же никуда не уехал из Харбина и остался ждать, как на вокзале: «когда мы вернемся в Россию». Только в одних семьях возвращение виделось непременно на белом коне, мимо трупов повешенных на фонарях «красных», в других — просто домой, к полям и березкам, весенним разливам рек, которых не бывает в Маньчжурии, к тому, уже необъяснимому святому понятию Родины, года, — ми сконцентрированному в клубок боли и безвыходности, что зовется ностальгией.
И что удивительного, если третье поколение, вроде бы одинаковое внешне — уродливыми японскими «момпэ»[9] вначале, а потом — золотыми звездочками Союза советской молодежи, в тот последний день существования русского Харбина, когда он, как корабль, отживший свои сроки, стал тонуть, расколовшись на две половинки, выбирало один из двух взаимоисключающих путей, не по зрелому размышлению своего времени, а по тому, подспудно в семьях сложившемуся понятию «возвращения» — в Советский Союз или в Австралию…
И теперь в городе Сиднее живет где-то старинный друг Сашка Семушкин, мальчишка с одной улицы, свидетель и участник того доброго и горького, что было у нее с Юркой.
А в Брисбене живет мальчик, теперь, как и она, пятидесятилетний, в которого она была влюблена когда-то, именно влюблена, а не любила, как Юрку.
Разные периоды взлетов проходит жизнь, и взметнулось это однажды таким яростным и внезапным горением! А может быть, это и было началом настоящего, а не та источающая душу полудружба, полулюбовь, пять лет сплетавшая их с Юркой?
— Хочешь увидеть Ильюшу Фролова? — спрашивали ее тети. — Это совсем недалеко, в Юранге, и можно позвонить по телефону. В прошлом году на Рождество мы видели его в церкви, он спрашивал о тебе и передавал привет, и мы сказали, что, может быть, ты приедешь…
Нет, что-то мешало ей снять трубку и позвонить, словно она боялась утратить в себе нечто прекрасное…
…Осень в Харбине. Золотая: прославленная, дальневосточная. Неподвижно в чистом небе стоят желтые тополя. Листопадом устланы булыжные мостовые улицы Садовой, по которой можно бежать напрямик от института до Комитета. Сухим шорохом отдается под ногами листва, когда идешь вечером по темному городу с занятий политсеминара и стучат рядом по тротуару сапоги Ильюшки Фролова. Нет, наверное, большего счастья, чем вот так идти, чтобы стучали рядом шаги, даже в чужом китайском городе, который для тебя только временное ожидание, а впереди, несомненно, — Родина.
Сапоги Ильюшка носил в ту зиму почему-то рыжие, трофейного образца, хотя давно уже миновали послевоенные годы, или это были сапоги старшего брата, убитого под Чэнгаузом[10] в сорок шестом, при нелепо мальчишеской, но все-таки защите города? Как бы то ни было, они именно делали его походку четкой и мужественной, и сам он был весь вытянутый, как струна. Рыжая взъерошенная прядь падала ему на глаза, огненно вспыхивая в просветах уличных фонарей, и он откидывал ее со лба каким-то своевольным движением.
Только четыре квартала было идти им вместе от Комитета до Чурина, а дальше он махал ей рукой и сворачивал к трамвайной остановке — ехать к себе в Славянский. Она махала ему рукой — пока! — и еще долго могла видеть, как он бежит но светлому от лупы асфальту и на ходу вскакивает в светящийся изнутри фонариком модягоуский трамвай. И все равно это ощущалось как счастье, хотя они были слушателями одного политсеминара, и только.
В ту осень пятидесятого года они учились уже на последнем курсе ХПИ и в числе других были направлены от институтского райкома ССМ на комитетские курсы пропагандистов. И для нее это была еще одна ступень ее юности, осененной красными флагами и именем комсомола. События истории партии и слова Ленина из разбираемых работ, в какой-то мере уже знакомые ей по курсу в институте, но преподносимые здесь под новым углом зрения, и то, что ее задачей становилось теперь нести их дальше, людям, как откровение, наполняли все существо ее душевным подъемом. И почему он учился там тоже, тогда не вызывало в ней вопроса. Все они были едины — «передовой отряд советской молодежи в Китае». И почему он. после политсеминара, мог оказаться не там, где она — на целине, а здесь, в Брисбене, вызывало недоумение. Значит, она не знала в нем чего-то главного?
И теперь она интуитивно откладывала встречу: еще много времени, она еще съездит сначала на океан и загорит на австралийском солнце — надо же быть красивой перед любимым некогда мужчиной!
Она еще съездит в Сидней и повидает подружек и Сашку Семушкина и тогда, может быть, поймет что-то…
Брат Гаррик с женой Лизой заехали за ней сразу после завтрака, в субботу, в день отъезда на океан. Сообща загрузили багажник имуществом на неделю, в том числе удочками и книжками для Гаррика — он собирался поработать. И подобрали на ходу — из воскресной школы — Антошу, притормозив против церкви, где он ждал их со страдальческим видом на солнцепеке. Антоша закатился с ней рядом на заднее сиденье и вздохнул облегченно, как человек, выполнивший тяжкий долг. Веселый упитанный ребенок в том возрасте, когда наши сибирские дети приходят с ключом на шее из школы, греют себе борщ из холодильника, предварительно сбегав за хлебом. Ботом, в темпе набегавшись по морозу с клюшкой, ответственно садятся за уроки.
Антошу в школу отвозит на машине мама Лиза, так здесь принято. Уроки делать нужно, иначе тебя будут переводить в классы низших категорий — так докатишься, что потеряешь право на поступление в университет! (Борьбу за «место под солнцем» ребенок начинает сознательно, с «младых ногтей».) В воскресную школу Антошу толкают по традиции — чтобы ребенок не забывал русский язык.
— И как тебе там нравится? — спросила она.
— Скучно, — сказал Антоша, жуя резинку, — сегодня учили стихи: «Нива моя, нива, нива золотая». Тетя Лёля, а что такое нива?
Действительно, для ребенка, родившегося в стране ананасов, понятие «нива» — более чем абстрактное! В той же воскресной школе по субботам проходят еще русскую историю и географию на уровне школьных программ до семнадцатого года. Комментарии излишни. Правда, почти так же училась она сама, лет сорок назад, в странном городе Харбине. Но то были другие времена, и жили они, отрезанные границами, войнами, оккупацией. А здесь? И что это — ограниченность пятого материка, или кому-то так надо?
— Аптон, перестань жевать! — прикрикнула на него с первого сиденья Лиза. — У тебя грязные руки, возьми салфетку и вытри!
— Мама, купите чипиков! — застонал Антоша (это — жареная картошка, в пестрых пакетиках и самая разная — с перцем, с сыром и просто).
— Подожди, приедем на место, папа купит тебе чипиков!
— А мы куда едем? Где мы жили? На Каррамбин?
Гаррик вел машину и был занят проблемой, как выбраться покороче за черту города.
На перекрестках с белых щитов улыбались повторяющиеся огромные фотопортреты мужчин и женщин — кандидатов в парламент. Выборы. И кипят страсти — каждый за свою партию. Австралийцы — это понятно, их страна. По то, что кипятятся по этому поводу русские, удивило ее.
Позднее, в доме у Гаррика, она будет свидетельницей перепалки.
— Вы доголосуетесь за лейбор! Вы дождетесь, что сюда тоже придут Советы!
— А вы держитесь за либералов, потому что у вас вклады в байке!
Она будет слушать с изумлением, узнавая старые интонации: так же кипели страсти тогда, в пятидесятых, когда раскалывался надвое, перед тем как вовсе перестать существовать, Харбин — центр российской эмиграции.
Но пока ее везли к океану. И там, куда везли ее, на Голд-Косте жил человек, который некогда если и не был в полном смысле ее идейным врагом, то не принадлежал к числу друзей, а в те времена это воспринималось равноценно, и у нее было к нему семейное поручение.
Почему-то стоило ей собраться в Австралию, как в ее Новосибирске обнаружилась масса знакомых, у которых там родственники! И все побежали к ней с просьбами — зайти, поговорить, посмотреть. Последнюю педелю перед отъездом она, практически, не работала: «Елена Константиновна, к вам опять пришли», — сообщали ей сотрудники, и она исчезала из отдела на «проходную». Начальник не то чтобы явно кривился, просто он махнул на нее рукой, на «заграничницу». Львиная доля поручений падала на Сидней — можно было подумать, что именно туда переехал, спасшись от кораблекрушения, город Харбин! В районе Голд-Коста был один Андрей, и она надеялась, что это не отнимет у нее много времени.
Шел день субботний — «уик-энд». И вместе с ними по белесой от зноя магистрали катился блещущий ветровыми стеклами, солнце отражающий глубиной поверхностей и всеми своими металлическими частями, многоцветный вал машин — к морю! С лодками, привязанными на крышах, и моторками на прицепах, белыми домиками «караванов» на буксирах, легковушки всех марок мира и фургончики, для отдыха оборудованные, и открытые грузовички, где сидели уже раздетые по-пляжному молодые люди — трепыхались ниже плеч светлые волосы, и доски для катания по волнам были составлены в кузове, как лыжи великанов. Даже лошади с умными терпеливыми мордами следовали куда-то на колесах в прицепных решетчатых тележках.
А слева между кронами стриженой зелени и крышами флэтов, в проулках, за стеклянными башнями «Серфэйс-парадайз»[11] уже начало вспыхивать пунктиром нечто сине-зеленое и шевелящееся.
Гаррик развернул машину на мост. Речка внизу была светлой, цвета морской волны — здешние речки вообще характерны тем, что не столько сами впадают в море, сколько море проникает по ним в глубь материка, не удивительно, что вода в них на десятки километров соленая.
Потом была зеленая кудрявая горбушка в красных крапинках крыш — это и есть мыс Каррамбип. Гаррик задержался у подошвы горы перед магазинчиком, где, не выходя из машины, получил все, что ему требовалось: баночки с пивом для себя и чипики для Антоши.
Еще один разворот. Справа — скала, а слева уже песок речного устья. И — ослепляющее пространство воздуха и воды, где только три тона синего: небесной голубизны, почти лиловой густоты горизонта и прозрачно зеленоватый, нефритового цвета — волны, идущей на берег! Белопенные гребни наката возникали из глубины пространства, разбивались с шумом в брызгах и кипении. И это было уже совсем рядом, отделенное от нее только почти белой полосой пляжа, пустынной и бесконечной, уходящей к сиреневым контурам другого мыса. Неожиданная на ровном песке скала, словно севший на мель парусник, стояла да грани земли и океана…
4
Ночами океан гудел ровно и мощно. Сквозь сон она всем существом ощущала этот гул, и деревянные, высушенные зноем стенки флэта не заглушали, а наоборот, как бы концентрировали звук.
Она просыпалась среди ночи, ближе к утру, с мыслью, что нужно подняться и бежать на берег и увидеть, как сеянце встает из океана — розового и неповторимого… Но вчерашняя усталость и жар загоревшего тела сковывали ее по рукам и ногам, разбуженные рассветом пичуги, может быть, даже зеленые попугаи, которых полно здесь в округе, начинали верещать прямо над форточкой в кроне массивного, похожего на магнолию дерева, и она снова засыпала, словно проваливалась в небытие.
Утром, когда Лиза хлопала дверцей холодильника на кухне, лилась в душе вода и Гаррик, просовывая в дверь улыбающуюся голову, говорил очень правильно и старательно по-русски: «Лёля, пойдем купаться!», солнце уже победно стояло над головой, ослепительно светились пески, и океан, голубой и обманчиво невозмутимый по горизонту, сверкал зеркальными всплесками.
Гаррик был простужен из-за нее на этом осеннем море, но героически снимал шерстяные носки и, чихая, нырял в стоящую дыбом волну. Волна обрушивалась с грохотом на песок. Гаррик плавал далеко впереди, недоступный силе волны и коварству, а она отскакивала обратно на сушу — наполовину мокрая и наполовину в песке.
Потом, прямо так, не одеваясь, они шли в свой, третий от угла скалы, дворик, босиком по пружинистой, как палас, траве, где ночевала в тени длинных стрельчатых листьев их машина и машины соседей по флэту. Обязательно мыли уже высохшие ноги под краном, потому что не дай бог занести песок на хозяйские мягкие полы — от песка в них заводятся какие-то тропические букашки! Хозяйский столик на резных ножках Лиза застилала белой пластиковой скатертью, ставила мед (из Тасмании) и масло. Штампованные из пшеничной муки «штучки», как называл их Антоша, в чашке холодного молока и туда еще накрошен банан — оригинально, но съедобно! Лиза считала, что так и нужно кормить ее — специфическим, австралийским…
Потом Гаррик мыл на кухне щеткой посуду в раковине, полной мыльной воды, и оставался дома, простуженный, со своими книжками по архитектуре. А они с Лизой брали большой зонт, который втыкается ручкой в песок, острой, как стойка теодолита, и шли на пляж.
И можно было растянуться на горячем песке, под таким ровным сухим жаром, какого не бывает у нас на юге, лежать, слушать шум океана и смотреть в прозрачный изгиб волны, зеленой и разбивающейся в пенном величин.
Песок — сыпучий, как пыль, и следы на нем остаются отчетливые, как слепок (наверное, такой след от ноги Пятницы нашел некогда на своем острове Робинзон. Кстати, это было где-то по соседству в океане). А пляж почти пуст, вернее, он просто огромен и способен вместить половину человечества! Пройдет дочерна загорелая пожилая пара с собакой; молодая мама в бикини лежит под таким же зонтом с маленьким и не мешает ему лазить в волну; старички, сухощавые, сморщенные, словно их специально сушили на солнце, ловят удочками рыбу со скалы, похожей на парусник. День будний — дети в школе, студенты на лекциях. Белые птицы кружатся над океаном и садятся на его качающуюся поверхность отдохнуть.
И странно — нет почему-то у нее ощущения отдыха в этом синем и золотом дне, у подножия мыса Каррам бил, кудрявого от тропической зелени. Нет того полного отключения души, что приходит к нам у своего моря, на жесткой ялтинской гальке или на обском берегу, замусоренном выброшенными водой корягами. То ли от того, что вечно неспокоен мятущийся океан, и это передается ей непроизвольно, то ли потому, что до предела сжаты и расписаны эти ее пять дней у моря: с обеда приедет Андрей и повезет ее в горы, к водопадам или на тот призрачный мыс на границе Квинсленда и Нью Саут Уэльса… Или это просто — чужой берег?..
Андрея они нашли в первый же вечер по приезде, когда вещи были разложены, океан порядком потрепал се и заставил хлебнуть соленой воды для начала, а солнце ушло за горы и на пляже стало нечего делать.
Лиза собралась мигом, и ей тоже пришлось надевать парадное платье балахоном, чтобы не уронить Сибирь перед заграницей! Антоша остался дома смотреть «тиви», пока это его главная и единственная страсть. И Гаррик вывел машину из тихой заводи Каррамбина на артерию — к огням, движению и сверканию.
Андрей жил ближе к горам, в стороне от магистрали, и они долго блуждали в переулках, высвечивая из темноты куски травы у обочины и кусты, перистые, как пальмы. И спросить не у кого — все сидят взаперти, только номера, словно светлячки, на фасадах. А тротуаров здесь вообще нет — одна узкая проезжая часть и подъезды к гаражам. Зачем? Никто не ходит пешком, а по чужим лужайкам тем более не положено!
Захрустел под колесами белый гравий, звоночек брякнул в глубине дома. Дверь отворил крупный мужчина, седой и сутуловатый. Она стояла перед пим в освещенном холле с лесенкой из полированных досточек, убегающей наверх, и шкурками кенгуру, вместо половиков, смотрела на него и не узнавала. И он тоже смотрел и не узнавал, может быть, от внезапности появления?
— Неужели Лёлька Савчук! — крикнул он и заулыбался. И тут словно серая фотопленка стала проявляться на глазах у нее, и лицо проступало из глубины, знакомое, но забытое, и не было больше седины и всего налета лет…
…Она шла из института, а он стоял, облокотившись на забор своего палисадника, и смотрел, как она идет, и улыбался мальчишескими круглыми глазами. И он был, видимо, после смены в своем паровозном депо, потому что nç снял еще синей казенной куртки в пятнах, а она шла, сверкая двумя рядами медных пуговиц на тужурке и двумя золотыми значками на бархате воротника — скрещенные ключ и молот, в белых тапочках на резинке, в белой английской блузке. И юбка в складку колебалась вокруг колен ее, как кринолин. И вся полна была гордости от сознания своего студенчества и значительности от принадлежности к передовой молодежи мира. И своей молодостью. И той необъяснимой музыкой стихов, записанных и незаписанных, что бродили в ней постоянно, мешая сдавать зачеты по сопромату. И может быть, от стихов этих, присущих ей, как дыхание, она всегда летела, словно на вершок над землей, в своих белых спортивных тапочках, не успевая вглядеться в окружающих.
Он так и скажет ей потом в горах, но пути в «Нэйчурал бридж»: «Ты все ходила мимо — одна и с ребятами из ХПИ, а меня не видела…» Да нет, видела… Но она считала тогда, что любит Юрку…
Он жил тоже на улице Железнодорожной, только в казенных красных домах, постройки КВЖД, и, пробегая утром на лекции, она замечала иногда, как он помогает отцу в палисаднике или пьет чай с сестрой на веранде. А знакомы они не были, потому что кружились по разным орбитам, у нее — свой институт и ССМ, у него — клуб Узла, железная дорога, которая в те времена была уже Китайско-Чанчуньской.
А матери их встречались в политкружке местного отделения общества граждан СССР (были в Харбине такие районные организации) и даже забегали домой за солью, по соседству, но это ее просто не касалось — у взрослых свои дела.
— Мама, ты посмотри, кто это! Это же Лёлька с нашей улицы! — Он тянул ее за руку своей большой и шероховатой рукой куда-то ввысь по ступенькам. Лиза и Гаррик поднимались за ними в большую гостиную, довольные. И мама вынырнула сбоку из пластиковой кухни, как ни странно, почти не изменившаяся со времен «местного отделения»…
— Я никуда не отпущу ее сегодня! — гремел он. — Нам же надо поговорить! Мама, ты постелишь ей в большой рум![12] Вы можете ехать к своему Антону, а завтра я доставлю ее вам, когда вы скажете! А еще лучше — я отвезу вас завтра в одно местечко, где в два часа дня один оркестрик играет русскую музыку. Такое вы нигде не увидите!
И они действительно поехали на другой день, и местечко это, по ту сторону границы штата Нью Саут Уэльс, оказалось гольф-клубом, современным дворцом среди благородной зелени травяного подстриженного ноля, где леди и джентльмены с видимой неторопливостью вдумчиво переходили с места на место, вооруженные набором клюшек и, иногда, складным стулом, замахи вались клюшкой по невидимому издалека мячику. А потом приходили отдыхать в свой стеклянный клуб, где было все для радости австралийца — в том числе зал с игральными автоматами и детская комната с голубым бассейном, дающая возможность родителям спокойно продаваться спортивной или азартной страсти.
Они поднялись в бар, где даже потолки были обтянуты синим мехом для комфорта, сверкали сквозь степы зеленые солнечные дали, а на утопленной в пол, скользкой, как каток, танцплощадке кружились в два часа дня странные пары. Вернее, это ей показалось странным — танцующие худые старички, с сухими негнущимися коленками, в шортах, и дамы, совсем столетние, однако в голубых платьях на сборочку, кокетливые из последних сил — для них это в порядке вещей, каждый веселится, как может!
Они сидели на возвышении за длинными столами — Андрей, Гаррик, Лиза, пили разные «дринки-оранджи» с кусочками льда, смотрели на «представление» сверху, а оркестр, о котором говорил Андрей, был еще выше — два человека, тоже очень старых, но в атласно-оранжевых рубахах стиля «цыганский барон», рьяно наигрывали на скрипке и аккордеоне вальс Штрауса и танго тридцатых годов, соответствующие молодости посетителей.
За этим же столом с ними сидела еще компания русских, и Андрей знакомил ее с ними, как «приехавшую из России». Господин Парасовченко с супругой, господин Вержинский и прочие… Они целовали ей руку со старомодной галантностью и спрашивали: «Ну, как у вас там?»; По что-то ей показалось в них непонятным, потому что они не были похожи на веселящихся старичков Австралии и на харбинскую эмиграцию тоже. Словно гости за чужим столом, они сидели своей обособленной кучкой, без радости, эти хорошо одетые, высушенные или одышкой страдающие мужчины, не по годам наряженные женщины. Словно им больше нечего было делать в воскресный день, как приехать сюда и ждать, когда забавный оркестрик исполнит «Очи черные»!..
В этом и был, в сущности, гвоздь программы: со своей скрипкой подходить к каждому столу, как купринский Сашка из Гамбринуса, спрашивать национальность сидящих и исполнять каждому свое — шотландцам, тем веселящимся старичкам с коленками, что-то их родное — «зажигательное», евреям — знаменитое «Семь сорок», англичанам — «типерерри», а русским, естественно,
«Ямщик, не гони лошадей, Нам некуда больше спешить…»И таким леденящим потянуло да нее здесь от этой старины, которую там, у себя дома, слушаешь, как милые романсы и только, но здесь, здесь это звучало по-другому, как осколки потерянного, и она очень остро ощутила это. Так слушали это они, сидящие за столом. И так слушал Андрей, хотя его никто не вынуждал терять это!
— Кто эти люди? — спросит она у него потом, в машине.
Те, кто не вернулся после плена, из Европы, и те, кто перебежал во время войны каким-то образом…
— Один из Ленинграда, один — инженер из Запорожья…
Сот оно как, оказывается. Ей стало неприятно, что Андрей с ними… Хотя какая разница, как ты отказался от своей страны. Важен результат — все за одним столом. И то, о чем они говорили почти всю предыдущую ночь, тоже не меняло ничего, перед этим конечным результатом…
Они проговорили с Андреем часов до трех утра, внизу, в той большой комнате рядом с гаражом, что в австралийских домах имеет смысл бильярдной или бара для гостей-мужчин, во всяком случае, помещение, где можно сидеть, не нарушая порядка верхних мягких комнат. Кирпичные стены оставлены в своем первозданном виде. Вертится на проигрывателе русская пластинка, русские книги стоят в шкафчике — Толстой и Есенин рядом с Солженицыным… Да, Солженицын при полном комплекте нью-йоркского издания. Всюду в домах она видела этот посев ненависти. У одних — просто, почему же не почитать, когда такой шум вокруг него, у других — как оправдание их пребывания за границей.
. — Ты пойми, ничего этого у пас сейчас нет! — говорила она.
— Я не верю! — горячился Андрей. — А что они сделали с Пашей?
Павел был старшим братом Андрея и служил в Асано. Но он не был корнетом, как Гордиенко или Бернинг, он был рядовым, забранным без спроса и желания, чистил коней в отряде на Второй Сунгари и терпел оплеухи своего и японского ефрейторов. И, может быть, его не забрали бы, как корнетов в сорок пятом, когда пришла Советская Армия, если бы не одно обстоятельство. Девушка, которую он не любил, потому что имел другую невесту, пошла в комендатуру и сообщила, что он якобы из тех, что ходили диверсантами «на ту сторону» при японцах. Действовала она из принципа женской ненависти — если не мне, то и по тебе! Время было такое, что этого стало достаточно. Только в пятьдесят шестом, когда половина Харбина уехала эшелонами на целину, кто-то написал им из Союза, что Павел умер где-то под Тайшетом… Отца уже не было в живых, а у них с матерью были готовы документы в Австралию.
— Я не прощу несправедливости! — фактически это и было единственным, что Андрей имел к Советской власти. И еще одного он не мог простить, по-видимому… Того, что случилось — с ним…
— Ты не знаешь, я же уходил в Союз в сорок седьмом, и меня вернули обратно! Помнишь, было такое поветрие — когда ушла Армия, стали уходить пешком на Родину через границу? Кто-то переходил, и мы больше ничего о них не знали, кого-то возвращали…
Да, она хорошо знала это, потому что так уходил Юрка, и его тоже вернули, и потом он рассказывал ей про сутки на советской земле, на погранзаставе, как он плакал от отчаяния, что не нужен родной земле, и как майор сказал ему на прощанье: «Иди и учись дальше. Нам нужны специалисты, и тогда ты придешь сюда. Непременно!» Но так было с Юркой, и он успел обернуться за зимние каникулы.
— Так вот, меня вернули. А пока я ходил туда и обратно, Седых выпер меня из института. Помнишь нашего директора? А что я тоже учился в ХПИ, не помнишь? Недолго, половину семестра. Ты уже носилась где-то в верхах — второкурсница, а я только поступил, когда выдался такой случай — уйти в Союз. Мы же не знали, что с Пашей. Думали, все выяснилось, и он просто где-то работает. У меня была мысль, что я найду его. А Седых вызвал меня в кабинет и выпер за пропуски лекций. Ему наплевать было, что я уходил не куда-нибудь, а на Родину! Потом отец меня к себе в депо устроил. И я уже не хотел ничего больше: и вашего Союза молодежи, и ехать туда, откуда меня выдворили однажды, тоже не хотел! Тем более, что, по милости Седых, я остался без образования.
— Ты думаешь, мне легко пришлось здесь? Ваши, из ХПИ, держались своей кучкой, вертелись сообща — друг друга вытягивали, рекомендовали. Поедешь в Сидней, увидишь — это же каста, «инженеры и жены инженеров»! А мы с мамой были практически одни. Мы жили в Мельбурне. Там зима гадкая, мы намерзлись, как собаки. Квартиры у них здесь, сама видишь, легонькие. Сняли флэтик. Хозяйка австралийка попалась вредная — все не так! Печка дымила, у мамы разыгрался ревматизм — куда ей работать! Хотя тут наши мамаши устраивались поначалу мыть посуду в ресторанах и уборщицами в больницах, я се не пустил. Меня вытянула деповская выучка. Я же там стал на все руки — и токарь и слесарь, хозяину это было выгодно. И так я батрачил у него в мастерской, года два, пока скопил денег и купил трак. Ты видела их — громадные, красные, на дорогах?
— Попробуй поездить на таких махинах! К концу дня у тебя ни спины, ни рук нет, а едешь и днем и ночью: быстрее обернешься — больше заработаешь! Я возил камень из карьеров. Это и опасно при здешних скоростях: не совладаешь с такой тяжестью на развороте, — никто не соберет. Ну, это все позади, Лёлька. Теперь у меня свой бизнес, и я ни от кого не завишу. Это главное!
«Свой бизнес», как она поняла, — флэты на побережье, большие и маленькие, вроде тех, что они сняли на неделю с Лизой и Гарриком. Можно ли жить на это, или есть что-то еще, — она не разбиралась. И можно ли жить этим?
— Да ладно, хватит моих дел, расскажи лучше про себя. Как вы осваивали целину?
И она рассказывала. Хотя очень трудно оказалось передать, если человек никогда этого не видел.
…Свинцовое по осени небо над Кулундой. Белые пятна солончаков по степи, окаймленные низенькой красноватой травкой. И беленые, как на Украине, глинобитные села под шапками из камыша. Тогда еще было так в Казанке, куда их привезли эшелоном. Она ездила туда снова, когда выходила из печати ее книжка стихов, и нужно было что-то проверить в себе. И она не узнала села под блестящими цинковыми кровлями и нового кирпичного клуба, взамен того, глиняного длинного сарая, где она смотрела свои, первые на родной земле кинофильмы, а с потолка, для тепла засыпанного половой, труха сыпалась на головы зрителей. (Когда они приходили домой с Сережкой, приходилось капитально вытрушивать шаль и шапку.) Но главное осталось неизменным — та старая березовая роща за МТС и хлеба, золотые и неохватные до горизонта. И хотя ей было безумно трудно тогда и боль-по — нарывала разбитая на комбайне рука, и холодно под свинцовым небом, ощущение беспредельности своего хлеба и этих берез вошло в нее там, на целине, и осталось на всю дальнейшую жизнь, как точка опоры. И как объяснить это Андрею, когда у него своего — этот зеленый клочок травы под домом и еще пусть десять таких клочков по побережью…
— Я всегда говорил здесь всем нашим: я уважаю Лёльку Савчук. Там она носилась со звездой на груди и писала стихи о Родине, и она поехала. Тут ходят некоторые — в Харбине кричали громче всех, а оказались здесь! Да я терпеть их не могу! И твоих из ХПИ, в частности. Я больше дружу с пленными, теми, что побоялись. Тут еще полно всяких, как вы называете, власовцев и бендеровцев. С этими я тебе не советую видеться — могут и оскорбить, и сказать что попало… Ладно, я тебя заговорил, у тебя уже глаза не смотрят!
Она сидела против него, за низким столом из пластика, и смотрела на него и думала: сам он, в сущности, простой русский мужик со своими все умеющими большими руками, вполне мог быть на месте где-нибудь у них на Сибсельмаше, а теперь, в возрасте, и на начальника цеха потянул бы. И было бы у него, как у всех, конечно: квартира с ковром на полу или стене (что понравится ему) и машина — вполне вероятно, а уж дача — обязательно! (Так она понимала его.) А по ночам, вместо русской музыки в пустой бильярдной — спал, тоски не зная, или смотрел футбол-хоккей по цветному телевизору, а по воскресеньям, вместо чужого гольф-клуба с «Очами черными», уезжал с такими же мужиками на Бердь, на рыбалку. Просто — жизнь… И это было бы то, для чего он создан, и нечего ему делать в этой Австралии!
И матери его тоже нечего делать на роскошном Голд-Косте! В Австралии, вообще, по соседству общаться не принято, а здесь — тем более, и уж мать-то вовсе одна в австралийской спальне, китайскими вязаными шторками от жгучего солнца завешанной. Ей бы сидеть сейчас на скамейке возле своего подъезда со сверстницами, и кто идет мимо — видеть и комментировать, и что в каждой квартире делается — быть в курсе.
Андрей выключил музыку («Клен ты мой опавший») и потушил свет. Сразу стали сиреневыми окна. Она пробежала потихоньку по коридору, чтобы не разбудить маму, в отведенную комнату.
Спала почему-то неспокойно, неловко притулившись на краешек кровати, огромной, как в кинофильме «Анжелика, маркиза ангелов». И проснулась, наверное, поздно, потому что солпце палило вовсю, Андрей успел съездить на «бич» искупаться, и нужно было торопиться — Гаррик и Лиза ждали их для продолжения воскресного дня.
По дороге в гольф-клуб Андреи завез их на сипни обрыв над океаном, где стоит мемориал капитану Куку, на границе штатов Квинсленд и Пью Саут Уэльс. Узкие белые плиты поставлены вертикально под углом друг к другу с указанием стран света, и на скользком от полировки постаменте нечто вроде компаса с медными частями и надписями. Свежий морской бриз раскачивал метелки чего-то игольчатого, что растет у нас на Зеленом Мысу в Батуми. Машины стояли стадами вдоль обрыва над аквамариновой глубиной, люди толкались вокруг мемориала, и было непонятно, они приехали отдать дань капитану Куку или просто потому, что но воскресеньям в штате Квинсленд запрещены спиртные напитки, а в Нью Саут Уэльс более покладистый премьер — пожалуйста!
Принято считать: капитан Кук сделал доброе дело, подарив Европе этот плавающий, как ковчег в океане, вечно зеленый материк — люди, живите и радуйтесь! Теплое море, белые пляжи, голубые горы… (Только аборигенов он как-то не принял во внимание…)
В горы Андрей повез ее однажды, когда она только-только растянулась с утра на песке в ожидании безмятежного дня. Отдых у моря не состоялся. Синяя машина рванулась мощно и понесла ее по серпантинным дорогам в вышину.
Откосы дорог — рыжая, как охра, земля. И корни, толстые, изогнутые в судорожном сплетении, держат дерево почти на весу, выползают на поверхность, словно им душно в этой сухой каменистой почве. Чем-то похоже на наш Крым к востоку от Алушты, только — эвкалипты…
Андрей остановил машину у кемпинга перед перевалом. И пока он ходил и брал что-то в баре, она не стала ждать его в аккуратном внутреннем дворике, где отливала искусственной синевой вода в бассейне и одна влюбленная пара сидела за столиком и кормила солеными орешками назойливых, черных, похожих на сорок, птиц, разгуливающих по песчаным дорожкам. («Кемпинг для молодоженов», — сказал Андрей.) Она вышла на волю, на бугорок.
И в просторном провале у ног ее — горы, горы ступенями уходили вниз к побережью, серо-зеленые вблизи и дымчато-голубые на расстоянии. И совсем рядом, только перейти асфальтовую полосу въезда, начинался буш — вытянутые ввысь, пепельные стволы эвкалиптов, телесно-светлая и гладкая на ощупь древесина и жухлые клочья коры, свисающей naît ритуальные лепты. Трава низкая и жесткая с сероватый налетом. Стройные леса, почти прозрачные понизу, в резком шорохе высокопоставленных крон, с кистями продолговатых листьев, без того запаха зелени и травы, без которого нет для нас леса! Теперь она поняла, почему австралийские горы, даже чуть отодвинутые, голубые: от неуловимого оттенка листвы. Словно, наглядевшись в синь океана, деревья впитали его окраску…
Хрустели в траве коряги, высохшие до серого цвета кости, ручеек, как ломтик стекла, лежал на оранжевом дне в ложбине («крик» — называют здесь такие ручейки-речки). Андрей шел от машины и махал ей: «Не ходи, смотри, наступишь на змею — тут у них хватает!..» Змея в природном состоянии ей увидеть не довелось. А чуть попозже, когда они запарковали машину на стоянке у «Нейчурал бридж» и шли к водопадам, нечто скользящее, с чешуей стального блеска и на четырех лапах, размером с собаку, деловито и как у себя дома пересекло площадку под колесами машин и пошло вверх по склону, заметая драконовым хвостом прошлогодние листья. Маленький динозавр — ничего себе!
Вниз, в узкий и влажный распадок уходили древесные ступеньки.
— Смотри, не поскользнись! — и впервые на этом континенте начала она погружаться в зеленый сумрак и душную сырость субтропиков. Густое сплетение растений и первобытный каменный хаос. Стволы, такие огромные, что корни их черпали влагу где-то в глубине ущелья, узлами лиан перетянутые, в зеленой мохнатости мха, да еще что-то ползучее, как плющ, спадало с них складками и перекидывалось на скалы, скользкие от сочившейся воды. Папоротники-деревья. Рядом с их знакомыми, но в десятки раз увеличенными ветками она чувствовала себя «Дюймовочкой». Многоствольные гиганты, с корневой системой в рост человека, похожей на чудовищное сухо-задние, на поверку оказывались элементарными фикусами, только в своем доисторическом обличии. Можно поверить, что Австралия — кусок райского сада, который бог по рассеянности забыл на земле!
Радостно и жутко было ей в этих недрах, где пахло прелью и тем неповторимым пряным настоем горных лесов, что памятен ей. Маньчжурские сопки — вначале («Помнишь?» — сказал Андрей). А потом Крым, Джуджидский водопад, дым от костра перед палаткой и грохот воды рядом в каньоне, туристское лето… Это уже разделяло их с Андреем — вся ее в России прожитая жизнь, о которой он не имел понятия…
И наконец то, ради чего они шли в эту преисподнюю — каменный свод, как мостовая арка (отсюда и название — «Природный мост»). Сверху в пролом земляной коры устремляется вместе с солнцем, белый в сумраке, столб воды и растекается подземным озером в пещере. Потом, дальше, он снова выбежит в распадок — поить деревья и травы, но здесь, в колдовском мире подземелья, была словно остановившаяся в каменной чаше темная и непрозрачная вода.
— Хочешь искупаться? — сказал Андрей. — Я всегда плаваю здесь, когда приезжаю. Пойдем, давай руку. — И она пошла за его рукой с камня на камень, по острым ребрам, осклизлым от подземной плесени, так легко, в своих японских туфлях на поролоне, в цветастой юбке и белой обтяжной майке, по здешней моде, словно опять стала молодой, как некогда…
Он сложил на камень полотенце и одежду. Ровная, плотная на вид вода расступилась, и пошли по ней серебром отсвечивающие складки. Вода была ему чуть выше груди. «Прыгай, не бойся, я тебя поймаю», — и она сползла осторожно на край последнего камня и, еще держась руками за его гребень, опустила ноги в воду, прохладную, но не остужающую, словно ее подогревало внутреннее тепло земли. Он протянул руки, и она скользнула в эти руки и в воду, как в колодец. Одно мгновение стояли они так рядом в воде, когда рукн его то ли поддерживали, то ли обнимали ее. Потом она отодвинулась и поплыла, раздвигая поверхность светлыми, почти светящимися в воде руками. По одного этого мгновения достаточно было увидеть: он смотрит на нее прежними, с улицы Железнодорожной, глазами.
А потом был день, ослепительный и теплый, когда он фотографировал ее через пропасть на каменном краю водопада.
Вода низвергалась с шумом, прозрачными струями, и вздрагивал камень, на котором она стояла, и ей казалось, что вот-вот ее снесет вниз, в тот провал, где они были с Андреем только что. А вокруг — утесы из белого камня, увенчанные сероствольной, голубоватой растительностью.
Обратно они спускались другой дорогой, и черная, как каменный горб, гора в сползающей мантии лесов, в глубине которой таилось чудо природы «Нэйчурал бридж», возникала на разворотах все дальше, и Австралия распахивалась зеленью долин и хребтов, пятнистых от пролысин возделанных полей, только не видно было, что там растет — бананы пли кукуруза?
Банановая лавочка самообслуживания попалась им на дороге — нечто вроде примитивной хижины с надписью «SELF», и лежали в ней под крышей бананы, желтые и изогнутые, как бумеранги, и хурма — золотистые терпкие плоды, сложенные горкой, как ядра. Цена — доллар 10 штук, и ни одного человека на протяжении этих гор, до ближайшей фермы. Андрей насыпал фруктов на заднее сиденье и накидал монет в жестяную первобытную копилку («Здесь вполовину дешевле!»).
Домики ферм — разные — простенькие дощатые, беленые или из желтого кирпича, не менее изысканные, чем на Голд-Косте, с пестрыми клумбами у порогов, появлялись, по ходу, на склонах, у края расчищенного поля или сбивались в кучу вдоль дороги. И здесь же ютилась школа. В тени пустого первого этажа, под сваями, сидели ребятишки с учительницей, спортивно-тоненькой и беловолосой. Ребятишек постарше вез навстречу им пестрый тупоносый автобус — домой, из городка покрупнее. И церквушка высовывалась где-нибудь с краю поселения, старинная со шпилем или совсем современная — одна острая крыша стоит краями на земле, только на красном фасаде вдавлен крест — а так и не поймешь, что это? Бригада ремонтников чистит дорогу. Агрегат, похожий на грейдер, и парень, управляющий им, коричневый от загара, и сухонькие старики в оранжевых жилетах и ковбойских шляпах перекидывают в сторону красную землю.
— Почему они такие старые и работают? У нас такие уже дома сидят.
— Они не старые — просто климат, и потом у нас пенсия — только в шестьдесят пять…
…И опять идут пейзажи сельской Австралии — мягкие увалы под синим сияющим небом, купы кудрявых Деревьев, среди яркой зелени пастбища, похожие на ветряные мельницы вертушки на вышках: — так у них здесь качают из глубины воду. и, конечно, изгороди. Вначале она просто не замечала их, видела только горы в лесах и красоту земли, такой привольной и благодарной…
Изгороди — колючая проволока на столбиках — умело прятались в придорожном кустарнике, пунктирными ниточками рассекали склоны от вершины до подножия на равные квадраты. А потом стала замечать. Практически ты не можешь остановить машину и войти в этот лес, чтобы увидеть небо в просвет веток, потому что лес этот — чужой. Каждый лес — чья-то частная собственность, и если войдешь в него без спросу, хозяин имеет право применить огнестрельное оружие, как к нарушителю собственности. Ты не можешь взобраться на каменный уступ этой горы, и стоять там, и видеть синеву хребтов с высоты, и испытывать чувство восторга, близкое к полету, потому что это — чужая гора! (Есть смотровые площадки в национальных парках — стой, опершись на перила, и фотографируй на здоровье, а здесь нет!)
— Разве ты не хотела бы иметь собственную гору — у нас это возможно, — сказал Андрей, и было непонятно, всерьез он спрашивает или подшучивает. Нет, не хотела бы! Слишком мало — одна-единственная собственная гора, в противовес всем лесам и горам ее страны, где она может бродить и лежать и собирать грибы и дышать ветрами на вершинах!
— Но ты всегда можешь попросить разрешения зайти на чужой участок. Обычно они не запрещают. Мы так и делаем, когда едем охотиться…
Ничего-то не понятно им здесь, и разъяснять бессмысленно! И странно, стоило увидеть ей эти изгороди и понять их смысл, прекрасная зелено-голубая Австралия словно поблекла в глазах ее — поделенная, разрезанная, перегороженная… только океан, пожалуй, нельзя перегородить и распродать по частям. Берега его — да, к сожалению, но сам он — вольный и всеобщий и, наверное, потому, немеркнущий.
Вечерами, когда тень от мыса Каррамбин накрывала пляж и сразу холодел песок, считалось, что с океаном на сегодня покончено и нужно ехать куда-либо ужинать пли развлекаться. Гаррик сменял мятые шорты на выходные, Лиза наводила красоту, и опять приходилось нырять в. машину и нестись, раскачиваясь на поворотах. Небо над материком на западе становилось циста расплавленного металла, и резко очерченной, почтя черной рисовалась на нем изломанная линия гор.
Иногда Лизе не хотелось ехать далеко, и они пробирались относительно тихой дорогой вдоль берега до рыбного магазина, где розовая морская тварь продавалась во всех сырых и вареных видах, под стеклом и во льдах, и остро пахло морем. Они покупали пакет маленьких красноватых, похожих на креветок, подводных жителей, с нежным белым мясом под роговой оболочкой. Гаррик заворачивал на ближайший мыс, где так же, как «У капитана Кука», был обрыв и камни, о которые разбивалась изумительной синевы волна и росли все эти странные деревья, словно ставшие на цыпочки, на вытянутых из земли корнях, колючие, остролистные и хвойно-развесистые. И почти всегда были столы и скамейки, в тени и на ветерке в самой обзорной точке мыса. Они сидели, лущили как семечки эту мелкоту, вместо ужина, она смотрела на океан, как он меняет расцветку к ночи — лиловеет, словно наливается темнотой, начинают зажигаться вогнутые дугой берега, а там, к северу — зарево встает над светящимися столбами «Серфэйс-парадайза».
Но иногда Лизе, наоборот, хотелось сутолоки и движения ночной жизни, и они неслись, уже в темноте, в мигающем машинном потоке к этому острову света — «Жемчужине побережья». (Австралийские Сочи, только без наших здравниц, и поистине золотой берег — «Голд-Кост», потому что впитывает в себя доллары, как воду песок).
Они парковали машину где-нибудь в свободной щели среди прочих машин и вливались в толпу, праздную и неторопливую, плывущую в стеклянных стопках витрин, в отсветах огненных букв, мимо пальм и столиков на тротуарах — к набережной. Набережная была как световой коридор над морем, машинами вплотную уставленная, осененная созвездиями отелей и флэтов. А самого океана не было видно за барьером, только глухо гудел он, словно заявляя о себе и протестуя.
Лиза потянула их в итальянский ресторанчик «Пицца хат». Они сидели в интимном полусвете в красных кожаных креслах, за скатертями красными в белую клеточку, и все здесь было этих фирменных расцветок. Прямо из печи, в оболочке из фольги, им выдали нечто странное — пирог или блин пресного теста и на нем набросано вперемешку: мясо и рыба, и помидоры, и колбаса, и все это на прослойке из сыра, расплавленного и тягучего, как резина. Очень много перца, и вообще — «вкус специфический»! Пицца режется дольками, и больше одного такого треугольничка не одолеть!
— Что ты еще хочешь попробовать? — спрашивает Лиза.
— Гаррик, куда бы нам еще повезти Лёлю? — Лиза старалась быть доброй и приветливой с женой брата. А Гаррик просто был добрым и славным, и вообще ей было хорошо с этой молодой парой на отдыхе, когда ни о чем не думается всерьез. Только присутствие поблизости Андрея смутно беспокоило ее… Потом они возвращались к себе на Каррамбин, спящий и тихий (если не считать соседнего флэта, где жила какая-то волосатая коммуна парней и девушек и сутки гремела диковатая музыка)… И пока Гаррик ставил машину, не заходя в дом, она бежала на берег — мгновение постоять наедине с океаном!
Берег мрачен и пуст. Ночной океан, темнотой растворенный, похож на черный провал в космос. Только кайма пены белеет во тьме и бьется о песок, набегая и отступая. Босыми ногами она заходит в это шипящее кружево… А небо все в звездах, густо насыпанных и незнакомых… (Знаменитый Южный крест — где они, эти четыре точки-звезды с крохотной искоркой посередине?) И здесь под ненашими звездами, рядом с прекрасным, но чужим океаном, вдруг подступает к ней ощущение такой оторванности от дома и от Димки, что еще немного — и захлестнет ее тоской и тревогой. Тогда она машет рукой океану и бежит от него на светящиеся окна флэта.
Наступил вечер прощания, вернее даже день, потому что после Шести часов должен был заехать за ней Андрей и отвезти к себе на «барбекью»[13], и даже этого, ночного мгновения с океаном, у нее уже не будет! Гаррик собирался сфотографировать ее возле скал и песков, да все как-то не получалось. А сейчас, когда осталось два считанных часа, сизо-свинцовая туча поползла из-за гор, и пришлось срочно хватать аппарат и полотенце и бежать на берег, чтобы успеть до дождя.
Океан померк, словно в его ясную синеву добавили черных чернил. Рванул ветер с гулом и с силой, и островерхие валы покатились по взрыхленной поверхности. И уже. нельзя стало пройти по сухому, к той, похожей на. парусник, скале, которую ой хотелось увезти с собой в Сибирь запечатленной. Между камнем — внахлест залетала вода, платье стало мокрым и прилипло к коленям… Японскую туфлю, что держится на одном пальце, сорвало с ноги, и Гаррик едва успел выловить, пока не унесло на глубину. Такую мокрую, с прилипшими ко лбу волосами он и снял ее, в память о пребывании на Голд-Косте: на камне скользком и почти синем, в грозовом отблеске, сидящую; спиной к ноздреватой, источенной морем скале, прижавшуюся; на колючем ребристом рифе, среди пены морской, стоящую… «Прощай, свободная стихия!» — сказал некогда в аналогичной ситуации Пушкин, и, наверное, лучше и точнее не скажешь!
Дождь прошел стороной, и небо было многоцветным и полосатым: иссиня-лиловым над хмурыми мысами на севере, чистым и сиреневым накануне заката над материком и загадочно зеленым в стороне океана… И сам океан притих внезапно и стал невиданно зеленым, как трава, отходил, оставляя промоины на сыром песке, со звоном стекала назад в море из расщелин камней вода.
— Стой так, я последний кадр сделаю! — сказал Гаррик. — Очень оригинальное освещение! — Она подумала: вот и конец ее Океану… А с Гарриком им поговорить ни о чем не удалось — все суета и метание. Жил рядом неделю, родной по крови человек, а ей недосуг было заглянуть в него! Они даже похожи удивительно — брат и сестра — черты деда Савчука, через поколение повторенные на разных материках — у Гаррика в точности, у нее — чуточку смягченные, в женском варианте. И, может, не так уж беспечально живется ему под безоблачным небом Австралии?
Издалека она видела, что около их флэта уже стоит синяя машина Андрея и сам он идет к ним через желтый промокший пляж, и следы за ним остаются темные и глубокие, как ямки.
Часть вторая Свидания в Сиднее
1
— Как ты ехала? Ты жива? Тебя не укачало? — Сашка вынимал ее чемодан из распахнутого багажника. Автобус стоял длинный, обтекаемый, серебряный. Окна автобуса запотели, и весь корпус был в каплях влаги от дождя, можно было подумать, что это испарина после гонки по ночным дорогам.
Мостовая была мокрой, и все вокруг смотрелось в едином стальном оттенке рассвета — глубокое ущелье улицы и плоскость фасадов, по-деловому сосредоточенных, не проснувшихся еще. Только высоко где-то проглядывали клочок желтоватого неба и обрывки расходящихся дождевых облаков.
Редко шли люди ранних профессий, но даже в этой утренней пустоте ощущалась монументальность и мощь большого города Сиднея.
Ее так долго качало ночью по спящим, почти смыкающимся городкам побережья, что, уже въехав в Сидней, она не знала, что это так, и продолжала дремать, припадая лбом к оконному стеклу. И только когда вдруг внезапно автобус, как самолет, повис в ажурной ферме Сиднейского моста и внизу слева, словно выходящее из морской воды, в разреживающейся синеве, она увидела совсем реально жемчужное, створчатое чудо «Опера-хауса», поняла, что приехала и сейчас ее будет встречать Сашка.
…Сашка нашел ее сам и ворвался в дом, в Брисбене. Тетушки написали кому-то из родственников в Сидней, что у них гостит Елена, молва о ее прибытии пошла по Австралии, а Сашка ехал в Брисбен в командировку и оказался знаком по инженерной линии с братом Гарриком.
Она мирно сидела у дяди Максима, ожидался ужин, по телевизору показывали излюбленные австралийские лошадиные скачки, когда Наталия позвала ее к телефону. И это был Сашка — голос из прошлого!
Он влетел через четверть часа — все тот же, до невероятности нестареющий Сашка, элегантный, в песочном пиджаке, что всегда было свойственно ему, только странно было видеть его в коротких штанишках!
И они обнялись на пороге столовой по-братски, с восклицаниями:
— Лёлька, здорово! А ну, покажись, какой ты стала!
— Сашка, боже мой, это — ты!
Ужин у дяди Максима не то, чтобы сорвался, но пошел в усиленном темпе. Они говорили, дядя Максим только смотрел на обоих поочередно, и что-то коньячного цвета они даже разлили по рюмкам и выпили сообща — за встречу! Нелогичной может показаться такая бурная радость, если вспомнить, как они с Юркой провожали Сашку из Харбина, как отринули его бесповоротно от себя — за Австралию, потому что в их понятии там, тогда он предавал Родину.
Даже наедине она не смогла переломить себя и подойти к нему в ту самую минуту, когда он стоял на пахнущей фруктами южной платформе вокзала, в своем бежевом, в дорогу сшитом костюме (Сашка всегда имел склонность к тропическому стилю), а она была совсем рядом, потому что работала тогда на станции Харбин-Центральный, ей было больно и жалко его почему-то, но она не подошла. Уезжающих она отрубала от себя, как мертвых, — время было такое, и были они молоды тогда и категоричны.
Что же изменилось теперь, если нет этого чувства непримиримости? Или просто мудрость возраста — признавать за человеком право выбора жить, где и как ему свойственно (со всеми последствиями сделанного, разумеется)? Она не умела лицемерить, если встреча получилась так, а не иначе…
Сашке не сиделось на месте, ему хотелось поболтать с ней отдельно от родственников, к тому же он был в командировке, с вольным режимом ненормированного времени, и вообще весь заряжен энергией, как конденсатор — аж искры летели, и он потащил ее сначала к ее собственному брату Гаррику (якобы им нужно поговорить о деле).
В такси Сашка держал себя с превосходством столичного жителя (Сидней хоть и не официальная столица, но все же — Главный Город Австралии), с таксистом рассуждал по-английски уверенно, меняя неузнаваемо тембр голоса.
Брисбен домиков и переулков был темен и тих. В такси качало их и прижимало на кривых разворотах, и Сашка крепко держал ее за руку, словно боялся, что она вот-вот исчезнет.
— Лёлька, ну надо же!..
Окна в доме Гаррика светились в зелени веток. Сын Гаррика Антоша — розовый, австралийский ребенок — выбежал к ним в переднюю в пижамке. Жена Гаррика Лиза вышла в длинном домашнем платье для гостей и была, как всегда, золотоволосая и причесанная, несмотря на поздний час. И они сидели в гостиной Гаррика, изысканной по-европейски. Еще бы — он архитектор и объехал половину земного шара! И опять что-то пили, теперь уже из длинных резных фужеров, светло-янтарное, с кубиками льда, которые помешивают соломинкой. Сашка держал в пальцах фужер небрежно, разговаривая, а она поставила свой потихоньку на пробковую пластинку — не дай бог уронишь! Все-таки неуютно она чувствовала себя во всем этом.
Сашка звал Гаррика показать Лёльке ночной Брисбен. Гаррик отказался, но все же вывел машину, и вместе с Лизой они подбросили их до Сити, заодно прокатив на заднем сиденье сонного, как был в пижамке, Антошку.
Поразительно ощущение пустынности центра вечером. Ни для кого светились витрины и надписи. Отдельные люди в полосах света на тротуарах. Только машины, черные, как жуки, шелестели мимо, иапроход. На мощенной плитами площади перед «Сити-холлом» бил в пустоте подсвеченный красным фонтан. И фасад с колоннами и часами на башне, осененный черными силуэтами пальм, стоял рельефно освещенный и безжизненный. Получалось — никому не нужны эти обаятельные вечера и воздух, легкий от близости океана. С заходом солнца все заперты в своих домах и своих машинах.
Рядом, в маленькой, на фоне стеклянного гиганта, готической церквушке, шла служба и теплилась жизнь. Они зашли с Сашкой на цыпочках, чтобы не нарушить проповеди, и огляделись. Кирпично-мрачноватые своды. Немногочисленные леди и джентльмены… Чужое…
— Пойдем, Сашка…
И Сашка вознес ее в обитой голубым мехом коробочке лифта на какой-то тридцатый этаж. Было это — типа ночного кафе. Свечки из прозрачного воска горели в полумраке на плетеных бамбуковых столиках для двоих. На пятачке эстрады играл вполне мелодичное ансамблик из молодых ребят — белые сорочки и галстуки. Парни международного образца пили стоя, облокотясь на барьер бара. И шли танцы — привычное уже колебание рук и раздольных юбок. Одна девчонка, у которой плечики были шоколадными от загара и освещения, а платье-бала-хон держалось на шее на одной веревочке, сняла туфли и так плясала босиком, с туфлями в руках, снизу вверх взирая на слегка бородатого партнера.
Это была молодость и не их с Сашкой возраст, но все равно ей было интересно смотреть на кусочек другой жизни. И ей спокойно было сидеть за чашкой кофе, за столиком на двоих, при колебапии огонька в толстой и розовой подтаивающей свече, потому что рядом был Сашка, мальчишка с одной улицы Железнодорожной. И, как ни смешно, самый близкий ей человек в Австралии, потому что родственников своих она просто не знала прежде. А его она знала, даже в такую пору раннего детства, о которой он сам забыл, наверное.
Сашкина мать держала коз (многие тогда держали коз в Харбине в годы японской оккупации), и Сашке поручалось это маленькое козье стадо. Он сидел на лавочке около своего забора, белобрысенький и круглоголовый, с видом человека, который вынужден заниматься немужским делом. Хворостина стояла, прислоненная к забору, как бы сама но себе, и всему их девчачьему обществу он давал понять, что его эта щиплющая на пустыре траву «компания» не касается. Вот таким еще она знает Сашку, не говоря о поздних годах, когда он носил студенческую тужурку с шиком, как морскую форму. Верный друг — провожатый, у калитки скрипучей — прощание…
— Где сейчас Юрка с Ириной? — спросил Сашка.
— В Москве, защитил диссертацию, пишет докторскую. Ирина у него в институте зав. лабораторией экономобоснований.
— Слушай, почему у вас в Союзе все наши ребята главные инженеры, начальники? Что это — правда?
Она но смогла объяснить ему — почему? Работают просто… Он прилетел сюда по реконструкции сахарных заводов (Квинсленд — страна тростника), и стал объяснять ей, с горячностью прежнего Сашки, в какие сжатые сроки ему необходимо это сделать, потому что владельцев не устраивает долгая остановка заводов…
А она подумала: если бы он был там у пас и, залетая в Новосибирск на командировочных путях, как другие, сидел у нее на кухне, под белым шкафчиком гарнитура, и так же толковал о реконструкции в каком-нибудь Нижнем Тагиле, как бы хорошо это было — рядом по-настоящему свой человек. А сейчас?
Они договорились, что во вторник она выезжает в Сидней автобусом, и он надавал ей кучу указаний, как вести себя в дороге — при ее неграмотности, и где, и во сколько он будет встречать ее, — автобус приходит рано утром, и он еще вполне успеет на работу в свою фирму.
В Сидней провожало ее девяносто процентов родственников, словно она уезжала по крайней мере в кругосветное путешествие.
Наталия сунула ей в сумку рулончик влажно ароматных салфеток, без которых просто невозможно даме отправляться в путешествие. Гаррик привез фотоаппарат, Чтобы запечатлеть ее на фоне сверкающего автобуса фирмы «Ансетт». Дядя Максим тоже присутствовал, как старейший член семьи. Дяди Алексея не было. Вообще-то она рассчитывала, что он, как самый свободный и еще транспортабельного возраста, отвезет ее в Сидней сам, но он отказался: «На хайвей[14] такой трафик! Такой трафик!» А у него совсем новая машина! Машина у него была действительно настолько новая, что, когда он приезжал на ней к тетушкам и если в этот момент неугомонный сосед шотландец поджигал свою очередную кучу листьев, он разворачивался и уезжал, чтобы на машину не упали крошки пепла. Конечно, совершить на ней путешествие в шестьсот километров было просто немыслимо. Ей очень хотелось посмотреть поближе ту часть Австралии, к югу от Брисбена, но нет, так нет, общественный транспорт не подводил ее никогда, даже на немыслимых районных дорогах!
Двери автовокзала выводили на белую под солнцем набережную. Речка Брисбен, девять раз изогнувшись по городу, демонстрирует здесь свою очередную петлю. Просматривается пара брисбенских мостов — арочных, бетонных и тоже ослепительно белых. По самое интересное: «экспрессвей» — развязка в трек уровнях, вертятся в воздухе и даже вылазят на воду — слишком дорого отнимать у Сити драгоценную земельную площадь, дешевле выстроить еще один мост не поперек, а вдоль реки на свайных основаниях. Правда, Гаррик сказал, что жители Брисбена были недовольны, полагая, что им испортили реку.
В зале автовокзала объявили посадку, и все делалось аналогично аэропорту — уехал сам ее чемодан, служащие за стеклянными стойками были предупредительны (в форменных галстуках, нижняя часть, формы опять же укорочена, выше колен, по причине климата). Вместе с ней в автобус садилась оригинальная пара — не различить, где парень, где девушка, по росту разве? У обоих за плечами возвышалось что-то, вроде лестниц, на которых в цветной пленке укомплектовано дорожное имущество. Наталия объяснила — у них так любит путешествовать молодежь, берется проездной билет, и можно всю страну объехать за месяц, пересаживаясь на любые рейсы. Существует, значит, еще и автобусно-пешеходная Австралия…
И снова все сдвинулось и покатилось относительно окна и откинутой спинки кресла. Вначале — знакомая уже магистраль, по которой, Гаррик возил ее на Голд-Кост к океану. И ей не терпелось выбраться из жаркого, мелькания пальм, бензоколонок с эмблемами компаний — ракушки «Шелл», золотого барана и «Мобил», флэтов, пустующих в конце летнего сезона, подставивших солнцу свои лоджии, свои кресла возле бассейнов, магазинчиков, предупредительно распахнувших многоцветное нутро, и уж, конечно, ресторанов — красных китайских пагод и черных, словно сдвинутые на лоб шапки, кровель «Пицца хат». И ей не хотелось смотреть на это сейчас снова, как на что-то пройденное и пережитое. Тогда это было продолжением беспечности первых отпускных дней. Ярко-синий кусок времени размером с педелю — синее море, синие горы и синяя машина Андрея — все это прошло, пролетело, было или не было? Только осталось непонятно щемящее что-то за душой: неизвестный, в общем-то, человек.
И дальше, когда кончилось праздное великолепие Голд-Коста стоянкой у павильончика, похожего на наши — где-нибудь в Гаграх, пустующие места в автобусе заполнились, до черноты смуглыми, дамами, видимо возвращающимися с «холидея» в Сидней, и пошла собственно Австралия, это беспокоящее чувство памяти не оставило ее. Потому, что справа, над мирно-зеленым я горами, синеватой полосой лесов, клубящихся в лощинах, и пятнистыми черно-белыми коровами, пасущимися по склонам, возник ненадолго размазанный голубизной расстояния, указующий в небо каменный пик, а чуть в стороне — косматая спина горы, куда она ездила с Андреем.
И памятный поворот на проселочную дорогу, где начиналось поле сахарного тростника — длиннолистные трубчатые стебли, зеленой стенкой идущие над машиной (тростник, который рубили в начале века братья Савчук — Максим и Алексей).
А перед этим была граница между штатами Квинсленд и Пью Саут Уэльс, и здесь она выглядела просто как шлагбаум на горной трассе. Почему-то через границу нельзя перевозить фрукты, и пришлось усиленно доедать свои, уложенные тетушками, яблоки.
И въезд в городок с рокочущим названием из двенадцати букв, мимо старого дома в саду, с резными ржавыми балконами (она подумала — кто-то жил здесь со своими страстями человеческими), и мимо островерхой церкви на пригорке, над плюшевым футбольным полем, где сейчас шел детский матч и стояли по обочинам машины и родители.
Городок фермеров, вроде нашего райцентра, где есть улица торговая, повторившая в миниатюре своих брисбенских собратьев: маленьким банком, маленьким «милк-баром». В «милк-баре» прошлый раз они покупали сандвичи — треугольные тоненькие ломтики хлеба, переложенные ветчиной с горчицей. На крыльцо банка поднималась тогда оригинальная старушка — сарафан до земли, малиновый, рукава прозрачные — морской волны, на голове розовая шляпа с цветами.
— Что это — маскарад? — удивилась она.
— Ничего подобного, — сказал Андрей, — просто старушка оделась выйти в люди, за пенсией. Каждый одевается, как ему нравится!
Прошел и теперь уже больше ire повторится для нее городок, одним боком отраженный в речушке с плоскими муравчатыми бережками, ивами, мосточками и лодочками — крохотный рай земной.
И когда кончилось все это, виденное и смутно тревожащее, и начался неизведанный край, который можно было рассматривать легким взглядом путешественника, наступил вечер.
Автобус шел ровно и скоро, и это отнюдь не был «заблудившийся автобус» Стейнбека. Современно-сигарообразный, в котором было все необходимое человеку в дальнем странствии, и пассажиры его, отделенные высокими спинками кресел, не только не общались, а практически не видели на ходу друг друга.
Никогда потом она не будет так долго рядом и без посредников среди австралийцев, и ей страшно хотелось понять, кто из них кто, но это не удавалось.
Ужинали они в Лизморе на краю городка в застекленном кафе, под вид наших «ветерков», у бензозаправки. Она не очень уверенно села за столик рядом с худощавой, английского облика дамой, напротив пары супругов, плотных и белокожих, поедавших свои заказные «стейки» — куски мяса, величиной с ладонь. Похожий на грека курчавый парень тянул пиво за столиком наискосок. Две девицы, у которых все было вытянуто в длину — ноги, лица и волосы, просто курили и тарахтели о чем-то своем, перед зеркалом в «дамской». Напротив, через дорогу, была железнодорожная станция, где на узкой, словно игрушечной колее стоял такой sue несолидный товарный вагончик. Пакгаузы из рифленого железа розовели на закате. Она ходила по бетонной площадке перед бензозаправкой, где, кроме всего прочего, висели для продажи на перекладинках связки мокассин — мягких и разноцветных, как наши чувяки, смотрела на полосатое, пурпуровое у края земли, небо и ждала отправления. Длинный старый мужчина, седая стрижка ежиком и синие джинсы, также ходил нетерпеливо, разминувшись с ней, и она подумала: по внешности — типичный профессор из Академгородка, выбежавший вечером на Морской проспект поразмышлять, а здесь бог его знает, кто оп?
Автобус катился по полям, и темнота словно настигала его. Длинные тени застывали в складках земли, силуэты деревьев чернели на глазах, обугливаясь, и скоро окно затянулось пленкой ночи. Шофер включил передний свет, и от всей Австралии остались видны только полоска дороги и белые столбики по обочине, вспыхивающие при сближении фосфоресцирующими точками.
В середине ночи была пересмена, они остановились где-то на шоссе у одинокого дома в низине. Шофер ушел с вещами на свет окон, пассажиры дремали, только двое вышли покурить, и она тоже высунулась на воздух. От края шоссе, обрамленный косматыми кустами, шел вниз невидимый обрыв. Она решила, что это обрыв, потому что ощущение пустоты впереди было огромным, и что-то там шевелилось внизу. Она подумала — океан… А в общем, кто ее знает, эту загадочную Австралию!
На последней стоянке перед Сиднеем она не выходила — шел дождь, асфальт жирно лоснился в свете фонарей. Желто светились стекла бара, куда ушли пить подкрепляющее пассажиры.
А потом уже был Сидней и Сашка со своей братской заботой:
— Тебя не укачало?
Он вез ее о гордостью по серо-туманному пробуждающемуся городу, и, безусловно, это был Город — с большой буквы!
По пути Сашка завернул в круглый, как стадион, парк, где не только ходят, но и ездят на лошадях, и совершил с ней «круг почета» вдоль оловянного озера и травы, но которой уже бегали в своем «утреннем спорте» сиднейцы.
Дом у Сашка — в старой части города: (Безумно дорого, но зато рядом — центр, а это окупает многое!) Ив каменных улицах, вполне нормальных, с узенькими тротуарами было что-то немножко от старой Риги, и, как ни странно — маньчжурского Гирина! Эти плотно прижавшиеся торцевыми стейками здания, эти крыши из черной или красной черепицы, двускатные, продолжающие одна другую, так что, если смотреть сверху, получится длинный чешуйчатый гребень. И очень много старинных, с кружевными верандами по фасаду — из каких глубин Европы или Азии пришел сюда этот архитектурный стиль, который ей называли «колониальным»?
Здесь не было места брисбенским дачным лужайкам. Сашка виртуозно втиснул машину в предназначенное ей бетонное стойло, а рядом решетки и ступенечки, стилизованный под старину звонок заливался над дверью дома, который оказался повернут к улице самой своей коротенькой стенкой. Смешная, не русская собачка Жужа с восторженным воплем кинулась им под ноги. Были Анечка и Анечкина мама, которой она не знала прежде, и потому чувствовала себя связанно, как бывает поначалу в незнакомом доме. А Сашкина мама уже лет Девять как лежала в австралийской земле… Парадокс! Только ради матери он едет сюда, кричал им Сашка в ту последнюю разломную встречу. Оказалось, жара и слабое сердце… А если бы снежно-сосновый Новосибирск?
— Вот твоя комната!. — распорядился Сашка. — Сейчас идем быстро завтракать, нам нужно на работу. Потом ты пойдешь под душ. Потом за тобой приедет Вера — она взяла для тебя сегодня день. Мы здесь все распределили. А завтра с утра я повезу тебя на бичи. Гаррик возил тебя на Голд-Кост? Так это совсем другое!
Судя по первому взгляду, море было совсем близко, синей массой оно колыхалось, создавая горизонт в конца улицы. И хотелось, по российской привычке, все бросить и бежать к нему вниз, по горбатому спуску — поздороваться (как это делала она, приезжая куда-нибудь в Крым…).
Две вещи привлекали ее здесь, разрывая надвое время путешествия: земля-Австралия и Океан. Земля со своими эвкалиптами на большой скорости летела рядом, и автомобильных окнах, а Океан — мгновения блеска и шороха — так и не доведется ей проникнуться им вдоволь… А тут еще целый мир людей и отношений, некогда отторгнутый бесповоротно, вдруг начал возникать, словно затонувший град Китеж из воды, со своими домами и колокольнями — в прямом смысле…
2
— Тебе повезло, — сказал Сашка. — В это воскресенье сбор окончивших ХПИ, и ты увидишь сразу всех наших… Сначала будет молебен в соборе, а потом — обед в «Русском клубе».
Второе апреля — день основания ХПИ! А она не знала! А может быть, и знала прежде, да забыла — так далеко отстранилась от того, что было тогда. Хотя это — родной ее институт, и ему, в первую очередь, она обязана тем, что есть сейчас — инженер на своем месте. Правда, после института было еще многое, что сделало ее сегодняшней, и потому, наверное, ушли из памяти те, первые даты… А они здесь помнят и чтут — почему это? Или то, что было у них потом, ничем больше не обогатило их, и институт так и остался для них мерилом всех ценностей человеческих?
…Итак, был город Харбин и в нем Харбинский политехнический институт. Белое здание кавежедековских времен (бывшее русское консульство) с полукруглыми окнами и широченным крыльцом, способным вместить на своих ступенях весь наличный состав студенчества, буквой «Г» развернутый учебный корпус вдоль улицы Садовой и — еще поворот — лабораторный корпус но Технической. В пятидесятых годах квартал замкнется новым помпезно-колонным зданием, увешанным внутри на бумажную лапшу похожими «дацзыбао»… Но это будет уже не тот ХПИ, где учились Лёлька Савчук и Сашка Семушкин и носились в вальсе под хрустальными люстрами по паркету белого институтского зала. И тем более не тот, где в двадцатых годах текущего века слушал лекции Лёлькин пана и в том же белом зале познакомился на Тагьяшшском балу с Лёлькиной мамой…
Институт возник, говоря образно, — из пепла империи, в апреле двадцать второго года, когда давно уже не существовало царскою правительства, а Дорога продолжала по инерции возить и грузить на правах акционерного общества. Во главе Дороги стоял деловитый и разворотистый мужик Остроумов, а в город Харбин с беженской волной «со всея России» скатилось достаточное количество лекторско-профессорского состава (из Томского, Казанского, Петербургского университетов), «не принявшего», «пе понявшего», «убоявшегося», чтобы читать полный курс Института путей сообщения по российской программе и на высоком, по тем временам, техническом уровне.
Институт начал жить силами общественности и на хозрасчетных началах (обучение платное), и под надежным крылом КВШД — как кузница кадров и очаг инженерной мысли.
Лёлькин папа, тогда еще молодой и интересный, ходил (иногда, по студенческой вольности — нараспашку) в тужурке с кантами, покроя до тысяча девятьсот четырнадцатого года, голубой фуражке с кокардой (цвета морской волны) и в наплечниках — золотой вензель «И» под двуглавым орлом, но без короны, на груди у орла китайские литеры «гун бэнь» — высшая школа, как дань стране пребывания. О вольнолюбивом духе тогдашнего студенчества можно судить также по заметке в многотиражке «День политехника», бережно сохраненной им, где в разделе юмора ему от лица старостата высказывалось пожелание: «Коль ходишь в баню по субботам, ходи хоть в среду в институт!».
Профессура могла позволить себе традиционно-стариковские странности из категории перепутанных галош, что, однако, не помешало ей довольно прочно вложить в головы молодых формулами насыщенную Муку. Можно сказать со всей ответственностью: здания, запроектированные теми выпускниками ХПИ, не падали и мосты выдерживали десятикратные нагрузки — что-что, а прочности у старой инженерной школы не отнять!
Институт прекратил существование одновременно с КВЖД, после захвата Маньчжурии японцами. Институт возродился вновь, как феникс из пепла, через десять лет, в сорок пятом, когда в город вошла Советская Армия. Дорога заполнилась командированными в синих кителях с погонами, и серебро носил на плечах первый директор института подполковник Седых. Собственно говоря, с этой даты — сорок пятого — и исчисляла она всегда основание своего института, и было странно, что они здесь отмечают ту, стародавнюю. И Сашка в том числе.
На второй день после «белого бала», того самого, первого школьного выпускного, вслед за освобождением, на котором присутствовал первый начальник Дороги Журавлев, мужчина могучего сложения и большой значимости в этом городе, где все начиналось сызнова — с Дороги, как во времена постройки КВЖД. Лёлька и Вера отправились на Правленскую, в канцелярию института подавать документы на инженерно-экономический факультет.
Шло лето сорок шестого года, одуванчики доцветали в сквериках по Бульварному, где стояли еще не до конца разобранные населением на металл остовы японских орудий, так и не успевших сделать ни выстрела с этой линии обороны. Пустыми глазницами смотрели окна развороченных за зиму японских казенных квартир, где только начинали по-хозяйски стучать плотники.
Совсем близко было время, когда уходила Советская Армия, и сознание отказывалось поверить, что это — навсегда и окончательно. И не будет больше этих чудесных парней с их «катюшами», зачехленно стоящими в растоптанных харбинских палисадниках, с их плясками вприсядку на липких половицах эмигрантских домишек, в душевной щедрости раздававших наголодавшимся горожанам мешки трофейной муки и банки сладковатых японских консервов… Могучих, никогда прежде не виданной женщинами Харбина, той мужской доблестью Победы… Любимых и любящих и, порой, до конца жизни не забытых, с их щемящим сердце прощальным вальсом: «Ночь коротка, спят облака, и лежит у меня на погоне незнакомая ваша рука…» И, пожалуй, у каждой из тридцати девочек в первых длинных платьях на том «белом балу» был свой синеглазый лейтенант, канувший вместе со своей боевой машиной в огромной России. И еще ожидалось, вопреки разуму: «А вдруг они вернутся?», — и еще больно саднила потеря, а нужно было танцевать на своем выпускном, под ту же мелодию и даже с самим начальником Дороги, и думать, как жить дальше.
Они с Верой пошли вместе в канцелярию института не потому, что были подружками в ту пору, а просто закадычная Нинка Иванцова не поступала — она непреклонно стремилась в медицину, а Вера поступала, и они пошли вместе, чтобы не так было страшно впервые заходить в это солидное здание. И она, Лёлька, поступала не потому, что рвалась в технику и математику, она любила только стихи, но больше ничего «высшего» по было и не могло быть в этой Маньчжурии, и слава богу, что был Политехнический, а ведь и его могло не быть, если бы не вошла в Харбин Советская Армия… Странно, почему иге не приходит в голову им здесь, в Австралии, что именно Стране Советов должны они быть благодарны за свое инженерство и за те доллары, что они получают сейчас в иностранных фирмах, в конечном счете…
Итак, она пришла с Верой на Правленскую, и совсем взрослая прическа из локонов, сохраненная с бала, короной осеняла ее вместо обычных косичек и придавала, уверенности переступить порог. И все показалось ей замечательным в этом здании, где были высокие потолки, стеклянные двери, хотя и требующие ремонта после лет японского владычества. Кроме того, в вестибюле около зеркала им повстречался знакомый, настоящий студент Славка Руденко и приветствовал их как абитуриенток! Славка быт неотразим в своей голубой фуражке образца старого ХПИ (так было модно у парней почему-то) и тужурке со всеми уже современными значками и регалиями. И они взирали на него с почтением, непроизвольно, хотя знали его давным-давно, потому что одна девочка из их класса, которая в институт не поступала, собиралась за него замуж, и он вечно околачивался у них на школьных вечерах и даже кружил в танцах девчонок по очереди, когда не было других кавалеров, из человеколюбия… Он потащил их в свой верхний коридор «строителей», где квадратами на полу лежало солнце, и дал заглянуть в аудитории: почти как в школе, парты и доски, только побольше размерами! Они посидели с ним на подоконнике второго этажа, а внизу был двор, кирпичными фасадами огороженный, и желтая волейбольная площадка посередине, по которой с хозяйским видом гоняли мяч взрослые прошлогодние студенты. И ей захотелось, чтобы скорее это все стало и ее тоже — собственным и неотделимым…
А потом, очень скоро, были вступительные экзамены, на которых она совсем но боялась, — задачки оказались знакомыми, и о каком конкурсе могла идти речь в полупустом, необжитом студентами корпусе? Они писали математику, все факультеты вместе, в большой комнате. Юрка строчил неподалеку, от листа не отрываясь, Сашка шуршал на последней скамейке, а в дверях маячила фуражка Руденко: «Помочь не нужно ли?»
А потом был целый кусок лета, когда она знала, что поступила, и только ждала начала занятий. Лето, тягучего и смутного, потому что все, что составляло до этого ее жизнь, закончилось, а новое практически не начиналось.
Исчез, как приснился, Харбин японской оккупация. И Харбин сорок пятого года минул неповторимо, с песнями и танками на улицах. И школьное все осталось позади, словно сошла она на конечной остановке трамвая и оказалась одна, в пустоте. Правда, уже работал в городе первый молодежный клуб НKOM[15] в том дощатом, как кораблик, здании теннисного клуба на Большом проспекте, куда привел ее весной Юрка, и теперь все лето она ходила туда по вечерам — сочиняла стенгазеты и прыгала в волейбол на бывших песчаных кортах, но все равно было смутно и тревожно.
Только что вошла в город китайская восьмая армия, и никто еще не знал — хорошо это или плохо? Изумрудно-зеленые «палудины», в тряпочных туфлях на босу ногу, стояли на часах у бывшего штаба Квантунской армии и доброжелательно, по соседству, висели на клубном заборе, комментируя удачные мячи. А со стороны Чанчуня ужо подступал к городу Гоминдан, и все знали, что это просто страшно, потому что, по слухам, он вырезал всех советских граждан, а у нее и у прочих уже были новенькие советские паспорта, с тисненым гербом на обложке. Только Дорога возила и грузила, как живая связь с Родиной, и Институт при ней состоит устойчивой точкой в пространстве. И пока он был, и пока Москвой командированный директор его — Седых сидел в своем деревом обшитом кабинете, можно было думать, что не забыты они и не брошены на произвол судьбы в этой Маньчжурии, хотя и ушла Армия, и есть для чего учиться и жить.
А потом наступит зима, первая послевоенная в этом городе, когда ни угля, ни света, заглохнет электростанция, и коптилки из ваты зачадят бобовым маслом в квартирах, где углы комнат, промерзшие до ледяной изморози, и ни читать, ни чертить невозможно! Только Институт будет светиться вечерами всеми своими окнами по фасаду, Дорогой питаемый. И тепло батарей, чуть тлеющих, однако можно сидеть на лекциях и даже писать, одну руку вытащив из рукавички. И можно вязать на спицах из японской трофейной шерсти, причем клубки ее выкатываются из-под стола к кафедре, прямо под ноги старичка-лектора, повидавшего всякое в разнообразных поколениях студентов. Институт, даже больше, чем дом, — сосредоточение жизни на земле, вот чем был он для нее в те первые годы. И плечо Веры рядом, как нечто надежное и неизменное…
…И снова рядом Верино плечо в чуть душноватом, тесном мирке машины с устойчивым запахом кожи и незнакомых духов, в обволакивающем тепле и биении пульса мотора, словно сдвинулись пласты времени и сомкнулись краями, и ничего этого не было — двадцатипятилетия, и Вера та же и не та…
— Где тут Лёлька! — услышала она утром ее голос, когда стояла босыми ногами на пушистом розовом коврике Сашкиной ванной комнаты. Голос был совсем прежний — мягкий и низковатый одновременно, и манера растягивать концы слов не исчезла, она помнила в Вере это, — оказывается, голоса наши меньше всего подвластны возрасту… Лица — подвластны, как фотопленка, фиксируя пережитое, и руки жесточайше деформирует жизнь, а голос остается, каким его запрограммировала природа… Что же еще, помимо голоса, остается в нас от юности неизменным?
Сидней, один из красивейших городов мира, летел в глаза им в ветровое стекло машины, соединяя, как первая тема общения, спустя четверть века, но и разъединяя, по существу, потому что время для задушевных женских бесед еще не наступило. Цвета кенгуру, машина рванула их в город от Сашкиного крылечка без всякого интервала после первого «подружкиного» объятия — дней у обеих в обрез: у одной — на. изучение Австралии, у другой, — чтобы помочь ей (не стоит забывать: ради этого дела взяла день у себя в фирме, что, наверное, не так просто в капиталистическом мире).
— Ну, смотри! Нравится тебе наш город? (Как ни парадоксально, это теперь ее город, хоть, бы но праву вложенного труда — проектирование коммуникаций не на уровне ведущего инженера, но все же…).
Дневной, деловой Сидней завихрялся каруселью машин на развязках «экспрессвей», втягивал в щелеобразные улицы Сити, столь узкие, что, если едешь но Георг-стрит в одном направлении, вернуться назад можно только по параллельной Питт-стрит! И снова — стеклянные чрева магазинов под козырьками, по низу — знакомые по Брисбену «Дэвид-Джонс» и «Сюзанн», только масштабнее и изысканнее (еще бы — Сидней, первый город Австралии!). И толпа, текущая в тени козырьков, уже не брисбенская — жаркая и цветная, а сугубо озабоченная, сдержанно-элегантная толпа осенних расцветок, бархатно-коттоновая, шерстяная, клетчатая, двигалась в едином скором темпе походки, пружинистой от высоких каблуков — у женщин и деловито-размашистой — у мужчин, И хотя они с Верой, зажатые с машиной в русло проезжей части, находились внутри этой толпы настолько, что можно, было разглядывать детали сумок — на ремешках через плечо и покрои пиджаков из натуральной и искусственной кожи, ее не оставляло чувство отчужденности, словно не плоскость стекла всего лишь отделяла от этих людей, а безмерное пространство телепередачи. Или все дело в свойствах толпы? В лицах ее, в большинстве случаях замкнутых хорошо поставленным выражением непроницаемости?
После серого утра день так и остался блеклым, без солнца. И потому, возможно, город открывался ей при огромности своей, строгих пастельных тонов — розово-бежевых старых зданий с лепными фасадами в стиле каких-либо английских королей, заглушаемых обелисками современности — белобетонными, сетчатыми от оконных переплетов, прямоугольными, округлыми, шестигранными, как карандаши, почти смыкающимися зрительно в заполненном ими небе… (Одно такое с чернополированной поверхностью, длинное и узкое, как надгробье, запомнится ой в правом углу Сити и будет служить вешкой, чтобы но заблудиться.)
В зеленом квадрате Гайд-парка, где одинокие развесистые деревья и граненая ротонда военного мемориала, лежат на ворсистой траве люди в непринужденных позах: у них «ленч», оказывается, и они просто отдыхают — кто как хочет. Здесь так принято.
Громада собора песчаного цвета, вся резная и остроконечная, как выветренная скала, совсем по-средневековому пылает свечками из темной глубины.
В скверике у картинной галереи, в центре города висят на веревке, с дерева на дерево перекинутой, гигантских размеров — на великанов, из овечьей шерсти вязанные рубахи, штаны, носки, и ветер раскачивает их, как флаги. Что это? Реклама? Да нет, просто так, чтобы людям интересно было…
Публичная библиотека. Колонный греческий портик, как и подобает храму человеческой мысли. А мимо летит, свистя шипами, магистраль, а сверху нависает знакомый уже черно-полированный офис.
— Я хочу, чтобы ты зашла. Это — лучшая библиотека Австралии. И есть русские книги. Здесь Димочка занимается, когда ему нужно.
Вера паркует машину на стоянке у входа, и они входят в зал, где дневной свет течет с потолка, деревянные пюпитры старинной конструкции, деревянные галереи с лестницами. Вдоль стен кожаные тисненые корешки на стеллажах. И тот, единый для всех библиотек мира, запах книги: старой бумаги и, может быть, рук человеческих, листавших ее.
Пожилая русская дама подошла к ним и села рядом, за краешек пюпитра — поговорить. (Удивительно, как безошибочно узнается русское лицо, даже незнакомое, здесь, среди иностранных. Особенной мягкостью и округлостью черт, а главное — отсутствием чего-то общего, присущего окружающим.) Оказалось, она работает ассистентом у профессора университета, вернее работала, потому что он уезжает к себе в Англию, и ее уведомили, что больше в ее услугах не будут нуждаться, и она подбирает ему последние материалы…
Они с Верой пошептались (тишина в библиотеке, как положено) и разошлись неслышно.
— Поехали дальше…
Проходя меж рядами мимо низко склоненных голов, подстриженных, с проседью и современно кудрявых, девичье-длинноволосых, она подумала: если скинуть со счета «ненашесть» одежд, чем собственно отличается эта интеллигенция Австралии от нашей — где-нибудь в читалке ГПНТБ? Хотелось задержаться и, может быть, поговорить, только невозможно — библиотечный закон — молчания, и барьер языка, и вообще у них вступать в разговоры с посторонними не принято!
Картинная галерея. Вера купила билеты и цветной каталог, изданный на прекрасной глянцевой бумаге.
— Хорошо, что ты приехала, я бы сама сюда не собралась…
В углу вестибюля — странная скульптурная группа: терракотовые голые тела, как куклы, сделанные из вязаной, сетчатой ткани, лежали и сидели на корточках на такой же терракотовой матерчатой, как палас, земле. Талантом, а может быть, фактурой материала, достигалось правдоподобие их. Аборигены? За своими первобытными делами, на глазах у посетителей галереи искусств — как дань первожителям этой земли или как контраст — перед высотой культуры: что вы увидите дальше?
Они шли с Верой по прохладным мраморным залам, и, впервые в Австралии, это был мир, который она любила и который приносил ей радость всегда у себя дома, потому что в каждый свой отпуск она стремилась прикоснуться к подобному — Эрмитаж или Третьяковка, Айвазовский в Феодосии…
Она не была знатоком живописи — вот он где сказался пробел от ее позднего приезда в Россию! Дело в том, что в промежуточном городе Харбине не было и не могло быть подлинников больших мастеров. Только в детстве — открытки в альбомах. Только имена Маковского, Репина, Саврасова — больше как символ потерянной России. А потом пошли годы бурного взлета идейности, и Микеланджело просто не умещался тогда в ряд с Маяковским! Рембрандта она открыла для себя уже на русской земле, в возрасте тридцати лет, поздновато, может быть, для постижения, но все же… И теперь безотчетно, просто притягивал ее в свою глубину мир образов и красок, приводя до душевного трепета от общения с прекрасным.
Они шли с Верой вдоль полотен на серых от масляной краски стенах, одни, без привычного по нашим музеям экскурсовода, и потому было трудно постичь это незнакомое, на чужом языке представленное. Вера переводила надписи с золотых планочек на рамах. Немного европейского Возрождения с библейскими сюжетами и крыльями ангелов. Голубовато-зеленые, словно размытые водой, импрессионисты. И старая Британия, о которой она со-»сом. мало знала, — коричневые кудрявые деревья клубились. кронами на пейзажах, прекрасные леди, похожие (в ее представлении) на Ирен Форсайт, затянутые в палевые шелка, смотрели с портретов. И вдруг — крохотная связь с Ленинградом: Джошуа Рейнольдс — английский юноша в алом мундире эпохи освоения Австралии взглянул на нее с достоинством с полотна… Достаточно быдо здесь абстракционизма, которого она вовсе не понимала, — пятен и полос. Картина, словно куски исчерканных обоев, какие-то вроде бы рыбы, но собранные из железных заклепок, и вроде бы колеса от велосипеда, а может быть, это лицо человеческое? Даже нечто из натурального металлолома конструктивно возвышалось на постаменте! Такие вещи они с Верой обходили стороной, потому что обеим, это не нравилось. И здесь я?е рядом — прекрасный по целомудренности и простоте барельеф «Любовь и жизнь» — вся вытянувшаяся ввысь на кончиках пальцев, стоит нагая маленькая женщина. Обняла рукой за шею могучего парня, другая рука протянута к ребенку, что надежно сидит у него на плече. Это уже — Австралия, двадцатые годы.
— Ты не находишь, что это не совсем прилично? — сказала Вера. — Такая откровенность…
.. Боже мой, в этом — вся Вера! Такой она и осталась: сдержанность чувств и — что скажут люди! А будь она иной, все могло сложиться иначе, тогда, в пятьдесят четвертом. И не было бы этой посторонней Австралии, только потому, что сюда хотели ехать папа с мамой! И был бы Ленька — изыскатель, отчаянный и непутевый, каким его почему-то считали там и каким его не хотели для нее пана с мамой… И горьких складочек у губ — признаков грустного старения тоже не было бы… Что угодно мог намешать в ее жизни Ленька, только не это…
…Весной пятьдесят девятого они встретились с Ленькой на станции Кошурниково, на стройке Абакан — Тайшет, той знаменитой тогда стройке, овеянной именем комсомола и романтикой изысканий. И станция, пока только желтый барачный поселок на вырубленном клочке леса, была названа в память трагического мужества партии Кошурникова, погибшей в военные годы рядом во льдах, на реке Кызыр. Дневник Кошурникова, найденный в талой воде, через год после гибели — полуразмытые блеклые листки, с его наметками трассы и последней записью «сегодня наверно замерзну», как символ силы человеческого духа, держала она с трепетом в руках в архиве «Сибгипротранса» у лих в городе, что и толкнуло ее; на существу, на этот полет но стройке в качестве нештатного корреспондента «Молодежки».
И были это те первые пять лет ее жизни на родной земле, когда она не знала еще, кем станет окончательно — инженером или писателем, и она металась и кружилась по командировкам, писала стихи и работала, и была еще замужем за своим Сережкой. А Ленька тогда не был женат, потому что не мог забыть Веру? Или просто не располагала к этому кочевая изыскательская жизнь? Они встретились внезапно на крылечке конторки строителей, где свежеструганые доски ступенек захлестывал жидкий кисель грязи, висел щит показателей с меловыми корявыми цифрами и два трактора топтались напротив, глухо урча и приминая гусеницами ребристый снег. Тракторы шли на Козинский перевал к стоянке изыскателей, и Ленька отправлялся туда по своим делам, пытался утолкать в кабину какие-то ящики и пререкался с трактористами, и она не узнала бы его в гуще этих парней в одинаковых ватниках, если бы он не увидал ее на том крылечке. И хотя она тоже была в ватнике и платочке, но все же отделялась чем-то, по-видимому, от строителей — корреспондент!
Он увидел ее, а времени у них разговаривать не оставалось, в окошко тракторной кабины залетали снежинки, елки шумели — занимался ветер, вершины гор уже не видны были за белой тканью, и они очень торопились — трактористы и Ленька (Леонид Кораблев), чтобы проскочить на перевал до непогоды. Трассы впереди еще не было, только эта избушка изыскателей, как аванпост над складками леса и гребней. Ну, что ж, такова профессия топографа — начинать на бездорожье, и если Ленька стал им, зпачит, это отвечало его сути, как раз, может быть, той отчаянности и непутевости, что не устраивали Вериных маму с папой…
Они потискали друг другу руки наспех, стоя промокшими ногами в рыхлом полурастаявшем снегу.
— Здорово, Лёлька, ну, как ты? Пишешь?
— А ты как?
— Нормально! Идем с разбивкой!..
Характерно, что в те первые годы, встречаясь в дорогах, они обязательно говорили, кто кем стал: они приехали, они добились, они достигли полезности на своей Земле! Но даже здесь, за мгновенную встречу, Лепька успел спросить ее: «Ничего не слышно о Вере?» Нет, она ничего не слышала о Вере. Не потому, что не было переписки с Австралией в те годы, а вообще она не хотела ничего знать о тех, уехавших, она вычеркнула из себя как неудачную строку.
И сейчас, рядом с Верой, она как бы увидела заново тот давний поселок, где пахло свеженамокшим деревом и тем не сравнимым ни с чем запахом елового леса, хвойные лапы отливали синевой на фоне желтоватого вечернего неба и шумно стучали по крышам сарайчиков. Снег между домами был перемешан с еловыми шишками, и низкими красными кустами тихо горели в сумерках костры — прогревали землю, чтобы с утра подымать ее лопатами под новую улицу. Теплом и борщами дышало брусчатое зданьице котлопункта, шли после смены с кирпичами хлеба в руках девчата в забрызганных известью спецовках. И она попыталась мысленно поставить там Веру рядом с Ленькой, на талом снегу, и не смогла. Но ведь были еще города, пусть неустроенные тоже, со всем отжившим теперь коммунальным бытом, где ждали жены, пусть но полгода, но ждали и растили детей и встречали! Нужен, видимо, человеку климат любви и добра, и кто знает, если бы ждала его Вера где-нибудь, не случилось бы той беды… Кто знает…
А теперь они шли с Верой по Австралии, верное по залам австралийской живописи, и разговор о Леньке-Леониде, видимо, предстоял им еще, только на сейчас и не здесь, и как приступить к нему — неизвестно…
…В глубине рамы, словно в проеме окна — внутренность комнаты, дощатость кое-как слепленных стен. Багровым пятном светится топка печи. За грубым столом, где на сползшей газете — бутылка, кружка и кусок хлеба, сидит сухощавый мужчина, похожий по облику на тех шотландцев, что видела она здесь недавно — в гольф-клубе… Только в просвете двери — на рыжей земле абрис всадника, удаляющегося. Только сухая ветка эвкалипта заглядывает в дверь из белесого от зноя пространства. И лежит на коленях, в бессильно упавшей руке белый клочок письма. И на лице, красном то ли от загара, то ли от света печного пламени, такая тоска и безысходность одиночества! Собственно говоря, на горечи разлук с домом, с Англией и начиналась Австралия — земля обетованная золота и заработка… Может быть, не стоило теперь умножать ту историческую «иноземную тоску» своей, ничем не вынуждаемой, российской ностальгией?
Они шли дальше, и все вокруг полыхало красным и желтым — цвет зноя и цвет песка. Где-то была. некогда эта улица старой Австралии, мыслью художника сохраненная, — голая пустая улица, с резными балконами и слепыми торцами домов, вся перекрещенная малиновыми полосами света. Одиноко наклоненный фонарный столб, и такое реальное ощущение жаркого ветра в закатном клубящемся небе… Может быть — засуха?
…Водой залитая бурая равнина под Дарлингом — стоят затопленные деревья, и черные, как запятые, силуэты птиц, на одной ноге, на травяных островках, и снова небо — мятущееся, гладью воды отраженное. И это тоже — Австралия.
…Ржавые обрывы и сероствольные эвкалипты на склонах у обочины — то, что видела она по дороге в Сидней, только дилижанс, загруженный вещами, да люди ковбойского облика, верхами с оружием наперевес — кинокадр из прошлого.
…Бородатый мужчина в войлочной шляпе, сродни нашим мужикам-старателям, держит на весу промывочный таз с золотом. Кирка и лопата рядом, и белая от пены речка бьется о его сапоги.
И вдруг — нечто совсем страшное — бегущий человек, однорукий и багровый, словно с содранной кожей, а вокруг такая кроваво:размытая пустыня, без жизни и Деревца — «Каторжник». Вот и дошли мы до истинных твоих истоков, Австралия!
На неделе Юлька, Юлькин иностранный муж Ник, с Юлькиным австралийским ребенком Питом (или Петькой) повезут ее в одно примечательное местечко — «Старый Сидней» — километров двести к северу от Сиднея настоящего — пустяки при австралийском уровне автомобилизации!
Па берегу плоского озера, имитирующего бухту, Порт-Джексон — городок в стиле первых поселений Австралии. Беленые домики с крышами из камыша (совсем как в эпоху целины, на Кулунде, только иных, английских архитектурных очертаний), казармы, где жили каторжники, с холщовыми подвесными койками, караульня со Старинными ружьями в пирамидах и грубыми, как козлы, скамьями.
А у пристани — покачивающийся на воде корвет, «а котором якобы привозили из Англии каторжников — с просмоленными бортами, дожелта отдраенной палубой, коричневыми от времени картами в каюте капитана, бочками для продовольствия в трюме и живым шкипером в красной пиратской косынке у начищенного медного компаса, дающего пояснения всем желающим. Сегодняшние австралийские дети в форменных платьишках всех расцветок деловито берут у него интервью и записывают в анкеты на планшетах — для урока истории, по-видимому…
Солдаты в красных мундирах, белых перевязях и черных высоченных шапках (времен наших суворовских войн) будут стрелять из доисторической пушечки на площади перед фортом; матросы в белых чулках и туфлях с пряжками, как у Робинзона Крузо, разгуливать по игрушечной Георг-стрит, отпущенные на берег; на помосте перед тюрьмой идти суд — судья в парике и лиловой мантии разберет дело колониста об украденной каторжником курице, и к ударам плетьми приговорит другого каторжника, сказавшего крамольные слова в адрес короля, загнавшего в эту богом проклятую землю.
И каторжники, густо населяющие этот городок, покажутся симпатичными и благонравными молодыми людьми в полотняных рубахах и повязках на современных длинных прическах: кладут кирпичи на постройке церкви, конопатят днища лодок на верфи и совсем не страшно, на глазах у зрителей, совершают побеги вплавь через бухту, сопровождаемые стрельбой с корабля и с берега. И даже когда приговоренного и привязанного к столбу каторжника очень натурально полосуют до крови, опять же не страшно, настолько, что составляющие публику дети и взрослые не прекращают поглощать мороженое и разные «дринки» из баночек… Можно отнести это за счет закладываемого с детства жестокосердия… Но скорое всего корень — в характере показа: вот как оно было, и ни в коем случае не обвинить в бесчеловечности добрую старую Англию!
И тогда она вспомнит багрового бегущего человека из картинной галереи Сиднея и подумает: насколько же все не так, и страшнее было здесь на деле в те времена… Кусок рая, оставленный людям на земле и приспособленный ими под ад!..
…Итак, окончен тяжкий день познавания Австралии. Тяжкий, потому что была до этого бессонная ночь в сигарообразном автобусе (пе считая эмоций прощания с родственниками…), и почти без интервала — качание в мягкой духоте Вериной машины, со всем этим мельканием лиц, улиц и сюжетов из истории, качание, усыпляющее по временам, потому что, честно говоря, она просто очень устала и хотела спать и даже съесть чего-нибудь нормального, вроде жареной картошки, хотя Вера и покормила ее в попутном кафе «стейком». И просто вымыться и растянуться, и прикрыть глаза, и отключиться на время от всех этих каторжников, аборигенов и золотоискателей… Но увы, это — невозможно. Путешествие продолжается.
И теперь они сидят, наконец, рядом — две женщины на скамейке Ботанического сада, что зеленым языком вдается в море и зеленой дугой изгибается но побережью невдалеке от устья уже натуральной Георг-стрит и почти против того места, где причалил некогда в бухте натуральный корабль каторжников. И, возможно, наступило время задушевных женских бесед, но оказалось, она просто неспособна сейчас ни на что, кроме молчания.
Ботанический сад, больше похожий на парк, покато подымался за их спинами, и были там купы деревьев австралийских пород, и веники пальм над лужайками, и фонтан-памятник с бронзовой фигурой мужчины в камзоле на постаменте, в окружении позеленевших от влаги голых морских жителей — Нептуна с бородой и трезубцем и прекрасных женщин в греческом стиле. А еще дальше, как задник сцены, высилась панорама Сити, где они были только что, многоэтажно расчлененная клеточками окон.
Очень приятный тихий Ботанический парк, как остров в движущемся городе, куда хорошо, наверное, просто прийти с книжкой — поразмышлять, и они с Верой сидели, словно выбравшиеся на сушу, и отходили от суеты… Беленький домик консерватории, сбоку от пых, пригнулся в зелени и тоже пытался сосредоточиться на своих музыкальных фразах…
И бухта, бухта немыслимой синевы и обаяния — Порт-Джексон, резными фиордами вторгшаяся в материк и там, где-то уже дальше, ставшая рекой Паррамата-ривер, лежала перед ними. Качанием волн взрыхленная, вся в отблесках яркая вода. И на огромной акватории порта совсем крохотным грибком смотрится из бурых камней сложенная башенка старинного форта — прежний ключ к городу. Взлетает на расстоянии пунктирной радугой знаменитый сиднейский мост и падает концом на ту сторону, где снова — скопление розовых стен и крыш — городу нет Конца. И совсем рядом, через залив — одно из чудес мира — из пучины морской выходящие белые перламутровые раковины «Опера-хаус». Говорят, они были задуманы архитекторами как паруса, а вот воплотились створками раковин. Это лучше наверное — как символ города над теплым океаном…
— Хорошо, правда? — сказала Вера.
Красив этот город, ничего не скажешь! Надо отдать должное…
Австралия, Австралия, прошлая и сегодняшняя, весь день сплетала их с Верой и не давала вспомнить себя прежними, чтобы вернуться в их общее: «Ты помнишь?» «А ты помнишь?» — как бывает на встречах одноклассников. Не получилось такого. Просто, как бы заново они привыкали друг к дружке за день, словно пригрелись плечами в машине, вернее — сердцем пригрелись, не говоря и не спрашивая, что было, потому что, наверное, почти невозможно это — так сразу рассказать и понять, чем жилось, при таком резком различии судеб…
Да И Мыслимо ли вложить в этот час на скамейке в Ботани-гарден все, что стало неотделимым от нее, начиная с той последней их встречи в городе Харбине весной пятьдесят четвертого, за месяц до отъезда?
…Она бежала по большому проспекту в обед, в свой. Комитет — она работала тогда в комиссии по отъезжающим и была вся усталая и замотанная этими тысячами бумаг и анкет, которые нужно было проверять и упаковывать в конверты для пересылки в генконсульство, и от невысыпания, потому что работали они всегда до часу ночи, а потом их развозили по домам по лунному городу на линейке Общества граждан СССР, и своей собственной болью предстоящего, потому что она знала, что уедет тоже первым или последующими эшелонами, и ничто не могло остановить ее тогда, а мама с папой оставались, и это ожидание разлуки и потери уже жило в ней, как неизбежность, а то, что будет там, на целине, — она, не задумывалась еще, вернее не позволяла себе думать: трудно, страшно, может быть… И к тому же, Юрку своего она теряла, теперь уже навсегда и наверняка…
А Вера просто шла от Чурина, тоже в обед, в свою китайскую строительную контору и несла купленный пакетик с шоколадом (появился тогда в продаже такой кругленький, как монетки, в красную обертку упакованный, и они все бегали покупали его с получек). И никуда Вера не ехала — пока, и это уже было равносильно пропасти между ними и исключало всякие разговоры… И все же они перекинулись последним: «Едешь?» — «Не едешь?» — И разлетелись, как посторонние. Май был в Харбине, пыльный и мягкий, с зацветающей черемухой, только ничего этого не ощущалось в тот год перелома…
…А дальше — эшелон шел через границу, красный плакат: «По призыву Родины — на Целину!» трепыхался на борту красной теплушки, зеленые покатые увалы Забайкалья, которые только что были еще Маньчжурией и уже становились Родиной, под низенькой травкой надвигались, надвигались медленно, потому что эшелон сбавил скорость, и пограничники в защитного цвета фуражках стояли у края полотна и спокойно провожали их глазами, словно ничего особенного не происходило. А у нее комок подкатывал к горлу и слезы закипали в глазах, и было такое состояние восторга, что почти граничит с отчаянием! Подобного, и выше этого, не испытает она никогда больше впоследствии, и спустя годы, оглянувшись однажды в пережитое, скажет себе беспристрастно: да, самое чистое и значительное, что дала ей судьба, — переезд границы…
…А дальше — в черной и сырой степи бродят по горизонту желтые огни комбайнов. И она сидит на току на груде зерна, похолодевшего к ночи на поверхности, но излучавшего тепло изнутри, такая одинокая в темноте и маленькая, в комок сжавшаяся от этой огромной пустоты пространства окрест и волков, вполне реально бродящих по краям сжатых полей, здоровых, как большие собаки, с красными глазами, которым, правда, до нее не было дела, но все же… Сжавшаяся от страха и тоски по маме, которую (только теперь она поняла воочию) она никогда больше не увидит, что равносильно смерти, если они, родители, тоже не приедут сюда со следующей группой на целину, если только не уедут там без нее к своим — в Австралию! «Мама, мамочка, ну пожалуйста, приезжай!» — плачет она и говорит вслух, в темноту, не боясь, что кто-либо услышит и осмеет ее, потому что никого нет рядом в радиусе десяти километров. Только там, где светятся в степи созвездия комбайнов, тянет сцеп своим трактором неразгаданный еще парень Сережка, который станет впоследствии ее мужем… Только пробирается к току по полевым колеям очередная машина с хлебом, которую ведет веселый шофер Гриша, именно эту машину ждет она на току и не спит, потому что это ее долг весовщика — принять зерно и записать хотя бы, да и где его перевешаешь — тот целинный потоп зерна!
Но какой бы несчастной и маленькой ни казалась она себе на том току, прикрытая одним звездным сентябрьским небом, сейчас, оглянувшись назад, она сознает, что никогда ближе этого не бывала она к людям, большим, по своей сути, и к делу, главнейшему на земле.
…И еще будет одна ночь в степи, теперь уже голубовато светящейся от снега, лет пять спустя, при минус тридцати градусах, когда они вытаскивали из снежной ямы провалившийся автобус на трассе Чулым — Довольное. Курносый желто-синий «пазик» летел к поезду по накатанной ледяной насыпи и упал, поскользнувшись, на повороте, в плотную от сугробов глубину. Все они, пассажиры, остались живы, только встряхнулись маленько, но нужно было спешить к поезду, и все они, как один человек, толкали и вытаскивали автобус, мокрые от пота и в снегу по пояс, и мужчины помогали делу крепким словом, естественно, а вокруг стояло такое бездонное и лиловое безмолвие, что можно было задохнуться от ощущения красоты (только при минус тридцати красоту замечаешь не очень-то!). Они вытащили автобус. Но теперь он не заводился, захлебнувшись снегом, и тогда все они не пошли, а побежали к тоненькой полоске огней в стороне, что должны были означать деревеньку. Потому что стоять на месте при данной температуре равносильно гибели, и вообще нужно было действовать, поскольку все торопились к поезду. И с перехваченным от бега по морозу дыханием она добралась, как припала, к первой двери поселка, и другие с ней вместе, незнакомые, но бедой объединенные. В совсем чужом доме, где стояло сонное сопение детей, хозяева, полуодетые со сна, грели им воду и поили из алюминиевых кружек, и ничего не было в тот момент дороже глотка этого кипятка, от людей, в общем-то, посторонних. И грели воду для шофера, вернее для «пазика», чтобы вернуть его к жизни. А она стояла, прислонившись спиной к теплому боку беленой русской печи, и только думала: скорей бы, скорей бы… Скорый поезд на Новосибирск проходил Чулымскую в три часа ночи, и можно было еще успеть на него. И тогда через пять часов она — дома. Там, в тесноватой, но жаркой от батарей квартире ожидают ее из командировки и спят вполглаза родители и ребенок, Димочка, теплый колобок в байковой пижамке, раскидался босыми пятками по раскладушке. И хотя это — самое ценное, что есть у нее на земле (потому что тогда она уже рассталась с Сергеем из-за этих дорог командировочных, если быть честной), и всем существом своим рвется она к нему, и к скорому поезду, в первую очередь именно в этом чужом доме, среди запахов мокрой овчины и вещей, приходит к ней убежденность в правильности того, что она делает, — дороги! Строить их, проектировать их, участвовать в проложении их — то, чему учили ее в далеком ХПИ, каким же насущным это здесь оказывается! И хотя все выглядит буднично и вовсе не героично — эпизод на трассе, это тоже одно из мгновений ее высоты! Можно ли и стоит ли делиться этим с Верой? Что, кроме ужаса неустройства, увидит в этом Вера — не то чтобы холеная женщина, а просто к иному критерию жизни приученная?
Найдется ли у нее, у Веры, три таких мгновения высоты в этой цветущей, но чужой стране, или все только медленное и болезненное вживание в инородный быт, и корректные внешне люди рядом, которые никогда не впустят тебя до конца в свой англо-австралийский круг, и место, которое нужно завоевать, доказывая постоянно, что ты не уступишь этим людям в деловых качествах! И никаких иллюзий причастности к большим делам и ощущения — Своего. Зацепиться и выжить. Нужно ли, чтобы Вера открывалась ей в этом? И не лучше ли просто — сидеть рядом над синей бухтой и молчать?
Но есть еще женское, сокровенное, в равной мере обеим понятное. Потому что, как ни странно, при всей несхожести натур — такая сдержанная и ровная Вера и сумасбродная Лёлька, удивительно одинаково поступили они в самом своем главном — потеряли человека, который мог стать всем в жизни, потому что не сумели переломить себя. И пошли на компромисс в сложную минуту пустоты и неустроенности… Только одна это сделала на целине, потому что показалось ей, что она вправе опереться на сильного человека, даже не любя его, другая это сделала на океанском пароходе, долго и нудно идущем в раскаленном мареве через экватор, с трюмной духотой третьего класса для льготных пассажиров… Только человек тот не был сильнее ее. Просто ей показалось, что вдвоем будет легче пробиваться в Австралии… Впрочем, за компромисс платить приходится рано или поздно. Одна из женщин, сидящих сейчас на скамейке в Ботани-гарден, уже поняла это. А другая? Оказалось, и этого, женского, касаться сейчас непозволительно, чтобы не причинить лишнюю боль ненароком. Что же остается нм тогда?
«Ты помнишь?» — такое давнее, что уже нереальное: — «Коридор упирался в окно влюбленных…»
…Это было совсем обыкновенное окно и не очень хорошо промытое из-за своей высоты, и выходило оно всего-навсего на чужую веранду соседнего казенного дома, где всегда болталось на веревке что-нибудь бытовое, вроде плетенок из лука в начале осенних семестров или стираных наволочек по весне, перед пасхой…
Но у окна был подоконник — цельная мраморная плита (в соответствии с первоначальным назначением здания — консульство Российской империи), и если захватить его своевременно, опередив другие институтские влюбленные нары, всю маленькую, а то и большую переменку можно сидеть на нем, как на ступени «лестницы к счастью» (так что. ноги далеко не достают до пола, а весь «транспортный» нижний коридор, снующий студенческим народом, виден с высоты), и говорить или молчать, согласно стадии влюбленности. Ленька (Леонид), при своей активной натуре, в захвате подоконника часто оказывался победителем: только еще звенел звонок, а его чернобровая удалая физиономия в голубой фуражке набекрень уже дежурила за стеклянной дверью аудитории. А познакомил с Ленькой старый друг Славик Руденко. Он привел его в их коридор на первом курсе: «Посмотри, какие славные девочки пришли к нам из Второй школы!»
А далее все полетело по расписанию, как у Наташи Ростовой: первый бал — первый вальс, только вместо белого платья — пышные рукава блузки из трофейного японского парашютного шелка, а степень чувств можно ли соизмерить, если только что мимо прошла и крылом не задела война, все мы молоды, живы и учимся, а что будет дальше — позаботится о нас Родина! И вечеринки в ту первую зиму при масляных коптилках на квартире у кого-нибудь. Когда, вытесненные на кухню, спят за стеной, как попало, родители, а в единственной натопленной комнате давно охрипла виктрола (патефон, по новейшей терминологии), а домой идти нельзя, до утра, поскольку — комендантский час, и оттуда — прямо на лекции! И все сидят, пока не рассветет, на одном старомодном диване и дремлют, целомудренно прислонившись плечом к любимому — и рука в руке, и висок к виску, и Вера… Ах, Ленька! Почему это парии твоего неуемного нрава зачастую рубят дерево не но плечу — любят девчонок красивых и строгих, в твою кочевую судьбу невписуемых? И куда испарилась радость тех первого, второго и даже третьего курсов, когда ветки сирени нависали над вами через штакетник гондатьевского[16] палисадника, а река Модяговка, такая неприглядно-сточная днем, светилась для вас под луной, под брусчатым мостом, равноценно каналу в Венеции, и градирни электростанции курились над вами паром, как Везувий? Подоконник влюбленных стал свидетелем ваших споров и ссор, когда пришло время решать, как быть дальше. На две половинки раскалывался странный город Харбин: кто куда едет — налево или направо? И, может быть, права мама — не такой тебе был нужен муж, поскольку мог Ленька петь самозабвенно в мужской компании: «Эх тумба, тумба, тумба — Харбинский институт, до «Крымского» нам близко, по стопочке там пьют», но и работать мог также, только ты этого не видела, потому что не была с ним на практике на Второй Сунгари, на восстановлении разрушенных Гоминданом мостов… (У девчонок другая практика — в управлении Дороги.)
— Ты знаешь, Ленька лишился зрения, не полностью, но уже не может ездить с партией. Я не знаю точно, как получилось. Какая-то авария в маршруте. Они шли с трассой под Сургутом. Это — на севере, у нас там болота и вечная мерзлота. Кажется, машина с оборудованием ушла под лед, и он помогал вытаскивать.
У него жена — «геологиня» и, говорят, теперь они везде ходят вместе, под руку, чтобы не так было заметно, что он плохо видит, или просто она его любит, наверное… Вот такая судьба.
В какой судьбе тебе лучше было бы, Вера, в той или в этой, что сейчас? А твой собственный Левушка? Просто сердечный приступ на скамейке в Гайд-парке. Просто очень жаркое лето было в Австралии, и он еще не определился на работу. Как-то не везло ему здесь поначалу. Характер не тот, может быть… Мимо шли люди, и никто не обратил на него внимания. А возможно, и видели, но не подошли — здесь не принято вторгаться в одиночество человека: «А если ему так нравится?» Вот, оказывается, как у них, здесь…
Прости меня, Вера, если я все же прикоснулась к тому, что тебе больно…
3
В первую субботу с утра Сашка повез ее по сиднейским бичам. Бондай-бич, Бронте-бич и прочие.
Море, то самое, шевелящееся в конце проулка, стало достижимым, наконец, потому что они были «на колесах». А пешком — боже упаси! — у нас не принято! Сашка набрал кучу полотенец, позволил ей ехать в ситцевом сарафанчике — в угоду ее «российской стыдливости» и усадил с собой на переднем сиденье, весь источающий доброту, почти родственный Сашка с улицы Железнодорожной (только слегка округлившийся с годами). Восторженная собачка Жужа рвалась ехать с ними, но ее не пустили.
— Вы долго не гуляйте, — сказала с крылечка Анечка, простуженная, несмотря на теплый климат. — Саша, не забудь, Лёле сегодня к пяти в Советский клуб!
Да, как ни странно, у них тут действительно есть Советский клуб! А почти через дорогу — по сиднейским масштабам — «Русский клуб», что называется, оплот эмиграции! Ей, как человеку советскому, там делать, конечно, нечего, но в самые стены клуба ее повезут в воскресенье на слет окончивших ХПИ, где по этому случаю снимают помещение ее коллеги по «Альма-матер», и тогда она увидит сразу «всех наших», как сказал Сашка.
А пока — бичи, бичи, и ничего больше!
Океан под Сиднеем — могучая сине-стеклянная масса воды обступает город, словно нависает над ним, проникает в него по каменным щелям (цветом и строением похожим на срез торта «Наполеон»). В провале щели — белесый язык песка, бич. По краю щели столпились дома и домики островерхие, вывесками и красно-белыми фасадами повернутые к узкой полоске набережной.
Сашка взял на себя роль гида:
— Ты знаешь, здесь каждый метр земли стоит большие деньги!
— Что такое Бондай-бич? Это место, где оседают евреи, которые от вас уехали в Израиль! Где-то по пути, в Австрии, они разворачиваются и едут сюда. Ну, кому нужен Израиль, на самом деле? Там же воевать надо! Они здесь вертятся вовсю, первое время в особенности! Встретил в одной компании даму — жалуется: «Я в Одессе была товароведом, а здесь, знаете, все руки кислотой разъело! (На какой-то фабричке — надо же помогать мужу). Я говорю: «А что вы думали, когда ехали?». Они думали — Австралия — это земля обетованная, где все с неба валится! На Бондай-стрит стало, как в Харбине на Китайской! Кричит через улицу знакомой: «С добрым утром! Ты уже пошла в шоппинг!?» А австралийцы к таким шумным выражениям не привыкли, их шокирует…
Сашка завел машину за шлагбаум, и они ехали медленно, мимо плотного и пестрого массива автостоянки, вдоль линии травы и песка, где не очень густо в этот свежий осенний день лежали и стояли люди со своими детьми, зонтами, лодками и досками.
— Мы не будем здесь купаться! Я повезу тебя туда, где мы всегда, — на Кловелли-бич. А пока смотри и только. Хочешь, я тебя сфотографирую? Встань около этого столба — будет виден мыс и полоса прибоя. Ветер такой, тебе не холодно? Хотя ты же сибирячка, у вас так — летом?
День разгорался немыслимой голубизны и прозрачности. Машина шла поворотами берега, и океан то стремительно распахивался с высоты уступа, пенно-полосатый от бегущих валов, то проваливался за горбы черепичных кровель, то прямо к ногам подкатывался рядами замшелых, отливом освобожденных камней.
И эта праздничная синева неба и моря, и Сашкина болтовня рядом, совсем как некогда, у родной калитки, и эта заботливость его в мелочах (тебе удобно? хочешь открыть окно?), которой, честно говоря, она была лишена у себя дома потому, что некому было проявлять эту заботливость, что-то странно смешало в ее сознании, стирая годы, и сообщало ту радостную беспечность отдыха, которую, пожалуй, не стоило допускать в себя в таком путешествии…
Вовсе не был похож на пляж этот последний бич, куда привез ее Сашка. Скорее бассейн из слоистого желтого камня. Океан, стесненный с боков, качался, словно дышал, захлестывая железные ступеньки, по которым нужно было опускаться в воду с плоской и мокрой плиты. Сашка уверял, что здесь мелко, но зеленая глубина вызывала опасение, шевелились, как живые волосы, облепившие камни водоросли, и далеко она не отплыла. Так и сфотографировал ее Сашка, смеющуюся в лазуревой коде, покидать которую не хотелось!
— Русалка, ты не забыла, у тебя сегодня Советский клуб!?
Стоя на шершавой, как пемза, плите и обтираясь Сашкиным полотенцем, она думала, что хорошо бы не ехать никуда и пробыть здесь день до последнего блика солнца. Видимо, начинался прилив, потому что океан все резче хлестал ее по ногам, оставляя соленые капли на теле, а на плите — воду, дрожащую в круглых голубых выбоинах.
В пять часов вечера за ней заехали на серенькой юркой машине четверо: мужчина громадного телосложения и с громовым голосом и три женщины, одну из которых она знала по давней харбинской юности.
…Натянута на столбах сетка. Висят на заборе, над волейбольной площадкой зрители — «палудины» из соседнего штаба НОА в своих болотного цвета кепи и курточках. Взлетает мяч в позлащенное закатом небо. И девушка у сетки в спортивной юбке, чем-то похожая на актрису Серову из идущего в городе фильма «Жди меня». Взрослая и неподражаемая. Вернее — образец, достойный подражания…
Вот где довелось встретиться, Лида Бричук! Как ты здесь? Почему ты здесь? Не проникнешь в душу человеческую!
Разговаривать в машине трудно — теснота. И сидела она напряженно — не измять платья! Женщины, что ехали с ними, толковали о своих семейных делах. Мужчина, перегнувшись через сиденье так, что оно слегка скрипнуло, задавал ей обычные австралийские вопросы: как там в Сибири и надолго ли в Си дней? А она смотрела на дорогу, потому что кварталы пошли, на парадный центр города непохожие: переезды и путепроводы, серый бетон и запыленная трава на откосах, и домики (уже не те, изысканные, под старину — в Ваверлей, где живет Сашка, и не так тесно сжавшиеся — ординарные домики без щегольства, на пустоватых без зелени участках).
И на всем странный налет серости, как за кулисами театра.
Дом, куда привезли ее, был такой же простой до предела и пустоватый, где не живут, а собираются однажды.
Смотрели со стены Брежнев и Гагарин. Мужчины, ширококостые не по-австралийски, без пиджаков и в распущенных галстуках, по причине жаркого вечера, толклись на крыльце и в коридоре, как бывает в ожидании начала. И женщины, кудрявые, в пестрых по-летнему платьях, резали что-то на кухне и носили на тарелках в комнату, как бывает перед всенародным застольем. И сейчас, когда они были собраны в тесном и низеньком помещении, а не вкраплены в иностранцев по большому городу Сиднею, неуловимым чем-то — осанкой или движением рук — схожие между собой, можно было сказать, что это — русские люди. Но не советские, нет. Снова неуловимое нечто отличало их от тех, в России… И настойчиво что-то напоминал ей этот клубик на краю чужой улицы и людей в нем…
Конечно, ее знакомили с председателем и видными членами и руки пожимали — из Советского Союза! А потом всей гурьбой, как ходят только русские, разговаривая на ходу, они пошли по чужим газонам, через дорогу наискосок, тоже в клубик, но уже другой национальности — будет лекция по международному положению, и там больше места. (Собственно говоря, так и живет вся Австралия — сбиваясь в кучки но нациям вокруг клубов своих — большей пли меньшей степени комфортабельности — греки с греками, немцы с немцами, и ни шага в сторону.)
Лекцию читал генеральный консул СССР в Австралии.
Где-то в ином месте, в Москве или в высших сферах дипломатии, был он, вероятно, совсем другим — собранным, деловым, жестковатым, а здесь вышел к столу президиума добродушно улыбающийся; совсем свойский человек, и серый пиджак снял, и на спинку стула повесил — для легкости разговора. И стал говорить с юмором и смешинкой, и той нарочитой простотой речи, которой принято у нас разговаривать на уровне пионерских встреч.
А взрослые люди сидели на тесно составленных стульях и слушали с откровенным вниманием, и руки тянули, задавая вопросы, и такая серьезная наивность была в этих вопросах, и такая далекость от действительности, в которой жила она сейчас, думала и тревожилась. Потому что это было непосредственной угрозой ее миру и ее близким, а для них, которым ничего не угрожало на этом невоюющем материке, просто отвлеченным понятием!
И тут она вспомнила, вспомнила, где видела все это, только за окном не душная сиднейская ночь, а Китай в морозной поземке! Харбин после сорок пятого года. Собрание местного отделения Общества граждан СССР. Было такое когда-то!
Город, разделенный на кварталы и на кружки, где на квартире у кого-то, где больше места, собирались по вечерам пожилые и слушали, что им говорят о Стране Советов, в которой они не были и понятия не имели, и нужно было хоть как-то приобщить их к ней, потому что все они получили в сорок пятом паспорта и числились советскими гражданами. А у молодежи своя организация — ССМ, идейных и передовых, и на стариков своих, в местных отделениях, она поглядывала чуть снисходительно.
Да, но то была закономерность изолированной событиями страны, и те старики, что тянули тогда руку с вопросом, — или нет их уже, или состоят теперь во всесоюзной армии пенсионеров и в делах международных разбираются на министерском уровне. А это? Это же ровесники ее — Новогородний клуб, Пристанский клуб и даже Союз молодежи… Почему же повернули они сюда, а не на Целину? Ошибка? Недоверие? Страх или легкость выбора — плыть по течению? И это не «инженеры и жены инженеров», а то, что у нас называют рабочий класс — свои руки кормят. И почему, не пожелав ехать туда, в реальную Россию, сюда они перенесли с этнографической точностью дух того местного отделения, не столько советского, сколько эмигрантского по своей сути, с повышенным обостренным умилением перед Родиной?
— Почему они не уезжают к нам? — спросила она Лиду, когда они шли вместе после лекции назад к банкетному столу, Лиду, располневшую с годами, естественно, но все такую же общественницу, оказывается, выпускающую клубный журнал «Дружба»… Собственно говоря, она осталась тем, чем была, — первой на узенькой спортплощадке, или этого достаточно ей для оправдания жизни?
Стояла плотная темнота, почти без огней — только дверь клуба светилась впереди распахнутым оранжевым квадратом. И опять чья-то чужая трава, невидимая, хрустела под каблуками босоножек.
— Почему они не уезжают? Ведь теперь свободно. И помогают у нас приезжающим, и квартиры дают, пожалуйста!
— Сложно все это, — говорит Лида. — У многих дети, семьи сложились — не оторвать. И обжились. Не так просто бросать и начинать все сначала…
— Но мы же смогли!
Да, смогли. Все побоку — вишневые кусточки под верандами в модягоуских палисадниках и комнаты, уютные от китайских вязаных шторок с книжками на полках. Смогли. И родители смогли, хотя они в ту пору как раз были в возрасте этих, теперешних, сиднейцев! Только сама достигнув возраста пятидесятилетних, она поняла, как не просто тогда было родителям, когда их ввергли, вслед за собой, молодые, в красные «телячьи» теплушки эшелонов, на твердую солончаковую землю кулундинского села, в среду трактористов, которые и говорят-то, пересыпая речь наполовину непонятными словами. Но смогли! А затем завертелись, в сознании своих прав и озабоченности — у себя дома.
— И потом, мы здесь — нужнее, — сказала Лида.
Вот уж никогда не думала она об этом. Или она в чем-то неосведомлена? Было же когда-то такое. Им говорили: «Подождите, не рвитесь пока в Союз. Вы уедете. Но пока — здесь строится демократический Китай, и вы здесь нужнее…» Только они не знали истинного положения вещей и не совсем верили. И убегали пешком через границу, как некогда сделал Юрка. И Андрей. И его еще вернули обратно…
Они сидели за длинным столом, уставленным тесно, не по-австралийски, тарелочками, с тем, что было для них, по-видимому, признаками русской кухни — грибочками, капустой соленой с лучком, пирожками, румяно обжаренными в масле, а для нее — более чем обыденным. И ели они это сообща, не столько ели, сколько прикасались к своему заветному, и вокруг этого, в основном, и вертелся застольный разговор, не считая тостов, разумеется!
Ее просили почитать стихи — так у них, видимо, было принято — слушать приехавших из Союза. Они встречались уже за этим столом с артистами Новосибирского оперного, с Юрием Никулиным и с советскими моряками, возили их по городу. Потому что они — Советский клуб в Австралии! А ее здесь представили как инженера и поэтессу, хотя таковой она себя не считала, просто писала иногда, потому что не могла не делать этого.
Она прочитала им то, что, считала, ближе всего стыкуется в их жизнях — о целине. И поняла, что ошиблась — нм не очень хотелось возвращаться мыслями в эпоху разлома: вы налево — мы направо. А как там работали черными от мазута руками и пили солоноватую воду колодцев шершавым от пыли ртом, их просто не касалось. Они туда не поехали. Совсем неплохо жить в бананово-ананасной Австралии, черпать блага мирового торгового рынка и при этом любить издалека Родину! Она чувствовала, как раздражение против них возникает в ней непроизвольно, старалась подавить это в себе — все-таки она в гостях! И ей плохо это удавалось.
Она посмотрела через стол на консула и подумала, что ему здесь тоже не очень легко, хотя все подходили к нему с тостами и даже обнимали его — запанибрата: «Вы наш дорогой Иван Федорович! Мы запишем вас в нашу самодеятельность!» Что это — простодушие или бестактность? Или просто не понимают значимости этого человека?
Потом они пели. «Тонкую рябину» и «Подмосковные вечера» и еще одну, незнакомую ей, якобы композитора Тухманова. Молодая пара — мужчина с аккордеоном (уже новое австралийское поколение) и женщина, красивая по-русски — на щеках ямочки и мягкость движения руки. Как она пела — заслушаться! О том, что хороша Миссисипи, но нет ничего дороже русских берез. И все они слушали с такими углубленными лицами, что она подумала, может быть, она не права в своем осуждении их? Ошибка — равноценна несчастью. И жалость к ним, особенно к этой молодой паре, которой закономернее петь там, дома, а не здесь — высекать слезы у людей, выбор свой менять не собирающихся, стала проникать в нее, как подпочвенная вода.
Потом консул спел из эпохи своей молодости, «В городском саду играет духовой оркестр. На скамейке, где сидишь ты, нет свободных мест…» И таким родным теплом дохнуло на нее! Они могли здесь не знать этой песни, потому что там не жили, а она — знала. И это общее знание вещей, присущих обыденной жизни ее и консула, невольно приближало к этому человеку, несмотря на служебную дистанцию. И создало ощущение защищенности своей с ним рядом — то, что всегда есть, когда мы дома, только мы этого не замечаем, и то, чего остро недостает нам на чужой земле…
Потом консул поднялся в один миг, словно застегнулся на все пуговицы, видимо стал самим собой, и уехал. Они провожали его машину в черноте пустынного дворика.
…А назавтра, с утра, завертелись сборы в «Русский клуб». Сашка, поскольку он «вывозил ее в свет» на свою ответственность, принял в этом самое бурное участие.
— Это платье тебе купили тетки к пасхе у «Малуфа»? Пойдет. И туфли тоже. А голова не подходит. Что у тебя за прическа — словно корова языком прилизала! У нас так не носят. Ты не хочешь в парикмахерскую: Тебе Анчик сама сделает! (Анечка опять не ехала в связи с нездоровьем, но нарядом ее занялась капитально.)
В результате она впорхнула в Сашкину машину на тонких каблучках, в чем-то воздушном из полиэстера палевых оттенков. И головой боялась пошевелить, потому что, взамен обычных вольных прядей, громоздилось там нечто, заграничным лаком зафиксированное.
Весь элегантный, песочного цвета, Сашка гнал машину и чертыхался на светофорах, потому что они, конечно, опаздывали в собор к обедне. Само по себе Сашку это вовсе не волновало (похоже, обедня эта, в своей сути, нужна ему так же, как и ей!), но хотя бы к молебну по случаю основания института — это необходимо — там все будут!
Проскочил кусок вчерашнего пути, чуть в сторону, и вот он — собор, русская церковь, крестом и круглым куполом не логично как-то взгромоздившаяся над плоскими домиками иностранными.
Обедня окончилась. Прихожане растекались — кто за рулем, им навстречу, кто пешком по асфальту обочины — на электричку. И опять, в пешеходной пустоте улицы, даже на расстоянии можно было сказать безошибочно, что это — русские. Насколько же сильные свойства вложила в нас природа, если, десятилетия находясь в инородной среде, мы не сливаемся с ней, не теряем каких-то исконно русских черт. Но это мы, но не дети наши. Потому что ничего русского уже не ощутишь в Верином Димочке. А дети Юльки?
Подымаясь на высокое соборное крыльцо, она подумала: когда же она была в церкви, просто в церкви, во время службы, а не с осмотром русской старины, как в соборах Кремля? Пожалуй, где-то в семидесятых. После солнечно раскаленного двора Троице-Сергиевой лавры Загорска, где среди расписных, как праздничный пряник, хором толклись на дорожках голуби и интуристы, крикливо щелкающие фотокамерами; колоритный табор старушек со всей страны сидел на травке вокруг ярко-голубой часовенки со святой водой и завтракал, развернув на коленях чистые платочки, как у себя в поле; после влажных, тяжеловесных крепостных стен, башнями и бойницами своими, помнящих осаду Лавры поляками Самозванца и молодого Петра, прискакавшего к ним ночью, под охраной, от родной сестры Софьи, — после всей этой древности и современности, сконцентрировавшейся в мозгу за день, ей захотелось просто тихо постоять где-нибудь в помещении и передохнуть. Свет и пение шли из какой-то церквушки, и расписывал ее вроде бы Рублев, и она пошла, и остановилась у стены, как хотела, под покатым каменным сводом, густо-коричневым и золотым от старых фресок. Шла служба, далеко где-то, в дрожащей от свечей полутьме, не очень внятно возглашал священник, толпа старушек колебалась, как пшеница на ветру, от крестных знамений. Давно, еще в юности, отринула она от себя религию, которой не могло быть места в передовом и сознательном советском человеке. По тогда, отходя от зноя и от сырости, в душистом от ладана свечном тепле и никому не видная в отключенной от нее толпе, она впервые как-то по-новому осознала это — как связь времен. Потому что те самые, бессмысленные теперь для нас, слова слушали наши предки во времена татарского ига и Киевской Руси, и нельзя это вычеркнуть вовсе, потому что это было в судьбе ее народа, и вошло в него как составная часть пережитого. Но у нее, кроме этой церковенки в Лавре, было еще за душой огромное достояние по связи времен — та же земля под ногами и небо над головой — Россия. А у них здесь? Чем, как не связью со всем, что было своим в прошедшем, и чего уже нет и не будет, катастрофически рвущейся связью, есть эта церковь — собор в Сиднее, чистенько украшенный, с расписанным нарядно иконостасом? Потому что о какой вере во всевышнего могла идти речь у них здесь, где особенно четко и давно они усвоили, что только от собственной разворотливости зависят достижения жизни!
Сашка быстро обмахнулся рукой перед лицом, что означало — перекрестился, втолкнул ее в двери, а сам остался на паперти, зацепившись нужным разговором, с кем-то из соучеников-сослуживцев. А она стояла в конце полупустого церковного пространства, слушала, как с амвона объявляют «многая лета» профессорскому и студенческому составу, а сама до неприличия крутила головой, чтобы всех увидеть.
И странное происходило опять, как при первом свидании с Верой, — лица людей, обступавших ее, немолодые, отягощенные сердечной отечностью или подсушенные до морщин солнцем и возрастом, незнакомые при первом впечатлении, после пристального вглядывания, вдруг начинали меняться, словно сбрасывать маски. Оказалось — в двух шагах от нее стоит мальчик (грузноватый, правда, от употребления пива, но с таким же стеснительным взглядом исподлобья), которого она в возрасте четырех лет била по голове лопаткой для игры в песок на сунгарийском пляже, и он бежал с ревом к маме жаловаться. А чуть подальше, у колонны — крупный мужчина руководящего типа с седым ежиком волос в щегольском голубом костюме — под цвет поблекших слегка голубых глаз — тот самый Славка Руденко, что водил их с Верой в первый раз по институту, приобщая к студенчеству! И Вера в стороне — скорбность удлиненного лица (неужели для нее это всерьез — целование креста и прочее?..), и еще девочки, девочки со строительного и транспортного факультетов…
Общим движением ее вынесло на крыльцо, где ждал Сашка, и тут началось изумление: «Боже мой, Лёлька, как ты сюда попала? Ты же в Союзе!» Мальчик из детства подошел к ней, взял за руку, как некогда на Сунгари, и так стоял, держась за нее и улыбаясь.
— Ты едешь в клуб? — спросил его Сашка. — Нет? Все равно, подбрось Лёлю, у меня еще свои дела!
Закрапал дождик, такой маленький и теплый, что она не поняла даже, отчего вдруг покрылась темными крапинками дорожка соборного участка? И всех их как ветром сдуло — в свои машины, за поднятые стекла.
Ехать оказалось — два шага, но она все-таки успела спросить мальчика из детства: «Как ты живешь?»
— Я зарабатываю восемь долларов в час! — сказал он с явной гордостью, но она не знала, много это или мало, и как ей нужно реагировать? — Хочешь, я покатаю тебя по городу? Я прекрасно знаю город. Когда мне надоедает работать инженером, я иду таксистом. Еще больше можно заработать. А как ты? Все пишешь свои стихи?
Забавно, но для них она оставалась абсолютно прежней Лёлькой, безотносительно всего пережитого ею за эти годы, словно не она работала, ездила, растила сына, думала и старилась, — молодой, на удивление, взбалмошной и одержимой своими стихами. Такой и слетела она к ним в Австралию, даже не из своего нереального Советского Союза, а из их общей молодости. Иной они просто не могли воспринимать ее. Возможно, потому, что сами они оставались, по внутреннему своему настрою, прежними мальчиками и девочками из Харбинского политехнического.
В зале «Русского клуба» пахло духами и тем необъяснимым душноватым запахом мягкой мебели и натертых полов, что присущ замкнутым театральным зданиям. И было почти темно после неяркого с дождиком, но все же светового дня и после короткой, ослепительно-красной ковровой лестницы в вестибюле, по которой они подымались, расписывались в чем-то типа книги и клали на стол доллары, видимо — пай за свое участие в сегодняшнем.
Интимность зашторенных окон и настенных плафонов. Тяжелыми складками падал в провале сцены коричневато-вишневый бархатный занавес, и вверху самом, под потолком, там, где он завершался бахромой и фестонами, висел двуглавый орел. Тот самый — Российской империи, со скипетром и державой в когтистых пальцах, с головами, развернутыми в разные стороны, совсем как некогда в городе Харбине до сорок пятого года! (Вот где довелось встретиться, старый знакомый!) А она-то думала, что это мертво — окончательно и повсеместно!..
— Стань сюда, я тебя сфотографирую, — толкал ее к сцене под орлом Сашка.
— Прекрати! Ты понимаешь, что предлагаешь?
Сашка хохотал и, по-видимому, — не понимал.
Длинные столы, белоснежно-крахмальные, стояли вдоль желтых от лака панелей стен, голубыми парусами топорщились на столах салфетки и стреловидные листья папоротника в вазах (настоящие или пластмассовые — ей пощупать не удалось), оранжевым и прозрачным пузырились напитки в стаканах с соломинками. И это был уже не тот, вчерашний, по-домашнему простецкий стол, только пирожки были те же, правда приготовленные на высшем кулинарном уровне. И они ели их по всем правилам этикета, разрезая и на вилку беря небольшими кусочками. Пирожок с мясом — в некотором роде как символ потерянной России. Оригинально!
Сашка усадил ее за стол между девочками с ее факультета и Славкой Руденко, и покатился странный не то обед, не то ужин в полумраке, причем продолжался процесс узнавания, что начался утром еще в церкви, словно расшифровка лиц, сначала ближайших к ней, а потом с дальних столов, где сидело старшее поколение политехников. Старички — сокурсники ее отца в двадцатых годах стали подходить к ней, потому что она — дочь Константина Григорьевича, и даже по-старомодному целовали руку.
На авансцене шли речи и воспоминания, порхало по залу непривычное слово «коллеги», а рядом свои ребята — так много и все сразу, и так давно она их не видела, даже вообще забыла о некоторых, что они есть на земле! А там, у себя дома, не было случая за эти годы, чтобы она вот так оказалась в праздничном кругу своих, с юности. Все они рассеяны по большой стране. Дети, друзья и дела. И потребности, вернее насущной необходимости собраться вместе почему-то не возникало.
Атмосфера сердечности и радостного удивления от встречи с ней, расспросов и даже объятий создавала ту особенную приподнятость души, при которой как бы стираются грани реальности. Тушевались в тени на стенах портреты королевы Елизаветы и последнего русского императора, и она как-то забыла о них. И зал этот, скользкий от паркета, с золотым отливом занавеса и панелями светлого дерева, совместился своими точками, неуловимо, с тем белым институтским залом, по которому она неслась некогда в вальсе с Сашкой, и лица вокруг были те же — лица друзей… И когда Сашка вдруг «выкинул штуку» и объявил: «Слово имеет наша гостья из Союза, коллега Елена Савчук», — она, не задумываясь и с легким сердцем, полетела на тонких каблучках в облаке палевого платья, в подсвет рампы — к микрофону…
…Итак, был белый институтский зал и был май сорок девятого. Вернее, та середина мая, когда праздник уже отошел, но город еще светился флагами, не снятыми, недосвеченными косыми лучами прожекторов, жарко вздрагивающими над крышами зданий — управления Дороги и генерального консульства СССР. И над институтом, над круглой башенкой обсерватории колыхался флаг, тот самый, что она вешала вместе с Юркой в солнечный полдень накануне, преисполненная счастья от всего вместе взятого: теплого тока воздуха на вышине, нагретого и гулкого железа йод ногами, города в красных полотнищах у ног и Юркиного плеча — рядом. Смешного этого мальчишки с белобрысым чубом над глазами, и в короткой кожанке — по моде тех лет, которого она любила или думала, что любит, с самообманом юности, теперь уже на расстоянии не разберешь!
Отошел праздник, вернее то первомайское утро, когда, вздрагивая от свежести, они стояли в своей колонне на Бадеровском озере и ждали, чтобы их пропустили на демонстрацию, и ребята еще бегали греться «ханой» в соседнюю китайскую лавочку — Юрка и Сашка (и прочие, теперь здесь сидящие…). А потом шли через Пристань мимо трибуны, с которой что-то кричал первый народно-демократический мэр города, и дальше по булыжникам мостовой под громовой студенческий оркестр и под песню «По долинам и по взгорьям», которая была почему-то лейтмотивом того первомайского парада. Все одинаковые в черных с золотом тужурках, со значками Союза молодежи на лацканах, шли в ногу и плечом к плечу, как нечто единое в своем устремлении. И она — в составе литого отряда, уже не сама по себе, а часть могучего слова «Мы»! И Юрка с Сашкой около нее — даже больше, чем дружба: братство высоты и преданности Родине! (Может быть, и любви-то не было никакой, только это общее горение?)
Распахнуты в ночь длинные, в два этажа, окна. В городе цветет сирень, и дыхание ее сладковатыми волнами доходит в зал из сквера управления Дороги, из консульского сада.
В зале зажжены люстры и паркет светится под их льдистым отблеском, как каток, и так прекрасно лететь по нему скользящими на вальса, и неважно, что нет оркестра, потому что это не бал, а просто студенческий вечер выходного дня, и почти все девочки в тужурках, она — тоже, и так ладно и хорошо ей в этом строгом наряде, раздувается на поворотах складчатая синяя юбка, и волосы длинные и кудрявые — веером за спиной, и рука ее лежит на Сашкином плече, а Юрка? Занят, конечно, — дела райкома…
Вот оно, под потолком зала, цветное от плаката окно — комнатушка в башне обсерватории, райком ССМ, сердце института…
Каким наполнением жизни стала для нее Организация! Когда ушла Армия и когда остались они все с советскими паспортами, но не при деле, и уже не хватало для души той стенгазетно-кружковой деятельности, что давали клубы — Пристанской и Новогородний, им подарили Организацию! В золотом разрезе звезды, словно в рамке, силуэт кремлевской башни с крохотной звездочкой на острие. Значок с эмблемой Родины. И хотя это не был комсомол в прямом смысле (им объяснили: невозможно — хоть и в дружественной, но все же не нашей стране), все равно, о всех своих делах они рапортовали теперь ЦК комсомола, и телеграммы посылали в Москву со своих пленумов и конференций. И все было совсем как в комсомоле — серенькие «корочки» Устава и красные галстуки вожатых, только не пионерских, а юнакских отрядов!
И тот величайший день своей юности, когда ей, Юрке и Сашке вручили членские билеты, и она взяла окаменевшей от волнения рукой красную коленкоровую книжицу, а потом они шли пешком из Комитета в институт по Большому проспекту, падал мокрый мартовский снег, радостной белизной выстилая трамвайную линию… И эта совсем российская метель, в непривычном к такому, обычно серому по зиме, городу, и то, что мальчишки от полноты восторга пели «Каховку», причем бронепоезд, который «стоит на запасном пути», в их сознании отождествлялся не с гражданской войной (они ее не застали), а с реальным поездом, готовящимся уже где-то на маневровых путях везти их на Родину! Разве все это не было, по существу, началом того «мгновения высоты», что предстоит пережить ей — переезд границы? Потому что ничего не возникает само собой, в пустоте… Но так станет для нее. А для Сашки?
Все они собраны в том давнишнем зале.
Вера и Ленька — вот он ведет ее с нежностью через круг после танца, тоненькую, лучащуюся серыми крапинками глаз; как у Татьяны Лариной, локоны схвачены ленточкой на затылке.
Стоят в пролете окна двое любящих или влюбленных — смугло-цыганский чернобровый «замполит» Малышев (где он теперь — был директором завода в Белоруссии, был работником министерства, пока не ударил инфаркт…) и с ним девчушка, похожая на него, говорят, — залог счастья… Не получилось такого. Хозяйка богатого дома, маленькая модная леди — Юлька (первая, кто слетела ей сегодня навстречу с красной ковровой дорожки «Русского клуба») или, может быть, для нее это и есть счастье? Разговор впереди.
И еще девочка — длинноногая и обаятельная непосредственностью своей, та, что любила без памяти Славку Руденко. (Спросит он о ней, или все стерлось — боль и страсть?) Добрые глаза за круглыми очками, детски припухлые губы — Маша. Инженер, строитель дорог, Байкало-Амурская магистраль. Дети и внуки…
А потом кончится вальс, со всей ответственностью Юрка выключит люстры и запрет помещение, и ребята пойдут провожать ее в лиловой темноте улиц, и в ночном просвеченном станционным заревом саду она наломает им пышных охапок сирени — берите, ребята! И будет с ними еще одна подружка, чем-то близкая ей тогда — восторженностью и тягой к поэзии, может быть, Вика Бережнова. Можно ли было угадать тогда, что встретятся они через четверть века в Сиднейском «Опера-хаус» и будут стоять среди инородной толпы в антракте, держась за руки и не знать — что бы успеть сказать самое главное? «Ты только пойми, — скажет Вика, — все эти тряпки ничто — перед тем, что ты имеешь!» Прозвенит звонок, и она так и не успеет уточнить — что именно та имела в виду…
Кто же они теперь для нее — свои или посторонние? Не выбросить из жизни собственной юности и людей, сопутствующих, как бы она ни оценивала их по справедливости… И от того, может быть, это размягчение души, что настигло ее без предупреждения уже в другом сиднейском зале. И когда Сашка выдал ее публике: «А теперь попросим Лёлю почитать свои стихи», — она стала читать то, что любила сама, и что писалось когда-то с большим настроем чувств (как уж оно получилось — хорошо или плохо — в меру таланта!), и то самое, что она читала накануне, в Советском клубе, о Целине.
…Родина, ты совсем не сразу В сердце мое корнями вросла. Меня ты учила работать ночами, Лить воду шершавым от пыли ртом. Ты мне показала людей вначале, А красоту Третьяковки — потом. Ты мне открывалась в дальних маршрутах Бревенчатым, пахнущим хлебом селом, И я не знаю, в какую минуту Полнее твое ощутила тепло… Наверное, все же — на той аллее, Где ели в инее седины, Которой шли мы от Мавзолея Вдоль древней и вечной Кремлевской стены. Когда, с неиспытанным прежде волненьем, Я ощутила судьбу свою Звеном в бесконечной цепи поколений, От этих стен прошедших в строю……Она шла на место и не могла понять их реакцию. Кто-то хлопал дружелюбно, кто-то, похоже, недоумевал. «Плохо было слышно в микрофон! — сказал кто-то. — И ты вечно так быстро говоришь — не ухватить!» Может быть, так оно и было.
Обед подошел к концу, и ее повлекли показывать клуб — комнаты, где кувыркались на стенах среди шишкинских пейзажей вездесущие «Мишки в лесу» и где стояли игральные автоматы. (Соседство несколько странное, не правда ли?) Когда вышли на красную лестницу, оказалось, в Австралии еще белый день, и ей, естественно, захотелось увидеть сегодня еще что-нибудь — не ехать же домой в праздничном платье!
— Повезти тебя на Кинг-кросс? — предложил Руденко. — Сейчас рановато, но скоро стемнеет.
Она знала, что это такое, из книги Даниила Гранина, но можно было убедиться и своими глазами…
— Лучше свези меня куда-нибудь на обрыв! У вас тут есть хороший обрыв поблизости?
Океан, вчерашний и до конца не постигнутый, звал ее к себе. И потом, она подумала: Руденко захочет спросить ее о Маше, а это, наверно, будет легче где-нибудь на крутизне… Она знала, что он развелся с девочкой из их класса, на которой женат был вскоре после школы, а кто у него теперь, она не знала, но считала, что столь давние связи позволяют им поехать вдвоем на любой обрыв и говорить о том, что не могло не трогать его.
Она переселилась в машину Руденко, он устанавливал в магнитофонное гнездо кассеты с русскими мелодиями, а Сашка давал им последние напутствия: куда и во сколько ее должны будут привезти после прогулки по Сиднею. Сашка был строг и неумолим.
И тут из разговора мальчишек она поняла, что пока, не ведая ничего, читала свои целинные стихи, в том зале под двуглавым орлом произошел маленький инцидент, для нее, конечно, ничего не значащий, но все же…
Одна дама, бывшая на встрече как «жена инженера», а сама по себе — одна из хозяек «Русского клуба» и корреспондент газеты «Единение», поднялась во время чтения и демонстративно вышла, заявив: «Как такое допустили — выступление советской поэтессы?! С момента основания клуба такой ноги здесь не ступало!»
— Ненормальная баба, — хохотал Сашка.
А она забеспокоилась:
— Что-то не так получилось, и я вас подвела?
— Прекрати, ты у нас в гостях, все свои, и все правильно поняли! Езжайте!
Руденко вырулил на проезжую часть. Австралия, по которой она, оказывается, успела немножко соскучиться, пока два дня сидела за белыми столами, полетела навстречу и отстранила на время инцидент в глубину сознания.
Только завтра, когда Сашка с Анечкой, уезжая на работу на автобусе, подбросят ее заодно в Сити, и она будет бродить там одна на свободе, прочесывая единственно знакомую ей улицу Георг-стрит и наконец-то с женской тщательностью изучая не менее интересную, чем музей, торговую сеть, чувство досады и осадка на душе будет не покидать ее в течение полудня.
Продвигаясь медленно в одном только направлении — с запада на восток и заходя поочередно в магазинчики, крохотные — в одну комнату, и по воздушным переходам передвигаясь вместе с толпой, не замечающей ее, из одной фирмы-гиганта в другую, и прикасаясь пальцами ко всему этому грубошерстному или бархатистому изобилию, низвергающемуся на нее водопадом со стеллажей и вертящихся выставочных стендов, а то и просто наваленную на столах в деланном беспорядке — зал юбок, зал блузок, джинсовый зал, — она будет сердцем скользить мимо всего этого, потому что сознание неотвязно станет возвращать ее ко вчерашнему: что же произошло с ней, все-таки, в том зале, похожем на ее родной зал ХПИ, и почему ей так плохо и смутно сегодня?
Оттого ли, что в святой простоте, полагая себя — среди своих, она как бы раскрылась незащищенным нутром перед людьми, по существу посторонними? То ли, наоборот, оттого, что вылезла со своими стихами о целине в кругу инакомыслящих, словно нарушила правила гостеприимства?
Лермонтов написал в «Тамани»: «…и зачем судьбе было кинуть меня в мирный круг честных контрабандистов? Как камень, брошенный в гладкий источник, я встревожил их спокойствие…» Не так ли здесь — «мирный круг» эмигрантов и она — невольно, в роли камешка «с той стороны»?
Только к концу дня и в самом конце Георг-стрит, у подножия того черного, как полированное надгробие, многоэтажного офиса, на каменной приступочке, где ома будет сидеть и есть бесцеремонно сэндвич, завернутый ей на день Сашкой (чтобы не умереть с голоду), придет к ней чувство протеста:
«Кто это — они? И кто это — я? И почему мне испытывать перед ними неловкость за себя, какая я есть — со своей целиной за плечами, со своей страной! Каждый сделал выбор, и правильность его решится по результатам. Даже не в нас, а в наших детях… А пока я в гостях у них, и только. И должно оставаться самим собой!..»
Она не считала себя прежде поэтессой всерьез. Просто писала стихи, когда не могла не делать этого, и просто печатала их иногда, когда стихи получались хорошими. Но была еще ее инженерия и был сын, и командировки из конца в конец — сколько всего требовало от нее души ежедневно! Может быть, это и помешало ей стать чем-то заметным в поэзии? Или просто не хватило таланта? И неожиданно здесь, на чужеродной Георг-стрит, увидит она себя впервые глазами их, как бы со стороны и поймет:
«Если они здесь восприняли ее как поэтессу из Советов, значит, так оно и есть, по сути своей — не в меру профессионального качества ее стиха, в котором и не разобрались-то они толком, и не расслышали сквозь хриплый микрофон зала, а в меру права ее говорить с ними от лица страны, права, которого не могло быть у них, потому что они так сделали выбор…»
И вместо ощущения допущенной неловкости, что угнетало ее весь день, наступит жалость к ним — людям, которых обошла жизнь в чем-то главном, а для них даже неведомом.
Сашка Семушкин и Славка Руденко, Юлька-Юленька, что берет ее со вторника на два дня — показывать Сидней… Мальчики и девочки — от единого дерева веточки… Как же могло случиться с вами такое, что вы живете и радуетесь этому небу яркому, но чужому, красивым домам, своим платьям и столам, накрытым хрустящим от крахмала бельем, что вы имеете это за труд, отданный чужому для вас делу, просто за доллары, которые дали вам право иметь машины, дома и платья?.. Но разве может замкнуться этим круг жизни на земле? И не оттого ли, чтобы заполнить неосознанную пустоту, — сборища однокашников перед пейзажем с шишкинскими мишками и в чужом гольф-клубе, где играют раз в неделю русский романс «Ямщик, не гони лошадей»? И самое страшное, что невозможно объяснить им ущербность их, потому что они живут и радуются…
А вообще-то можно понять эту даму из газетки «Единение». Подумать только: советские стили — прямо под орлом-символом, возмущенно свесившим вниз два своих изогнутых клюва!
Кстати, о газете «Единение». На серой бумаге, русским шрифтом отпечатанный листок валялся по столам в домах, почти всюду, где ей довелось бывать. Даже тетя Лида и тетя Валерия выписывали его, потому что в нем публиковались известия о всех свадьбах и похоронах, а тети, естественно, хотели быть в курсе дела!
По наряду с этими свадьбами и похоронами и с объявлением, призывающим записываться в тур по Китаю, в юрод Харбин, «по следам нашей юности», — статья по материалам судебного очерка «Литературной газеты», где все верно по датам и фактам, но как это подано! Чья-то рука кромсает и клеит клевету. И чья-то рука платит за это. Не та ли вездесущая фирма МТС — международный центр антисоветизма?
И когда она придет к этому мысленно, на каменной лесенке у черного офиса на Георг-стрит, ощущение, сродни страху и гадливости одновременно, охватит ее. как бывает, когда заденешь рукой ненароком вместо грибной шляпки в траве скользкую спину лесного гада.
И как же это могло померещиться ей в том зале, что она своя — среди своих?!
Но долго этому ощущению не быть, потому что Сашка — весь занятой и преуспевающий Сашка, деловой походкой уже спешит к ней по окончании служебного дня. Она видит его издалека, как он переходит по «зебре» кривую улочку (и замершее в жадном ожидании скопище машин выстроившись, ждет, пока он перейдет), чтобы снова везти ее куда-то и кружить. Карусель продолжается!
4
— Я покажу тебе то, что ты еще не видела, — Сидней-порт. Сегодня воскресенье, и там пусто, но все равно тебе должно быть интересно.
Огромная, стального цвета машина Руденко идет ровно и мощно, и все в облике ее — добротность и кожаная солидность сидений, весь встроенный комфорт, вплоть до бара, изобличает сущность хозяина ее, мужчины.
Лежат на руле руки, крепкие, чуть поросшие рыжеватым волосом, свободные от коротких рукавов спортивной вязанки, крупная шея выдается из расстегнутого на молнии ворота — возмужал Славка, ничего не скажешь! Плотно упираются в машинные рычаги ноги, выше колен открытые воздуху, согласно климату и моде — несомненно, прочно стоит на ногах этот человек, которого она хорошо знала молодым и совсем не знает теперь… Или то, что заложено в нас, неизменно? И кто чем станет, можно увидеть заранее — только приглядеться хорошенько?
Шуршит вполголоса в машине мелодия — русская народная. («Ты знаешь, я люблю это. И у меня неплохое собрание кассет».) И все-таки, не вяжутся между собой «Коробейники» и то, что плывет мимо, — все серое. Причалы и степы без окон (склады) в заклепках, словно борта дреноутов. И подъездные пути, вдавленные в асфальт. И все выметено, почти под пылесос — ни мусоринки, ни ящика. И ни души, естественно, — день нерабочий! Только черно-полосатая труба океанского судна, что торчит рядом за рифлеными крышами, подтверждает, что это — порт и море…
Сколько портов она видела на своем веку, начиная с того давнего, Дальнинского, куда они ездили с девчонками, на преддипломную практику в пятьдесят первом? И тогда был город у моря, странной судьбы, построенный русскими, отданный японцам при падении Порт-Артура и снова русскими восстанавливаемый — для Народного Китая… Цвели в причудливых японских парках глицинии — сиреневым дымом на гнутых лианах стволов. Зелеными горбами обступали рейд воспетые сопки Маньчжурии. Трава шелестела в бурых проломах форта «Кондратенко», сохраненного японцами, как мемориал победы и поражения. И по-братски лежали на военном кладбище под каменным мозаичным крестом и под звездными обелисками русские солдаты двух эпох боев за город. И был порт — Дальний, весь сверкающий синеной Тихого океана.
Катер беленький, в солнечных брызгах, вез их через залив по утрам на практику в Ганьчинцзы, где самая передовая, самая совершенная по тем временам угольная эстакада! Совсем молоденький белобрысенький командированный инженер в белом служебном кителе водил их, девчонок из Политехнического, по ажурным пролетам и объяснял, как работается сейчас в порту совместно советским и китайским специалистам! И как все прекрасно было в ту практику и то начало лета, потому что это было преддверием дела, ради которого она жила и училась — приносить пользу Родине! Правда, вначале здесь, в Народном Китае… И все кипело и двигалось в том Дальнинском порту — черной лоснящейся массой сыпался уголь в недра пароходов, доставлявших сюда из Страны Советов то, что нужно для народной власти, — машины, медикаменты. Вот как оно было тогда.
А где был в ту пору Руденко? Уже защитился и работал в Китайской строительной фирме, как большинство ребят из Политехнического, мотался по командировкам — Пекин, Чанчунь и был женат на той девчонке из их класса. И уже предал Машу. И уже понял, что не может без нее, и тогда стал предавать обеих… И есть ли связь в натуре человека между двумя предательствами — женщины и Родины?
Или нельзя применять это жестокое слово к Славке? Он просто повернул. Как в русских былинах, перед камнем на развилке дорог: «направо пойдешь — голову сложишь, налево пойдешь — коня потеряешь». Собственно говоря, все они стояли перед таким камнем на распутье в пятидесятые годы. И Славка повернул, согласно складу семьи — своей и той девочки, что стала женой его из семейных соображений… Все логично, если несколько раньше, ради этого он отказался от Маши…
…Машу она видела последний раз в том эшелоне, что вез их через границу на целину. Когда красные «телячьи» теплушки замирали у перронов сибирских станций, почти легендарных станций «Зима», «Петровский завод», и на солнечный песок платформ выпрыгивала из вагонов вся масса «маньчжурских» переселенцев в оборчатых платьях по моде пятидесятых годов, в махровых, китайского производства, цветастых майках, ошеломляющая для работников вокзалов, а вокзальных буфетов — тем более, когда, усвоив путевой опыт, Лёлька неслась с чайником к кипятилке, тут и встречались они с Машей, в очереди. Или, разминувшись на ходу около почтовых отделений, — все тогда писали и телеграфировали, кто назад по ходу эшелона, оставшимся в Харбине близким, кто вперед: Маша ехала с матерью, и ее должны были встречать под Иркутском еще никогда не виденные тетки. Машинист давал гудок, состав дергался, и все опрометью кидались к вагонам — где уж тут было говорить о прошлых девичьих настроениях! Стерто, словно резинкой с бумажного листа, и впереди — чистый лист и все заново, так тогда думалось! Такой и запомнилась ей Маша, бегущей за двинувшимся эшелоном, — длинные ноги в белых спортивных тапочках, развевающаяся юбка в сборку из сине-каймовой дабы. Угловатость движения и порывистость, и беззащитность — от близорукости, может быть… Вся, какая есть — в жизни и в любви.
…И теперь, сидя рядом в машине с Руденко, она ждала, что он станет спрашивать ее о Маше (если смотреть правде в глаза, не ее лично — Лёльку Савчук встречают они здесь с такой теплотой и вниманием, жили же они без нее четверть века и не ощущали отсутствия, а некий символ, прибывший оттуда, где у каждого почти остались оборванные нити судеб). Но он не спрашивало Маше. Он говорил о том, о чем и положено мужчине, — о деле.
Кем он работает, применительно к нашей должностной сетке? Выше прораба и ниже начальника строительства. Где-то посередине. Потому, что у него в распоряжении машины и люди — молодые парни-инженеры, и вся мера ответственности.
— Если у тебя есть время, я могу свезти тебя и показать, какие мы строим мощные гидросооружения!
Да, ему нравится то, что он делает. И ничего другого он не хотел бы, ему это по нраву — темп и возможность принимать решения. Или искать сообща с ребятами. У него подобрались толковые ребята. Австралийцы. И с ними можно работать. Когда что-то не удается, он говорит им — ищите, иногда получается неплохой результат. Нечто оригинальное технически. Да, ему просто интересно строить. Для города. А значит, и для людей. И это дает ему удовлетворение. Он согласен строить в любой стране, если это устроит его как инженера. Но никто не заставит его делать то, что он не захочет! И потому, он полагает, не смог бы работать у них, в Союзе («Говорят, у вас — надо, и вы делаете!»). Он не привык так…
А она подумала про себя, что он просто не знает, просто обманывает себя в чем-то. Она примерила его мысленно (как недавно Андрея на Голд-Косте), к тому, в чем жила сама: светопреставлению (по внешней видимости) стройплощадок, с нагромождением серобетонных труб для коммуникаций в неуклюжей толчее панелевозов, качанием кранов, похожих на топ жирафов, и остроконечными, как карандаши, сваями, входящими под ударами в болотистый или мерзлотный грунт, с грязевыми потопами в разрытых котлованах, горами вывороченной земли, в свете прожекторов и морозном мареве ночного монтажа, когда поджимают сроки, и благодатным теп лом бригадных вагончиков, — со всем этим, из чего вырастают, как из скорлупы, новые кварталы. И Славка органически вписался во все это — своим голосом руководящим, за селекторным пультом и даже шапкой золотисто-ондатровой, по сибирскому образцу, над синеглазым, хотя и отяжелевшим лицом. И может быть, для всего этого он и создан был, если бы не повернул?
— У нас свои проблемы. Ты думаешь, легко строить в городе, когда вокруг каждый участок — частная собственность! И нет закона заставить уступить его фирме, если нужно проложить трассу! А мы не имеем права нанести владельцу ущерба — трещину в стене или в фундаменте — за все платит фирма! Знаешь, находятся хитрецы, что не прочь получить с фирмы за ложный ущерб, и мне приходится, как эксперту, решать — могло это или не могло быть? Я представляю фирму. И мне за это платят, чтобы я шевелил мозгами! А как же иначе?
На конце Георг-стрит она и прежде видела высотный корпус, весь обшитый доверху щитами типа опалубки. Что это? Идет облицовка фасада, оказывается. Работают внутри. Нельзя, чтобы хоть капля раствора упала на костюм прохожего. Он может потребовать от фирмы возмещения!
— А теперь смотри — самый дорогой квартал Сиднея. Семьи с капиталом и дорогостоящие женщины. Такого ты не увидишь у себя там… Да, конечно, только мельком, в итальянском фильме, может быть…
Улочки кривые, тупиковые, ветвящиеся и горбатящиеся, круто идущие на спуск и такие тесные, что машина Руденко не может развернуться в них и почтительно пятится. В конце улочки — решетка сада, низкая, но недоступная непричастным, перистые листья растений и ступени нарочито натурального камня вверх на террасу, где плющ и розы и еще нечто австралийское, цветущее красными стрелами. Дома в разных уровнях, повторяя рельеф гористого мыса, парадной лестницей идут к морю — белые с балюстрадами и полукружиями окон, карнизами и пилястрами (девятнадцатый век) — добротность и изысканность, под старину. А может быть и подлинная старина — то, что может позволить себе большое состояние? И ступени вниз — к собственной пристани, где волна качает закрепленные на буях яхты и лодки, как пики-мачты без парусов, и чехлы из яркого пластика — целая флотилия наготове. Кусок личной воды в большой Сиднейской бухте — это тоже стоит денег.
— Ну как? — спрашивает Руденко. — Здорово, правда?
В общем-то, да, только для нее это — кадр из телепередачи «Клуб путешественников», и только, никаких эмоций, красивое, но чужое. А для них здесь, для Славки — может быть, та вершина, к которой человек ползет всю жизнь и доползет вряд ли — из числа приехавших из Харбина, во всяком случае… Холм — «капитолий», где живут миллионеры и, мягко говоря, «куртизанки». Не та компания!
И на фоне этого далеко не вершителем показался ей Славка, такой деятельный и сильный мужчина. Слетел он в ее глазах со своих иностранно-строительных высот и стал совсем прежним, что кружил по доброте душевной в вальсе на школьных вечерах девчушек из их класса по очереди, с разрешения невесты, такой же девчушки.
— Хочешь передохнуть? Тут есть маленький парк поблизости.
На подъем вела дорожка асфальтовая, полированная от влаги — прошел дождик, мелкий и теплый. Руденко держал ее под руку, она могла запросто слететь на своих парадных каблуках. Срезанная, слоеная, песочного цвета, скала шла справа, заслоняя порт и море до поворота. И вдруг — совсем крохотный зеленый пятачок возле самой воды, темные, штормами наклоненные стволы деревьев и камни — бурые валуны, замшелые и скользкие после дождя и отлива. Запах мокрой травы и тишина, каждый всплеск слышен, словно это остров необитаемый… Был тот краткий миг суток, когда день уже, по существу, кончился, а вечер только занимался, еле ощутимая тень легла на все видимое — бухту, сизую, взрыхленную невысокой волной, размытые расстоянием голубоватые столбы Сити и почти прозрачную арку моста.
Постоять бы тихо в садике этом с Руденко и поговорить: есть им о чем, целая жизнь прогрохотала после того школьного вальса. И, может быть, несправедлива она к нему: не для того только, чтоб разузнать, возит он ее по этому городу. И его тоже связывает с нею нечто чистое — пора отрочества, когда полна благородного мужества медь духового оркестра, и взлет на повороте плиссированного фартучка, и косёнки с праздничным бантом — прекрасны, независимо от всего того, что творится во внешнем взрослом мире (страшноватый быт японской оккупации). Когда ничто и ничем еще не замутнено — позднее наступит расчетливость, мужская страсть, компромисс. И Маша — позднее… — то, что заставит тогдашнюю Лёльку негодовать и рвать себя надвое между подружками из одного класса и одного райкома!
…Осень, начало четвертого курса. И год сорок девятый, тот самый исторический — создания Организации, когда неопределенность и пустоту вспышкой взорвала Цель: «Мы — нужны! Мы — должны! Мы — будем!»
Все помыслы в этом большом, словно взлет над мелочью женских терзаний. Так — у Лёльки. И год основания КНР, когда красные фонари и красные полотнища в желтой метели октябрьской листвы, и от этого еще значительней кажется жизнь — свидетель и участник Истории! И еще — осень, пора свадеб, для тех, у кого есть еще нечто прекрасное, никакой истории неподвластное…
И то, что Руденко женится, нисколько не удивляло и не волновало ее, потому что это было известно ей с девятого класса. И, хотя подсознательно привлекал он к себе чуточку, такой добрый, большой и синеглазый, высокое звание «жениха» ставило его вне досягаемости. И она ничего не знала о Маше. Вернее, с Машей они кружились рядом во всем этом потоке новизны — стенгазет, заседаний Оргсектора, и даже можно было назвать это дружбой, но, оказалось, не до конца — в женской откровенности! И когда Маша вызвала ее с последней лекции, постучав ногтем в стеклянную дверь аудитории, она подумала: срочное что-то для райкома — бежать или писать «Молнию». И не сразу поняла, что просто Маше плохо, и ей нужен кто-то живой рядом, иначе она задохнется от горя!
Где-то они ходили — только листья хрустели под ногами в круглом скверике на Садовой и по той, единственной в городе, березовой улице Центральной, белоствольной и оранжевой, до Большого проспекта и обратно. И она водила Машу, обняв за плечи, и не мешала ей говорить, потому что так той было легче, наверное. Им было тепло, даже душно в форменных тужурках — случается такое в начале октября. А потом, по-видимому, наступил вечер, потому что красные отсветы штаба Восьмой армии на проспекте стали падать им на руки и лица — молодая республика еще не сняла своих праздничных фонарей!
Вначале Маша ни о чем не догадывалась… И даже то, что на первых лекциях не было сегодня Славки, не насторожило ее — ну, мало ли что, простыл или проспал… Бывает с парнями. Тем более что вчера, расставаясь, он сказал ей, вечером будет занят — дела семейные. И все у них было вчера, как всегда, и даже лучше, давно им так хорошо не было. Ей, Лёльке, не понять этого, потому что она еще девчонка, но пусть она поверит ей, Маше, что так бывает, когда кажется, способен умереть от полноты того, что происходит с тобой. И это у них так — с первого курса…
И только когда она заметила, что половина мальчишек с утра почему-то «при параде» — в тужурках, галстуках и белых сорочках, порядком измятых, как бывало после ночи на балу, когда нельзя вернуться домой среди ночи (комендантский час, только успеваешь проводить утром девушку и прямо на лекции), и как-то необычно вели себя эти мальчишки: не рассказывали взахлеб о вчерашнем, а прятали глаза от нее, словно сламывает их дремота, никогда такого прежде не бывало, — она спросила напрямик одного из них, где они это гуляли, и Алик Агафонов сказал при всеобщем молчании с нагловатой значительностью: разве она не знает, вчера была свадьба Руденко. (Почему — Алик, она понимает: было дело, она съездила ему по физиономии.)
Маша не смогла больше оставаться в аудитории — одна среди полутора десятков парней, все знавших об этой свадьбе и скрывших от нее из жалости, может быть, или из злорадства. А. прежде она просто их не ощущала — только Славка! И тогда она выбежала и вызвала Лёльку.
Самое страшное во всем этом то, что он смог! Днем быть таким любящим, когда на вечер, на определенный час, уже были заказаны машины, черные, свадебные, и цветы — белые продолговатые лилии для невесты. Наглаженный торжественный костюм ждал его дома, чтобы облачиться и ехать в церковь и стоять там на паперти с глуповато-напыщенным видом (как всегда у женихов почему-то), и ждать, когда та выйдет из машины — кажущаяся чуть повыше и стройнее, чем обычно, в строгом белом наряде с опущенной на глаза короткой фатой — отчего становится загадочным ординарное и не очень красивое ее лицо…
Где сейчас та девочка? Да здесь, в Сиднее! Замужем за украинцем из Европы («Как вы называете их — «бендеровцы», кажется?») и совсем выпала из круга «инженеры и жены инженеров» — своя компания, и он не видит ее. Сыновьям он дал все, что положено, — один кончает университет, такой же здоровый, уже австралиец, в отца, другой женат, работает в Новой Зеландии. А жить вместе они все равно, даже здесь, не смогли.
И странно, впервые теперь, в том крохотном парке, смотрит она на него, тогдашнего, иными глазами. Ну сколько ему тогда было на четвертом курсе — двадцать два от силы, даже младше, чем ее теперешний ребенок — Димка. Можно ли требовать в том возрасте, в том мире с крепко заложенным взглядом: ценность — семья, даже если это нелюбимая девочка под фатой и порочное — все то. что вне брака, и вообще не имеет значения — каждый мужчина проходит через это по молодости, можно ли было требовать от него верного выхода из довлеющих обстоятельств? Или в такие мгновения способностью предать и определяется человек? А если самому ему было плохо и гадко в тот день свадьбы? Никто не скажет теперь. Четыре года оставалось еще до того, когда рухнут в одну пасхальную ночь все родительские каноны, затрещат по швам, как кораблики, семьи — поступай, как хочешь! И кто знает, не предай он свою любовь, — быть ему, вместе с Машей, в эшелоне, идущем на Целину. А там, как следствие, могли быть тоже мощные гидросооружения, только — Братск, Дивногорск. Или тот же БАМ, где сейчас Маша. Совсем иное бытие и, следовательно, — сознание. От каких, оказывается, неприметных поворотов зависит судьба человеческая! И если бы, правда, стоял перед каждым камень при дороге «направо пойдешь — себя потеряешь»!..
— Ты обещал свозить меня на обрыв?
— Сейчас будет тебе обрыв, что надо! А потом на Кинг-кросс! На мой взгляд, это позанимательней!
Толстые, квадратные в обхвате брусья барьера ограждали пространство по кромке земли и воздуха. «Чтоб не кончали с жизнью влюбленные», — сказал Славка. (Шутка? Или доля здешней действительности?) Жуткой до перехвата дыхания была черно-синяя пустота под ногами, где глухо ворочалась кипящая прорва воды. Непроницаемая, как чернила, тугими валами перекатывалась через обрушенные глыбы, ноздреватые и слоистые, как все побережье. И сам обрыв, желто-коричневый, напором воды выщербленный, в выступах и изваяниях, словно портал собора, верхней своей плитой, карнизом висел в вышине, и что там творится у основания его в преисподней, разглядеть невозможно. Только грохот и белые ошметки пены, отлетающие с силой назад и ввысь… («Когда шторм, здесь невозможно стоять — сметет!»)
И океан, который она видела впервые под таким углом высоты, был здесь не тот: блещущий на Голд-Косте и фиордами не зажатый, как на Кловелли-бич. Под пасмурным, почти сиреневым небом из конца в конец раскачивалась островерхими гребнями мощная густая синева со стальным отливом изломов поверхности.
Влажный ветер шел от океана, из глубины и прижимал к ногам легкое платье. Руки ее лежали на дереве бруса, отполированного чужими, прошедшими до нее ладонями, и такое ощущение восторга, равнозначного полету, охватило ее неожиданно над этой вечной синевой, какого она не испытывала, пожалуй, со времен юности. Так же стояла она на верхушке сопки над Трехречьем, и голубые неисчислимые гребни волнами уходили от ее подошв на запад в сторону границы. Но тогда впереди было все будущее — и Родина. А теперь иное: обрыв этот — край земли, куда двигалась она в ходе путешествия и предыдущей жизни, может быть… И хотя географически он не является той южной оконечностью Австралии, за которой уже нет ничего, кроме ледяного океана и Антарктики (ей доведется еще побывать там, на мысе Филлип из грифельно-черных сыпучих скал, куда, говорят, приплывают с полюса погостить пингвины. Но то будет совсем иной настрой души, в яркий день, хотя и тронутый полярным холодком, пестрый от туристской толчеи у таких же брусчатых перил ограждения, и ощущения края земли тогда не возникнет), именно этот сиднейский обрыв станет для нее той внутренней точкой пути, за которой по существу уже начинается возвращение…
Да и отсюда, если стать вполоборота к юго-востоку, по прямой линии рукой подать до Антарктики! И мимо этих обрывистых стен в ворота порта заходят на свою, возможно, последнюю большую стоянку корабли антарктических экспедиций, и советской в том числе. Никогда так далеко не заезжала она от своей земли…
Океан наливался темнотой — к ночи или к непогоде. А Руденко стоял рядом и не мешал ей молчать и думать. Видимо, он считал это состояние в порядке вещей, и, кроме того, он давно знал ее как возвышенную натуру! Кстати, вечер идет к концу, а он так и не спросил о Маше. Что это — мужская забывчивость? Или боязнь растревожить душу? Наблюдала она такое среди русских в Австралии: «Зачем нам тробл[17]?!»
Если оглянуться назад с высоты тонкого перешейка, на котором они стояли, соединяющего материк с тем крайним выступом суши, что подковой замыкал горловину порта, можно было увидеть город в уже загорающихся огнях — словно корзину со звездами.
Оранжевая полоса заката подсвечивала небо далеко, по грани неизвестных возвышенностей. А город ниже был накрыт мягкой чернотой, только блестело отраженным светом розоватое русло Порта-Джексон, там в глубине где-то переходящего в Паррамато-ривер.
Они прошли еще немного вверх и вниз по ступеням вдоль почти невидимого обрыва и стали спускаться к этому городу и к этим огням, зелеными и красными россыпями отмечающими очертания берега, магистралей и повисших в воздухе зданий Сити. На Кинг-кросс!
Что это такое, по существу? Писатель Даниил Гранин посвятил этому главу в книге «Месяц вверх ногами». Явление — в этом что-то есть? Или, говоря примитивно, улица ночных увеселений, куда выплескивается все то, что в дневной жизни сжато внешней благопристойностью? Улица сродни той, из Западной Европы, по которой идут герои бондаревского «Берега», с выставленным за витринами на продажу всем тем, что составляет сокровенность женщины и вообще — человека?.. Где под невинным на взгляд подвальчиком кинотеатра таится мерзость и даже кровь преступления?
— Мы не будем выходить из машины. Достаточно будет с тебя посмотреть, и — мимо! (Будь на ее месте кто-нибудь из ребят, что учились со Славкой и гуляли на его свадьбе, конечно, ввел бы он его в «тайны Кинг-кросс»! Но она все-таки женщина, и он печется о ее нравственности.)
Что можно увидеть из окна машины, которая движется в потоке других машин, правда, довольно медленно, по улице, не очень широкой и не столь освещенной, как хотелось бы предположить, если это знаменитая Кинг-кросс! Только нижний этаж зданий, верх которых размыт мраком, светится пестротой пронизывающих надписей, смысла которых она не понимает, квадратами стекол магазинов, торгующих всю ночь ресторанчиков. И вдоль всего этого переливается толпа, так же плохо различимая в переменчивых бликах света. Но что-то она разглядела, конечно. Мужской состав, в большинстве, разных возрастов, и почему-то много, как показалось ей, китайцев, словно это Сингапур, а не Сидней! И явно туристские компании — благонравного вида пожилые мужчины со своими седыми леди. Из Англии, может быть? Нельзя быть в Австралии и не повидать! И странных парней на перекрестке, в пятне света, рассмотрела она: над волосатой распахнутой грудью, над обтянутым мужским торсом — девичье-белокурая, до пояса заплетенная коса — как понимать это? Такого не увидишь днем, в деловом Сиднее. И конечно — женщины! Сами по себе, как нимфы ночи, присутствовали здесь. Одна почему-то запомнилась ей — не броско одетая — в юбочке расклешенной и спортивного покроя блузке, на тонких каблучках босоножек, мелкие черты совсем молодого лица в обрамлении свободных светлых волос, стояла она у стены в такой нарочито-небрежной и, вместе с тем, вызывающей позе, опершись о косяк, что почти не допускал сомнений смысл ее пребывания здесь. Профессия или просто распутство? Скорее всего — первое. Чувство озноба вызывало это зрелище почему-то. Читать об этом, что где-то «у них там» — в порядке вещей — одно, а видеть своими глазами — другое. Любовь, расцененная на деньги по прейскуранту, — от этой девчонки на панели до того белого особняка, в розах над Сиднейской бухтой.
И в довершение всего — неширокая площадь. Обступившие ее старые здания — узковатые окна, затененные, выпуклые фасады. А в центре — как гигантская жар-птица — фонтан, светящийся желтым пламенем, колесо, вертящееся в воздухе и разбрызгивающее золотые брызги на все это нешумное, но беспрестанное движение Кинг-кросса. Как иллюзорность того, что происходит здесь: включат свет, и спектакль окончится. Говорят, днем Кинг-кросс — не примечательная и даже серая в обыденности улица…
И только в последний час этого дня, когда они сидели с Руденко в низком типа «кабачок» темноватом, пропахшем пряными запахами китайской кухни зале клуба «Мандарин», он спросил о Маше.
И здесь, на липком пластике ничем не покрытого стола и плечом к плечу с посторонними, на чужих языках говорящими людьми, он стал записывать адрес: Иркутская область… И так далее. В кожаную с нерусским алфавитом книжицу…
— Когда будешь в Сиднее, попроси, чтобы тебя свозили на Истершоу, — сказал дядя Максим, провожая ее на автовокзале в Брисбене. — Истершоу — по-нашему пасхальная ярмарка — бывает только раз в год и выставляет все, чем сильна и богата Австралия.
На Истершоу ее повезла Юлька. Кто, кроме нее, маленькой, свободной от службы женщины, мог позволить себе такое — катать кого-то по городу в рабочий день!
И вообще, буквально с неба слетела к ней Юлька, вернее с той красной лестницы в «Русском клубе», у подножия которого она стояла, брошенная Сашкой на произвол судьбы. (Мальчик из детства уже подвез ее на своей машине из церкви и ретировался, а Сашка зацепился где-то по пути между папертью и клубом и еще не прибыл.) В конце красной и ворсистой от ковра лестницы виден был стол, сидела комиссия, и каждый, кто поднимался, расписывался, клал деньги и только тогда входил. А она стояла у подножия и не знала, как быть, потому что ни одного доллара у нее не было в руках, окутанных пышными рукавами платья. И вообще она не знала, на каких условиях вез ее сюда Сашка! Чувство неловкости и беспомощности начинало захлестывать ее, хотя она и делала вид, что просто ждет кого-то. А те, кто проходили мимо, не узнавали ее, и она их не узнавала. Это позднее, в зале, словно спадет временная пелена… В эту гнусную минуту и слетела к ней Юлька с высоты — девчонка, с которой они никогда не дружили прежде, потому что Юлька была младше на класс и на курс, но которую она знала, конечно, потому что нельзя было не знать друг друга в том замкнутом круге Харбина.
— Лёлька! Откуда ты здесь? И почему ты стоишь? Сашка тебя бросил — это так на него похоже! Мне говорили — ты у них остановилась! Пойдем! — И она повлекла ее наверх, по пути бросив на стол две двадцатидолларовые бумажки — цена пребывания, оказывается! Только в этот момент, по законам комедийного жанра, вынырнул и взлетел вдогонку им Сашка, нагруженный коробками с тортами.
— Юлька уже про» ела тебя? Пу и прекрасно, — и тем самым как бы передал ее с рук на руки…
…Истершоу. Если рассматривать конструктивно, — огороженное пространство где-то в черте города, начиненное павильонами разной степени долговечности — от крытых рифленым железом, как пакгаузы, серых корпусов до, всеми красками и флагами расцвеченной, вертушки карусели. Как явление, — это праздник. Австралийцы вообще любят развлечения. Можно подумать, для того только работает, и нелегко, отец семейства, чтобы дать возможность домашним своим, с детьми вот так безудержно толкаться в одержимо-пестрой толпе, тратить деньги на разную дребедень, вроде подарочных мешков со свистульками, бумажными кепочками фирмы «Истершоу», шариками, смешными крокодилами и прочим, непонятного назначения.
— Дети это любят, — говорит Юлька. И младший Юлькин ребенок Пит, или Петька, упитанный и розовый, как все австралийские дети, просто верещит от восторга, натянув на себя страшнющую маску с бородой и огромными ушами зеленого цвета, а старшая девочка, такая тоненькая и сдержанная по-английски за столом дома, упорно тянет их в угол площадки, где в мутноватом дневном небе вертятся, как протуберанцы, «чертовы колеса» различных конструкций. И когда ее, такую благонравную, привязывают цепями к какой-то адской решетке и она, под безумные ритмы современности, взмывает ввысь, так что волосы становятся дыбом и выше колен задирается платьишко, лицо ее становится вдохновенным, как у Жанны д’Арк!
Толпа плотная, жарко дышащая плывет мимо всех этих бесчисленных киосков, будочек, прилавков с горками наваленной бумажно-тряпочной пестроты, мимо надписей и указателей — не так-то просто сориентироваться в ярмарочном городке! И в этой толпе не видят друг друга, как в лесу — от свободно обнимающихся парочек, обтянутых расписными по животу и спине майками (их можно здесь же отштамповать в соседнем павильоне — любой рисунок на выбор и натянуть на себя горяченькими, и почему-то с вымазанными черными лицами; «Так смешнее», — поясняет, уже привычная к такому, Юлька), до толстяков преклонного возраста с голыми коленками, щелкающими фотокамерами и чего-то жующими непринужденно. А можно и здесь же, в толчее, сидя на врытых в землю чурбачках и скамьях за дощатыми столами, перекусить всем тем, что продается в окружности, — пышно-кремовым мороженым или горячими многослойными, не влезающими в рот бутербродами из овощей и мяса, если не хочешь зайти в капитальный ресторанчик с кораблями капитана Кука на деревянных деталях интерьера, где те же плоские куски «стэйков», только поданные на больших тарелках с перцем, картофелем и брюссельской капустой.
А то, из чего происходят эти самые «стэйки» и что, по существу, составляет главную славу Австралии, мычит и хрюкает в тех длинных, как пакгаузы, корпусах. «Надо посмотреть», — тянет Юлька. «Оно» стоит на чистых подстилках из соломы, каждое в своем личном отсеке, — выхоленные и вымытые, громадных размеров розовые свиноматки, а над головами их висят знаки премирования типа грамот и медалей, овцы-бараны, такие курчавые, словно их завивал парикмахер, с крутыми рогами, с шелковистой шерстью до земли, в складках жира, словно ожерельях — такие значительные, словно сознающие себя одним из китов, на которых держится Австралия. И можно увидеть, как стригут рекордисток-овец рекордсмены-стригали (за отдельную входную плату). На помост в похожем на кинотеатр зале выходит парень, тоже кудрявый, могучего сложения, как с рекламной картинки, и выводят ему такого мохнатого завитого барана, плохо подвижного от груза, который тог несет на себе. Включаются электроножницы — минута, и буквально вынимается из вороха меха похожее на голого ребенка беспомощное существо с жалобной, продолговатой мордочкой. А то, что осталось от него — косматое руно, предъявляется зрителям нерушимым как единая шкура — в этом и есть талант стригаля. Австралия — мешок с шерстью — как сказали ей — восемь овец на каждого жителя и коров тоже восемь, кажется! И буренки, пятнистые, с грустными глазами, выходят, как актрисы, на подмостки и позволяют демонстрировать на себе достижения техники доения — карусельную установку, которая вертит их, и бегущее через прозрачные флаконы молоко — нектар жизни.
В похожем на крытый рынок здании стены доверху выложены мозаикой из всего, что растет и созревает: золотисто-пунцовые узоры помидор, яблок, бананов, и как же обойтись без причудливых, как цветы, ананасов — бизнеса страны! Можно посмотреть, можно купить здесь же и съесть, обливаясь липким соком. Каждый штат выставил свое, наиредчайшее. Правда, за обилием этим маячит, как беда, проблема сбыта.
Четырнадцать миллионов жителей, практически, не и состоянии потребить всего, что производит эта красноватая земля в незасушливые годы.
Тетушки в Брисбене говорили ей: то, что не продано в магазинах в субботу, в понедельник никто не купит! Австралийская хозяйка избалована — только свежайшее, без жилочки и пятнышка! А все прочее? Можно, наверное — на экспорт… Но куда? Слишком далеко другие материки. Нужны рефрижераторы, транспорт. Дороже обойдется. Дешевле — в «раббиш»[18]!
И в то самое время, что она стоит с Юлькой и Юлькиными детьми под гулкой крышей «дворца изобилия», сколько всего этого, выращенного, просто гниет в кузовах и вываленным по обочинам, потому что в Австралии началась забастовка «траков»!
А в круглой, как колизей, загородке ипподрома идет парад лошадей и всадников. В черных котелках и красных фраках для верховой езды, в ярко-полосатых жокейских куртках и шапочках и в почти карнавальной воинской форме — как эскорт английской королевы! (Конный спорт — страсть австралийца, осевшая, видимо, в крови его от предков — выходцев из Англии). Юлька не купила туда билетов — заранее надо было, и они видели это «зайцами», проплывая мимо по воздуху в хлипких креслицах канатной дороги. И глядя с высоты птичьего полета, как бегут по зеленому кругу белые и пегие лошадки, она подумала: что-то есть в этом общее с ее нынешним путешествием — так же кружит она в кольце встреч и эмоций, от ее воли не зависящих.
В воротах ярмарки было уже пустовато и мусорно под ногами от всего того бумажно-упаковочного, что сопутствует подобным зрелищам. Посетители растекались, удовлетворенные, к своим машинам. И ей хотелось уйти поскорее от верчения, цвета и грохота. А Пит скулил, что они так и не побывали в «попугайном шоу» (его водили в прошлую пасху), там ученые белые попугаи катаются на велосипедиках и качают воду в ведерочки! Вот уж кто не нагляделся на попугаев, так это Пит! На ее глазах Юлькина мама и его бабушка гоняла их полотенцем с балкона, как воробьев, возмущаясь в русских выражениях, как они, подлые, гадят на новенькие перила!
Во вторник, в одиннадцать, Юлька ждала ее у входа в подземный переход к электричке, где-то около конца той самой Георг-стрит, которую она самостоятельно изучила накануне и от которой теперь как от «печки» только и могла двигаться одна по Сити.
Юлька светилась вся своим розовым элегантнейшим костюмом и блеском глаз, оживленных и словно не утративших того радостно-доверчивого выражения, что отличало ее в молодости. И лицо ее было не сдавшимся возрасту, смуглозагорелым и гладким, как у девочки. (Юлька покажет ей потом, как это достигается — она свозит ее в свой клуб-многоэтажку, втиснувшийся в деловой центр Сиднея. И там будет все для красоты — финская баня, обложенная смолистыми желтыми досточками, ультрамариновой воды бассейн под крышей, и спортивные корты, и конечно, вишневый плюшевый уют кафе, с настольными лампами над крахмальностью скатертей. Юлька член этого клуба.)
А теперь она тянула ее быстрее куда-то в недра города, сначала по освещенному коридору, с обеих сторон которого, как и на поверхности, за стеклянными дверями и окнами, чем-то торговали и кормили, пока не началось подлинное царство «рейлвей». И здесь, как и всюду в Австралии, где дело касалось железной дороги, преобладающим цветом стал серый — железа и истоптанного ногами бетона. К чему, собственно, лишние краски для тех, кто ездит на электричке?
Юлька вертела ее, как заправский гид: «Смотри, какая картина!» — по обшарпанной стене вдоль перрона шел рекламный плакат: в озорных позах сидели на земле парень и девушка, причем голая ступня ее, обращенная к зрителям, равнялась росту среднего человека, а такой же великан-парень, в рваных джинсах, одной рукой обнимал подругу, а другой протягивал банку пива: «Ты не забыл купить бир, отправляясь на уик-энд?» Электрички подходили и уходили, втягивая в себя, как пылесос, людские массы, — чем-то уже отсеянные от изысканности Сити. Обычные озабоченные люди, хозяйки с покупками, деловитые мужчины с портфелями и газетами. И здесь, вне окружения блеска машин и витрин, они выглядели даже проще пассажиров московского метро — значит, существует и такая ступенька Австралии?
Юлька везла ее электричкой, потому что это очень далеко — на том берегу бухты, и машина ждет их там, возле станции. Она втолкнула ее в подошедший, похожий на серебряную сигару, вагончик, двухэтажный и с мягкими низенькими сиденьями («Давай наверх. Ты там больше увидишь!»), втиснула между окном и дамой-австралийкой, быстро-быстро вяжущей нечто мохеровое на толстых, как бревнышки, спицах, сама уселась напротив и, глядя на нее круглыми и влажными, как черносливины, глазами, принялась говорить обо всем сразу. Вернее, они обе начали трещать — бывает такая внезапная откровенность! И почему не получилось так с Верой?
Под непривычный ритм покачивания чужого вагона и поверх множества крыш, красноватых, как грибы, все глубже уходящих в кудрявую зелень под насыпью — чем дальше они отъезжали от центра города, еще одна любовная история стала проникать в нее и пронизывать, как ток высокого напряжения!
…Акробатический вальс! Как же можно не помнить такого?! На погруженной во мрак сцене, над институтским залом прожектор рисует круг света, и в нем, на еще невидимо чьей вытянутой руке, взлетает Она — в белой тюлевой юбочке, с руками, раскинутыми, как крылья птицы! Балет или нечто ритмическое, в меру их сил ri таланта. А потом ширится круг света, и можно уже видеть Его — в черном атласе с блестками, коренастого и крепкого, с тем выраженным упорством на лице, что было свойственно почему-то парням, приезжающим учиться в ХПИ с периферии. Из разных поселков по западной и восточной линии бывшей КВЖД, где вырастали они не по-городскому, и учились настырно, словно рубили тайгу. И он был одним из них, и конечно идейным политически и членом райкома. И ему ничего не стоило поднять на руке, в акробатическом вальсе, перышко-Юльку! И не могла здесь не сложиться любовь при его почти деревенской чистоте чувств, ее прелести и непосредственности…
Они успели пожениться, прежде чем начался аврал Целины. Правда, без церкви, по-комсомольски — регистрация в генконсульстве, хотя мама ее была против, да и самой ей в глубине души хотелось длинного платья и флёрдоранжа, но что делать — он не мог иначе, и она сделала, как он хотел, потому что любила. Зато все его общежитие и половина райкома танцевали на их свадьбе. И пили за них и за отъезд, потому что это уже носилось в воздухе, хотя никто и не знал ничего определенного…
Сумасшедшая весна пятьдесят четвертого, когда хлопали от пыльных бурь форточки, и все рушилось на глазах, и не удержать было! Они, конечно, не были у заутрени, но уже утром узнали — весь город метался по родным и знакомым: желающим разрешен выезд на целину! Доли сомнения не было у него, и вся его семья с братьями и сестрами и со всем хозяйственным имуществом ехала безоговорочно, даже коров своих они взяли бы, наверное, если разрешат, в эшелон! На полном серьезе они собирались работать на целинной земле, как и на маньчжурской, это не составляло для них разницы, а он, уже защитившийся инженер-механик, и не было сомнения — ему найдется место в любой МТС!
А ее даже не спросил никто! Едет ли? Само собой разумелось! И может быть, в этом и был первый толчок оскорбленности, от которого все началось разматываться дальше? Она просто не хотела. Копать землю. И мазать навозом хаты этими маленькими ручками, способными выразить трепет души в искусстве! И почему она должна? Ей просто нечего там делать! Но он был заряжен целеустремленностью, и ничто не могло остановить его. Даже любовь к ней!
И какой страшной была та весна разрыва без развода, потому что просто не было советского судопроизводства за рубежом: регистрация — пожалуйста, а развод — нет, до конца жизни — «брак по-харбински»! Эшелоны уходили от старого вокзала кавежедековских времен (снесенного позже в пору «культурной революции»). Под медь оркестра, под песни: «До свиданья, мама, не горюй, не грусти…» Как она ненавидит с тех пор эту мелодию! И они не могли еще разорваться до конца, потому что руки и тела только-только познали друг друга и противились разрыву. А все остальное, доброе было сломлено и перемешано, как груда глины, перевоплощая страстность в озлобление. Но принцип — превыше всего! Как она плакала перед ним тогда! Как перед каменной стеной! И когда ушли эшелоны первого года и когда она осталась одна с мамой, но без него, со своей попранной любовью, куда же ей оставалось рвануться, как не сюда?
— Ты не представляешь, что я пережила, Лёлька! И что было со мной! Я могла погибнуть! Я могла попасть в руки негодяев! Ты знаешь, как трудно здесь выбиться поначалу… И правда, вокруг тебя акулы, как вы там у себя пишете, капитализма! Когда женщина одна. Мама мыла в ресторане посуду, я работала чертежницей! Знаешь, я была неплохой чертежницей, меня даже специально приглашали, если нужен был сложный чертеж.
И тогда она встретила Ника. Они работали в одной фирме.
— Ты посмотришь, какие у меня девочка и мальчик! И я привыкла к его друзьям. Знаешь, они немножко забавные, на наш взгляд, австралийцы, практичные и наивные — одновременно. И у них свой юмор и порядочность. Ты увидишь его, — он взял на завтра день, и мы повезем тебя, куда ты захочешь. Можно в «Старый Сидней». А можно в такой зоопарк, где львы и тигры ходят на свободе и прыгают тебе на машину, — тоже очень интересно!
Да, она вытоптала и выбросила из души Малышева. («И можешь ничего о нем не рассказывать!») и «к вам к Союз» она не хочет ехать «по туру» из-за него, может быть. Они с Ником объехали всю Европу, были в Бельгии и Англии — там у него родственники. А в следующий «холидей»[19] они собираются на Гаваи. «Ник говорит: надо поездить, пока есть возможность!» А мама Ника живет тоже в Сиднее, но своим домом. Здесь это принято: родители — отдельно. Мы только ездим к ней — помочь закупить продуктов и показать внуков. Здесь у стариков свои компании. Только наши мамы с нами неразлучны. Может быть, Нику это не очень нравится, но он никогда не даст понять — он очень выдержан. Ты увидишь!..»
— Вот мы и приехали — наша станция. Пошли. Это новый район и очень дорогой, ты сейчас сама поймешь — почему!
Магистраль. Сначала — мимо похожих, как близнецы, магазинчиков «шоппинг-центра» (той же расцветки юбка в косую клетку стоит в окне на манекене, что попалась на глаза ей полчаса назад в Сити). Потом массивное, в староанглийском стиле, здание школы, в окружении деревьев и спортплощадок — где учится Юлькина дочка. («Очень хорошая, частная школа, главное — близко, и она может сама добраться на автобусе — не обязательно подвозить по утрам на машине».) И, наконец, сверток с магистрали.
Машина нырнула в лощину или в нечто похожее на большой овраг, которыми была изрезана местность. И сразу исчезло ощущение города. Дорога петляла по дну лесистого ущелья. Вдоль обочины, в естественных камнях и круглых кустарниках, бежал и поблескивал сквозь стебли и листья желтоватой, как топаз, водой типичный австралийский «крик». Но склонам ущелья, обрамленные курчавыми и темно-сероватыми невырубленными зарослями и не очень близко друг от друга, стояли дома. И оттого ли, что, прислонившись к косогору своими надстройками и террасами, выглядели выше обычного, словно привставшие на цыпочки, или от архитектурной индивидуальности их, что позволяли место и средства строящихся здесь людей, вся эта лощина смотрелась удивительной и непохожей ни на что виденное прежде. А главное — неожиданной в плотной застройке Сиднея. Словно, переступив порог дома, вы сразу попадали в горную страну! И хотя это — иллюзия и только: город был рядом, перешагнув через оазис, продолжался, ощущение влажности и тишины не оставляло, пока вы находились здесь.
— Ты чувствуешь, какой здесь воздух?
Пахло зеленью и мокрой землей.
Дом Юльки, вознесенный над проезжей частью, на высоту асфальтового въезда, на фоне зеленой горы, нарядно блистал стенами из желтого кирпича и высокой шатровой кровлей из кирпичного цвета черепицы, прорезанный белыми переплетами окон и белым узором балконных решеток. И колония камней и цветов у въезда — гордость и забота Юлькиной мамы. И ребристая, шторчатая дверь гаража на нижнем этаже, что подымалась сама «по щучьему велению», стоило Юльке вытащить из сумочки нечто похожее на спичечный коробок. («Это очень удобно, главное, не нужно выходить из машины в любую погоду!») Все было новым, щеголеватым и с достаточным тактом выполненным, — добротный дом для семьи.
И внутри это был очень красивый дом, как бывают обдуманные и для себя устроенные дома (и чем-то неуловимо, на категорию выше просто красивого дома Андрея на Голд-Косте). Юлька сказала, сколько тысяч стоил он, пока они поднимались наверх по скользким от лака досточкам ступенек, по белым шерстяным коврикам на площадках, мимо ваз бело-синего фарфора и масок в простенках, привезенных хозяевами из Индонезии.
— Может быть, ты хочешь искупаться — у нас прекрасный пул![20] Пока Ник не приехал с работы и пока Сюзи в школе…
— Пит! Вы пойдете сейчас купаться! Переоденься и возьми полотенце!
— Мама, ты узнаешь? Это Лёлька из нашего института! Ты не помнишь ее по Харбину? — И Юлькина мама, незнакомая ей прежде, но с тем неистребимым русским в лице, что так и осталось у этого поколения в Австралии и что безошибочно узнавалось в любой толпе, совсем домашняя мама, стояла в пестром фартуке посреди кухни, уже не пластиком, а натуральным деревом отделанной, в окружении всех этих, на грани совершенства, вертящихся шкафов и приборов и держала в руке посудное полотенце, как у себя в Модягоу.
Потом она переодевалась в купальный костюм — мамин, потому что Юлькин ей мал. Внизу, на маминой половине, в такой немыслимо розовой ванной комнате, где страшно ступать на синтетический пух половичков и садиться на пухлый розовый стул перед мраморной плитой подзеркальника.
На поверхности абсолютно голубого, камнями обложенного «пула» за домом плавали продолговатые сухие листья: все-таки апрель — осенний месяц! И Юлька стала расчищать воду чем-то специальным, вроде пластиковой сетки. Пит выкатился из дома, веселый, кругленький, белокурый, в пестрых плавочках. Вода в бассейне оказалось теплой, хотя Пит визжал в ней и отдувался, как морж в проруби («Ты знаешь, это не дешево стоит — пул! Но мы пошли на это, потому что у нас — дети. И это так полезно — для отдыха!»). Было наслаждением шевелиться в его прозрачной глубине и, поднявши лицо, встречать глазами круто идущую вверх, от самой воды, листвой шуршащую живую стену из зарослей. И она не удержалась, чтобы не обследовать ее позднее вместе с Питом, когда костюмы их, отжатые, сохли над перилами, с которых Юлькина мама только что согнала наглых сине-зеленых попугаев…
Он вел ее вверх каменистой тропой с важным и загадочным видом, потому что это была его территория, и в кого он воплощался здесь — в следопыта пли колониста — она не знала, во что играют австралийские дети. И все было чудесно, пока зеленые тени двигались по лицам, палая листва похрустывала под ногами и пахло прелью, совсем, как в сопках ее юности, только росло здесь что-то другое. Гора кончилась. По крайней черте склона — тоненькая нитка проволоки, как всюду здесь по обочинам, и пустой, солнечный асфальт. А дальше опять чей-то дом, стоящий над своей иллюзией — горным обрывом. Она не стала смотреть дальше.
Ник приехал с работы — заурчала машина около гаража. Пришла из школы Сюзи — такая аккуратная высокая девочка в форменной юбке в широкую складку, прямой блузке и галстуке — гладкая головка, ни одной завитушки. Она не говорила по-русски и только улыбалась гостье с приветливой вежливостью. («Ник решил, что ей этого не надо — ей же придется жить среди своих».)
Они пошли с Юлькой и Питом пройтись по нижней дороге, вдоль «крика», пока не позвали ужинать. Небо покраснело над верхним краем лощины, и было полное впечатление, что там, в горах, заходит солнце. Туман начал тянуться от воды и оседать синеватыми полосами в низине, как в подлинных Альпах. Свежёе, как обычно, к ночи стал запах леса, и птицы какие-то, засыпая, перекликались в зарослях. Они шли не торопясь, а Пит вертелся около, забегал вперед и возвращался с воплями: вон у того дома его обижает соседский мальчишка! И Юлька утешала его и внушала ему, на странной смеси двух языков, понятной, видимо, только им обоим, и что должно было означать: не лезь, не задирайся, сам виноват!
Пахло жареной бараниной и овощами из маминой кухни, разделенной со столовой только аркой и шторой — кожаной, задвижной, как гармошка, — на случай большого приема. Теплым казался свет от ламп, от абажуров золотистого шелка. («Я делала их на заказ, и мне два раза переделывали, прежде чем добились того, что надо!») И все в этой комнате, совмещенной по-австралийски с гостиной и пустоватой — ничего лишнего, выдержанной в белых и оранжевых тонах — даже осенний пейзаж на аскетично-беленой стене под цвет ковра — гаммы опавших листьев, вкрадчивая мягкость ворсистого пола, податливость объемных тигрово-полосатых кресел, располагало к душевной тишине и расслабленности.
Ник сидел во главе белого стола. И был это высокий худощавый мужчина с серьезным продолговатым лицом. Бесстрастный от врожденной выдержанности и оттого, что частично не понимал, о чем говорилось за столом. И вместе с тем доброе любопытство проглядывало в этом лице, когда он переводил взгляд с жены на гостью из России. Сюзи сидела с ним рядом. Такая же длинненькая, беленькая и сдержанная девочка, и теперь можно было убедиться, насколько они похожи — отец и дочь. Юлька успевала говорить за всех сразу: и с ней, и с мамой по хозяйству, и переводить Нику суть разговора, потому что, конечно же, ему интересно (несмотря на кажущуюся бесстрастность), и делать замечания Ниту, что он не так, как положено, ковыряет ложкой тушеную тыкву!
И этот спокойный овал стола, уставленного простой и вкусной едой, в окружении детей, с уравновешенным, уверенным в себе мужем во главе, как бы определял понятие «мой дом — моя крепость». Не столько во внешней отгороженности склонами оврага, сколько внутренним кругом семьи, куда нет доступа посторонним.
И что-то в атмосфере этого вечера — совмещение домашности и комфорта — стало проникать в нее подспудно, как подземная вода, и размывать устоявшийся образ мыслей.
Священность семьи — на любом континенте. И получалось: она уже не может судить Юльку, сделавшую выбор между своей землей, которую никогда не видала, и чужой, только потому, что на этой чужой земле та вольно или невольно пустила корни!? И родила детей. И сложила свой дом — свою крепость.
И можно ли вообще судить женщину за то, что нашла себя в этом красивом доме и с человеком, который в чем-то дополнил ее сущность? (Говоря откровенно, при всей склонности в этом путешествии как бы собрать мысленно под «родную кровлю» близких ей некогда ребят — Андрея, Сашку, Руденко, она попыталась увидеть Юльку на целине, даже рядом с ее железным Малышевым, и не смогла!) Да, но тем самым та уничтожила в себе то русское, что накоплено в генах поколениями предков, может быть, еще от Чингисхана защищавших Святую Русь… Потому что за ней, русской девчонкой Юлькой, обрывается вся эта нить предшествующих ей русских людей и кончается, канет в вечность в детях ее. Достаточно посмотреть на сидящих рядом Ника и Сюзи, чтобы понять это.
Еще виднее это станет назавтра, когда все они вчетвером с Питом, но без Сюзи, которая в школе, отправятся в «Старый Сидней», и когда в конце дня, насыщенного хождением между стреляющими, поющими и бегущими персонажами прошлой Австралии, они, две женщины, сядут передохнуть на бревнышки перед пристанью, где причален «корабль каторжников». А Ник с Питом пойдут кататься сначала на быках — в фургоне переселенцев, потом просто с горки, напротив лобного места, где как раз происходила экзекуция.
И когда она увидит их издали перед солдатами в красных мундирах и белых перевязях, против старинной пушечки под развевающимся сине-красным британским флагом, оживленно-единодушных в этом «своем», она подумает еще раз: во всяком случае, защитников Руси от Чингисхана и всего русского для Пита уже не существует…
Что говорить о Чингисхане, если собственное — историю — австралийские дети проходят в школе на выбор, в зависимости от будущей специализации? Зачем зря загружать голову!
И она не знает, как это все соотнести теперь в своем сознании: жалеть Юльку — вода, уходящая в песок. Или по-женски — завидовать ей? Потому что в тот вечер, в размягчающем тепле чужой семьи и вопреки всему правильному, что думала она о Юльке и Юлькиных детях, исподволь начнет проявляться в ней нечто, чего она сама о себе не знала.
Она всегда, по существу, хотела иметь Дом. Пусть не такой красивый, но достаточно теплый от присутствия своего человека. И вся ее жизнь — метание по командировкам, люди, дела, города, если быть честной, — от пустоты, когда нет такого дома. Вернее, это взаимосвязано — одно исключает другое.
Правда, что-то такое, краткое, было у нее в том сборно-щитовом доме на гриве, на краю села и в начале степи, когда она ждала своего Сергея-Сережку из снежной кипени бурана. Что-то было такое, а потом рухнуло и поползло под откос, как его в сугроб завалившийся трактор… От неумения или от непонимания? Оттого, что она сделала свой выбор между Домом и Делом.
И дальнейшая ее жизнь состояла из возвращений к ребенку в тоже теплый, но родительский дом. А своего не было. И уже не будет, по-видимому! Правда, есть у нее сейчас общий с ребенком дом, весь оклеенный картинками девчонок и перепутанный проводами и лентами магнитофона, в котором оба они как бы временно существуют, еще привязанные нутром, но уже досаждая друг другу, в ожидании, что вот-вот это закончится — он женится и уйдет. И довольно скоро, потому что стоит на примете та, которой она должна привезти, по его заказу, голубые джинсы и прочую импортную мишуру. И тогда она останется одна.
По каким-то неуловимым связям с этим, своим женским не очень радостным, но глубоко и постоянно упрятанным, именно в тот вечер, в Юлькином доме она подумала, что вот завершится ее пробег по Сиднею и неизбежно, с возвращением в Брисбен, наступит то, что она отогнала от себя на время поездки, — разговор с Андреем. И нужно будет сказать ему то, что она не решилась (или пожалела его) сказать сразу. Или она сама еще не знает — что сказать? И все это кружение по Австралии и все размышления, «как и почему могут жить здесь они?», имеют иной скрытый подтекст: «Могла бы жить здесь — она?»
…И еще штрих в групповом портрете — Человек из Сузуна. Есть такой райцентр в Новосибирской области — давнишняя ее командировка, строительство дороги Черепаново — Сузун.
Сузунский бор. Сосны, прямые, янтарно-просвеченные солнцем на заре и на закате, цвета смуглого загара в полдень, когда солнце в зените. Густой смолистый настои воздуха в зеленой тени, под сенью разлапистой хвои, и даже на станции, когда сходишь на сыроватый ночной перрон с новосибирского поезда, — запах бора.
Поселок бревенчатый (каким он был тогда), как древнее городище серовато-серебряных оттенков старого дерева, на желто-песчаном срезе берега речки Сузунки. Вот чем запомнился он ей тогда. Неповторимым своим сочетанием старины и сегодняшнего дня. Потому что здесь именно был тот первый в Сибири монетный двор, где выпускались еще при царице Екатерине медные деньги с отчеканенным двойным сибирским соболем из колыванской руды. До сих пор находят в основаниях плотины, на речке, у фундамента мехмастерских, выросших на костях того монетного двора, кандалы русских, серебряных дел умельцев.
А рядом с этим — лесовозы, лесовозы, идущие с лесосек на Верхний склад, на станцию, вершинами «хлыстов» заметающие песок на сузунских дорогах. Живое биение будней района, где растет хлеб и лес, откуда зарождается, по существу, как от истока, то, что мы называем экономикой страны.
И люди, которых она встречала в той командировке — шоферы, лесоустроители, дорожные ремонтеры, милиционеры ГАИ и секретари райкома, были такими простыми, по сути, могучими людьми, с такой добротой и участием относились к ней, молодой тогда и заряженной делом — построить дорогу, необходимую им, что весь этот рабочий поселок в бору зафиксировался в ее памяти светлым клочком земли, на которой, наконец-то, ощутила она себя неотделимой от России, как пустившая корни сосенка.
И потому, возможно, согласилась она выполнить семейное поручение: повидаться с посторонним ей человеком из Сузуна, после войны и плена «застрявшим» в Австралии. Встреча должна была состояться в еще более постороннем доме, потому что у себя и в присутствии своей новой жены-югославки он не мог или не хотел говорить с ней о своей, оставшейся в России семье. А нужно было поговорить. Что-то не проговаривалось у них в письмах со взрослым сыном, в частности, из недоверия или осторожности — не повредить бы другому… И, конечно, передать такой милый пустячок — плетенный из бересты туесок, крохотный, но копия того, в который он некогда собирал бруснику в своем сузунском бору. И от которого, увидит она, перехватит у него дыхание, как от горсти родной земли.
Итак, был посторонний дом, причем дом священника, куда привезли ее и сдали с рук на руки Сашка и Анечка. И нужно, наверное, сказать пару слов о священнике, потому что это — явление, от сиднейской жизни неотделимое.
В Сиднее несколько православных церквей (пять, кажется). У каждой свой настоятель и свой круг молящихся. Причем круги эти не только не соприкасаются, но взаимно отталкиваются. Все зависит от того, к какой епархии в международной системе православия относится данный пастырь. Во всяком случае, если даже окольным путем он подчинен, в конечном счете, Московскому патриарху, его церковь бойкотируют приверженцы того же «Русского клуба»! Тетушки говорили: в Брисбене к такому «ставленнику Москвы» прихожанки применили «санкции» вплоть до отключения водопровода, пока настоятель не ретировался!
По отрывочным данным хозяин этого дома прибыл в Сидней из Сан-Франциско и славился удивительной душевности проповедями в той своей маленькой церквушке, куда, певзирая на отдаленность района, съезжался к его вечерне круг ревнителей.
И пока не появился в этом доме человек из Сузуна, она вынуждена была сидеть с хозяином-священником в его более чем скромной гостиной (как и подобает сану) и вести беседу. Правда, одна стена гостиной, пустоватой, с иконами в углу, была вся уставлена радиоаппаратурой разных размеров, коробками с кнопками и переключателями, что должно было означать личное пристрастие его к современной стереомузыке, но, честно говоря, вызывало мысль о шпионских передатчиках.
А сам хозяин, гибкий и узкобедрый, затянутый в черную глухую «водолазку», с черным клинышком «мефистофельской» бородки и огненными очами, вовсе не отвечал привычному типу священника, а скорее напоминал мафиози из итальянского кинофильма!
И поскольку он сам внешне не проявлял к ней заинтересованности даже в пределах гостеприимства, чтобы не молчать, она вынуждена была задавать ему вопросы, в порядке интервью.
— Скажите, почему вы выбрали это поприще? (Конечно, довольно странно для такого молодого и интересного мужчины!)
Оказалось, «в наш жестокий век люди лишены радости, и душевное безверие подрывает в людях опору». И он понял: его задача — дать людям веру и душевную радость! Все правильно, может быть, у них там, в мире вещей и бизнеса, если ничего больше своего — своей земли, и даже дети не понимают твой родной язык, может быть, там церковь и есть единственный оплот духовности? И последнее для русской души прибежище? И можно понять их и только испытать к ним сожаление. Но тогда при чем тут суматоха и вражда принадлежности по епархиям? И полное отсутствие святости в этом представителе божьем на земле? С его электронно-стереоаппаратурой? Не так, что-то…
— Если вы хотите отдохнуть от мирской суеты, приезжайте к нам, к службе. Постоите, помолитесь! У себя там вы лишены этого…
Вот куда, кажется, идут концы его «пищи духовной», и чего лишены якобы люди в Советской России! И не еще ли одна это ниточка к центру НТС — только уже не через газетку «Единение», а через церковь?
Вступать в дискуссию было бессмысленно, тем более что не за тем пришла она в этот дом, и тем более, что уже мотор зарычал под окнами и кто-то входил и здоровался внизу с хозяйкой — английскими словами, но с явно русской интонацией…
К разговору о священнике можно добавить только: прощаясь в машине, когда он подвозил ее, как договорились, домой к Сашке и Анечке, в конце дня, он оставил ей номер журнала «Континент», издаваемый на русском языке на Западе («Почитайте, вам должно быть интересно»), и книжицу в мягкой обложке. Отказаться и не взять показалось ей неучтивым. И она взяла. Раскрыла дома, на сон грядущий, из любопытства. И таким страшным и затхлым бытом дохнуло на нее: «коммуналка» с пьяными нищенскими буднями, беззаконие к людям со стороны властей и бессердечность корыстолюбия, даже родных по крови, волчий мир и безвыходность. Такое не могло быть списано с натуры, потому что не существовало, просто не могло существовать в ее стране, где все построено на иных, противоположных принципах! И она готова подтвердить это под присягой, потому что сама видела воочию «мир коммуналок», сразу после целины, когда жила уже с родителями и с Сергеем в городе и ходила в райисполком «пробивать» собственную квартиру. И хотя трудное было еще время, послевоенное, и многого не хватало на всех — метров жилья, в частности, и в очередях пришлось постоять, как и всем окружающим, несмотря на все это, именно те первые годы с неустройством своим остались в ее памяти под знаком душевной сердечности людей совсем посторонних. И какой-то веселостью жизни и доброжелательности, в особенности к ним — приезжим, шли навстречу и обещали, и помогали.
А потом началось время, когда город на ее глазах стал бурно строиться, сбрасывая, как щепки, бревенчатые почерневшие домики Каменки и Чернышевского спуска, дощатые бараки на Западном за Сибсельмашем. Бульдозеры сгребали в кучи то, что оставалось, — землю, гнилушки и кирпичный печной лом, в кузова грузовиков сносили прежние пожитки — неуклюжие шифоньеры, панцирные койки и коврики с лебедями, и все это ехало во временную жизнь, на новую квартиру очередного какого-нибудь Затулинского жилмассива, чтобы вскоре уйти в небытие, потому что не приживались вещи прежних «коммуналок». Она снова видела это своими глазами, поскольку теперь уже от своей «фирмы» была в месткомовской жилищной комиссии и занималась актами обследования и распределения… Гулкость полупустых еще комнат, где полы затоптаны снегом и с распахнутых в тающий март окон отмываются брызги строительных растворов! Новоселья с плясками на общих лестничных площадках и на асфальтовых пятачках перед подъездами, когда кругом еще «море разливанное» котлованов и неблагоустройства! И радость. Все это было, было, а потом забылось как-то с годами, когда все утряслось, и зажили кому как нравится, с коврами, стенками или хрусталем. А сейчас вдруг вспомнилось ей с гневом против написанного…
Потому что словарный запас и приметы быта выглядели подлинными — непромытый и темноватый общий коридор с развешанными по стенам жестяными ваннами, и кухонный смрад керогазов — значит, писал это не просто некто, давно сидящий в эмиграции, а тот, кто явно в войну жил среди нас, ел наш хлеб и стоял в наших очередях и отлично знал, что могла, а чего не могла дать людям в те годы страна, и почему не могла… И если даже было такое — никогда не составляло главного в нашей жизни, только временное, как стихийное бедствие. Знал и продал, как «сор из избы», врагу, за «тридцать сребреников»!
И она подумала: если «тема Иуды» является одной из центральных в той христианской религии, что проповедует сей пастырь (даже осина, на которой, якобы, повесился предавший Иуда, вечно трепещет от проклятия!), как же тогда именно такое предательство — эта книжонка — берется церковью на вооружение? Или церковь тут ни при чем, а все дело в самом отце Александре?
Интересно, каков нынче перевод по курсу на доллары «тридцати сребреников»?
Журнал и книжонка обжигали ей руки. И она оставила их, уезжая совсем из Сиднея, в Сашкиной передней, на полочке у телефона…
…А пока — старый седой человек сидел с ней рядом на низком диване в доме священника и плакал.
— Сибирячка! — он говорил ей — Сибирячка — и пытался обнять и плакал снова. И хотя она вовсе не была подлинной сибирячкой, а «новоиспеченной», не опровергала этого, потому что для него она была приехавшей «оттуда», и совсем неважно, как она оказалась там и когда. Главное, что совсем только что она была там да еще знала его Сузун! И сейчас, сидя рядом на диване, он видел не ее, какая она сама, и даже не различал, молодая пли старая, и не узнал бы, встретивши снова. Он видел свой бор, золотисто-солнечный, сухой и звенящий, как скрипка, по осени, с резким скипидарным духом хвои, в шорохе редкого пожелтевшего подлеска, или в начале лета — влажный, сочный, зеленый, с оранжевым разливом огоньков в распадках, беловато-мохнатыми свечками, расцветающими на концах колких веток. И с зайцем, сидящим, как столбик, у края лесной дороги на песчаном бугорке. Или более всего запечатлен он в его сознании зимним — строгим, почти двухцветным, как на гравюре, когда на белизне снегов даже вечная зелень сосен кажется черным узором и ломятся ветки под тяжкими лапами снега — потому что такого нет и не может быть в Австралии (только в горах где-то, где не живут, а только приезжают на лыжный спорт те, кто имеет возможность, и где, по всей вероятности, ему нечего делать!). Или все проще — и ему видятся пестро-пегие коровы на кочковатом лугу в Сузунской пойме, в последний час дня, когда вот-вот они оторвутся от своей деловитой жвачки и отправятся по домам, медленным стадом втекая в улицы поселка. А закат лежит над сумеречным бором лиловыми полосами, и пласты то ли дыма, то ли тумана сединой затягивают пойму, и пахнет древесным дымом от растопленных печей. И русским хлебом…
— Боже мой! — сказал он почти сквозь зубы и пригнул к рукам свою большую лобастую голову (может быть, чтобы никто не видел лица его), и хрустели пальцы, сжавшие крохотный, с наперсток, туесок…
Что же с ним было такого, и что же такое он сделал, если не может быть там, а должен сидеть здесь, в душной ночи чужого города, где даже окна распахнуть не принято, в чужой квартире явно враждебного всей его русской сути человека? А где-то в соседнем Хомбуше или Стратфельде ждет его по-женски недовольная этим свиданием жена, которой ничего это неизвестно и не нужно и даже рассказывать невозможно, потому что у той позади свой оставленный какой-нибудь Триест с одной Адриатике присущими красками и запахами, до которой ему тоже нет дела…
Как же могло получиться такое? И, значит, он знает за собой нечто, что не позволило ему вернуться, потому что люди, которые не знали за собой ничего, возвращались и проходили все круги недоверия и утверждали свое право жить на своей земле… Бестактным казалось ей расспрашивать: как, что и почему? Только по отдельным его словам и фразам, что вырывались у него, в только ему понятной связи с происходящим, могла она сопоставить или угадать… Конечно, был плен. И бараки. Где-то в Баварии, и где он выжил, когда рядом не выживали его однополчане… И в составе части или команды (она не поняла) он дошел до Италии. И чем был отмечен его путь здесь — вольно или невольно выполняя приказы (видимо, выполнял, иначе не дошел бы…), он не сказал ей, она не могла спрашивать. И здесь, уже в конце войны, он попал к американцам. Снова были бараки для пленных, только повольнее и посытнее, по-видимому. И он опять оказался нужен, потому что умел делать все, что испокон веков умеет русский мужик — и сапоги тачать, и поварить. И еще, видимо, умел то, чему научила его немецкая школа выживаемости… И уже отсюда, из Италии, и не сразу, удалось ему уехать в Австралию… А почему не домой? Им говорили — их расстреляют на границе. Он хотел жить. Тогда — просто жить, после всех неживых, через которых ему довелось пройти… Оказалось, просто жить еще недостаточно. Люди, которые созванивались, чтобы устроить с ним встречу, говорили, что он пьет — горько и безнадежно, и ему нужно было пару дней — прийти в себя, чтобы встретиться с ней. Хотя дом — полная чаша. Деньги есть — руки всегда знали дело и не подводили его. И женщина любит, если живет с ним, терпит приступы пьяной его тоски. И что еще нужно человеку в бананово-апельсиновой Австралии?
Перед отъездом сюда она была в его прежней семье. И это, показалось ей, обыкновенная семья, каких множество в большом заводском городе Новосибирске. Жена — на пенсии. Сын — инженер в КБ того же завода и невестка — врач местной поликлиники, и внучка — в «садике» — все нормально и все как у людей. Словно и нет вовсе этой скрытой беды — отца по ту сторону…
Как же она ждала его с фронта, эта женщина с удлиненным, почти иконописным овалом лица, что редко встречается в Сибири и более свойствен российской центральной полосе? Кричала или онемела от горя, когда получила похоронку — не похоронку: «без вести пропавший»? А в день Победы, когда весь поселок плясал в неудержной горькой радости, разрыхляя песчаный грунт каблуками? Тоже плясала, с искаженным от слез лицом, пли молча лежала ничком в опавшие пыльные иглы, с которых только-только сошла талая вода?
А как жила потом, еще два десятилетия, сотни раз хороня его и воскрешая и потому отгоняя от себя хоть какую ни есть бабью судьбу? Сына растила и на флот провожала, и снова ждала, с повторившимся страхом потерн, пока не пришел домой такой же крепко-коренастый и лобастенький и повесил на гвоздь бескозырку…
Только когда все уже вымерло, утихло и травой поросло, как могильный холмик, и ничего ей стало не нужно, кроме внученьки — теплый комочек, продолжение жизни ее на земле, прилетела с той стороны посторонняя гостья, дама «по туру», и разыскала их, уже в городе, но его поручению. Может быть, не надо бы этого — лишнюю боль души и даже жестоко, после стольких лет неведения, разрывать травой поросшее? Но ему-то, наверное, необходимо было сознавать свое продолжение на земле — сын… Потому что там, в Австралии, не могло быть уже такого, от женщины, тоже прошедшей круги лагерного ада… Только неприютный, солнцем выжженный косогор, где ни единого деревца между похожими на выветренные камни надгробьями австралийского кладбища (не очень-то пекутся здесь о своих почивших родственниках, разве что «в русских квадратах»…).
И теперь ей предстояла задача простая и сложная одновременно: просто посидеть и поговорить с ним, как поступать дальше. Ехать даже «по туру», в Сибирь? Он не мог подавить в себе чувства, что его ждет расстрел и ч границе! А вызвать в гости сына? Как, если нигде и ни в каких анкетах не числится у того заграничный отец? А только погибший, не вернувшийся с войны… И об этих глубоко спрятанных причинах ни та, ни другая сторона не решались впрямую написать в письмах. От стыда, от неловкости, от боязни повредить другому… И ей предстояло на месте увидеть все это живым человеческим глазом и сердцем, и сопоставить и придумать, что и как сделать… Для него было главным сейчас — успеть увидеть, для них — не корить себя потом до конца жизни, что отказали в этом ему, даже предавшему их, свое кровное, ради жажды выжить…
…Миновал этот вечер, столь длительный от чужой беды, взгромоздившейся на нее, когда нужно смотреть на старого плачущего человека, вызывавшего жалость непроизвольно, и вместе с тем знать, что, по всей вероятности, он не заслужил даже жалости, потому что где-то, когда-то преступил нечто человеческое. И одновременно с этим нужно говорить о делах практических: во-первых, что никто физически не тронет его, если он все-таки решится увидеть свой Сузун, и, во-вторых, если не решится, — как оформить вызов сыну, потому что, юридически, они никто между собой, даже не родственники… Ей было так муторно и тяжко от этой смеси эмоций, под откровенно любопытствующим взглядом священника в черной «водолазке», что неудивительно, в каком состоянии была она потом в машине по дороге домой и почему, без лишних слов (просто сил у нее ни на какие слова больше не было), взяла из рук отца Александра ту поганую книжонку ценою в «тридцать сребреников»!
5
…Канберра.
— Мы едем в Канберру! — Сашка весело суетился у багажника.
С осенним холодком задался день, прозрачной синевой и мелкими кучковатыми облачками, как комки снега пристывшими к вышине. И с еле ощутимым запахом тлена — апрель равносилен нашему сентябрю. Солнце ослепительно, но стылый ветерок с южного полюса вынуждает захватить с собой что-либо из шерсти или акриллика, что обильно выставлено к сезону в магазинах Сити: «Чтобы вы у меня не замерзли, девочки!» Самое время, «по холодку» — в дорогу, и это уже последний ее круг по Австралии, еще не прощание, но, несомненно, маршрут, который не повторится…
Столица Австралии. Даже не город, а нечто особое, вынесенное за скобки прочих городов страны, где не живут, а только находятся те, кто должен, по долгу службы или должности в федеральной системе управления.
Говорят, право стать столицей оспаривали два города — Мельбурн и Сидней. Первый, как старейший — с него начиналась (административно) Австралия, второй — сегодняшний главный город. И чтобы никому не было обидно, принято мудрое решение: строить столицу на половине пути и в геометрическом центре относительно двух этих городов. И само слово «канберро» на языке аборигенов звучит как «место встречи».
Ей лично в Канберру нужно не только для осмотра столицы, но и в Сингапурское посольство. Получить транзитную визу. Иначе, на обратном пути, при пересадке, ее просто не выпустят из здания аэропорта. А попробуйте двое суток просидеть, не сходя, на чужом диване — это не родной Толмачевский аэропорт, где можно запросто спать, вытянув ноги на чемодан и уронив голову на случайного соседа!
И вновь вынесла их из Сиднея глянцевая «хайвей» и понесла, лиловея, взлетая и изгибаясь, проваливаясь в коридор выемки (гора разрезана надвое, словно кекс, едешь в каменном, цвета охры, нутре ее, только ручеек неба высоко-высоко), затормаживая у стеклянных будок шлагбаумов — проезд платный. Не хочешь платить — пожалуйста, в объезд. Сэкономишь на долларах, потеряешь на скорости!
Так начался для нее круг времяпровождения в дороге, когда можно не думать, только смотреть и впитывать происходящее. И последний ее круг погружения в тепло и привязанность двух этих людей — Сашки и Анечки, одного из которых — Анечку, она вовсе не знала прежде, а Сашка был мальчиком из детства, который пытался поцеловать ее у калитки, правда, безуспешно, потому что она любила его друга.
И Сашка, наконец-то свободный от дел служебных, вел машину в состоянии радости и доброты к ним — жене и девочке из детства, и мужского довольства собой, потому что он может позволить себе это — показывать ей свою Австралию и на своей машине свозить на «уикэнд» в Канберру.
Он вел машину воодушевленно (тем более что это его новенькая машина, купленная взамен старой, расплющенной в аварии на дороге, он уцелел просто чудом, но не струсил, а наоборот, как бы поверил в свое бессмертие). Приятно было держать руки на светлом пластиковом руле. От скорости дорожная обстановка сливалась в сплошную белую полосу, и, когда позволяло движение, он поворачивался к ней и говорил что-нибудь смешное. Анечка сидела с ним рядом, подавала прямо в рот виноградины от большой фиолетовой грозди — для поддержания сил. И ей подавалась, через спинку сиденья, такая же колоритная гроздь.
Конечно, хорошо все это было — быстрый, почти самолетный ход машины и дружелюбие Сашки, который дарил ей эту поездку с королевской щедростью. Она сознавала, что вряд ли сможет отплатить ему в тех же ценностях, и все же это не мешало ей с легким сердцем качаться на просторе заднего сиденья машины, провожать глазами не очень разнообразные, но неимоверно зеленые горы и долы Австралии. Или ей нужно было вырваться из Сиднея, с его количеством посторонних судеб, валившихся на нее как из рога изобилия? Тягостно от скорбного сочувствия Вере, от непредвиденного и противоречивого, что овладело ею в доме Юльки, не говоря о тяжелых, как камни, слезах Человека из Сузуна.
Они завтракали по пути в неизвестном ей городишке, плоском и пустоватом, с одной улицей, обставленной неизменным «шоппингом», кемпингом и бензозаправкой, прямо в открытом скверике на развилке, где все предусмотрено для краткой стоянки человека: дощатый стол и скамьи под развесистым деревом и прочие удобства цивилизации. Анечка разложила на солнышке распакованную снедь, ветер задувал, как подол, край белой салфетки, и сухо, по-осеннему, шуршал рядом местный дуб. Сашка жевал холодное мясо, хохотал, что неплохо бы «согреться», и все это, вместе взятое, несмотря на чужеземность окружения, вдруг перенесло ее в атмосферу прежних их пикников где-нибудь на Сунгари… Потому что те же были слова, и интонации даже, как тогда там. И Сашка был тем же — в сути своей, словно часы времени остановились в нем, словно не уезжал он никуда из Харбина, вернее сменил один Харбин на другой и только… Мысль эта — о скудности души его, как о несчастье, скользнула по ней тенью от облака, погасив ненадолго краски беспечного дня. И вновь покатилась дорога.
Сашкино благодушие погасло, когда они натолкнулись на забастовку «траков». Они знали об этой забастовке и говорили перед отъездом, как бы не угодить, но когда при спуске со взгорка увидели далеко растянутую цепочку ярких и огромных, как пожарные машины, траков, заблокировавших дорогу, Сашка выругался, потому что он лично им не сочувствует! А когда сонный от исполнения долга полицейский вежливо завернул их на пыльный сверток, Сашка заворчал в тревоге за свою новенькую красавицу, может быть, это эгоистично было с ее стороны не разделить Сашкиных огорчений, но еще радостнее стало от перемены пути, потому что, наконец-то, подлинная Австралия приблизилась к ней на расстояние вытянутой из окна руки, взамен стертого скоростями зеленого пятна на «хайвей».
— Сашка, смотри, овцы! Давай остановимся, я подойду поближе!
Нельзя сказать, чтобы она в своей жизни не видала овечьих отар в Кулунде — колыханье спин, черных и серых, кудрявых и слившихся в единое, ползущее по степи пятно, если смотреть с самолетика, и блеющая грязная суматошная стихия, если попадешь в гущу ее с машиной и долго не можешь выбраться, несмотря на выражения шофера и гортанные крики чабанов. Но здесь — другое, ходячее золото Австралии! Как же было не отдать ему должное!
За неизменной колючей проволокой вдоль дороги, на большом пространстве, уже не столь зеленом от пожухлой к осени травы, промеж отдельных, далеко расставленных низких и ветвистых деревьев, без всякого присмотра бродили кучки, похожие цветом и мохнатой поверхностью на клубы пыли. Кучки передвигались, аккуратно пощипывали траву, и одна, совсем рядом с изгородью, выглядела такой милой и фотогеничной, что она стала умолять Сашку сфотографировать их вместе! Она стала в позу Наполеона, положив руку на проволоку, но овцы не пожелали позировать, дружно развернулись задом и стали уходить в глубь чьей-то собственной территории.
Сашкино настроение вошло в норму, когда они торжественно въехали в Канберру по северной авеню, прямой и озелененной, слово окунулись и тишину и благолепие столичного полдня.
Номер в мотеле ждал их без обмана. И можно было, приняв душ, растянуться с дороги на махровых, как полотенца, покрывалах в темно-синем комфорте «апартамента», белой лоджией выходящего на знойный дворик. Однако их ждал «Сингапур», и нужно было спешить, иначе кончится день, и все «чиновное» устремится прочь на своих машинах на выходной: высшее — в Мельбурн и Сидней — в особняки на «капитолийских холмах», рангом пониже — поблизости, в коттеджи по краям круговых магистралей.
Проект застройки Канберры был представлен чикагским архитектором Вальтером Барлей Гриффином, получил первенство на международном конкурсе, и, начиная с девятьсот тринадцатого года, в канун первой мировой войны, когда Европу сотрясало разрушительной силой орудий, на пятом материке стало возникать нечто по тем временам ни на что не похожее, но удивительно предвосхитившее сегодняшние принципы градостроительства. Город-парк в голубой, вогнутой, как чаша, долине, среди гор, сизых от лесов и мягких от пологости очертаний. И безвестная речка Молонго вместе с ключами, бьющими из глубины, создали озеро (имени Барлей Гриффина), принявшее у неба голубизну и в небо взметнувшее белопенный гейзер высотой сто сорок метров. Гейзер следует понимать как часть мемориала капитану Куку. Вторая часть — объемный решетчатый глобус с начертанием его плаваний, лежит, как мяч, напротив гейзера на желто-песчаной полоске набережной. И с этой точки обзора хорошо вписан в силуэт синих гор на том берегу «Белый дом» Австралии — старомодно приземленный и ступенчатый, как стенка из кубиков — издали, — первое здание, куда и переехал в двадцать седьмом из Мельбурна парламент и столица начала жить.
Если добавить, что наискосок, через воду, смотрится, бережно хранимый, «фармхаус» (некоего поселенца Роберта Кембелл), которому уже в момент заселения парламента стукнуло без малого сто лет, будем считать, что главные вехи строительства Канберры указаны. И можно перейти к современности.
Можно кружить до бесконечности по кольцевым магистралям, взаимно вписанным и пересеченным, растекшимся по долине, как круги по воде. Вдоль бровок немыслимой чистоты асфальта и изумрудности травяных газонов, без оград и с оградами, упрятанными в стрижку живых изгородей. И в неожиданной живописности встречных зданий — с приподнятыми углами крыш, наподобие пагод, современно-стеклянных и антично-колонных — каждое в стиле своей страны. Лестница лепных богов-уродцев — посольство Индонезии. Казарменный кирпичный корпус — США. И строгое, в деловой добротности, с литыми по-ленинградски решетками — СССР. «Смотри, вон твое, родное!» — сказал Сашка, и не понять было, что в этих словах — ирония или нечто иное?
В ярком разноцветье стоят деревья Канберры — пунцовые купы кленов и золотая пирамидальность тополей, и еще нечто неведомое, австралийское, во всей палитре осени — говорят, так и подбиралась здесь гамма листвы при посадке древесных пород. Неподвижно висят на флагштоках пестрые лоскуты флагов — знать бы, какой из них сингапурский? А спросить не у кого: по внешней видимости, южная Канберра пуста — только сиреневый блеск дорог да похожий на шипение звук пролетевшей машины.
Сашка причалил машину к обочине и стал в сердцах листать путеводитель (Кэпитэл Хилл в плане своими кругами похож на срез дерева).
— Послушайте, мы же совсем рядом! Мы стоим против Бирмы, а это — на углу!
…И церкви выходили к ним навстречу из древесной тени и чащи — удивительно много в Канберре церквей всех вероисповеданий! Она подумала: так много и на таком пятачке, словно тоже представительства — только власти небесной! Тяжеловесная старая Англия — нетесаный бурый камень. И ввысь устремленная остроконечная готика. Самой оригинальной можно считать церковь, реконструированную из первого железнодорожного вокзала, — вот уж ничего не пропадет зря в этом практичном мире! С треугольным фасадом и аркой, куда некогда заезжал паровоз, с опущенной, как шатер, кровлей она выглядит вполне «модерново» за счет крупной шершавой кладки.
— Здорово придумано! — восхитился, как инженер, Сашка.
И русская церквушка оказалась тут как тут, как всегда не вписывающаяся в застройку своими сусальными луковичками куполов. В церкви шел ремонт. Красили крышу и прочее зеленой масляной краской, как где-нибудь в Рязани, и все это жирно блестело под неуемным австралийским солнцем. Внутрь их не пустили, и они просто постояли машиной у ограды и сообща прикончили остатки фруктовых запасов.
Странное единение чувствовала она в этой бездетной паре — двое не очень сильных людей, словно прижались друг к дружке и идут рядом, чтобы не смело напрочь в чужеземной толчее… Она не смогла спросить их о причинах бездетности. Может быть, Сашка просто не захотел выпускать в жизнь еще одного полурусского человечка «мистер Семушкин» — еще пришлось бы менять сыну фамилию, чтобы не портить карьеру! Или были другие причины? Как бы там ни было, всю свою невыявленную жажду отцовства Сашка обрушивал теперь на нее, словно она и вправду девочка, не выросшая со времен улицы Железнодорожной. И ей оставалось не противоречить.
Итак, куда же теперь дальше? С посольством Сингапура покончено оперативно — настолько, что она даже не успела разглядеть в похожей на пароходный салон приемной рекламные проспекты этого круглогодичного «государства-пляжа». Паспорт ее был вынесен смуглолицей индонезийкой с поклонами: «Приятно погостить в нашей стране!»
Но у них еще было дело, что следовало провернуть в рабочее время. О человеке, которого они искали, имелись у них только служебные координаты: Национальный университет, кафедра востоковедения.
И не так уж необходимо было ей передать из рук в руки очередную родственную посылочку из Сибири — можно сдать на «пост-офис», — дойдет! Но ей хотелось самой посмотреть на этого человека.
Можно было понять, как оказался здесь Сашка — скорее всего от злой обиды, несправедливо исключенный некогда из их Организации (под горячую руку и но излишней принципиальности — время было такое). И почему докатился сюда Руденко — дело и деньги, а в главном — куда поведет семья. И Юлька — от женского оскорбленного сердца, ну и, конечно, мазать навозом хаты не хотелось ей. Но этот человек, судя по тому, что она знала о нем, прежде всех должен был выехать в СССР!
Она встречала его в коридорах управления Дороги, мрачноватых, обшитых по-старинному резным деревом, гулких от вечной кафельной плитки под ногами, со строем высоченных коричневых дверей, оснащенных медными ручками — управление строилось в девятисотом году для КВЖД.
В пятидесятых годах по коридорам ходили командированные из Союза в синих кителях с погонами, китайцы-служащие в своих «хэбэшных» мундирчиках и русские-служащие, из харбинцев, кто в чем, согласно моде того времени. И проходил он. Тоже в синем кителе, как командированный, но без погон. С лицом, сурово сосредоточенным, русой прядью поперек белого лба. И выглядел человеком-загадкой, по крайней мере в глазах девчонок-практиканток из Политехнического. Загадкой, в первую очередь, в силу особенностей своего характера — неимоверной сдержанности и скрытности всего, что касалось его внутреннего «я».
Кроме того, мало кто в городе знал о нем, потому что он был не харбинцем и вообще не жителем Маньчжурии, где полно было всюду русских семей и все что-то знали друг про друга. А — якобы из собственно Китая, где он вырос, что и дало ему ту уникальность знаний языка, определившую его особое положение в управленческом аппарате. На КЧЖД, ХЖД и даже в МПС Китая впоследствии. Если сбросить со счета такую романтичную деталь, как форменный китель с пустыми лычками на месте погон, что давало основание досужим толкам, что он не просто «местный», а почти «командированный» из Союза, а при его холостяцком положении вызывало добавочный интерес в женском составе, если отбросить эти домыслы, на которые падок легковерный город Харбин, он был единственным в своем роде — в то время и в том городе.
И если все живое и прогрессивное шло тогда в северо-восточный Китай через Дорогу, и если вся эта Дорога — большая политика дружбы, мира на Востоке, что делалось (по крайней мере, должно было делаться) советской и китайской администрацией совместно и на двух языках одновременно, можно понять, какое значение мог иметь человек, представляющий Службу переводов!
Человек, который буквально знал все из первых уст, что говорилось, писалось и заносилось в приказы по Дороге и на самом высшем уровне — на совещаниях с управляющими Дорогой. И мог переводить это свободно с одного языка на другой, причем ориентируясь прекрасно не только в специфике технических терминов, но и в тех нюансах дипломатии и грамматики (китайской), когда сказанное вслух может иметь один смысл, а записанное иероглифами несколько иной. Одним словом, имевший доступ к документам и к той подспудной кухне большого дела, о которой не ведают посторонние.
И, насколько она знала, он оставался на этом своем месте до последнего часа, когда это перестало быть необходимым.
Со всей щедростью отдала наша страна Китаю все, что было завоевано, восстановлено, построено заново — всю Дорогу на уровне современного по тем годам оборудования, старинный русский город Дальний и крепость Порт-Артур. Командированные железнодорожники уезжали по своим родным Московским, Рязанским, Калужским дорогам. Поезда отходили от первого перрона станции Харбин-Центральный, где тогда уже работала она после института но распределению. Их провожали с красными транспарантами и китайскими торжественными барабанами и криками: «сулян ла та кэ!» (советский — старший брат!). А потом новая администрация возвращалась с проводов в теперь уже свои кабинеты, пила бледный желтоватый чай из казенных жестяных чайников, и начиналось (насколько можно было понять, при ее знании языка) «обсуждение» только что уехавших — наступала «культурная революция».
Подошла Целина. И она просто потеряла его из виду. Но уверена была, что уж он-то, конечно, в Москве, по крайней мере!
…В результате они петляют в Сашкиной машине по пересеченной местности университетского городка мимо корпусов, спортивных площадок и каналов, осененных чем-то плакучим, под вид ивы, и неизменных полян и деревьев, даже белоствольных — под вид берез. Более всего впечатляет академический Центр — есть нечто космическое в куполе, или полушарии, поставленном прямо на грунт, только нижний край подрезан арками, словно неземной аппарат упал и зарылся в земной шар до половины отверстий-сопл. А вообще-то городок пуст. Кое-где мелькнет явный студент, судя по свободе одежды, походки и прически — законы выходного дня или какие-либо каникулы?
Своего «специалиста по Востоку» они не нашли. Вежливые вахтеры учебных и административных зданий отвечали, что день закончен и «мистер X», они полагают, на «уик-энд». Домашнего его адреса они не знали или не принято сообщать неизвестным. Так и осталась она с неврученной деревянной дощечкой-сувениром на коленях и с ощущением неразгаданности.
И позднее, когда Сашка, тоже слегка удрученный неудачей, но не настолько, чтобы это могло омрачить ему обретение Канберры, вез их по соседству на Блэк Маунт (Черную гору), чтобы осмотреть столицу с высоты — для закрепления впечатления, она все еще думала о том человеке, уж вовсе постороннем ей, забытом надолго и вынырнувшем внезапно на поверхность сознания.
Что же произошло с ним в последние годы, когда все они были кто где — в Австралии или на Целине, кому как повернулось, и когда он переводил в Пекине свои последние совместные документы, и уезжали последние люди, с которыми он работал, которых он знал и которые знали его. И так получилось, что он не поехал вслед за ними, а повернул за враждебную черту, во всем знании того, что он знал? Или попросту нашлась чья-то перестраховавшаяся рука, что не сильно спешила приложить печать к его индивидуальной визе? Мало ли что. Время было такое. И оттого — оскорбление недоверием и толчок на другую сторону? Или просто никто не знал его истинной сути. Или это она ничего не знает, чтобы судить о нем? И здесь он тоже несет свою пользу политике мира, как тогда там? «Мы здесь нужнее» — как сказала знакомая дама из Советского клуба в Стратфельде. И, возможно, в этом есть смысл, более серьезный, чем показалось ей?
И, возможно, это сегодняшнее размышление ее о людях «с двойным дном», на середине пути, на серпантине Черной горы, и придаст, спустя двое суток, на финише малого круга по Австралии, особый мучительный акцент тому странному происшествию?
Канберра с высоты выглядит, наверное, самой деревенской среди столиц мира. В кудрявую зелень упрятаны коробочки из бетона, совсем крохотным кажется фонтанчик Кука на водном поле Барлей Гриффин и белой свечечкой — монумент-колокольня на мысу, где полсотни британских дарёных колоколов отзванивают в положенное время, согласно традиции. Похож на панцирь черепашки распластанный кружок Академцентра. Но главное, без чего нет Канберры, — воздух, легкий, теплом струящийся, воздух пространства в обрамлении синих гор!
Сашка стоял на смотровой площадке и намечал как полководец, куда он повезет их назавтра, — монетный двор и «Мемориал Вар»[21]. Обязательно!
А потом были вечер и ночь в Канберре, что спустились быстро, как у нас на юге, когда мягкая и плотная темнота заполняет город, словно наливает котлован до краев, но зубцы гор, а выше, дальше еще светится небо персикового цвета, словно нет ночи по ту сторону гряды, только здесь — даже не шорох, а дыхание невидимых крон на бульваре и огни. Не огни большого города, в мигании и в сполохах, а просто пунктиры фонарей в листве да спокойная подсветка зданий, словно сцена перед началом спектакля.
И они шли втроем, под руки к «шоппинг-центру» по этой улице, отданной машинами на ночь пешеходам, в почти неразличимой толпе так же тихо бредущих на отдыхе людей (Канберра — город выходного дня), и ничто не отвлекало их взаимного внимания, наоборот приближало, потому что нечто похожее было у них в те годы, когда они никуда еще не ехали, а только ждали, что их повезут, и просто дружили — ночная чернота нерусского города, фонари, просвечивающие в листве, и ппоязыкая, обтекающая их толпа (не сине-джинсовая, как теперь, а тоже синяя — брючки и курточки из дабы — китайские влюбленные, обнявшиеся, согласно разрешающему это декрету, и никого, кроме себя, не видящие в эгоизме молодости). И Сашка тогда еще не был гнусным предателем, променявшим Родину на заграницу, и мог с чистым сердцем петь с Юркой в два голоса «Летят перелетные птицы…». А она шагала посреди кругло-булыжной мостовой между ними двумя, как теперь между Сашкой и Анечкой, и просто была счастлива.
Может быть, этим и объясняется стойкая «память Харбина» у них здесь, потому что была точка на карте, где «…молоды мы были и верили в себя», а совсем не исключительными особенностями данного города. И это могла быть любая другая страна — Гренландия — «память счастья» в нашем сознании наградит ее теми же качествами! И «память ожидания». А дальше — кто что выбрал, и как дошел, и что кому досталось — выше или ниже той точки отсчета — вот в чем секрет «памяти Харбина».
Как не любить, до отвращения, должны были этот самый Харбин, как «город изгнания», их отцы и деды, если «памятью счастья» для них стали колоколенка с картины Саврасова «Грачи прилетели», вишневые садочки Черниговщины и прочее, российское, окрасившее сильнейшим чувством Родины домашнее ее детство и, собственно говоря, запрограммировавшее в ней то, что принято называть патриотизмом. И как результат — дорога на целину… Значит, в этом и есть причина: кто и что выбрал, вернее, что кому вкладывалось сызмальства в родительском доме в сознание?.. И можно ли тогда вообще винить человека за выбор? А теперь, через годы, и говорить-то им, по существу, не о чем, что вспоминать? И впереди нет ничего — через пару дней она уедет, и уже никогда и ничего — до конца жизни — с Сашкой и Анечкой… И потому не нужно бы им сейчас никакой душевной размягченности. Но уж слишком теплым и вкрадчивым был канберровский ночной час!
Нечто от сказки «Спящая красавица» являла собой Канберра-Центр, застывшая в движении вплоть до понедельника, когда все опять должно зашевелиться — почти живые позы манекенов за плоскостями витрин, приостановленный поток тканей и даже неизбежный мусор торгового дня в урнах и на обочинах тротуаров, неубранный еще, но который непременно уберут к утру. А сейчас только полутемное пространство, в полосах света от проемов круговой аркады, где нешумно движется посторонняя этому городу толпа.
И сразу — льдистый отблеск, плитчатый квадрат «Гражданского сквера», площадь, как большая зала, степы которой — два взаимно повторенных в архитектуре корпуса, замкнутых в контуре и в прямых линиях, черно-ребристых и оранжевых от освещения, и фонтан промеж них — соответственно как язык рыжего пламени. Контрастом или, скорее, единственным обитателем этой светотеневой пустоты стоит на краю площади, почти на земле, без постамента, словно вырастая из низкой чаши, вытянутая женщина с крыльями из серо-зеленого камня, в поднятых руках — не факел, как у знаменитой «Свободы», а то ли цветок, то ли шестеренка. Греческий узел волос на затылке и упрямый наклон красивой головы. Этос, оказывается, — нечто мифологическое. В данном случае олицетворяет дух единения и верности нации — австралийской (так объяснили ей). Вот мы и добрались до сердце твоего, Австралия! И прощай одновременно, потому что не доступно ей — не разобраться, что вершится здесь, осененное крыльями Этос, и чья рука подпирает тебя надежнее — Лондона или Вашингтона? Потому что — что ты сама по себе: пока еще мирный материк в этом насыщенном атомом мире?
В «Мемориал Вар» Сашка повел их с утра пораньше, и вновь был день такой предельной ясности и синевы и осенней легкости дыхания, что одно это могло окрасить радостью путешествие.
Чуть повыше воды и чуть пониже горы, кудрявой и покато-зеленой у подошвы, размещалось здание, круглоголовое и напомнившее ей сфинкса — желтоватым и розовым песчаником и конфигурацией: назад вытянут корпус-спина, вперед вытянуты лапы-галереи, зажавшие внутренний дворик, где зеркальце бассейна и белый кубик мрамора в красных живых цветах — памятник павшим…
За что, собственно говоря, павших? Разве Австралия имела за свое существование хоть одну собственную войну, разве посягал кто-либо на ее землю и свободу? Нет, но не было, оказывается, военной кампании Англии или Америки, где бы не клали свои головы австралийские парни за чужие дела и из солидарности! И в этом тройственном союзе австралийский солдат считается лучшим по стойкости и выносливости. Еще бы — прирожденные пастухи-погонщики, стригали, земледельцы, круглый год, в жару и дождь к пескам и зарослям привыкшие, с чего бы им быть «слабачками»!? Да и зачем Британии губить собственных парней, когда есть в прошлом подчиненная, а потом дружественная Австралия?
Пройдя по прохладным и комфортабельным залам, вы убедитесь по батальным, в красках выполненным полотнам, сколько же было этих чужих боев, в брызгах и пене тонущих кораблей, самолетов, горящих свечкой над развалом окопов… И сколько экспонатов — от старых пушечек первой мировой до бомбардировщиков второго фронта Европы, и сколько униформ всех эпох — кепи и касок, тропических шлемов: Судан (1885 г.), Южная Африка — война с бурами (1899–1902 гг.), даже Боксерское восстание в знакомом Китае (надо же! — девятисотые годы), а еще — Корея, а еще Вьетнам, когда уже давно кончилась победой вторая мировая война, австралийские парни продолжали умирать ни за что ни про что в джунглях, прикрывая собой «тихих американцев».
Жутковато смотрится диорама: лагерь военнопленных, война с японцами в Малайзии. В бараках из бамбука, без воды и еды, лежат и сидят, в правдоподобном бессилии, тела в лохмотьях — так было! — уцелевшие после освобождения свидетельствуют! (Кстати, было бы освобождение, если бы не наша Армия, рванувшаяся по всему восточному фронту в одну ночь, в августе сорок пятого?)
И одна-единственная подводная лодка-камикадзэ прорвалась к Сиднейской гавани и запуталась в противолодочных заграждениях, не причинив городу особого вреда… Длинная, как сигара, и такая узенькая, что удивляешься, как мог помещаться в ней человек, даже будучи карликом! А там был, живой еще, японский парень, замурованный в железо насмерть… Страшно это, все-таки, бесчеловечностью сути своей. Лодка стоит безобидно на фоне зеленой прелести Канберры, и австралийские дети, не ведая страха, катаются на ее спине, как на доброй собаке. И, может быть, отразить это единственное вторжение удалось бы с меньшими потерями для Австралии?
Сашка выстроил их с Анечкой рядом и нацелил фотоаппарат на хвост лодки, расчлененный как рыбий плавник: «Ты помнишь, как нас гоняли, все школы, в «Модерн» на японскую кинохронику?»
Как же не помнить этого — ощущения головной боли, после полного дня, проведенного в темноте кинозала, и мелькание кадров, повторяющихся иногда, где японские солдаты в «кёвакайках» с назатыльниками тянут через чашу лиан пушечки, напрягаясь, с мокрыми от пота лицами. И как выходят навстречу победителям из захваченного Сингапура, с поднятыми руками англичане в коротких штанишках — теперь она знает их дальнейший путь: бамбуковые бараки и лохмотья на черных телах… А тогда, в четырнадцать лет, ничего знать не хотелось — только хорошо, что на сегодня отменили уроки! И все же скорей бы конец и — на воздух, домой, и есть сильно хочется — что эти граммы липкого гаолянового хлеба по карточкам — для растущего человечка!
И уж точно все они собраны в том давнишнем зале — те, которые теперь здесь, и те, которые теперь там, в России. Сидели, под шумок, как это стали называть в наши дни, «балдели» и даже придумать нельзя было, что кому в жизни уготовано…
Так как же все-таки? Уготовано или запрограммировано в социальных корнях сознания, случайность от воздействия внешних событий, свободный выбор, за который мы отвечаем? Как же, все-таки?
От мемориала к воде шли спуском прямым и широким, как парадный плац. Хрустел красноватый, как кирпичная крошка, песок, почетным караулом стояли вдоль пилоны ухоженной зелени. А дальше, дальше располагалась холмами и лужайками Канберра, вся растворенная в свете и синеве, столь мирная и зеленая, как пастбище, что этот тяжкий, насыщенный войнами, монумент не вписывался в нее и как бы противился окружающему. Живому…
Вровень с бордюром набережной стояла спокойно бесцветная вода, повторяя в перевернутом отражении все эти холмы и круглые шапки деревьев. А прямо, на той стороне, замыкая травяное поле эспланады, как вторая сторона медали, отсвечивал белизной Парламент — респектабельный, как дворцовый ансамбль.
Одна из немногих столиц мира, не объявлявшая войны, — не парадокс ли?
Чтобы покончить с темой «Австралия в войнах», нужно, наверное, рассказать, как, по возвращении в Брисбен, она будет с братом Гарриком на военном параде… Удивительна, не день Победы, a день гибели австралийского корпуса при высадке в Галлиполи, в первую мировую, стал для Австралии «военным днем»!
И будет Брисбен, снова жаркий, как возвращение к лету. Гаррик привезет ее в Сити пораньше, чтобы найти место, откуда лучше видно. И Брисбен будет уже не тот оголенно-пляжный, что вначале, по приезде ее, а пасхальный, праздничный, когда в неторопливом течении толпы много женщин в белом (но уже в шляпах и перчатках — по-осеннему), и много мужчин в белых кителях неизвестного ей рода войск. И вообще, как много оказалось форменного, военного образца, в явно не воинственной Австралии! Даже пресловутая Армия Спасения — наконец-то она увидела их (вернее, показал Гаррик): пожилые, благородного облика леди в серо-голубых, похожих на наши милицейские, мундирах, прямая юбка, туфли на низком каблуке, на сединах — кепи-котелок из фетра в такую жару! И при всех чинах и регалиях! Кажется белым от зноя камень ступеней и колонн (капители — лиственный коринфский ордер), ротонда круглая — беседка без крыши, стоит, завершая лестницу и ограждает, ело видный на солнце, почти неподвижный лепесток Вечного огня. Застыли рядом часовые: сине-белый мальчик — моряк и под защитным широкополым шлемом — пехотинец. И народ, цветы, дети…
Дамы-патронессы прикололи булавками на них с Гарриком синие лоскутки с серебряным штампом праздника в обмен на пожертвование в какой-то военный фонд.
— Теперь мы приобщились, — говорит Гаррик, с той свойственной ему интонацией юмора и добродушия одновременно. — Пошли вниз, скоро начнется!
Наконец-то они вдвоем с братом, так похожим на нее внешне, а выговориться и найти, в чем родственность их, — где тут: бег по кругу!
Они спускаются лестницей, не столь торжественной, как потемкинская в Одессе, но все же… к улице, носящей имя очередной из английских королев, где стоят и ждут у обочины тротуаров люди, не очень густо и не толпясь, вполне можно встать рядом. Кое-кто принес с собой скамеечки — для удобства и высоты обзора.
И вот идут. Те, кто уцелел, остался по счастливой случайности по эту сторону Канберрского мемориала.
Впереди везут бережно на открытом «додже» троих. И табличка с номером войсковой части. Три старика, ветераны первой из мировых войн — очевидцы Галлиполи, может быть. Ровесники Хемингуэя и его «Прощай, оружие!». В аккуратных старинных френчах, при галстуках. Старческие по-разному — суховато сморщенные, в коричневых пятнах, склеротично-одутловатые и ничего не выражающие, кроме довольства своей значимости в данный момент, лица.
И дальше, на машинах собственных и казенных (типа «газиков») — всё моложе, если можно сказать так о шестидесятилетних — тут уже солидные «боссы», на взлете деловой карьеры — превосходство и воля квадратных подбородков, а рядом — работяга, по-видимому, только выпустили на пенсию и усталость неистребимая где-то в глубине глаз и в складках кожи, и явно нет той уверенности в себе рядом со всемогущим соседом, однако — все равны они в этот день, перед народом Австралии — герои сороковых годов! Те, кто в небе над Европой, те, кто в бамбуковых зарослях, на пальмовых островах, как в мясорубке под самурайскими кривыми саблями… Хоть и «в чужом пиру», но все же на стороне справедливости, на нашей стороне…
А вот уже пошла не очень многочисленная Корея.
…Так средних лет мужички, ее ровесники, вполне упитанные, бодрые, типа Сашки и Славки Руденко… Это уже совсем близко, на ее памяти — как двигались мимо окон в Харбине поезда с китайскими добровольцами, как выступали они на митинге в городском саду — «Руки прочь!». Гора Моранбон, «Тетрадь, найденная в Сунчоне», «Янки — гоу хоум!». И как по Новогороднему клубу ходил парень, Вена Дементьев, приехавший оттуда, из командировки, с лицом, обезображенным напалмом. Эти уже на «той» стороне. И нет у нее к ним ничего, кроме любопытства, в лучшем случае…
Колонна последняя — вовсе молодежь, и так много, идут и идут вольным шагом, в хороших костюмах, согласно моде и сезону, элегантные и улыбчивые: Вьетнам! Что тут может быть, кроме злости и обиды — за них. Никто ведь не гнал, как она поняла, армия в Австралии — платная, добровольная. Значит, чем здесь ковыряться в земле, со всеми ее засухами и наводнениями, проще расстреливать с самолетов крестьян на рисовом поле, узкоглазеньких ребятишек! И сейчас, когда она стоит здесь с Гарриком, то же самое пытаются сделать другие — на вьетнамской границе.
Они идут. И, видимо, как режиссерское решение, при подобном зрелище и чтобы не очень удручить обывателя номерами воинских частей и малочисленностью остатка некоторых подразделений, чтобы не навести на мысли ненужные и, вместе с тем, поднять дух патриотизма и единства нации, в интервалах этих штатских ветеранов, идут сегодняшние, молодые и веселые ребята, почти танцующим строевым шагом, розовощекие на казенных армейских хлебах, армия — как временный выход из положения: не попал в университет, пока не нашел работы — там видно будет, а деньги идут — чем плохо? Строй цвета хаки, легонькие рубашки нараспашку, строй — белые, как снег, с головы до ног, моряки. «Вон идет наша единственная подводная лодка!» — объявляет со смешинкой в голосе Гаррик. Так это или не так? А если даже и так, как говорили ей, совсем незначительные собственные воинские силы и вся надежда, в случае чего, на верного друга — Пентагон! А вдруг да случится такое и захочет вчера еще дружественная армада мимоходом проглотить беззащитный материк, как зеленый кусок дыни? Как они отстоят свой дом, эти в общем-то мирные парни?
И чтобы еще красочней было зрелище, перед каждой группой войск, как заставка главы, идет обязательно шотландский оркестр. И здесь уже глаза разбегаются, и не думается ни о чем, а у нее в особенности, потому что такого она не видела. Эти юбочки в складку красно зелено-серо-коричневые, в клетку, над крепкими мужскими икрами. Эти яркие носки с кисточками и шапки с хвостами или перьями непонятно из чего, но впечатляющего, как фейерверки, и плащи-пледы, как трены, за спинами, с бахромой, уложенные наподобие римских тог, и даже красочнее. Музыка волынок, странноватая — визгливая и какая-то пастушеская, что ли. Ничего в ней не говорит о войне, и всем собравшимся здесь, под солнцем полудня, тоже не говорит, а просто о том зеленом островке, откуда волей или неволей приплыли сюда их предки… «Правь, Британия!»…
Со свистом над коридором улицы взмывает в небо треугольник самолетиков — пять или шесть, она не сосчитала. И все головы повернули и заулыбались, особенно дети!
— Это мы купили, не так давно, у Англии! — сказал Гаррик. — Видишь, как мы радуемся! — Ну что ж, дай бог, чтобы только зрелище!..
…Вырвался. Сашка вырвался. Только красная пыль — шлейфом за машиной. От всех своих обязательств, внешних и внутренних, связанных с этой поездкой — перед женой, перед гостьей, перед собой. Он сделал все, что смог, Сашка, даже больше, чем смог бы другой в столь краткий срок пребывания!
Даже в Парламент он пытался их провести (это свободно, здесь каждый имеет право присутствовать и слышать с определенных мест). Просто они не успели вчера вечером до закрытия, и пришлось удовлетвориться прогулкой «в тени развесистых дерев, над стрижкой бархатных газонов», вокруг «Белого дома»»
Даже на Монетный двор он сумел забросить их по пути от Мемориала! В толпе прочих туристов они прошли по коридору второго этажа, заглядывая вниз в стеклянные окошки, за которыми на дне двухсветного зала шел процесс превращения простых металлических кусочков в полноценную монету страны. Процесс происходил неторопливо, на небольших штамповочных аппаратах не последнего слова техники. Неторопливо ходили мужчины в серых халатах, текли струйкой серебристые кругляши, от окошка до окошка постепенно обретающие все свои знаки нарезки и шлифовки. Туристы смотрели, как на невиданное, и даже галдели по-своему, на своих языках, разное — японцы, европейцы, собственные граждане на «уик-энде». При выходе, в просторном, как вокзал, вестибюле, он накупит ей гору проспектов — про Канберру и красную книжечку из сафьяна, с золотым оттиснутым гербом, где внутри, вместо страниц — под пластиком все эти доллары в разную стоимость на память — сувенир: «Когда уедешь — вспомнишь!»
И здесь, когда он сказал так — уедешь, дошло до него внезапно, что она действительно уедет и скоро. И пройдет то обманчивое состояние, как сейчас, что они вместе, словно ничего не произошло и юность продолжается. Все кончится, и уже никогда, до конца дней — на разных материках! Только сейчас, видимо, дошло до него, как неотвратимость, потому что она увидела отчетливо, как отразилось это, словно растерянность, по лицу его, словно судорога пробежала, и как-то он застыл на мгновение с красненькой книжкой в руке… И может быть, что-то значила она для него когда-то подсознательно? Неспроста же он пытался поцеловать ее однажды у калитки, хотя она и любила его друга? Или просто как сестренка, что помогала ему пасти ненавистных коз и вместо него сидела с хворостинкой из ивы на груде камней у забора товарного двора? Камни были почти из благородного мрамора, завезенные сюда на погрузку и временно сваленные, да так и забытые в результате военных действий (Перл-Харбор). Камни поросли травой, и она любила девчонкой сидеть на них, воображая, что это развалины крепости — вечно она воображала что-то, Лёлька! Выручала его в немужском занятии стеречь «машек», а заодно рассказывала ему эти свои «воображения» — Ярославна на городской степе! Уже тогда ему было просто хорошо подле нее — вот в чем дело!
Л она тоже увидела его как бы впервые за все эти дни в Австралии, с лицом, искаженным изумлением потери, и подумала, словно в откровении и раскаянии того, что было содеяно с Сашкой, и не без ее участия, четверть века назад: может быть, не правы они были тогда, и она в частности, что отторгли его от себя, как подгнивший плод, и вышвырнули — уезжай! Хотя и пытались убеждать, но не слишком, больше клеймили позором. А нужно было побороться еще за него, потому что он был свой парень, Сашка, безусловно, и не отдавать его сюда — на «ту сторону», клубу «под двуглавым орлом» и в ланки отца Александра! Хоть и считает себя нейтральным «от их возни», как он выразился, все равно он — здесь! А мог быть там. И нашего «полку прибыло»! По они не умели тогда и не знали, что правильней, а главное, такая была установка — клеймить!
…Она почти не видела снов все эти шестьдесят дней в Австралии, просто сваливалась на ночь в усталости, как подкошенная, на очередной непривычно широкой кровати в очередном доме друзей, где ее принимали. Но в эту ночь ей приснится странное, словно она опять у Андрея на Голд-Косте на «барбекью», как это и было на деле, перед отъездом в Сидней…
Во дворе, на сложенной из камней открытой печурке, на железной решетке, шкворчало на открытом огне мясо. Большие овальные куски в окружении овощей, ярко-зеленого перца и кудрявых листьев чего-то местного, как капуста. Румянились, каплями жира истекали прямо на угли, пламя потрескивало, опадало и вздымалось, и все это виделось предельно реальным, как повторение пролитого, запах жареного и дымный дровяной дух над двором. А двор, от жары — белесый. И все были здесь, те, что в зале «Русского клуба» и еще многие, о которых она не вспоминала давно и не знала, где они — здесь или у них там, дома… Все они совсем не постаревшие, как в действительности, а такие, какими она знала их прежде, но по-сегодняшнему — с тарелками и вилками наготове, сновали под солнцем дворика в дом и обратно и ждали, пока кто-то грузный в белом фартуке по-поварски шевелил на огне мясо — австралийцами излюбленное «барбекью»… (Плохой сон, сказала бы ее харбинская бабушка: «Еда — беда, готовят тебе зло те, кого ты любишь».) И Сашка был здесь же, поуже по Сашка почему-то, а большой нес с заросшими шерстью глазами. Сидел подле нее на траве, и она все беспокоилась, как бывает навязчиво в сновидениях: как же она теперь повезет его — запрещено таможней вывозить из Австралии семена, плоды и животных! Как же она оставит его? Нелепость какая-то! А разбудит ее реальный Сашка, возникший из небытия на пороге дачной мансарды, где спала она ночь:
— Вставай, пойдем купаться до завтрака!
…А пока Сашка вырвался — имеет он, черт возьми, тоже право отдохнуть в свои нерабочие дни, тем более что идет свободное время иностранной пасхи и вся Австралия устремлена сейчас в горы или на пляжи — кто как может! (Карикатура в австралийской газете на пасхальные темы: Христос, сгорбленный под тяжестью креста, идет на Голгофу. И вынужден остановиться перед магистралью: сплошным потоком едут австралийцы к океану — лодки, доски на крышах машин, до Христа им нет дела, а он стоит и никак не перейдет на красный свет к своей Голгофе!)
Сашка гнал машину на дачу — на побережье, на пол-пути между Канберрой и Сиднеем, только хвост красной пыли за машиной, потому что он торопился успеть к ночи, и шел напрямик через горы по проселкам, уже не щадя машины и не думая ни о чем, кроме скорости, — добраться и лечь — дома…
Непогода окружала их и настигала, как вражеская рать. И потому, может быть, что, по существу, это была первая ее непогода на пятом материке, не считая сиднейского дождика, она воспринимала ее как явление, когда все привлекает — тучи, слоями лежащие над перевалом, серо-свинцовые над серой листвой, потерявшей без солнца свой голубой оттенок, и цвета свинца дорога, пока шел асфальт. А когда он окончился, — красная земля, сухая и жесткая, почти не оставлявшая узоров-следов от шин, но вслед им взлетающая пылевидным облаком, похожим издали на клуб дыма, подсвеченный пламенем. Сашка чертыхался, что теперь все забьет — не очистить, но гнал, старался не думать. И еще — успеть бы до непогоды: польет, совсем не выбраться, заскользит, как глина. Занесет на повороте и нет спасения — глухие места.
И они мчались то в сумрачном лесном туннеле, вплотную обступившем дорогу, то вновь вылетая под мрачное небо, переменчивое в движении туч и дальних сухих разрядов молний, похожих на мгновенный разрыв щели — небесная твердь, а за ней — огонь неугасаемый! И все это, вместе взятое, наполняло ее тревогой и восхищением.
Проволока колючая вдоль дороги, уже привычная, не мешала ей. Иногда прорывалась перекладиной шлагбаума, свертком с дороги вглубь — частное владение. Иногда на перекладине висела табличка — «продается земля», переводил Сашка. («Кто-то прогорел из фермеров. Трудно здесь — глухие места».) Иногда в глубине владения, за стволами эвкалиптов маячили постройки — жестяные, рифленые, тоже красновато-рыжего цвета — от пыли и от ржавчины. На роскошной черной машине (типа нашей «Чайки») возник внезапно в этом диком углу мужчина — руки на руле, лицо крупное, красновато-дубленое, губы плотные, с опущенными углами — мина превосходства, на голове шляпа фетровая, широкополая с загнутыми полями по-ковбойски. Хозяин едет к себе домой из города!
И как перепад — завершение мироздания: скалы на высоте, розовые и желтые, в пластах и трещинах, причудливо выветренные, как изваяния.
Передохнули на площадке, на ветерке. Машина поостыла, тоже розово-серая от пыли.
— Встань на камешек, я тебя сниму — последний кадр! Помнишь скалу в Маоэршани?..
Да, но сине-грифельную, в колком малиннике, в трещинах, как в древних письменах. И костер под выступом, как в пещере. Юркина белобрысая голова у нее на коленях. И верный друг Сашка рядом читает Симонова: «…мы так прочно расстались, что даже не страшно писать!» Вот и наворожили себе — «расставание, расстояние, не услышать и не помочь»… Как же не терпелось им вырваться, рвануться из тесной скорлупы Харбина, с его родственностью, дружбой и любовью, в подлинно взрослый мир новостроек, дорог, путешествий. Вот и вырвались — кто куда, на две стороны барьера… Пожалуй, недавно только пришло к ней открытие, что в ряду высших ценностей жизни на земле стоит та внутренняя связь отношений, бескорыстных, когда ни власти тела, ни деловой зависимости, что встречается в большинстве случаев в юности и, как исключительная редкость, — в зрелом возрасте. И потому ценная в особенности. То, что нельзя сделать, купить, организовать. Но можно потерять, и невосполнимо. Такое могло быть у них с Сашкой… Если бы — не на разных материках. А теперь будем писать, разве раз в год что-нибудь: «…Помнишь Пижонхаус?»
Пошел спуск с перевала, словно проваливаться они стали с гребня волны к подножию. Хребты, сизые, вогнутые, вытесняли грозное небо, нависали, сдвигались и заслоняли их от непогоды. А впереди уже просто ночь на побережье, мгла и ожерелья от городков — внизу и ближе, и по сторонам. «Сейчас поворот на Науру, и мы у себя!»
— Вымыться, выспаться, — думает вслух Анечка. — Надо позвонить маме, чтобы не волновалась, как мы доехали.
Глухая чернота поселка без огней: спят или заперты дома? Конец сезона, осень. И совсем рядом справа и низко, на уровне шоссе, просвечивая в темных стволах деревьев, шевелился, светлее ночи, чешуей посверкивая, океан.
Сашка затормозил у поребрика, у стеклянной, как и у пас там, на обратной стороне земли, телефонной будки, только здесь у них, прямо так у дороги, можно говорить по междугородному…
Она осталась в машине, а они вышли оба, она видела их лица за освещенным квадратом стекла, как на экране телевизора, видела, как шевелятся их губы, только слов она не слышала. Сашка приложил трубку к уху и что-то докладывал теще, смеясь, Анечка стояла близко, прижавшись к нему, и подсказывала — супруги… Вообще-то хорошо, что у Сашки, можно сказать, добрая жена…
Что же такое, что же такое настойчиво заставляет ее вспомнить эта стекляшка, освещенная внутри, чернота побережья и океан через дорогу?
Как она, уезжая сюда, звонила тому же Сашке, чтобы он встречал ее, в свой последний вечер на Голд-Косте… Она вышла с Андреем в такую же непросветную тьму из флэта Гаррика, где только что пили чай с тасманским медом, и по телевизору шла невесть какая серия «Анны Карениной» в английском отображении. «Тебе надо позвонить, пойдем, ты сама не сумеешь!» И вывел ее в ночь, и вел до будки под руку, чтобы она не оступилась в своих японских, на одном пальце, пляжных гета.
Песок был еще теплый и мягко пружинил, невидимый под ногами. Океан глухо гудел рядом, выделяясь из темноты только белыми усами пены. Так же близко они стояли в тесной телефонной будке, пока не переговорили. «Конечно, я встречу тебя, не волнуйся», кричал из пространства Сашкин голос. И тогда, после отбоя на линии, и сказал ей то главное Андрей, и на что она, растерявшись, не смогла ответить сразу, как подобает. Или не столько растерялась, сколько сама не знала ответ, положа руку на сердце?
А с утра была бухта Робинзона, как последнее доброе, что ей довелось испытать с Сашкой на том берегу. Точнее, сначала был Сашкин дом с мезонином (в прямом смысле), потому что типовой домик о двух этажах он поднял на сваи, и получилось нечто нестандартное, на каменных столбиках — избушка на курьих ножках, только в обрамлении австралийского буша. Участок за домом еще пуст — кусок горы и кучи щебня. Доски полов и лестниц оструганы до белизны. И ничего еще не покрашено. Оттого, может быть, особенно легко дышалось в доме этом, продуваемом воздухом океана.
— Если бы ты знала, как мы любим наш этот дом!.. Потому, наверное, что все сами — я и Саша, даже раствор — так дешевле, и Сашке так хотелось!
И, безусловно, дом был ближе обликом к той родной Сашкиной хибаре на скосе выемки железнодорожного полотна, на улице Железнодорожной, что еще из мандариновых ящиков слепил Сашкин отец — неудачник, офицер-беженец… И потому ближе к сердцу. И так легко было Сашке в нем, и Анечке, да и ей тоже, если бы она смогла пожить тут подольше. Собственно говоря, нужны ли человеку эти полированные полы, эти выставки фарфора по углам за дверцами шкафчиков? Самой счастливой за всю жизнь была она в беленой будочке на Обском побережье, но об этом — другой разговор…
До чая, который они пили запросто на кухне, из обычных пестреньких чашек и за простым столом под клетчатой скатеркой, отчего чай был значительно вкуснее, Сашка потащил ее купаться.
— Вставай, Лёль, — кричал он сквозь занавеску над дверью мезонина (настоящих дверей в этом доме еще не было). — И что тебе снилось на новом месте?
Сказать ему, что снилось «барбекью» и пес с заросшими глазами? Она стряхнула с себя это наваждение и заодно утреннюю зябкую сонливость:
— Побежали!..
Матово-молочной оказалась рассветная Австралия. Белые стволы эвкалиптов в белесой мгле стояли размытые и нереальные — деревья-привидения… Странная серая птица с узким хвостом и клювом раскачивалась на ветке против окна мезонина и сама с собой разговаривала скрипучим, иронично-хохочущим голосом — кукабарра! Наконец-то, удостоилась — местная особенность!
— Тебе повезло, — сказал Сашка, — не так просто услышать — ей нужен восход солнца!
…Кенгуру она кормила с руки с сестрой Наталией, по пути к ананасным плантациям, коалу — сонного и тепленького, как комок шерсти, мишку размером с кота, гладила в парке под «Старым Сиднеем» с Юлькой и ее австралийским сыном Петькой (коала терпел безропотно ласки, изгибал колесом мягкую дымчатую спинку, но при первом удобном случае старался улизнуть к себе на ствол, где можно спать на весу, обняв лапками материнское дерево. Новые приезжие стаскивали его на барьер и он снова терпел, пряча на груди смешную с кожаным носом мордашку). И черных лебедей она видела на том озере у Голубых гор, перегороженном проволокой с колышками — тоже частное владение! Лебеди плавали запросто, как утки, похожие издали на черные запятые. Говорят, их так много и чего-то они уничтожают, что их даже отстреливают — а вывозить, как ценность, на другие материки — хлопотно и невыгодно!
А последнего «зверя с герба» — страуса эму она увидит завтра в Мельбурнском заповеднике. Он подойдет к ней сам на прямых ногах, как шагающий экскаватор, большой и строгий, взглянет боковым желтым глазом прямо в глаза, но ей будет так смутно и плохо завтра — не до него, и он гордо отойдет, непонятый… Хорошо, что мы не можем знать, что ожидает нас завтра…
Бухтой Робинзона она назвала сама тот плоский бережок за необитаемость — золотой полумесяц песка и стенки отвесов, сыпучие, как бугры на милом ее обском побережье. И сосны, не совсем такие — ниже, ветвистее, но тоже в переменчивом трепете хвои. Твердые ребра корней выступали на тропинке, по которой сбегала она босиком к морю, ступней чувствуя древесную гладкость их — результат дождей и штормов, и шершавость опавших игл, бурых и слежавшихся в плотный ворс. И эта контрастность тепла, сохраненного хвойным настилом и охлажденного с ночи песка, была преддверием вступления ее в океан. Ровный, налитый в бухту, словно жидкое стекло, почти плотный на ощупь, когда она раздвигала руками воду цвета синего купороса. Вода сообщала невесомость, и это бы го почти парением над глубиной, восхитительным, как радость бытия.
Солнце, круглое, поднималось из океана навстречу ей — в блеске и свежести. Крайние сосны по обрыву, уже задетые им, светились янтарем, а там внутри шло сплетение теней — коры и земли, коричневой, в рыжих подпалинах — лес, как пятнистый олень, зелень темная и зелень, высвеченная косыми, сквозь кроны, лучами. Как бывает в соборах — сквозь витражи.
Туман исчезал, и купол просвечивал голубым. И еще было состояние счастья, само по себе — от красоты Земли вне зависимости, кому принадлежит это. Общий «шарик» людей без границ и барьеров — в будущем человечества? Что же тогда понятие — родная земля? Планета? Пли тот камешек у порога, на который ступил ты, впервые шагнув из родительского дома? И нам никогда не уйти от этого…
Гармонию мира нарушал Сашка. Он прыгал с полотенцем по сырой кромке песка и орал на расстоянии: «Вылезай, ты с ума сошла — так долго! У нас в таком холоде не купаются! Пошли завтракать. За тобой скоро приедут!»
И это все. Все доброе с Сашкой кончилось в этой бухте Робинзона. Сашка не был виноват, и она не виновата — так получилось. И хотя достанется им еще перед расставанием два-три вечера с «Опера-хаус» и клубом «Мандарин», все будет уже не то.
6
Сиднейский вокзал, на конце Георг-стрит, возник слишком скоро по ходу машины, чтобы она могла разглядеть его — плоский фасад, похожий на облицованную плитами насыпь, и слишком рано, чтобы они могли закончить с Сашкой разговор, который шел у них в машине. Вернее не разговор даже, а крик, в стиле их прежних молодых разногласий, когда каждый мог говорить, что думает, невзирая на лица. И в этом был Сашка — весь прежний. Только он-то успел наговорить ей всего, пока они мчались в последний раз по Сиднею, замирая у светофоров и вливаясь в «экспрессвей», а она объяснить ничего не успела. Возник вокзал, и Анечка ждала их на тротуаре с плетеной проволочной тележкой для чемоданов.
— Ты огрубела там, в своем Советском Союзе! Ты забыла, что такое дружба! Это мы здесь сплочены и верны прежнему, а вы растворились там в большом народе и утратили тепло души! Разве я не прав? Неужели ты не могла сообразить, что последний вечер нам хотелось побыть с тобой дома, посидеть с мамой на кухне и почитать стихи! А тебя понесло к этим старикам, я тебе говорил, что это такая даль, и ты сама оттуда не приедешь! Какая глупость — ночью на электричке и на такси! Тебя бы запросто затащили в машину и увезли черт-те куда! Может быть, и не убили бы, но унизили, а потом выбросили! Ты забываешь, ты не у себя, в Советском Союзе! Мы же отвечаем за тебя, все-таки!
Сашка орал на нее, а ей не удавалось вставить слова, и как объяснить было, что все эти дикие две недели в Сиднее, когда ее возили, кормили и задаривали всем, что, по их мнению, было необходимо ей у себя в Сибири, она испытывала тяжкий груз благодарности, и словно разрывало ее изнутри это унижающее чувство неравноценности — когда-либо ответить им тем же, и ощущение обузы своей в доме, где наутро нужно хозяевам ехать на работу.
И кто, как не сам Сашка, составил ей расписание и вывозил в свет, как английскую королеву! Даже специальный блокнот для этой цели лежал у него в доме подле телефона!
— Сегодня ты едешь к Аверьяновым. Завтра, прямо из Сити, тебя забирает на два дня Юлька!
— Нет, она к вам не поедет! У нее уже всё, до последнего дня расписано! — отвечал он категорично на звонки знакомых и желающих. И еще: — Тебе нечего там делать. Это не нашего круга…
Как растолковать было ему, что те «старики», за которых он на нее обрушился, нужны были ей самой, как определение, права ли она была, что не дала уехать сюда родителям, а увлекла за собой на целину и в разворот теперешней ее, не очень благосостоятельной жизни? Потому что судьба родителей, окажись они здесь, могла быть схожа с судьбой этой семьи, кстати близких друзей отца, в той, уже вовсе давней его молодости Харбинского политехнического. Короче, это были люди «одного круга», как сказал бы Сашка. Но он просто не мог знать всего. Так же, как она не знала, что ему еще Надо было посидеть с ней тихий вечер дома и, может быть, сказать что-то главное, что он не успел во время ее гастрольного бега по Сиднею. Хотя уже и стихи ее были прочитаны на элегантной Анечкиной кухне и даже записаны на память посредством черненького японского магнитофона. Впрочем, была еще одна причина, почему ей захотелось пробыть последний вечер не в Сашкином доме, а у этих «стариков», никакими узами, кроме детской памяти, с ней не связанными… Но она не могла сказать об этом Сашке. Была причина, почему все доброе к нему, что сложилось за эти две недели, вдруг смешалось в клубок горечи и недоумения, и надо было дать этому отстояться, как замутившейся воде, в тишине.
. — Ты что такая расстроенная? — спросила Анечка, когда Сашка резво покатил тележку вперед на платформу. — Не обижайся на него, он же от пылкого сердца. Покричал и забыл. Ты же знаешь его…
Да, она знала. В своей заботливости Сашка был последователен до конца. Он накупил ей каких-то мелких конфет-орешков, чтобы было не скучно в дороге, и баночек с «дринки» из тропического фрукта, и с проводником договорился, за определенную плату, конечно, что ев утром накормят завтраком. Проводник был грузный пожилой дядька с боцманскими усами, в форме военного образца времен первой мировой, и он заверил Сашку, что все будет сделано.
Состав стоял у платформы и выглядел короче и ниже, чем она привыкла на российских железных дорогах. Обтекаемой формы вагончики цвета алюминия оказались внутри компактно-вместительными. Отдельные, крохотные, как коробочки, купе с обеих сторон и странный зигзагообразный коридор но центру без окон, одни глухие железные дверки, — вот где наиболее полно проявляется английский принцип изоляции — «мое купе — моя крепость!» В соседнее купе прошла молодая пара: папа и мама. Причем папа пес в одной руке соломенную корзинку с оборочками и в ней — болтающегося ребенка, и больше она их всю дорогу не слышала и не видела, и ни одного человека из своего вагона! Проводник вынул из стены подвесную койку, плотно опустил жалюзи, объяснил жестами, как пользоваться складными, утопленными в стенку унитазом и умывальником, и она очутилась, в прямом смысле, в одиночном заключении! Остались на перроне Сашка и Анечка с приветливыми лицами и последними бессмысленно прощальными словами, потому что она знала, почти наверняка, что все пожелания писать оборвут расстояние и не совпадающие ритмы жизни… Было грустно и смутно на душе, и усталость безумная — вытянуться и лечь в тишине, и, оказывается, тишина эта при почти неслышном ходе поезда и странной, непривычной но русским дорогам боковой качке не способствовала отключению нервного импульса, а, наоборот, давала доступ всей пестроте сиднейского бытия прокручиваться в глазах заново, как многосерийный цветной телефильм! И с каким теплом она вспомнила теперь весь светлый от солнца и пластика коридор купейного вагона «Сибиряка» (поезд Москва — Новосибирск), где стоят и курят, опершись на оконные поручни, уже облачившиеся в домашние тапочки пассажиры, по красной ковровой дорожке проводница несет чай в массивных, образца МПС, подстаканниках, и часа через полтора пути прочно устанавливается атмосфера сердечности и общения. А в окнах идут такой снежной красоты горы, с таким зубчатым рисунком лесов на просторном опаловом небе, что свое — больное и нерешенное отступает на время перед огромностью страны, съеживается и обретает истинные масштабы.
…За задернутым окном шла Австралия, которую она не разглядела еще полностью, но уже сумерки закутывали внизу под насыпью грибковые крыши районов. Вроде бы здесь они проезжали на электричке с Юлькой? Все похоже… А когда пойдут горы и эвкалипты, станет совсем темно, и в щелку занавеси она ничего не увидит — Нью Саут Уэльс опять проезжать ночью!
Теперь, когда Сидней уходил назад с загорающимися безграничными огнями и со всеми людьми, своими для нее или чужими, она поняла, что главное в ней все-таки — чувство облегчения! Что все это кончилось и, слава богу! — без возврата. Потому что нет ничего болезненней душевных эмоций!
И тот клубок горечи и недоумения, что словно душил ее, подступая к горлу, последние сутки в Сиднее — где же концы его и начала? Найти, распутать, разорвать, освободиться!..
Двое молодых людей — мужчина и женщина, оба в джинсах и в спортивной мягкой обуви, заехали за ней на дачу к Сашке, чтобы везти ее дальше на пасхальные дни, как договорились.
Мужчину она не знала вовсе — новое поколение эмиграции, родился в русской семье (тоже из Харбина), что теперь где-то в Америке.
Женщина — та самая кроха, девчушка из сорок пятого года, что прыгала бессознательно на руках у соседского зятя Николая в час, когда японский император Тэнно объявил по радио свою прощально-скорбную речь о капитуляции. Харбин, утро пятнадцатого августа.
, Естественно, она не могла встречать тогда гладиолусами влетавшие в город советские танки. И алую книжку членского билета Союза молодежи не могла получать дрожащей рукой в Комитете — слишком мала была. И красный галстук юнака обошел ее на заре своего возгорания — «Будь готов!». И с первых классов школы, где только еще научилась читать и считать, и прежде чем сама успела понять что-то в том сложном раскладе мира, где предстояло ей жить в пятидесятых годах, ее просто увезли на эту сторону, не узнав, естественно, что она думает по этому поводу. Потому что Харбин стал раскалываться — вы направо, мы — налево… Хотя именно у этой семьи были основания попасть на «другую сторону». Собственный дед девчушки погиб, замучен, в японской жандармерии, еще до рождения ее. Говорили тогда — «темное дело». Только были похороны — в скороспелой опаске — «как бы кто не сказал чего неосторожно», на которых, на выносе, вертелась рядом соседская девчонка Лёлька — та, что теперь путешествует по Австралии… Однако, при выборе пути, в годы разлома, побеждал порой не здравый смысл, а тот из супругов, кто или любил меньше и, следовательно, мог диктовать условия, или вообще обладал силой убеждения — подавить мнение другого. .
Таким образом знакомая девчушка оказалась в Австралии, прошла — в будни — английскую школу со всеми непонятными нам правами телесных наказаний и градаций по успеваемости, а в воскресные дни — школу при русской церкви: «нива моя, нива, пива золотая…» Но, возможно, в силу того, что по самым ранним и, безусловно счастливым годам, когда еще прыгалось на тротуаре через «китайскую резинку», помнила она пролетавшую мимо, совсем взрослую Лёльку при блеске студенческих пуговиц и значков, теперь, по приезде той, путешественницы, в Сидней, звонила Сашке и договаривалась о встрече. И уже совсем не оставалось на это времени — разве что последние пасхальные дни. «Вы заберете Лёлю у нас с дачи. Прокатите до Мельбурна и обратно», — распорядился Сашка.
Ее собственного мнения Сашка не спросил, хотя ее больше привлекало молча посидеть день в бухте Робинзона, но поскольку он так распорядился, она поняла, что они с Анечкой порядком устали от нее и хотят побыть на даче вдвоем. Вопрос решился — ехать так ехать! И к этой девчушке у нее было чисто человеческое умиление, что испытываем мы к тем, кого знали совсем детьми. И, к тому же, еще одна судьба, хоть косвенно, но связанная с ней — август сорок пятого…
Одним словом, состоялся еще один малый кружок по Австралии, до южной оконечности — мыс Филлип с черными ноздреватыми камнями и пингвинами (подразумевающимися) и проездом через Мельбурн, останавливаться на котором не стоит — не о том речь сейчас, вообще-то…
Потому что после дня, так славно начавшегося бухтой Робинзона и даже еще раньше — утренней осенней прозрачностью на «хайвей» с Сашкой и Анечкой, в дружелюбии близких, по видимости, людей, и произошло то странное событие — инцидент… Или ничего не произошло, а просто ей так померещилось?
…Машина шла в желтых холмах — штат Виктория, и это похоже было на Грузию у пас в ноябре, когда снят урожай и сухая трава или стерня жестко топорщится на пологих складках и шуршит, почти звенит, в солнечном ясном безветрии. Плавный, раскачивающий ее ход машины и вся эта разогретая, успокоенная к осени земля, а главное — то, как были прожиты последние дни, в милой беспечности, и сегодняшний, пасхальный в особенности, настроили вновь на то беззащитно-размягченное состояние, что однажды почти подвело ее в Сиднее — в «Русском клубе», правда, без серьезных последствий.
Позади был пасхальный полдень в Мельбурне, пустоватом, праздничном, в желтизне листопада (что так не вязалось в ее понятии с пасхой), в прямизне проспектов и шпилеобразном разнообразии церквей, распахнутых настежь по случаю службы. И толпа на папертях, разная — от вероисповедания.
Перед костелом — кадр из итальянского кинофильма: чернобровые юноши, дородные матроны, девицы типа Асунты. И все это жестикулирует, согласно характеру нации. На крыльце англиканской церкви — сдержанность и благонравие, выходят не спеша красивые дамы в светлых платьях и перчатках к своим мужьям и машинам — час разъезда. Под белой салфеткой одна песет в руке тарелку с тортом — благотворительность или приходский праздник? От мавританских плоскостей синагоги расходятся в молчании пешком одни мужчины в черных одинаковых сюртуках и шляпах (Шолом Алейхема не хватает!)
Бежал по колеям (увиденный впервые в Австралии) старомодный, тупоносенький, совсем одесский, трамвай, осененный готикой куполов и циферблатов…
И был домик Кука, натуральный, из Старой Англии в Дар привезенный и собранный на лужайке сквера — весь зеленый за стрижкой изгороди, в завесах плюща, заплесневелый от времени кирпич, замшелая черепица. Так и казалось, выйдет сам капитан, в камзоле и с подзорной трубой! Здорово, Кук! Земля, что ты открыл, хороша и обильна, и кого только в ней нет — международный «ковчег спасения».
И был дом, где остановились они, притормозив ненадолго, тесный и беленький, где по-харбински пахло куличами, что теплые еще почти живые дышали, лежа на боку, на подушках кровати, как некогда у нее, в доме бабушки, на улице Железнодорожной. Голой чистотой светились окна без шторок, и пучок вербы в углу за иконой — у русских еще вербное воскресенье. Двое пожилых, растерявших детей по Австралии, — только и остается жить в неизменных мелочах! И как они рады были: «Посидите, будем чай пить. Как у вас там, в России?» Некогда, день короток. Да и грустно, жалко отчего-то. И не хочется этого проникания в чужое и безысходное.
И еще — берег, после мыса Филлип, где-то там, поблизости лицом к Антарктиде. Купаться уже нельзя: вода — плюс десять, не больше, только черные, похожие на человека-амфибию, аквалангисты в обтекаемых и подогреваемых костюмах уходили, как по ступенькам, на дно. Спутник ее — мужчина отлеживался молча на забитом водорослями песке, а они с женщиной (девчушкой) ходили, почти обнявшись, по отливу, по всему этому морскому мусору из флоры и фауны, и говорили раскованно о том, что прошло, что сейчас у обоих, и опять ей просто бездумно было рядом с молодой своей спутницей, помнящей всю их семью, даже деда с тростью, в кителе с дырочками от орденов… И как хочется той еще раз приехать «Москву, где бывали они «по туру» с Володей, и как рвутся они душой ко всему русскому — встречают с пароходов советских моряков. И собирают книги и музыку. И еще — танцует в ансамбле, — и вышивает народные костюмы…
Что, кроме нежности, могло сложиться в ней после таких разговоров с девчушкой соседской, у которой деда замучили японцы? И что кроме доверия?
Не удивительно потому то размягченное состояние, в котором ехала она в их машине, на закате, среди сухих золотящихся холмов — с холма на холм, как в люльке, только слышала, воздух свистит в ушах от быстрого хода и разговор продолжается неспешный: «Тебе не холодно? Может, закроем окно?» — «Нет, так хорошо». — «А помнишь, у вас был такой рыжий пес Бобик? Я забрала его, когда вы все уехали на целину». — «А что с ним потом?» — «Не энаю. Жалко, если убили — на шапку».
Подсознательно, но до нее стало доходить, что, кроме свиста воздуха и вместо музыки, из кассетного приемничка в машине, она слышит свой и не свой голос, почти неузнаваемый от магнитофонной записи, только по смыслу, сказанное недавно: «Тебе не холодно? Может, закроем окно?».. «Помнишь, у вас был рыжий нес Бобик?..»
Она не сразу поняла, что это? Спутник-мужчина понял раньше. Он защелкал пальцами по клавиатуре цветных кнопочек того черненького японского аппаратика, что они взяли с собой, чтобы записать ее стихи (якобы). У Сашки тоже был такой, и у брата Гаррика, и она уже привыкла к тому, что они тут таскают их за собой на ремешке, как сумочки… «Хорошо пишет, — сказал он. — Я хотел проверить…» А она подумала: как же так, они тут болтают, что угодно, а это мотается на пленку без ее ведома? Как-то ей так неприятно стало, но неосознанно еще.
Дорога шла дальше, и пустячный разговор тоже, и она уже стала забывать, словно стиралось в сознании нехорошее это ощущение. И вдруг спутница устроила ей скандал, в прямом смысле — на политические темы.
Началось исподтишка как бы… В связи с этой пасхой! Почему вы разрушаете церкви? Почему вы не бережете старины? Они тут в курсе дела. Кадушки с капустой прикрываете, вместо досок, редчайшими иконами! У них тут кровью сердце обливается…
Она сначала не поняла: откуда подул ветер? И спорить ей вовсе не хотелось. Да почему разрушаем? Ну мало ли осталось церквушек, по имеющих ценности, почему их не убрать? А то, что уникально — Суздаль, Владимир, она сама была, видела, как это сохраняется…
Спутник молча вел машину. Спутница говорила — все горячее, эмоциональнее, даже остановить, разъяснить невозможно было. И пошло все смешиваться в кучу: и как ей больно за русский народ — чего у него нет в магазинах, и почему у них не выборы, а бог весть Что, потому что нет права выбора, а кого предложат, и неужели оскудела талантами русская земля?..
С ’ трудом она выходила из своего бездумного состояния, чтобы как-то отреагировать на этот потоп обвинений. И тут увидела: пестрые кнопочки на японском аппарате опять стояли в том положении записи, из которого, на ее глазах, недавно вывел их спутник…
Словно железом стукнуло ее по голове, когда наступает момент глухоты и звуки извне уже не доходят, только звон в ушах и собственная мысль работает на повышенных оборотах.
Что же это получается — ее «пишут» без зазрения совести! И, значит, правда, а не досужие домыслы то, что говорили ей и предупреждали перед отъездом? И всего на грани она была от того, чтобы из уважения к хозяевам или из типично российской склонности поругивать то, что мы имеем у себя дома, в своем кругу, и что отнюдь не отражает подлинных наших убеждений сказать нёчто такое, что стало бы явной «водой на их мельницу»!
Значит, что бы ни сказала она сейчас, расплавленная доверием к соседской девчушке из детства и всем этим бесконтрольным праздничным состоянием, после теплого дня на побережье, будет прослушано кем-то и где-то, где — она не знала, но могла допустить: на уникальной аппаратуре отца Александра. И ее слова будут уже не просто ее слова, а «искреннее» высказывание человека, «вырвавшегося» из Советского Союза, даже в гости. Хоть так отвести «угнетённую» душу! И где-то дальше начнут жить собственной жизнью, как вредоносный заряд, на страничках «Единения», может быть, или еще дальше, где-нибудь в Штатах, откуда родом этот молодой супруг-спутник, И не только сами по себе, принося вред стране, давшей ей все, что она имеет, но и в совокупности с ее именем, и она внутренне содрогнулась от ужаса, представив, чем это обернется для нее, — предательством, после которого жизнь невозможна…
И когда это в бешеном темпе прокрутилось в ее мозгу, словно в «памяти» электронной машины, и когда она увидела себя, мысленно раздавленной собственными своими словами, которые вот-вот могли бездумно соскочить с языка, неизвестно что-то ли гнев, то ли чувство самосохранения взяли верх над растерянностью. Мысль заработала собранно и ясно. Как в минуту опасности.
— Прекрати! — прикрикнула она на спутницу, в том тоне бесцеремонности, что может быть принят по-свойски меж близкими людьми и потому выглядел естественно в данной ситуации. — Ты же не знаешь ничего! И как ты можешь судить о том, что у нас есть и чего у нас нет, не живя у нас, на таком расстоянии!.. Это мы можем ругать и говорить потому, что это — свое — наши проблемы, а у тебя нет права — со стороны!
…И еще. Это вы здесь — причина тому, что нам надо держать такую армию, потому что вы обступили нас своими ракетами — я имею в виду ваших друзей, американцев. И ты сама — что ты чертишь в своем конструкторском бюро? Ах, ты говоришь, безобидные вещи! Откуда ты знаешь, какую деталь ты копируешь для своей совместно-американской компании, для чего она предназначена — не против ли нас? Да одним тем, что вы живете здесь и на них работаете — вы работаете против нас. Ты что, об этом не думала? И грош цена твоим пляскам в русском ансамбле — самим фактом, что вы здесь, а не у себя дома, как положено, вы всему миру показываете — какие вы принципиальные противники — не принимаете ничего нашего! Уж не говоря о том, что вы там чертите в конторах! Вы ж не задумываетесь — куда это идет потом и чему служит — важно, сколько вам за это платят! (Она вспомнила: «Я получаю восемь долларов в час», — хвалился мальчик из детства.)
…А кого мы выбираем и как выбираем — наши дела! Наша страна — как хотим, так и живем. Вы выбираете — ваши лейбористы или лейбор — вовсе тебе посторонние, однако ты голосуешь, за кого тебе предложат, и тешишь себя мыслью, что выбрала! Да его до тебя выбрали в ваших верхах, а ты только пешка в игре! Как же ты смеешь что-то толковать про наши выборы — у нас — свое, надо жить у нас, чтобы понимать, а так — даже доказывать тебе бесполезно!
Она говорила первое, что выплеснулось из нее, не думая уже о дипломатии общения за границей, как предупреждали ее: вежливость, корректность — мы гости в чужой стране. Не до вежливости ей было сейчас перед теми, кто будет прослушивать ее, и пусть что-то звучит не так — по логично пли наивно, главное, это не то, что ждали от нее, если ждали действительно…
Она не заметила, когда успокоилась спутница, словно водой смыло эмоции, словно не кричала та только что со слезой в голосе, куда что делось!
— Хватит вам спорить, мы подъезжаем, — сказал спутник. — Я тебя сброшу здесь, на повороте (это — жене. Той нужно было куда-то по делу, в Мельбурне, в этот единственный ее вечер пребывания с ними — удивительно…).
— Что, у тебя не выключено было? — спросила его спутница при выходе из машины, имея в виду черный аппаратик с красными и голубыми клавишами, вполне неподдельно и просто, так что она засомневалась: может быть, все это напрасно намотала себе в голову?
— Он в другом месте выключен, — сказал спутник. И это все. И можно бы закончить разговор на тему, если бы не еще одна фраза, почти ночью, когда он вез ее по совсем глухому от темноты городу из гостей, потому что надо же было как-то запять вечер, и весь вечер она что-то ела и говорила, механически, не вдумываясь в ничего не значащие застольные слова, потому что голову сжимала обручем боль уже физическая, почти слепота, что наступает вслед за внутренним стрессом. От сознания, что они могли… Эта девчушка могла! Та самая, с которой сидела она в одной щели бомбоубежища, глядя на одни и те же августовские звезды, на вторую ночь войны, сорок пятого года, когда ждали, что будут бомбить город советские самолеты. Но они не прилетели, прогудел отбой, и эту кроху, заспанную и теплую, завернутую в одеяло, унесли под утро досыпать домой. И та самая, что прибегала к ним в сад угоститься ранетками, потому что на их участке не росло таких красненьких… Дедушка тряс яблоню, и та, вереща от восторга, выбирала их из травы и толкала в карманы передничка. Та самая…
И ей хотелось, чтобы ничего этого не было, чтобы ей так показалось, померещилось в результате многих детективов, прочитанных и просмотренных — Штирлиц, «Мертвый сезон»… И она уговаривала себя, что ошиблась и возвела напраслину на этих милых и гостеприимных ребят. И почти уговорила.
Он остановил машину против гавани Мельбурнского порта, в виду дробящихся в агатово-черной воде огней, разговор шел о спутнице — жене его. «Отчего такая нервозность и возбудимость? Непонятно. Переутомление пли характерно для их жизни — вечная напряженность: зарекомендовать себя, не утерять полезности, иначе тебя просто заменят?»
— Катюша взяла неверный топ. Я понимаю, вы вынуждены были отвечать так, а не иначе… — сказал спутник, как бы между прочим. Значит, от нее все же ждали ответа, и она, примитивно говоря, испортила им пленку!..
Вот почему неприветлива она была на другое утро с аборигеном здешних мест — страусом эму, когда он подошел к ней поздороваться, и почти не видела ландшафтной прелести, мельбурнского ботанического с купами деревьев и прудами, заросшими круглыми листьями кувшинок.
Ночевали они в пустом флэте, от которого им дали ключи по знакомству: хозяева путешествуют по Канаде. Многоквартирный флэт в три этажа, балконы, как ободья по фасаду. И в каждой квартире говорят по-русски и по-еврейски — одесский, белорусский акцепт. Сушится на плоской крыше белье. Видны в окно наискосок полы в вишневых, под бархат, паласах, что-то стучат, устраиваются еще. Входит соседский мальчик, кудрявый, кольцо в кольцо:. «Папа спрашивает, у вас нет дрели? Дайте, пожалуйста!» Интеллигентный, воспитанный мальчик, музыкальные руки. Па балконе сидит молодая обрюзгшая женщина, в равнодушной не подвижности, русская в еврейском доме — пойти некуда, говорить не с кем. Как поступить? Не ехать — потерять детей… Страшный выбор! Светятся за спиной вишневые паласы. Только и остается — ступать по ним неслышным шагом..
От всего этого — в комплексе — только уехать ей хотелось утром, и ничего больше. Но нужно было провести программу, до конца и соблюсти видимость международных отношений. Хотя все в ней противилось и негодовало. И даже к Сашке ей не хотелось ехать сейчас, хотя он вроде бы не виноват… И все-таки как-то косвенно был он связан с происшедшим. Потому что передал ее им с рук на руки. Ей хотелось к родным в Брисбен — к тетушкам, брату Гаррику и сестре Наталии.
Но еще прожить нужно три долгих дня в Сиднее и не показать своего смятения… И не надо бы напоследок замутнять их. Юлька еще повозит ее по городу и будет кормить в своей неуемной сердечности блинами с травой, в прямом смысле, когда в пирожок завернуты овощные стружки всяческих сельдереев: «Ешь, это ужасно полезно!» И Вера будет молча лежать с ней рядом на стриженой травке у капитана Кука, когда, дойдя до головокружения, она взмолится утром: «Я не могу больше, вези меня, где потише». А вечером будет клуб «Мандарин» — улыбка на последнем пределе!
«Опера-хаус» — спектакль балета, снова с Сашкой и Анечкой и возникшей из прожитого Викой Бережновой. («Все эти тряпки ничто перед тем, что ты имеешь!..»). В антракте, когда опять же не по-нашему можно запросто усесться на пол, на ступеньки фойе, обтянутые мягким салатным ворсом, словно это очередная австралийская лужайка, и говорить о своем, не реагируя на снующие мимо ноги зрителей. А совсем рядом, на уровне глаз, за витражом-стеной — поверхность бухты, ночная феерия Харбор бридж и берега напротив, отраженных в сиреневой и синей глади световыми столбами всех семи цветов радуги. Пожалуй, это и будет — прощальный ее взгляд на Сидней. А сам балет? Хорошо, конечно, хотя опять не по-нашему, скорее не балет, а акробатика: абсолютно красный (символ ревности) Отелло ломает в три погибели абсолютно белую Дездемону. По все это пройдет для нее как бы вполтона, уже не проникая глубоко в сознание. Пересыщенность информацией или следствие «дорожного стресса»?
Вот почему как последняя точка в Сиднее стал этот дом стариков, куда Сашка все тянул везти ее с самого начала: «Они не нашего круга»…
По какому, собственно говоря, праву Сашка берет на себя решать, кого видеть ей, а кого не видеть в этом заграничном мире?! Он уже хорошо сунул ее в машину с магнитофоном!
Кстати, такой точно ящичек с кнопками присутствовал постоянно и у него на кухне, где они сидели всегда после ее «трудового» дня, обсуждая, хохоча, комментируя. Не получится больше у них душевного разговора на кухне — это она знала совершенно точно. В результате дом стариков, куда удрала она, созвонившись с ними сама, и без его благословения!
И оказался это очень старый сиднейский дом (конец девятнадцатого века), весь в лепных, с амурами, потолках, но без современных удобств, в трещинах и облупленной штукатурке, но зато камин белого мрамора с прожилками! Никогда прежде и нигде не бывала она в таких домах. Старики снимали его у старухи австралийки, у которой на ремонт ни денег, ни сил, ни намерений — все рушится! А другого, современного, снять не по деньгам! И она подумала: дальше такого жилья не продвинулись бы и ее родители, если бы приехали сюда после войны, не успели бы. Если до войны, тогда еще может быть… И дальше этого узенького быта с вербочками и куличами, с «маджаном» по праздничным вечерам. А вообще, для чего еще жить? Медленный спуск в небытие, Исчезнут и не вспомнит никто — чужаки. Вроде бы, единый конец, а где — какая разница? И все же есть в этом что-то — на своей земле…
Как она спала в этом доме, на кровати, столь высокой, что приходилось вставать на цыпочки, забираясь на нее, к духоте закрытых мутноватых окон, сплошь залепленных разросшейся зеленью, которую стричь не по силам квартиросъемщикам, и в чуть застоявшемся, нафталинном запахе старых, харбинских еще вещей, но так крепко и спокойно спала, как впервые, пожалуй, в Австралии, как ни «доме тетушек и ни в лучшей спальне у Андрея, не говоря уже о всех сиднейских ночлегах, ни грамма неловкости, что бывает в посторонней семье — как освобождение. Или просто она так устала, что ей ужо было все равно!? Просто спала в последнюю ночь в Сиднее и последний день до полудня так, что старики испугались — жива ли она? Маргарита Васильевна подходила к двери и слушала — есть ли дыхание, а Вячеслав Яковлевич шипел в усы: Не мешай, дай девочке выспаться. Ее замотали здесь»…
…Зато теперь не спалось в боковой качке спального вагона, на мягкой и широкой полке, устроенной опять не по-нашему — вдоль окна, так что лежа, как на витрине, можно обозревать все, что плывет под тобой вдоль полотна — если отогнуть, вопреки порядку, плотную пластиковую штору. Ночная Австралия, где ничто неразличимо — только чертеж деревьев на более светлом небе да белесость стволов.
И под утро, когда рассвело, мутноватая зелень пригнутых трав, вдоль полотна — роса на них или просто эффект освещения — непонятно. Бурый сыпучий срез выемки; дорожные рабочие на отсыпке гравия — согнутые серые тени; ржавого железа домик обходчика на расстоянии протянутой руки, и на веранде его — куча босых коричнево-смуглых ребятишек, машущих поезду, — штрихи жизни, которой она уже не постигнет.
Другая Австралия…
Неуловимо, по мере хода поезда на север, менялось что-то в мире природы, как бывает у нас, когда свернет поезд после Армавира к Туапсе, к побережью. Уплотнялась и наливалась соком листва, сгущались кроны, пальмы-фикусы стали выходить на дорогу со своими мясисто-стрельчатыми, лапчатыми побегами, и сам воздух влажно-душноватый, и люди на станциях — опять обнаженность коленок и плеч, платья на веревочках: почти забылось о таком в пуританско-осеннем Сиднее. И домики, домики, в памяти канувшие на две недели, из беленьких, косо набитых досточек, на столбиках как на столиках поставленные, продуваемые, с верандами…
Брисбен. Удивительно, но уже нечто «родственное» ощутила она в себе при виде их, как приближение к дому. Потому только, что там ждут ее — своя кровь?
Теперь, когда это приближение к людям, что ждут ее, стало реальным и вопросом пары часов, не больше, нельзя уже было изгонять из себя и прятать под сознание встречу с Андреем, которая также придвигалась к ней неотвратимо. И пора было дать ответ.
— Подумай, — сказал Андрей в радиусе той освещенной телефонной будки у кромки океана. — Я не тороплю тебя, ты просто подумай, пока будешь ездить там пр своим, из ХПИ… Ну что ты теряешь? Ты же сама говорила, что выработала стаж, как это надо у вас для пенсии, и можешь не работать, и посидеть спокойно два-три года в семье, и так делают женщины в твоем возрасте. И если ты могла бы сделать так, живя у себя там, при обеспечении, разумеется, то почему тебе просто не пожить это время здесь? Визу можно продлять до четырех, лет. И при этом ты ничего не теряешь — возвращения и пенсии. А может, не так это и надо тебе? Жизнь покажет. Ты же сама говорила: сын вот-вот женится. И ты не будешь нужна там. С невестками не живут ни у нас, ни у вас, как я слышу. Молодежь — сама для себя. Ради чего же ты упускаешь собственный шанс? Я ничего не утверждаю, но ведь, может, и получится у нас с тобой… Я не хочу говорить тебе разных «любил», — ты не поверишь, через столько лет, и будешь права. Просто — мы взрослые, и мы можем попытаться. И мы не в том возрасте, чтобы терять то, что встретилось…
Что она испытала тогда от услышанного? Изумление? Или внутренне и втайне от себя готова была к этому после купания в подземном озере «Нэйчурал бридж»? Нет наверное женщины на земле, что восприняла бы равнодушно предложение руки, даже от человека, прежде не любимого, даже за четыре года до пенсии… И какая из них скажет сразу «нет», не оставив себе запаса времени, как лазейки, на размышление, а вернее, чтобы просто продлить в себе чудо ощущения «женщины, которая нужна)? (Разве что в категорично-оголтелом возрасте юности…) И можно укрыться еще за соображениями человечности: сказать нет — оскорбить человека. Может быть потом, как-нибудь, все само собой…
И она не сказала. И в таком возвышенном женском настроении вернулась с ним из темноты в яркость и уют вечернею флэта Гаррика, где к тому времени, очень красивая, но похожая на креолку Лина Каренина говорила, рыдая с английским акцентом: «Алексэй!» похожему на приказчика — сапогами и припомаженным зачесом — Вронскому. А Левин ходил почему-то в распоясанной рубахе и босой, как Лев Толстой на картине Репина, и все это на фоне типично английских парковых пейзажей. Телевизор гремел, океан гудел, все были поглощены страданиями Анны, и никто не заметил необычного состояния этой далеко не молодой пары, просто допустить не могли подобного!..
Вот почему с таким задумчивым, созерцательным настроем ехала она в ночном автобусе через Австралию, следя за поворотами голубого пика горы, куда возил ее Андрей, и мимо бара, где ели они сэндвичи с горчицей, — думала о нем и не думала…
И вот почему — дом Юльки, что лег как бы на одну чашку весов, «что могла бы она иметь, если бы»… Безотносительно политической стороны вопроса.
И не потому ли, как один из пунктов размышления к ответу, врезалась ей в мысли та женщина безвестная, на балконе еврейского дома в Мельбурне — пойти некуда и сказать некому? Или каждое свидание в Сиднее было непроизвольно, тоже пунктом размышления к ответу?
Брисбенский вокзал, который видела впервые, показался ей серым, грязноватым и далеко не комфортабельным, как товарная станция в Харбине… На бетонном полу перрона уже стояли снова все транспортабельные родственники ее, как вначале в Брисбенском аэропорту, и ждали остановки вагонов. Видимо, махать и бежать за вагонами, как у нас, здесь не принято. Ну что же, почти дома…
— Письма были!? — первое, что спросила она Гаррика в машине. — Как у меня там Ребенок? Все живы? — И только тогда перешла к информации о путешествии.
Часть третья Пасха в Южном полушарии
1
Последняя глава. Что еще не дожито, не увидено, не сказано?
Страстная неделя в Брисбене. В Серафимовской церкви, в переулке за домом тетушек, лежит «плащаница» — цветами обложенный, шелком вышитый Христос, пахнет ладаном и горьковатой гарью свечек. Женщины разных возрастов, в шарфах и в платочках «по-русски» (положено — с покрытой головой) подходят и прикладываются, крестятся в прохладной пустоте.
А за окошком все еще раскаленный до белизны асфальт, и магистраль гудит рядом мельканием пестрых машин. И именно это — солнце и движение, так кажется ей, причина раздражения или усталости, что давит ее, охватывает в тиски, вырваться бы, только как — пока конкретно не думается… И подсознательно еще возникает: как у пас там? Скоро майские праздники, надо мыть после зимы окна, а она — здесь… Снег уже сошел и идут дожди. В чем там бегает на лекции ее Ребенок? Надо выстирать плащ, а она — здесь! Скоро сессия — запустит без нее зачеты, и поворчать некому — она здесь!
Она, эта женщина, приезжая из России, в десять часов утра стоит в прохладной полутьме Серафимовской церкви между двух тетушек (тетя Лида — большая, добрая, мягкая, пепельно-седая, и тетя Валерия — величественная, как Екатерина II, сиреневая стрижка, балахон смелых тонов, крупные серьги, крупные бусы) и в очередной раз решает для себя проблему меры поступков своих в этом мире: не обидеть тетушек и не уронить собственной сути в угоду обстоятельств. Одна с непокрытой головой, вопреки окружению. И не может сделать того, что ждут от псе тетушки, — тоже подойти и приложиться губами к «плащанице»!
Пасха в Южном полушарии (иностранная идет еще, русская — на подходе). Плавятся на жаре шоколадные яйца и зайцы. Чуть-чуть схлынул праздничный покупной ажиотаж, но в плотной толчее все еще не подойти к прилавкам — подарки, подарки (так принято здесь) в прозрачных пакетах, в коробках с бантами. В самой круговерти при входе в «Вулворот» стоит, тесно прижавшись, пара — оба длинные, в штаны из вельвета затянутые, светловолосые, только у девушки грива подлиннее — до пояса, и целуются долго и невозмутимо, словно они одни в лесу, а толпа обтекает их, не реагируя, словно это просто цветущее дерево! (Пасхальный ритуал или принцип — жить, кому как нравится!)
Лиза и тетя Жени мечутся на своих машинах в поисках лучшего творога: праздничный стол — о, это вершина, престиж и плацдарм соревнования! И она вместе с ними сходит в бесконечные продуктовые подвальчики, слепящие от яркости света и броскости красок — этикеток, тюбиков, банок, сквозь стекло просвечивающих плодов земли, превращенных заманчиво в массы неизвестного назначения, — не прочитав, не уяснишь! Правда, кое-что и в натуральном виде лоснится розовым жиром, тончайшими лепестками нарезаемое по указанию покупателя! И запах, запах, характерный для чужой еды, который она различает уже, преследует ее всюду — необъяснимый, приторно сладковатый: кокосового масла или специй, неизвестных ей. Или вовсе без запаха — стерильно-сливочная белизна, отвешенная в шуршащий пергамент для тети Жени! Натурального бы, с коровьим духом, молочка, и пить, не задумываясь, сколько это стоит…
В доме дяди Максима моют все, вплоть до потолка, и пылесосят кремовые полы. В кухне, не такой модерновой, как у брата Гаррика, но все же вполне оборудованной, на большом центральном столе сооружается но маньчжурским рецептам торт «Микадо» и австралийский «а-ля Павлов», сочиненный и поднесенный в честь приезда русского балета — нечто растекаемое, воздушное, в зеленой мякоти папайи на поверхности. А рядом, в саду, дозревает тоже тропический фрукт, на голом, похожем на пальму, стволе — грушевидный, размером с тыкву, крокодилового цвета («Как жаль, ты уедешь и не попробуешь!»). И солнце, солнце безжалостно сушит решетки из мелких досточек, так, что краска шелушится под рукою.
В доме Гаррика срочно вставляют зеркало в ванной комнате. И выстилается кирпичом дорожка — будут гости, австралийцы и родственники. И опять все расписано наперед по часам, получается — пасха, каким бы она ни была главным праздником, отнимает остаток дней ее в Австралии… Оглядеть бы последним взглядом океан. И посидеть на песке где-нибудь — попрощаться… Или просто с книжкой полежать на траве, под тем же деревом. Что за книги обнаружила она напоследок в компасе Наталии! Цветаева, Булгаков…
— В каком платье ты пойдешь к заутрене? Мы приготовили тебе длинное розовое, у нас так принято — к заутрене в длинных платьях!
Милые тетушки! Они помнили и любили ее еще в те времена, когда малышом годовалым она висела на руках у них смешным человечком и махала им вслед ладошкой в минуту отхода их поезда Харбин — Дайрен (чтобы потом, пароходом — в Австралию), и оттого сегодняшняя их нежность к ней и забота без интервала времени и разделенности. Правда, в глубине души она подозревает, что устали они порядком от ее «светской» жизни. Придут с визитом к пасхальному столу такие же старожилы из Вулгангабла, а тут — ее чемоданы недопакованные, вещи купленные и дареные, даже Юлькина шкура кенгуру проветривается на солнышке на перилах — перед дорогой! Никакого порядка в доме!
— Хочешь, я возьму еще дни на работе, — говорит Гаррик, — и свезу тебя в центр Австралии. Ты нигде больше не увидишь такого!
Как ни манит это ее — уникальная красная пустыня, расщепленный, прокаленный камень цвета драконьей крови (Королевский каньон), оранжевые дюны (па первом плане — верблюд), а главное — огромнейший в мире монолит, страшноватый в своей складчатой обтекаемости, словно освежеванная туша (ритуальный алтарь аборигенов), как ни сознает она, что это единственный ее шанс увидеть неповторенный в мире ландшафт — остывшее горнило мироздания, как ни готова она, вопреки дикой усталости рвануться и туда еще, чтобы увезти с собой Австралию в полном комплекте, не разумом даже, а внутренним ощущением она знает, что надо уезжать.
— Ладно, Гаррик, в следующий раз… — хотя отлично понимает, что следующего раза не будет…
Да еще странный конфликт с дядей Алексеем… Нечто непонятное ей произошло, пробежало промеж них — «расконтачило», как сказал бы ее Ребенок. Короче говоря, он прекратил с ней всякие родственные отношения. Выражалось это в том, что они с тетей Жени перестали приезжать к тетушкам в дни, когда она сидела дома, мягко, но было отменено приглашение к ним в дом на пасху, и в последний ее австралийский час в аэропорту будут налицо все родственники плюс Андрей, кроме дяди Алексея…
Она просто удивилась вначале, отчего это и что происходит? И выясняла у тетушек. Тетя Лида отмалчивалась. Тетя Валерия, с присущей ей прямотой, заявила:
— Зачем ему причинять себе тробл?
И опять-таки, она не поняла тогда.
Позднее, сопоставив дни и события, найдет точку отчуждения, и это вовсе изумит ее: настолько не совпадает с ее понятием родственных отношений!
Дело в том, что он взял на себя миссию снабдить ее обратным билетом, и в один из дней на страстной неделе они отправились втроем, с тетей Жени, в Сити, в компанию «Квонтас», где и был забронирован (как она считала) билет на самолет, еще перед отлетом из Москвы.
Бесшумно и сами но себе раздвинулись стеклянные двери. Мягкий голубой пол лег им под ноги, и в окружении красочных и глянцевых проспектов, с летящим, как язычок пламени, краспым кенгуру, они подошли к одной из нескольких похожих на кинозвезд девушек за компьютерами, что должны были подтвердить подлинность ее билета. Девушки были в одинаковых, фирменных цветов, элегантных пестреньких блузках, пластмассовый ярлычок на груди, где фамилия, фото и еще чте то опознавательное. Их девушка, тоненькая, изящно пошевелила длинными и прекрасными, как произведение искусства, пальцами по клавишам, что-то побежало там на экране зелеными светящимися строчками, и чере:; минуту, при переводе дяди Алексея, она узнала, что мест на тот рейс нет и билета у нее тоже — соответственно, а как там получилось в Москве, что ей записали это в пухлую, заграничную, похожую на чековую книжку Аэрофлота, они не знают.
Нужно было отойти в сторонку, сесть в мягкие кресла и ждать, пока та девушка выяснит, что сможет для них сделать на ближайшие рейсы компании (поскольку да билет уплачено, и все права на ее стороне).
Так и нужно было сделать, наверное, тихо отойти и ждать, так они и сделали, в общем-то… И тут именно она новела себя неправильно. Сидя рядом с дядей Алексеем на низком диванчике, она начала говорить и, по-видимому, громче, чем принято у них здесь, и к тому же на своем, не принятом здесь, русском языке, и с той горячностью возмущения, что совершенно естественна при подобных ситуациях у нас, там: как это так, да она же заказывала за два месяца заранее, и что за порядок?
Короче говоря, она забыла, что не у себя дома и что это — не родной Тюменский аэропорт, где билась она тщетно к стойке регистрации, сквозь одетые в дубленки, как в кольчуги, спины парней-нефтяников — летит очередная вахта, и билетом своим с командировочным удостоверением потрясала в протянутой руке, и самый громкий ее голос («У меня завтра совещание в горисполкоме!.») тонул, как жалкий писк, в слаженном могучем хоре этих мужиков, знающих себе цену при деле государственной значимости: Тюменьнефтегаз, трубопровод Уренгой — Ужгород. И когда, наконец, девушка с крылышками из жести на синем меховом пальто — стюардесса или диспетчер, сжалившись и с акробатической точностью, выхватила, ее билет через головы орущих парией и закричала ей, в свою очередь: «Быстрей на посадку!», и она побежала, вся мокрая и раскосматившаяся, с капюшоном, съехавшим на ухо, к тем заветным дверям, где подхватило ее потоком — шел рейс на Ханты-Мансийск, разве думала она, что не так вела себя?
А через. пару часов сидения в холодном и темноватом самолетике вдруг выплыл внизу из морозной мглы белый лебедь — Тобольский кремль на белом берегу Иртыша — обрывы и башни — как единое снежное чудо, и солнце, пунцовое на закате дня, как во времена последней битвы Ермака с Кучумом, нависло над всем этим, старожилом здешних мест, и над ней — на плоском оледенелом пятачке аэропорта, где приземлились они для нее одной, как оказалось! Для нее, вернее ради утверждения ее проекта, собирались назавтра запятые, безусловно, люди. Ей надо было лететь. Все правильно и естественно — в ее мире!
А здесь, получалось, все что-то не так она делала, не понимая того. И Сашка шипел на нее, как змей, в Сиднее, когда заходили они в абсолютно пустой, по ее понятию, автобус: «Скажи сорри! Ты задела эту даму!» Да никого она не задела, боже мой, она даже близко к ней не прикоснулась! Сашка замучил ее этим: «У нас так не принято», но при всех ее зарубежных промахах, в самом главном где-то они оставались друг для друга прежними. Или тут она тоже обманывала себя?
…Дядя Алексей и тетя Жени сидели рядом с ней и молчали. Он как-то странно пожевывал губами, она — с застывшей улыбкой, словно происходящее не имело к ней отношения.
Довольно скоро их пригласили к барьеру, к компьютеру, и все устроилось, не совсем прекрасно, но вполне терпимо, с остановкой на сутки в Сингапуре (вот для чего — посольство в Канберре и сингапурская виза), но с дядей Алексеем на этом международные отношения закончились.
Действительно, чего ради ему причинять себе беспокойство души, потому что, несомненно, он искренне страдал из-за нее в тех креслах респектабельней компании «Квонтас»! Во всяком случае, он сделал для нее все, что мог. И пусть дальше с ней занимается сестра Наталия! Возможно, в этой позиции утвердила его тетя Жени? Или сами тетушки?
И в пятницу на страстной неделе она едет в машине Наталии в горькой растерянности, и весь путь до университета твердит: «Как же так? В любом конфликте с «компанией» дядя Алексей — родная кровь, должен быть на ее стороне» (так она понимала). Потемки чужой психологии…
Впервые, за два месяца кружения, уже не смутным состоянием тягости, а вполне конкретно ощущает она желание перенестись, исчезнуть отсюда — домой, к устойчивости и определенности… А нужно собрать себя воедино, потому что едет она в Квинслендский университет на давно намеченную встречу — кафедра русского языка… И это — достаточно важное дело в глазах ее, как представителя своей страны, чтобы распылять себя на нечто семейное!
— Не стоит принимать близко к сердцу, — говорит Наталия. — Дядя Алексей такой человек, и мы его знаем. Я полагаю, тебе лучше подумать сейчас, о чем ты станешь говорить со студентами.
Собственно говоря, Наталия была тем первым человеком из родственников, кого увидела она в аэропорту, когда «боинг» тяжело сел на землю и в прохладный от кондиционеров салоп дохнуло сухим жаром Брисбена.
В зале аэропорта она, еще изолированная от встречающих, что цветной и неразличимой толпой мелькали на расстоянии за решетчатой дверью, подкатила свою тележку с чемоданами к стойке таможенного досмотра… И тут начались первые ее неприятности за границей!
Чиновник в серой сорочке с галстуком, чисто выбритый, чисто вымытыми руками выбирал из ее чемодана все многочисленные ложки и матрешки — сувениры в русском стиле, что везла она, и раскладывал на столе к изумлению прочих чиновников и свободно проходящих пассажиров. И она не поняла, какие претензии к ней у таможенной службы и к тем безобидным деревяшкам? И уже начала тихо впадать в отчаяние, что ее почему-то не пускают на эту гостеприимную землю. И тут, прорвав чиновничьи кордоны, к ней за решетку ворвалась Наталия.
Они никогда не виделись прежде, но это могла быть только она, не столько фамильным сходством черт, сколько той деловитой уверенностью в себе, что свойственна, пожалуй, женщинам работающим на всех материках, и что дается непроизвольно независимостью их от мужчины.
И все это подчеркивалось спортивностью низких туфель, сумкой на ремешке, холщовой отглаженностью юбки. Прямое крыло волос набок спадало на щеку — портрет сестры Наталии. Резкость и порыв, только лицо оставалось округлым, женственным, как бы защищенным модными темными очками. И этот контраст внешнего облика и лица и составлял, пожалуй, необъяснимый эффект обаяния…
Инцидент с таможней вскоре был прояснен: оказалось, им пришло в голову, что под видом матрешек она ввозит в их страну наркотики (действительно, очень удобно — в полом нутре!), тем более что прибыла она самолетом из Сингапура, который славятся этим черным делом.
Наталия твердила им что-то долго и убедительно, с применением слова «Moskow», и, наконец, они сдались, разрешив, из почтения к Москве, не вскрывать ее деревянную символику.
…Возникли уже, на подъезде, кварталы цветами ухоженных коттеджей (профессорского состава) и сплошные поля-стоянки машин (студенческого состава) всех марок в блеске стекла на солнце, ждущих хозяев с лекций.
И в виду массивной, как пилон, квадратной башни главного входа, где реет над парапетом государственный звездный флаг, а в шипе дверей выбита надпись-девиз: «GREAT IS TRUTH AND MIGHTY ABOVE ALL THINGS» — «Велика истина, и превыше всех вещей», как перевела Наталия, стали отходить от нее ненужные мелочи бытия и восстанавливаться тот внутренний климат души, что обычно сопутствовал в ней Делу.
Она была уже здесь с Наталией в те первые ее дни душевного растворения и радости, между поездкой на ананасные плантации и золотым побережьем Голд-Коста, в ослепительно яркий день, и три главных цвета остались составляющими в ее памяти: почти безоблачной синевы, густой зелени газонов и розовых, с сероватым отливом стен из местного туфа. И еще остались — атмосферой молодости. Потому, может быть, и свидание в Сиднее с такой лёгкостью перенесло ее в собственный ХПИ? Университет — как подготовка восприятия…
На плоских, отбеленных солнцем ступенях — движения лиц и одежд оливковой смуглости Индонезии и Океании, белокурости, с удлиненным овалом лица — потомков Британии, не говоря уже о всеевропейской смеси народов — дети «новых австралийцев», и русских в тем числе; пестрота тканей — от джинсовой жесткости и синевы до расписных жатых ситцев Таиланда и Сингапура; обнаженная хрупкость плеч и возмужалая стройность ног — игроков и пловцов спортивных команд университета; мягкая поступь кроссовок и деревянный стук сабо, сандалий на одном пальце, а иногда и босая девичья ступня с королевским величием нисходит из-под пестрого, в пол, сарафана. И в том же круглом внутреннем дворе университета, где ждала она условленного часа, на плотном стриженом ворсе травы, как на ковре, лежала, сидела, читала, занималась и просто спала вся эта молодость, непринужденно, цветастыми кучками на солнцепеке и в пятнистой тени отдельных развесистых и декоративно-круглых крон деревьев. Розовым строем шла вкруг двора аркада — резной, теплый на ощупь камень, над каждым пролетом глядит из степы голова — основоположники университета, и в каждой — нечто от Фауста: в докторской шапочке, в аскетичной сухости черт, в лукавой мудрости маски-изваяния…
В аудитории русского языка, куда привела ее Наталия, стеклянные кабинки, как соты, с аппаратурой и пульт управления — длинный профессорский стол. Наталия нажимает клавишу и задает вопрос в микрофон, и там, в звукозащищенной среде, девочка или мальчик отвечает серьезно старательно и на том абсолютном, но не натуральном русском, что порождают тексты иностранных разговорников: «Скажите, Петров сейчас у себя в комнате?» — «Нет, Петров ушел в столовую. В комнате Иванов…»
И все-таки это — русский язык! И он драгоценен здесь, за бог весть сколько километров от России, на оборотной стороне земли! И потому еще, что он — не в доме русского перебежчика, где ему положено быть и где доживает он, уродуясь все более с каждым поколением, а сам но себе, изучаемый с предельным уважением, которое доступно этим девочкам и мальчикам не нашего мира. Потому, что они выбрали его как специальность. «Приему именно?» — спросит она позднее некоторых из них. «Чтобы иметь возможность читать русскую литературу», «Чтобы работать в Компаниях, ведущих дела с Россией», «Потому, что просто меня интересует ваша страна»…
Не надо заблуждаться, что среди этих, теперешних таких милых и юных, старательно ломающих от рожденья сложившуюся жесткость губ на мягкость славянской артикуляции, не будет таких, что употребят эти знания во вред ее стране, — таков настоящий раздел мира, мы и они, к сожалению… Но будут и те, кто, при знании языка, сами смогут проникнуть за изгородь лжи и понять и взвесить, на чьей стороне правда… А это уже — много…
В.кабинке у студентки плакал ребенок, и та ничего не могла сделать с пим, и разрывалась между мукой материнства. и вопросами лектора, и отвечать не могла — сбивалась, и слезы впутывались в нелепые фразы про Петрова и Иванова. Наталия пошла и взяла у нее ребенка. И так и сидели они втроем у лекторского пульта, и это крохотное рыжеватенькое англо-австралийское существо, как бутон, выглядывающее из белых младенческих трикотажей, сразу замолкло и по-деловому таращилось голубой оловянностью глазок на пестрые кнопочки, па. двух незнакомок. И Наталия, задавая свои вопросы, одновременно нянчила его, и баюкала, с той исконно русской бабьей сноровкой, что удивительно было наблюдать в руках женщины, родившейся вдали от России, кроме того, не имевшей своих детей. Как же глубоко заложена в нас наша народность, проявляясь через поколения, та самая, что мудро подметил Лев Николаевич Толстой в своей «графинюшке» Наташе Ростовой…
Студентку-маму и студента-папу, абсолютно рыжего, до золотых крапинок, протянувшего длинные ноги по-домашнему на траве, они увидят с Наталией снова, после встречи, на покатом и ярко-зеленом склоне к озеру, в черте университетского городка. Папа с мамой дружелюбно покивают Наталии, малолетний «бутон» будет занят, сосредоточенно пытаясь встать на четвереньки, на свою отечественную траву, по которой предстояло ему ходить…
Как прошла встреча? Как и следовало, на международном уровне. Они собрались в комнате деканата, где шкафы но степам и расписания лекций, как во всех деканатах мира, только здесь на английском языке. Плотный, похожий жизнелюбием на Кола Брюньона, профессор, худые, научного вида очкарики-лекторы помоложе, отличающиеся от кадров нашего Академгородка только голыми загорелыми коленками. И десятка два этой молодости, тонкорукой и даже босоногой, в девичьем варианте, и с мальчишеским выражением самоуверенности выбранного пути — у сильной половины рода человеческого.
Стараясь укротить привычный темп речи и подбирая более простые слова, она говорила сама о своей Сибири, и Обском море, и городе науки в сосновом бору, все, что принято и что нужно говорить в таких случаях, и отвечала на их медленно и правильно сформулированные вопросы — о том же. И что было главным во всем этом для пик, по-видимому, — не всегда понятная, но все же живая русская речь. И то, о чем она говорила, для них — как вести с иной планеты. А для нее? Впервые за два месяца в Австралии она просто была сама собой. И могла говорить по-своему, без сноски: как это воспримут очередные хозяева дома — с их сложностью эмигрантских амбиций? Здесь была она человеком своей страны, и пока она говорила, никто не поднялся и не хлопнул дверью, как та дама в «Русском клубе» из газетки «Единение»!
Университет на зеленых холмах, в излучине реки Брисбен, зеленый городок-государство остывал от палящего дня в приглушенных тенях, в красноватом освещении заката. Краснотой насыщались, тепло излучали прогретые за день плиты аркад и колонны, как стволы дерев, бросали на траву косые полосы. И гул городка затихал, вернее смещался к тем зданиям общежитий и студенческим центрам, где книжные лавочки в пестроте суперобложек, и бюро путешествий с проспектами и картами. «Паши бушмены, — скажет Наталия про двух симпатичных девушек, гладко-русоволосых и румяных, одинаковых, как двойняшки. — В каникулы ходят пешком но лесам Австралии — у них здесь так…» А у нас не так разве — по местам боевой славы, по старым церквушкам Суздаля? С чего начинается Родина?
Наталия говорила о своих делах с женщиной из турцентра, а она стояла и смотрела на гирлянды всего для спорта. Над прилавком — алая манка, на спине смешная картинка — парень с девушкой верхом на рогатом буйволе и текст: нечто па тему сессии — университетский юмор… Привезти такую Димке, тот будет доволен, дурачок — «фирма»!
И внезапным пронзением сквозь всю эту прелесть мощенных плитами двориков, плакучесть прозрачных ивовых веток, вечернюю мирность ландшафтов, почти деревенских, под тающим небом у вод, в дыхании стриженых трав увидится ей не очень изысканный сквер против НЭТИ. Только что выметен на субботнике мусор зимы, но живописность бумажек застряла еще кое-где в густоте голых кустов, подсохшая к маю земля пуста, во вот-вот проклюнется первым пушком весны. На лучевых дорожках, вдоль литых чугунных оград, сидят на монументальных скамейках девчонки во всей современной элегантности, красоте и рослости сибирячек, ждут, влюбляются, утопают в книжках, а мимо идет, по-журавлиному переступая мокрые выбоины асфальта, ее Ребенок, голову задрал высоко, не от зазнайства, как может показаться — от предельной стеснительности, и не видит никого — не пришло еще время любить, быть может? Или, наоборот, своим переполнен, что она знает о нем? А солнце мягким теплом заливает фасад, светлый от силикатного кирпича…
Так больно ей станет вдруг от того видения, до перехвата дыхания…
— Что с тобой? — спросит ее Наталия, уже в машине. — Ты просто устала, я понимаю тебя. На пасхальной неделе я свезу тебя на Красные скалы. Там — тихо. Ты полежишь, и мне нужно поработать.
Наталия, вот кто останется с ней рядом на финишной прямой пробега по Австралии. За две недели до истечения срока ее загранвизы.
Бам! Не очень решительно ударил в темноте колокол на Серафимовской церкви. Заутреня.
Тетушки в церковь не идут, это тяжело им по возрасту. Они накроют стол на двоих и будут разговляться, отвечая на телефонные звонки: «Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!»
Наталия заедет за лей в половине двенадцатого, и надо успеть отдохнуть и переодеться во все пасхальное. От дли иного платья удалось отказаться. Она идет к заутрене в. том палевом, прозрачном, от «Малуфа», что покупали тетушки. И они на этом успокоились.
Звонил с Голд-Коста Андрей. Он был занят — красил свои бизнесовые «флэты», и приедет прямо к заутрене, и там они встретятся, а потом, все вместе — к столу, к дяде Максиму…
…Бам! Через дорогу, по ту сторону магистрали, ударило на соборе, в провале ночного города. Странно не вяжется этот звук — голос российских, колоколе к с влажным хлопаньем листьев фикуса в саду у тетушек, крупных, и мясистых, как ладони, и со всей этой ночью, по-тропически черной и жаркой, как. остывающая духовка, в сладковатых запахах гудрона, бензина и эвкалипта.
Как не похожа эта на те пасхальные ночи в Северном полушарии, что были в начале ее жизни безотносительно к «вере в бога» — просто праздник семьи и весны. Совсем давно, когда после страстной недели наконец-то засветится дом крахмальным полотном и красной лампадкой в комнате бабушки и, глядя на зеркально-глубокое от темноты окно, только и ждешь этого первого удара на колокольне, чтобы идти подле взрослых, осторожно ступая башмачком по невидимой и корявой улице Желез подорожной, и белый кружевной, шарф — на маме, в потемках, как нерастаявший снег… Зябкая свежесть апрельской, ночи проникает в тебя, и оттого ли легкость особая в походке и дыхании, или так уж прекрасна невыразимо эта ночь, высокой синевой в. чистых холодноватых звездах!
Позднее, в юности, когда она была уже идейной и борющейся со всей этой религией и, конечно же, не могла идти по ночному городу к заутрене, ходила одна мама, сама по себе оставалась апрельская ночь — черный рисунок голых ветвей на более бледном небе, приближенность дальних звуков — стук поездов и лай собак и щемящая душу открытость весенней земли, кое-где тронутой поздним ледком на лужах… Такой была та, последняя, в пятьдесят четвертом, когда объявили отъезд на целину…
И в том городе в Сибири, откуда приехала она сейчас и где, вовсе, оторвавшись от основ христианства, пасха, к удивлению ее, все еще продолжала жить в народе наряду с масленицей, в основном, в приметах вещей — вербочками на базаре или массовой закупкой яиц, пасхальная ночь для нее уже не выделялась чем-либо от прочих, равно прекрасных, апрельских, со стылым холодком после зимы, высвеченных чистыми звездами и чистыми — к Маю, окнами высотных домов квартала, за которыми идет еще бессонный телевизионный хоккей. Только вдруг давала о себе знать сонмом старушек определенной категории, на ночь глядя забивших общественный транспорт: «Надо же, завтра — пасха!».
…Пять замшелых ступенек вниз — в проулок, слепой после света гостиной тетушек. Семь минут в душном замкнутом пространстве машины — качание на спуске и повороте. И вот оно — зрелище русской церкви в Австралии — кадр, врезанный в панораму спящих домиков. Светящийся кубик во мраке, в косых переплетах окон под старину, крест в лампочках над круглым шатром кровли. А вокруг — движение медленное машин, фарами ощупывающих почву, заезжающих на стоянку, целое стойбище машин на пустыре за церковью! И люди — дамы в длинных платьях, в накидках из меха (хоть и жаркая ночь, но когда же надеть свои меха, как не к заутрене!), в блеске драгоценного чего-то в темноте — не разглядеть, и мужчины с белой контрастностью сорочек стоят, говорят, внутрь не торопятся, выстаиваются неспешно в кольце но внешнему периметру церкви — ждут крестного хода. А пока там что-то ноют, и свечки горят внутри, здесь, под плотной чернотой неба, течет речь, как на светском рауте, — пополам русская и английская. И тут же — вкраплением в пожилых — молодежь, во всей своей сезонной обнаженности: шорты — сарафаны, русская девочка — зять австралиец, стоит, пожевывая челюстями, с независимым лицом, держит жену за руку. «Мои дети, — знакомит с ними дама-родственница. — Он ничего не понимает, но не оставишь же одного дома, берем с собой к заутрене!» И еще пара, в том помещении за церковью, где святят куличи, где яркий свет, длинные столы и огонечки свеч, вставленных в глазированные горбушки, сидит на скамье у стены, обнявшись, он неуловимым чем-то — из русской семьи, она — иностранка, но почему-то — в русском стиле, сапожки из белой кожи, рубашка вышитая — экзотика, тоже жуют и разглядывают процесс свячения, словно они в кинотеатре — надо же где-то переждать, пока родители заняты своими традициями, а туч — красиво, светло!
А церковь внутри горяча от золота и свечей — колеблется струями воздух, синь ладана, горьковатая гарь лампад и цветы, цветы — терпкий воздух увядания. Крестный ход прошел в темпе. И песнопение «Пасха, господня пасха», — знакомое, однако же темп ускоренный, все торопятся — по машинам и домам, выходят на крыльцо, христосуются. Она стоит у дверной притолоки, свечку держит в руке, как все прочие, как сестра Наталия, — что поделаешь! Гаррик здесь, и Лиза, такая красивая — глаз не оторвать, и Антоша — нарядный, ко всему этому приученный мальчик. И еще лица — неузнаваемые, вдруг узнаваемые но отдельным приметам памяти. Дьякон, огромный, краснолицый и горластый, носится в развевающихся. облачениях с кадилом и прочими атрибутами службы и возглашает: «Христос воскрес!»
— Здесь Ильюша Фролов. Если хочешь, я позову его поговорить с тобой, — подошел Гаррик. — У тебя больше не будет случая…
Да, конечно… Что может быть лучшим завершением той давней влюбленности на политсеминаре, как не эта, качающаяся от огня, церковь в пасхальном убранстве?
Она. увидела его издали, он стоял справа у аналоя, где все мужчины, рядом с сыном и, пожалуй, но этому сыну она нашла его в церковной густоте. Не то чтобы сын так полно повторял отца в юности, как бывает. Во всем облике, незнакомом ей, видимо, больше от матери — мягкости черт и той молочной нежности кожи, что достигается хорошим питанием в детстве и что никогда не было свойственно отцу. Нет, просто возвышенный над молящимися затылок был того единственного огненного тона, что не мог принадлежать никому, кроме Фролова, не только во всей Австралии, но и во всем Южном полушарии! И пусть не маячило над ним того отчаянного вихра, в стиле Павки Корчагина, что любила она, а вполне приглаженная, почти девичья прическа из волн, как на Верином Димочке — чуть длинноватые, по современной моде, волосы, она не могла ошибиться и, значит, льюшку нужно искать где-то рядом! Oft и был рядом, пониже сына, со своей приглушенной зрелостью, рыжиной, но с той, даже со спины угадываемой спружиненной статью, что всегда отличала его.
Гаррик, деликатно раздвигая толпу, подошел к нему сбоку и стал что-то говорить, наклонясь к уху, как это положено в церкви. Илья выслушал его, не повернув головы, ответил, и Гаррик, тем же манером, прошел через церковь к ней.
— Он сказал: сейчас кончится молитва, и он выйдет к тебе на воздух.
«Пока не кончится молитва»… И это таким странным показалось ей в нем, в нестаром в общем-то мужчине, и так не вязалось со взрослым реалистическим понятием мира, к которому привыкла она и считала само собой разумеющимся для всех людей мыслящих (за исключением пасхальных старушек), что просто стояла у своей притолоки и смотрела на него, молящегося, через церковь, но уже не с чувством радостного узнавания некогда любимого, а скорее — недоумения. Так бывает — в знакомом тебе человеке открывается вдруг нечто неведомое, и не сразу решишь, как отнестись к этому.
Молитва шла долго, и у нее было на это время — смотреть на него. И сопоставлять. Потому что явно на два отдельных образа делился этот человек: тот, что сейчас, молящийся, моложавый и сухощаво-элегантный, в хорошем костюме кофейного цвета, и тот, в рыжих трофейных сапогах, парень с политсеминара, в идейно-политической сути которого она не могла усомниться.
…Была пора зачетов перед выпуском с семинара в мокро-дождевом октябре, когда опавшие листья лежат еще прилипшими к булыжникам мостовой на улице Китайской и на крышах харбинских зданий, строенных еще во времена прокладки КВЖД. И что-то она подзатянула с занятиями в том октябре, потому что очень уж напряженным выдался месяц со всеми праздниками — основания КНР, Днем комсомола и подготовкой к Ноябрю, когда, не считая работы на станции, ей надо было ходить на все собрания и вечера дружбы с китайской молодежью, потому что затем она писала о них корреспонденции в журнал «Советская молодежь» и газету «Русское слово». И Илюшка ходил на эти вечера, как представитель передового прогрессивно мыслящего Союза молодежи.
На одном таком вечере в Советском клубе, когда к Половине одиннадцатого ночи она уже до потери сознания натанцевалась с китайскими товарищами под пение «Мэю гунчаньдан», она вышла, наконец, на крыльцо, липкое от этих приставших листьев, в прохладную ночь, и завтрашний зачет на семинаре, к которому она явно не готова, придвинулся к ней вплотную. Ей не хотелось идти, как обычно, с песнями и в компании ребят, и она пошла одна к трамваю на конечную у Благовещенской церкви. Но трамвай уже не ходил, колея была пуста вплоть до конца улицы Новогородней, и она пошла со стесненным сердцем по этой трамвайной колее, в темноте и дождевом блеске, мимо решетки городского сада, стесненным потому, что завтра ей не сдать, и значит, все зря — занятия двух лет, и позорный факт отчисления ее с политсеминара маячил вполне явственно… И тут, у решетки городского сада, ее догнали быстрые шаги Илюшки.
Как он прорабатывал ее за паникерство — вплоть до виадука через станцию Харбин-Главный и дальше, до поворота на Железнодорожную! «Не дури, ты все успеешь, у тебя впереди целая ночь, это восемь часов до восьми утра, час на завтрак и дорогу в Комитет! Ты же умница и все сдашь, только пройди бегло по книге! Нельзя не сдать! Это — главное!»
Как она сидела ту ночь, как проклятая, обложившись конспектами и первоисточниками! До жжения в глазах, до рассветного озноба в комнате, где незаклеенное еще на зиму окно приоткрыто было в сад, чтобы не заснуть, и коврик у кровати усыпан бумагой, как палыми листьями! Из сада пахло осенью — мокрым листом, бессонно светились прожектора напротив, в маневровом парке, и, странно, такая ясность мысли была у нее в ту ночь, и такое нелогичное, вроде бы беспричинное ощущение взлета!
А потом он втолкнул ее легонько за обитую кожей дверь кабинета второго секретаря, где принимался зачет, и сказал: «Ни пуха!» И конечно же она сдала, и все кончилось, как в кинофильме, победой воли над слабостью, и она обязана была этим Илюшке. Может быть, это было больше — общность идеологии, чем смутное чувство влюбленности?
Он просто забыл про нее, когда сдал сам и с париями отправился обмывать окончание в харчевку «Друг студенчества» на улице Стрелковой. Больше они не встречались — семинар закопчен. Когда начался выезд на целину, она уверена была, что в одном из плотных конвертов с анкетами отъезжающих отбыла в генконсульство и его, Илюшки Фролова. Рыжая моя любовь!
…Пасхальная служба шла своим чередом. Потушив свечку, от которой осталась на пальцах медовая липкость воска и дымный запах нагара, она кивнула Наталии и стала протискиваться на крыльцо, освещенное и запруженное народом, вниз, на грань света и темноты, где все еще существовало, двигалось и шелестело поцелуями и словами людское кольцо: «Христос воскресе»! И стала ждать Илюшку. Странное состояние нарастало к ней — усталости и пустоты в этой чужой и неузнающей ее толпе, словно потеряла она нечто заветное.
Может ли человек так полно изменить себе? Внутренним чутьем она понимала, что не может… Тогда какое же из двух его состояний истинное? И что произошло с ним за тот период с октября пятьдесят второго года по апрель пятьдесят четвертого, когда ясно распределилось: кто — в Австралию, кто — на Целину? Она не знала, но почти уверена была, что ничего такого — душевного стресса, изменившего все вдруг в понимании мира, не могло произойти. Он работал, как большинство молодых инженеров, в китайской «Сахарной компании» на монтаже заводов, мелькал по командировкам, и едва не пересеклись пути их — на Дзючжаньском сахарном, где работал ее отец и куда она приезжала в отпуск. И как /кили эти молодые инженеры, она знала и видела: все было — деньги и престиж специалистов в новом строительстве Китая… Что-то в интимной сфере семьи, что повернуло его кардинально? Вернее всего, она просто но знала глубинного в нем, сплела себе образ рыжего парня с политсеминара, высокий достаточно, чтобы заполнить брешь души — женское уже желание любить, то, что не могла дать бесплотная дружба с Юркой…
Она подумала с содроганием: а что было бы, если бы на ее девчоночью влюбленность он ответил той же категорией чувств? Если бы повлекло его к пей, со всей его рыжей неукротимостью, и все осуществилось — свадьба или преддверие свадьбы (как было у Юльки с Малышевым) и вдруг, как гром небесный, во время последней харбинской заутрени, грянувшая Целина? Что тогда? Разлом но живому стволу, боль и ужас, потому что она не могла не ехать, иначе это была бы — не она. Пусть тоже плохо и одиноко было ей в том эшелоне, следовавшем от Отпора на Кулунду, мимо станций сибирских, где разбегались они на перронах с чайниками кипятка по своим разным вагонам, с Юркой, которого она сама потеряла, как она думала, но то было другое — оба они ехали на родину, не изменив ничему главному в себе… И еще она подумала: надо быть благодарной судьбе, что уберегла ее от такого, что ничего не было у них с Илюшкой — ни свадьбы, ни преддверия свадьбы.
Он спускался по светлому крыльцу к ней, как с авансцены, на ходу застегивая пуговичку пиджака, распахнутого вольно, по случаю жары в церкви. От обманного освещения этой ночи и этих свечей или благодаря своей худощавой стати он показался ей вовсе не изменившимся, и это было страшно немножко, и что-то екнуло в ней там, где только что гулял ветер пустоты.
— Привет! — Руку потряс с прежней деловитой энергией, и глаза улыбались, прежнего мальчишеского озорства не лишенные. — А ты — ол райт! — сказал он, оглядев ее шутливо оценивающим по-мужски взглядом. — Как жизнь? Моего сына видела? А кто у тебя? Тоже?
И пошло: о детях, и кто кем стал из ребят — уже программный текст разговоров ее в Австралии. Ничего более, если учесть, как все-таки влюбилась она в него когда-то.
— Ты еще долго будешь в Брисбене? Я поговорю с женой, сообразим для тебя «парти».[22] Неделя? Ну, что делать! Привет там всем, кого видишь… — Еще одна сюжетная линия пришла к своему закономерному концу. — Пока!
— Пока… — без сожаления.
Наталия подходила к пей, и Гаррик с Антошкой: пора ехать разговляться. И еще — у машины ее ждет Андрей… Не слишком ли много сюжетных наслоений?!
Наталия, как слепую, вела ее за руку в кромешной тьме к машине, которую она сама не нашла бы ни при каких условиях. И недавнее это свидание все еще не отпускало ее из плена. Почти сливаясь с темнотой, рядом с маленькой светлой Натальиной стояла длинная синяя машина Андрея, и он сам, опершись на капот — только белый пластрон парадной сорочки высвечивал темноту да седой зачес над широким мужицким лбом: «С праздником! Или для тебя это теперь не праздник?»
Переулки Брисбена мертвы, без огней — час поздний, скоро утро, только горбатый контур крыш на небе, розоватом от дальнего зарева Сити. Качание в машине на радиусах разворотов, как в лодке, с борта на борт. Душноватый, знакомый уже специфически машинный воздух, от которого голову кружит и глаза смыкаются, как при кислородном голодании. Одно желание у нее — прислониться затылком к массивной, обтянутой кожей спинке сиденья и заснуть. И даже к плечу Андрея — рядом. Ничего ей не надо больше — усталость, когда сон граничит с обмороком. Говорят, это признак совместимости, когда можно вот так чувствовать себя подле человека — легко, как с самим собой. Может быть, может быть… Или, наоборот — равнодушия?
— Не томи себя, засни немного, пока мы едем, — говорит он. — Замотали они тебя… (Они — это «инженеры и жены инженеров» в Сиднее, это родные, все вместе взятые.)
Может быть… Замоталась она, и правда, в эту неделю предпасхальную и еще раньше, и еще раньше…
Скрип тормозов и скрип песка-гравия на въезде к дому дяди Максима, окна — квадраты света в ночи, стол праздничный, как некогда у бабушки, на улице Железнодорожной: столбы куличей под крахмально-сахарными салфетками, яйца крашеные, как цыплята, в живой травке проросшего овса (или у них тут иная трава?), а в вазе — не те гиацинты, пасхальные, что в Северном полушарии, а единственно австралийский, на жар-птицу похожий, летящий цветок — клюв зеленый, перья красные. Тепло семьи за ночным столом, за белизной скатерти, в матовой светлости чистых стен (открытки поздравительные с английским текстом приколоты гирляндой к шторе из нейлона), дядя Максим в торжественном черном галстуке: «Ты же скоро уедешь! Ты — моя красавица…» И Андрей, принятый в круг семьи безмолвно. Или они сообща допускали для нее вариант — остаться? Действительно, останься она здесь, и приедут родители, и все будут в сборе — что еще нужно для семьи? Тетя Валерия так и высказала ей сплеча на днях: «Константин мог быть здесь, если бы ты не увезла его с собой в Россию!..»
— Может быть, выйдем в сад, — говорит Андрей, — пока готовят стол к чаю?
Боже мой! Она с трудом стоит на ногах! А, видимо, что-то придется сказать ему, а она все еще не знает — что сказать. Вернее, как сказать то, что нужно? Потому, что не так это ясно и категорично: да или нет… И нужны силы и собранность духа, чтобы провести этот разговор. Не сейчас!
Наталия спасает ее. Сестра, что чувствует настрой души ее, как свой собственный.
— Пойдем, я постелю тебе в своей комнате.
Спять туфли, снять платье и упасть, почти ничком, на кушетку под окном в сад, под длинными полками, на которых Пастернак, Цветаева, Булгаков. И нет Солженицына.
Ей уже безразлично, что там, в рассветной столовой, без нее пьют чай со знаменитым тортом «а-ля Наилов», что Андрей, покурив на пороге светлеющего сада, уйдет спать в комнату для гостей с нерешенным и неотвеченным за душой. Пасхальная ночь кончается, наконец-то!
А назавтра будет вечер (прием) в доме Гаррика, о котором стоит сказать здесь, чтобы собственно пасха в Южном полушарии ушла наконец-то из этой книги, предоставив место другому, главному, что нужно сказать еще напоследок — о достоянии душ человеческих.
Пасхальный прием для друзей-архитекторов в доме брата, что так похож на нее лицом — родная кровь, и которого зовут дома и в своем кругу Гарриком, хотя по существу он — Григорий. Того самого «международного» брата, что на своем сереньком «ситроене» с загородкой багажника на крыше и с Антошкой, болтающимся на заднем сиденье в подвесной колыбели, проехали насквозь Европу, специализировался в Гренобле, фотографировал фасады Рима, в то время, как Антошка гонялся за голубями на всемирно известных площадях, в Москве стоял в сожалении перед сносимыми домиками Замоскворечья: «Какая уникальность! Неужели не жалко ломать это? Если бы я мог увезти с собой такой домик со ставнями?» (Домика со ставнями в Австралию увезти ему не удалось — по техническим причинам.) Гаррик, что прекрасно знал музыку, изучал, помимо университета, социологию и мог говорить с мягким юмором об интереснейших вещах! Только не с ней, к сожалению, потому что никакого времени на разговоры не оставалось — еда, машина, дела семейные…
Дом Гаррика, элегантный, под старину, где что-то — своими руками, и многое — от Лизы, хозяйки рачительной и знающей толк в красивых вещах, нравился ей. И вечер в их доме, со знакомым уже ритуалом — кусочками льда в золотистых бокалах: «Что будем пить?» — непринужденная небрежность поз в креслах, и рассуждения, стоя с тем же бокалом в руке против собеседника, где-нибудь в нише окна с парчовой подушкой на подоконнике — непонятного назначения, у горки с причудливым хрусталем, на белом ковре, на полу полированном, так что видны все сучочки дерева, ожидался приятным и необременительным. Таким он и был на деле, если не считать одного господина, весьма неприятного, в колоде гостей…
Мужчина — инженер, не так давно покинувший Советский Союз. Не в войну, как та подсушенная солнцем и старостью компания в гольф-клубе, а где-то в близкие годы — «обрел свободу» и теперь работал в одной фирме с Гарриком.
Плотный, с устойчивым уже местным загаром, что за зиму не сходит, словно въедаясь в кожу, и прочно вписавшийся в местные шорты, словно всю жизнь носил эту вольную одежду, был он говорлив и суетлив до утомления. Словно скрытый мотор работал в нем не переставая, словно что-то пытался он доказать себе и окружающим. И как бы не замечая шутливой подначки Гаррика, всерьез бросался в бой: что-то на тему выборов я кандидатов от партии — с горячностью, словно для него всегда это было делом жизненной важности!
И читал стихи, не сам, а при помощи черненького аппарата, вроде того, что подслушал се и записал на Мельбурнской дороге — о таинственной зелени буша, о крокодиловых зарослях. Надо же: душа, влюбленная в буйство природы! И к ней обращался через стол, как к союзнице — в поэзии и во всем прочем, как бы само собой разумеющемся, только он уже совершил свой репштельпый шаг, а она еще на подходе или не решается!
Сквозь крайнюю степень усталости подумалось ей: чего это ради он ведет себя так с ней? Или у них это очередной трюк из серии провокаций? Видала она уже такое — от девочки из детства, на Мельбурнской дороге — не удивишь! И хотя она была в доме родного и милого брата Гаррика, где, вроде бы, нечего ей опасаться, черный аппаратик, читающий стихи, напоминал ей кое о чем, и она предпочитала сидеть и помалкивать, с улыбкой Джоконды. Человек этот уже не вызывал в ней ничего — ни любопытства, ни гнева, просто ощущение ненужности его для себя. Только скользнула еще обида за Гаррика — зачем ему допускать такое в своем доме? Или не дано ему понимать этого, при всем его международном наборе архитекторов?
И как только удалось ей встать из-за стола, чтобы не показаться неучтивой гостям и хозяевам, она вышла из светлой столовой в сад, полный неясных ночных шорохов. Села на траву у корней большого дерева, и складчатое платье натянула на ноги, чтобы разные там австралийские мошки не кололи кожу иголками… Мошки умудрялись проникать под подол и промеж переплетов сандалий, пальцы мигом распухали и бешено чесались, но она все же предпочитала сидеть здесь, спиной прислонившись к толстому корявому стволу, чем возвращаться к яркой стеклянной двери, за которой двигались гости и сливались в гул голоса. В воздухе сада тоже двигалось и мерцало нечто светящееся, как пыль, — те же мошки или еще что-либо австралийское?
И тут, в темноту эту — полную звучаний неведомых ей сверчков, сухого касания листьев и запахов, терпких, пряных, камфарных запахов сада Южного полушария, вышел к ней молодой человек из друзей Гаррика, как она поняла по тем односложным репликам, что обменивались они в течение вечера о делах, попятных, видимо, обоим с полуслова. Пе настолько уже молодой, просто младше ее, из поколения, детьми вывезенного в Австралию.
Подошел к ней человек, которого она не знала, но его отец работал вместе с ее отцом в Харбине и видел ее в церкви и узнал, хотя помнил еще девочкой.
Он сообщил это все вперемешку с обычными вопросами для отъезжающих: когда ваш рейс, как вам понравилась Австралия? И еще:.
— Отец видел вас вчера у заутрени. Знаете, что он мне сказал там? Посмотри на эту женщину. Я знаю, о чем она сейчас думает. О заутрене в пятьдесят четвертом, когда был объявлен отъезд на целину. Скажите, он угадал?
Что она могла сказать ему, если быть честной? Стоя в той, золотом насыщенной, духоте, уж прямо так о той заутрене она не думала, она думала об Илюше Фролове — как могло получиться, каким он стал, и что же такое она могла проглядеть в нем в их молодые, горящие годы? По, несомненно и подсознательно, та заутреня пребывала в пей, не сама по себе, потому что она не была там и не видела, а перелом, что сопутствовал заутрене топ — камень поворотный при дороге: вы — направо, мы — палево, и что органично связано было с темой Фролова.
…Ночь была синяя и, как всегда на пасху, — свежая… К заутрене она, конечно, не пошла, пошла одна мама. Она стояла в столовой у стола и гладила парадные скатерти (жди завтра гостей — при всем идейном настрое, никто из ребят не откажется от куличей и прочего, пасхального). Она гладила и на душе было странное и вроде бы беспричинное состояние угнетенности и пустоты, как предчувствие перемен, хотя она и не верила во все это, как человек прогрессивно мыслящий.
В синеве по городу бухали пасхальные колокола: «Вам!» — на Алексеевской церкви. Отвечал колокол с Пристани и в Новом городе — с кафедрального собора. И то ли эта набатная медь, то ли собственное — окончательная уже потеря Юрки — угнетали ее…
И когда вдруг неожиданно, раньше времени пришла мама, села против нее к столу и руки уронила и заплакала, она ничего не поняла еще.
— Ты поедешь, теперь ты непременно поедешь! — говорила мама в отчаянии от крушения чего-то своего, взрослого, до чего ей давно не было дела в эгоизме дел юности — дружбы и любви.
Оказалось, в самый торжественный момент вместо «Христос воскресе!» отец Семен остановил службу, на амвон взобрался маленький, деловитый председатель местного отделения общества граждан СССР Пехтеров и объявил: всем желающим разрешен выезд на целину» Запись — срочно, до двадцать шестого апреля!
Как же не помнить ей ту пасху, последнюю в истории города, завершающий штрих всех долгих лет восточной эмиграции! Потому, что после нее уже практически не существовало русского Харбина, был Харбин отъезжающий, на части раскалывающийся, ликующий и враждующий, плачущий на прощаниях. И без чувств падающий на перронах, как ее мама. Только она этого не знала и не видела. Она висела на подножке отходящего вагона, вся сияя белой спортивной блузкой, и пела:
«До свиданья, мама, не горюй, На прощанье сына поцелуй!..»Через сутки будет граница — взлет души, испытать который довелось не каждому…
А для них, для тех, кто уже уехал сюда (документы в кармане, только ДОБ не дает выезда), для них та пасха была как последняя дверца в стене — остановиться, повернуть, может быть? Еще не поздно.
Потому, верно, посторонний ей пожилой человек вспомнил ту пасху, увидев ее на заутрене, — о себе вспомнил, как могло быть и как не стало.
Теперь сын его, сидя с ней рядом на корнях большого дерева, говорил ей то, что, наверное, не мог сказать никому из своих близких, здешних: «Мы теряем себя в наших детях, У пас нет продолжения. Только сегодня — есть, спать, одеваться. Еще одна поездка на Гавайи. Еще одни дом — как мало оказывается нужно для результата! И это наша беда! Хотя вам просто не попять этого!..»
Гаррик вышел с огоньком сигареты на изумрудно-освещенную лужайку и стал искать их — звать в дом. Стол к чаю накрыт. Лиза изготовила три сорта сырцой пасхи — заварную, топленую, шоколадную.
2
— Давай, я украду тебя, дня на два, на Голд-Кост, — сказал Андрей. — От всех родственников. Напоследок искупаться в океане. Хочешь?
Еще бы она не хотела! А как же сам Андрей? Человек, который ждет ее слова. Или у же не ждет, догадавшись по умолчаниям, что не может она ответить категорично «да»? Или считает, что им просто не удалось еще поговорить в этой пасхальной карусели? И оттого — приглашение на Голд-Кост: «Давай, я украду тебя…»
Положа руку на сердце, если не океан, великий и всепоглощающий, оставлять который больше всего жаль ей на этом полушарии, если — Андрей? Хотелось бы ей просто провести с ним день, безотносительно принятого решения? «Я бы сказала — да!», как непривычно и, видимо, на английский манер, строит фразу сестра Наталия. Потому что во всей этой сутолоке встреч, ровное как-то, спокойное тепло идет к ней от Андрея — прислониться и помолчать… Пли потому, что это тоже — мальчик с улицы Железнодорожной?
Как же могло получиться, что на конец жизни, на пятидесятом году, она оказалось перед выбором женской своей судьбы? Или все предыдущее было крушением, если посторонний в общем-то человек, о котором она не знала и не помнила четверть века, одним разговором привел ее если не в смятение, то к раздумьям, во всяком случае?
Кто, кроме нее самой, повинен в том, что все свои женские годы она летала, словно на вершок от земли, на свет далекой звезды, принимая за действительность наедаемое, не различая того, кто мог стать живой реальностью?.
Может Сыть, те книги, что читала она с отрочества, взахлеб, те стихи: «Я — немного романтик, я упрямо мечтала, чтоб была наша жизнь, словно трудный полет, чтоб все время — дороги, чтоб все время — вокзалы, чтоб работы — невпроворот…»
Так и сделала она себе жизнь — по тому стиху, как оказалось в итоге: дороги-вокзалы и вечный поиск одного-единственного человека на земле!
И как идеально вписывалась в теорию «дорог и вокзалов» странная их и смешная чуточку полудружба-полулюбовь с Юркой, когда все вместе — дела и мысли, золотой значок члена Организации на одинаковых черных тужурках, стук колес составов по широкой маньчжурской колее, развозящих на практику — восстановление разрушенных гоминдановцами мостов на Сунгари Второй, портовые сооружения в Ганьчинцзы… И все для того, чтобы потом, когда-то, на Родине…
Одного только, видимо, не было в том придуманном родстве душ — подлинности, глубины чувств, извечного начала жизни на земле! Оттого, наверное, и взорвалось все и завертелось однажды. У Юрки — первой мужской страстью к женщине, воплотившей в себе извечно прекрасное — к Ирине; у нее — неосознанным толчком: рыжий затылок Илюшки, локоть рядом на столе, на лекциях, носок рыжего сапога, взметнувший ворох сухих листьев. И опять-таки — одни внешние признаки облика, без понимания сути человеческой. (Вот она как обернулась — суть, вчера на заутрене!)
А совсем рядом, все те годы был Сашка, добрый друг, верная душа, что поцеловать ее хотел у калитки, но она не позволила, потому что какой же из Сашки — единственный человек на земле? Просто мальчик с улицы Железнодорожной! Не говоря уже о другом соседе справа, что стоял за штакетником, в не снятом после смены синем замасленном кителе железнодорожного образца. А она мимо летела, мимо, в белых спортивных тапочках и носочках! А может быть, стоило оглянуться, тогда еще?
А потом, в целинную осень, когда лежала она ничком на скошенной куче соломы за бригадным станом, сыростью тянуло от ночного околка, и пыталась задушить в себе рыдания — не потому, что таким уж внезапным ударом была для нее Юркина свадьба, а о собственном своем одиночество: ни одного близкого человека не было тог-да подле нее, и даже на расстоянии, на тон огромной Родине, куда она рвалась, стремилась и приехала. И тогда он подошел к ней, не в тот вечер, а чуть позже, но не в этом дело — человек большой и щедрый по-настоящему — Сергей Усольцев. И она не отказалась от него, в страхе и беспомощности, хотя с самого начала знала, что ото — не ее человек на земле! Или тоже не сумела попять и разглядеть? Или ложью была вся теория эта — о единственном? Или не тот смысл в ней, что понимала она? Не уберегла. Не удержала? Не посчитала нужным! Не смогла? И все списала за счет различия корней: сибиряк из села Довольное — и она — странная птица из Китая. «Что тебе, русских было мало?» — слышала она, как сказала его мать — старая крестьянка, когда он привез погостить ее домой, после свадьбы. И эта случайно услышанная фраза из-за цветного полога в горнице, где ночевали они (она проснулась, поутру в потемках, а он, видимо, встал раньше и говорил с матерью за просветом двери), — ударила ее и внушила понятие розни, и потом стала как бы объяснением и оправданием того, что произошло.
Возможно и так: не мог, не хотел принимать в ней осколков своего, харбинского, от детства, за что держалась она поначалу, еще не приобретя нового (если б она знала, что это уйдет в небытие — Харбин, и вспоминаться не будет!), но в те первые годы еще сидело в ней отдельными словами и понятиями. Он шутил над этим, беззлобно, но обидно, зло по-мужицки, пресекал, потому что она — жена его и должна быть такой же, по образу и подобию. А она не могла. Или просто не любила? И в этом все — неумение, нежелание? (Позже она поймет — что это значит, любить человека, принимать его полностью, со всем миром души, как свое продолжение. Это придет и останется в ней, как опыт чувств, как прозрение.) По тогда, вначале, ничего этого не было свойственно ей в самолюбивой женской слепоте! Не мудрено — потерять…
Профессия позволяла, заставляла ездить. Только входило в практику то, что называется ТЭО — изучение, обследование района строительства, экономобоснование… Это было ее дело, и она не могла иначе, а в те первые годы — врастания в эту землю — особенно.
Он шутил поначалу: «Моя путешественница», пока не было Димки. Ворчал: «Что это за жена, которую вечно куда-то песет». Поставил ультиматум: «Давай увольняйся, или нам не жить!»
И он не был человеком злым или деспотичным, отнюдь! Или столь темным, чтобы не понять веления времени и страны. Белозубый бог бригадного стана, и потом, когда она все-таки увезла его от берез и пахотных полей, лицо Сергея смотрело с доски ударников у проходной, красивое той мужской твердостью черт, что свойственна не только плакатам, но просто русскому человеку со времен Киевской Руси. Но жена — его жена, и тут он был непреклонен: «Нечего таскаться неведомо где, по месяцам, когда дома ребенок! Валяться, с чужими мужиками вровень, на тулупах, по чужим избам! Знаю я эти ночлеги!» И это не было ревностью или недоверием к ней, просто не совпадало со святым понятием матери и жены, вложенным в него с генами всех предыдущих хлеборобских поколений, и он пытался привить их ей, неуклюже, в меру своих возможностей: «Все эти партии, экспедиции — дело холостое, неженатое или для тех, судьбой обиженных баб, которым не рожать, только и остается двигать в науку!» (Так он считал…)
И даже то, что она работала тогда на прокладке дорог по родным ему сельским бездорожьям, не оправдывало ее в его глазах. Не из тех он был мужиков, что мог мыть и обстирывать детей, пока жена — в партии! Вернее — мог, но не считал нормальным. Его она должна ждать, как тогда, в метель, в марте на целине, когда считала, что он погиб, и металась по сборному финскому продуваемому дому в отчаянии, потому что увидела вдруг внутренним оком трактор его, заметенный по крышу снегом в пустой Кулундинской степи. То, пожалуй, была лучшая их и единственная семейная весна после страха потери, когда она решила, что любит его, и, вероятно, была для него той женой, что хотел бы он в ней видеть. Жаркая, сухая весна, на пороге засухи — бедствия в общем-то в тех краях, а для него, тракториста — в особенности. Комьями рассыпающаяся борозда, как солома, жесткие перья пшеницы уже в начале июня. И ночи, с окном, раскрытым в неостывающую к утру степь, с бледным, не успевающим погаснуть вплоть до зари небом, давшие жизнь Димке…
А потом началось: приезд родителей, переезд в город, и вся их зарождающаяся связь супружества завертелась, поблекла в суматохе и пошла на нет, когда она стала работать и ездить. А она иначе не могла. И оттого, может быть, что по росла на этой земле, что не была земля а для нее само собой разумеющимся с первых дней, как воздух, которого просто не замечаешь при дыхании, каждый выезд ее оборачивался открытием…
Даже простые эти приземистые поселки — бревенчатые, серого, как сухая кость, от дождей и времени дерева, белые мазаные, как, с детства символичная, бабушкина «хохлятская хата» под камышовыми кровлями; околки, как острова в белой степи, розовые от куржака на рассвете, что проплывали мимо нее и мимо саней, где Сидели она, завернутая в тулуп, рядом с районным агрономом пли дорожником, что вез ее на обследования того, чего нет еще, но надо строить для этих людей под камышовыми кровлями. Заиндевевший круп коня двигался перед глазами. И как ей хотелось писать тогда под скрип полозьев, плохо ли, хорошо ли — неважно: «Давила на плечи под вечер усталость, дни пахли дымком и отарой овечьей, на жестком ветру мне теплее казалось от очень простой теплоты человечьей…» Отказаться от такого — терялся весь смысл приезда ее сюда! И с каждым командировочным витком земля эта, огромная в своем разнообразии, входила в нее, не подавляя, а наоборот — заполняя, давая рост и силу, поднимая над той маленькой и жалкой пичужкой, что ревела в копне соломы за бригадным станом.
Хотелось прикоснуться на ощупь ко всему этому разнообразию: покатым, травянистым склонам Алтая, где лежала она на обломке скалы над поселком Солонешным, а внизу ревел Ануй, разбиваясь о стволы брусчатых свай; к шершавым, как пемза, камням Херсонеса, куда ездили они, еще вдвоем, в отпуск; лиловые пятна облаков скользили по древним складкам крымской земли, а море Тавриды, помнящее парус Одиссея и тот бриг, на котором плыл юноша Пушкин, стелилось у ног ее, совсем как некогда у ног Марии Раевской. И та дощатая церковка на краю Читы, куда забрела она однажды в пустой командировочный вечер, хранила поступь той же Марии — Волконской. Закат желто-багряный, как монгольские шелка. Читинский острог. Надгробия женам декабристов…
Страшноватое и прекрасное прошлое ее земли и настоящее, с которым она связана была Делом… Нет, она не открывала для себя с каждой новой дорогой, она проверяла свое Достояние, что всегда было ее и будет — детей ее и внуков ее, столь богатое, что охватить его, как уже поняла она, не хватит жизни.
И когда стал выбор между всем этим, огромным, и крохотным кругом семьи (хотя она не хотела выбирать, хотела — совместить), она потеряла Сережку, потому что Достояние свое не могла потерять!
Как тосковала она в пути о Димке, и все-таки счастливая бывала одновременно! Как она билась на той ночной переговорной, в том же Солонешном, от холода скорчившись, сидела на пустом подоконнике и ждала, когда дадут Новосибирск — дозвониться, узнать, что там дома, потому что он сказал ей накануне: «Если поедешь — все!»
Он просто уехал сам, пока она была в командировке, в свое родное Довольное, передав Димку теще (платить алименты — не отказывается) и женился потом на той самой женщине, вернее девчонке, с которой дружил до армии, и та не дождалась его тогда, но потом, после развода, он все же женился на пей. Все правильно, наверное…
И теперь, через двадцать лет после того выбора и того развода, могла ли она по-иному решить и отдать все то свое, ради просто — дома на зеленом клочке лужайки, пусть даже красивого, пусть даже на берегу океана, даже с человеком, подле которого ей хорошо? Потому что, безусловно, остаться с ним — значит отдать внутреннюю свою причастность ко всему тому, что бы он ни говорил там: «Ты ничего не теряешь!»
…Андрей гнал машину в быстро темнеющем мире. Небо светилось по правую руку, очерченное грядой гор, дымчатых, сизых, почти черных, утерявших рельефность, словно их вырезали из фотобумаги; по левую руку мгла шла с океана, растворяя черту горизонта, превращая в провалы боковые спуски улиц. А все прочее: огни флэтов, фонарей, машин встречных и обгоняющих их — сливалось в одни сплошные линии желтые, красные, зеленые, косые и мигающие, как на экране осциллографа, и ничего этого ей не нужно было уже; скорее, скорее к океану, застать при последнем всплеске дня, и она понимала, что не получится этого, и негодовала про себя на каждую задержку у светофора. И они почти не говорили, так, перекидывались словами. Андрей следил за дорогой, а ей просто мешал бы сейчас разговор о пустом и незначащем. Сознание, что она нужна ему, исключало все это пустое, незначащее и сообщало ей непривычное, верное забытое состояние покоя. И хотя она знала, что все это кончится в минуту, когда она скажет ему то, что решила, хотелось все же подольше прожить в состоянии женской своей необходимости, тем более что вряд ли еще будет у нее такое…
Темнота нагнала и накрыла плотным колпаком, когда он затормозил на развилке между домом и берегом: «Пойдем?» Песок с шелковым шелестом скользил и увлекал вниз по откосу мимо невидимых, но острых под рукой стеблей чего-то перистого на манер юкки.
Они стояли на середине ночного необъятного пляжа, и океан с этой точки обзора как бы превышался над ними, и с черной неразличимой высоты шли волны, как ступени огромной лестницы, окаймленные белыми ребрами пены. Шипящая масса вздыбленной, с блеском, воды, удар, кипение и хаос береговой полосы в брызгах, клочьях, похожий на вдох, скрежет уносимого вглубь песка. И все сначала…
— Тебе холодно? — зябкая дрожь пробирала ее в насыщенном влагой воздухе, и он взял ее за плечи — согреть ли, обнять ли? — Ты ничего мне не скажешь?
Вот и подошла она вплотную к своему «да» или «нет», и уже не отвернуть, не уйти…
Но если поняла она, что не отдаст за Дом-На-Берегу-Океана:
своего — чуда резного белого камня Покрова на Нерли в зеленых полях под Владимиром, половодием отраженного, перед которым стояла она, задохнувшись, — гармония форм и корни земли русской;
своего — Метрополитена, за который бились они и считали, ночи не спав, на ВЦ, когда цветными лампочками, внутренним ритмом дышит машина, тоже чудо мысли человеческой (а теперь город ее раскопан вдоль и поперек — котлованы станций, желтая пыль проходки растворяет свет под землей, «щит» идет, и оранжевые МАЗы с грунтом выносятся на поверхность из преисподней — люди ждут, в этом тоже ее доля);
своего — Дня Победы, потому что в какой бы точке страны она ни была, всюду в этот день — люди, люди с цветами и венками, вороха сирени там, где расцвела она, алые пятна гвоздик на сером бетоне, мраморе, у простых беленых обелисков, у стел со скорбным ликом матери-Родины, у блещущих медью имен погибших: нет, пожалуй, второго такого праздника, где бы так слитно чувствовала она себя со своим народом, хотя и не воевала сама (она подумала: это уже скоро, дней через десять, и она будет дома, дома…).
Так почему всем этим своим, достоянием души, не поделиться с пим? Как он делится… если только это ему нужно… А иначе — какой смысл?
— Ты приедешь ко мне, слышишь? Непременно приедешь! Я сделаю вызов, как вернусь, и ты успеешь, даже к осени, до морозов! Когда березы желтые и тепло! Ты знаешь, какая у нас осень! А можно взять «тур», и ты увидишь вначале Москву, купола… Ты должен увидеть это, чтобы узнать себя, понимаешь? Я встречу тебя, я буду тебя ждать, и тогда мы решим вместе — как быть!..
Она говорила, и странно, слышала теперь только свои слова — исчез гул океана, и его руку чувствовала на своем плече, как крыло… И как же не хотелось ей сейчас даже своих слов — только этого ощущения крыла, которого никогда у псе не было по существу.
И когда они шли к дому по песку: «Ты совсем продрогла. Мама ждет пас с ужином». Только идти и забыть обо всем, разделяющем их…
И на грани забвения этого, как сигнал опасности, вдруг: а помнишь, дважды на этой земле, когда ты теряла чувство места и времени, растворяясь в эмоциях, чем это кончилось? В белом зале «Русского клуба», на Мельбурнской дороге? Ничем хорошим, во всяком случае! А если и здесь, все не то и не так? Боже мой! На каких же безмерно дальних полюсах они стоят с ним, если даже в такую минуту не могут быть просто людьми! Современный раздел мира — Мы и Они… И вот где проходит — по живому — полоса раздела!
Утром они купались, когда солнце всходило, не прямо из океана, а чуть сбоку, над длинным изогнутым мысом, похожим на хвост скорпиона. Солнце было круглым, оранжевым, и дорожка по океану стелилась, как разлитый апельсиновый сок. И океан казался чуть поспокойнее, не проснувшимся с ночи. Во всяком случае, он дал ей войти в себя, правда за руку с Андреем, и волной обдал, просвечивающей, как жидкое стекло.
Потом они шли босиком по траве и по терпимо теплому асфальту — рано еще, отдельные машины на шоссе, осень на Голд-Косте, тишина, сухой жар и ветерок, колющий ноги крупинками песка…
Потом был завтрак из яичницы с беконом за пластиковой стойкой в стандартной кухне под дерево (как у Норы и прочих), когда для мамы его она была гостья из России, соседка с улицы Железнодорожной, а для него?
Потом настал день, вернее полдня, потому что он дал слово доставить ее в Брисбен к вечеру — там тоже ждут родственники. Он отвез ее к подножию тех самых юр, где были они в марте, на первый, синий издали, бурый от сухой травы вблизи бугорок, и она вышла из машины и постояла над побережьем.
Полоска океана, как яркий мазок на востоке, обрамленный высотными пиками флэтов, почти прозрачных в дальнем мареве. А чуть ближе — квадратики красных я серых крыш, в кучках зелени, в разводах внутренних каналов (самый дорогой дом тот, что имеет собственный водный выход). Ну, что ж, Австралия, прощай. То, что она никогда больше не вернется сюда, она знала не разумом — сердцем…
Они пили пиво, вернее пил Андрей, она отказалась, в смешном старинном трактирчике у дороги, где грубые чурбаки и скамьи под навесом за домом, столы, лоснящиеся от времени, якобы, ободья колес и еще что-то из инвентаря первых поселенцев, и даже меню на доске — жаркое из крокодила — как дань экзотике! Трактирчик был почти пуст — сезон прошел, только четверо мужиков в возрасте Андрея молча и сосредоточенно пили что-то свое. Пе хотелось ей ни спрашивать, ни вникать в дела их в последний свой день спокойного солнца.
Обедом он кормил ее снова у океана в чем-то похожем на белую надстройку корабля — терраса, висящая над дорогой, мыс Каррамбин. «Узнаешь?» — он усадил ее на горячий плетеный стул за столиком и сам пошел заказывать. Он шел от кухонного окна через зал к пей, нагруженный тарелками с золотисто-жареной рыбой и картошкой, высокими стаканами с питьем, так, что рук не хватало, и она вскочила и побежала навстречу ему, помочь, так естественно, в нашем понимании. «Сиди, — почти рассердился Андрей. — У нас так но принято. Женщина ждет, мужчина ухаживает!»
Океан с «палубы» смотрелся как бы в профиль, весь л подвижных брильянтовых вспышках, гнал немыслимо голубого цвета валы, закручивая их, раскачивая в пену, и выбрасывал длинными и плоскими языками на пляж. И над всем этим пространством расплесканной воды стояла и воздухе, как изморось, водная пыль непрозрачным слоем, и в ней, на удивление, — радуга.
…И, наконец, снова магистраль, только теперь уже океан отходил от нее по правую руку, и красноватый, как у пас говорят, на ветер, закат — по левую. Неужели на этом — все?
«Но ты, приедешь!?» — «Да, я могу себе это позволить. Да, постараемся успеть к сентябрю», — взгляд сосредоточенный, руки на руле, следит за дорогой? Чужая душа — потемки!..
Еще остается последний тягостный миг отъезда. Жарко в Брисбене спозаранку — дважды принимала душ, пора одеваться, ехать в аэропорт, пот льет, бисеринками на лбу, и душно, или просто сердце останавливается, дрожь волнения, неприятная и унизительная, однако ничего она с собой сделать не может, ни глотка «оранджа» выпить напоследок! Тетушки суетятся: «Ты ничего не забыла?» Два часа осталось. Андрей приехал, усадил в машину и повез до первого магазина, купить сувениры, гостинцы тем, своим, его родне, что в ее городе. Конечно, она передаст. Совсем белый под зноем город ее последнего часа, суета маленьких «шоппингов», полных того множества вещей, без которых она свободно обходится у себя дома. Что можно сказать в последний час, даже когда вдвоем в машине и плечо — рядом? Словно струна натянута в ней, вот-вот не выдержит, оборвется, и больно, словно живая жилка… Скорей бы все это кончилось!
Дома уже съехались все провожающие (кроме дяди Алексея). И тоже, оказывается — не так это просто, взять и уехать. Все-таки — семья. Привыкла она, что они с ней два месяца: заботились, баловали, кормили, дарили, ворчали и беспокоились… И вот совсем, никогда больше, до конца жизни, как потеря, разве что Наталия приедет в Академгородок в порядке научного обмена…
Наталия стоит на полу, на коленях, застегивает ремешок чемодана. Энергичная маленькая рука, волосы — волной набок. «Пусти, я сделаю, — говорит Гаррик. — Я все ж таки мужчина!»
Наталия, вот кого жалко ей оставлять здесь — забрала бы с собой! Есть сын, есть родители, а сестры, с которой душу поделить — не было. Поздно она открыла ее, да еще на чужом материке. Вчера, когда все было сложено и сказано (долгие проводы — лишняя тягость), появилась на своей японской машинке: «Поехали на Красные скалы, мне нужно поработать, тебе — полежать!»
…На север, в сторону Барриер-рифа, не доезжая, совсем дикий берег. Сыпучий, цвета сурика, невысокий обрыв. Лежит на песке, набок днищем, ржавый железный остов — в коростах и выбоинах (пиратское судно!). Отлив отошел далеко и открыл камни, колючие, как ежи, красновато-бурые, полные морской живности — рачки ползают, шевелятся створками ракушек, и пахнет йодом, морской травой — хорошо!
Под кривым деревом воткнула зонт, разложила свои тетрадки. «Я взяла тебе Цветаеву — будешь читать?» Оказалось, «горит» диссертация, оказалось, срочно сдавать нужно профессору — русский фольклор, образы народных сказок (вот уж не думала, что такое изучают в Австралии!).
А она-то, она, путешественница, нагрянула, отрывала от дела — вези ее, показывай! Не по себе стало, лежала тихо, читала «Мой Пушкин», песок остывал, засоренный корнями, листьями, кусочками коры, что выбросит море. А потом, когда та отложила бумаги — кончила или устала, откинулась и вытянулась свободно всем своим телом, загорелым, тренированным теннисом: «Поговорим?» Ни с кем здесь больше, с Верой и подружками прежними, не могла она говорить о себе и своем, а с Наталией — смогла?
Просто нужно ей говорить сейчас с кем-то, достаточно близким, чтобы не кривить душой, и беспристрастным, чтобы сообща раскопать то, что мучит ее подсознательно в этом деле с Андреем, чтобы потом или осудить себя или сбросить со счета — все правильно!
Потому что в тот самый момент, когда готова была завершиться благополучной концовкой эта история кружения по Австралии, встреч и расставаний, она, вроде бы, находит человека, мимо которого беспечно пробежала в юности и который, если не то что — единственный на земле, но во всяком случае — стоит попытаться (а дальше — только самолет, ожидание писем, и вместе они ходят по старым соборам Загорска, в толпе интуристов, отделенные от этой толпы своим чувством, под фресками Рублева, вдоль бойниц, смотревших некогда в наглые глаза Самозванца, — так она нарисовала себе), в ту самую минуту, когда она, растворенная, шла под его рукой по шелковому песку к освещенным окнам его дома с кенгуровыми шкурками на площадках лестницы, — черный призрак ящичка с голубыми и красными кнопочками выскочил» ее сознании, как черт из коробочки, и все рухнуло. И уже не женщиной, способной дарить достоянием души своей и всем естеством, переступила она порог его дома. Андрей почувствовал это. Только как истолковал — неизвестно…
Не было ничего, кроме странно-тягучего вечера перед телевизором, где крутилась неизвестно какая серия «Анны Карениной» (во всяком случае, далеко еще до роковых паровозных колес!), и ночи на пустой огромной гостевой кровати в гулком доме, ставшем вдвойне чужим, и утра, когда он постучал к ней: «Пойдем купаться», и просто — дня спокойного солнца на прощание.
И теперь она кляла себя, что дала в мыслях дорогу этому черному призраку. Что не права была. Не справедлива. Не поняла. Не подошла. Не ответила добром в общем-то одинокому человеку. Усомнилась в искренности! Потому что никакой связи не могло быть между ними и той парой, девочкой, с той же улицы Железнодорожной! А впрочем, что она знает о нем? Память услужливо подсказывала ей, что были они знакомы тогда еще, не сами — в силу возраста, а семьями — наверняка, поскольку лишь узкая полоска с выбитым дождем булыжником покатой улицы Соборной разделяла их дома и даже заборов не было в период сорок пятого года, сожженных на костры двумя валами прокатившихся через их улицу армий (сначала — квантунской — окопы, укрепления, потом советской — танки «рокоссовцев», части Мерецкова — заборы растаптывались, как трава, под поступью истории!).
Та девочка — смогла. А почему, она уверена, не сможет он? Не слишком ли поспешное это предложение руки? Или тоже — кому-то нужно было, чтобы она осталась? Боже мой! До чего можно додуматься, словно вовсе ничего святого, человеческого нет на земле! Все доброе к Сашке потеряла она через тот подлый ящичек, хотя он ни в чем не был виноват, по видимости… Теперь убит Андрей — в ней самой, она чувствовала это, и даже если он приедет и они сообща будут ходить по соборам Сергиевой лавры, ничего это не спасет и не исправит. У мысли нет возвратного хода. Это не ролик магнитной лепты, что запросто можно прокрутить в обратную сторону и стереть запись — как не было!
Но именно всего этого не должна она рассказывать Наталии — прямой взгляд, чистое сердце — никакого отношения к ней не имели эти мутные эмигрантские дела! Потому, что выросла та в Австралии и любила, как свое, — буш и крокодиловые заросли, и ездила в экспедиции по изучению быта аборигенов от университета — ее земля здесь. И кроме того, как подарок — земля России, где была она на конференции в МГУ, и на Москву смотрела с радостью, и никто не подсовывал ей черного ящичка. Открыть ей те мелкие мерзости, что проделаны были на Мельбурнской дороге, — нет, нельзя! Гневом распалятся синие «рязанские» глаза, по меньшей мере. Зачем это пул «но в последний их день, под осенним холодком на Красных скалах!
Сбоку от них — площадка над водой, вся в пестрых домиках «караванов», веселый дачный городок, колеса, вдавившиеся от долгого стояния в траву, поднятые крышки навесов, занавески шевелятся, как флаги.
— Ты знаешь, мы здесь отдыхали каждое лето, когда я была маленькой. Папа любил бывать здесь. Тихо. Почти все — с детьми. Мы с Гарриком лазили по скалами и собирали всяких морских животных.
Смотритель площадки (или владелец), солнцем выдубленный мужчина неопределенного возраста в фетровой шляпе, линялых шортах на худых ногах, в рубашке джинсового цвета, дал им набрать пресной воды и умыться от проводки на площадке. Поговорил о чем-то с Наталией с приветливостью. «Ты знаешь, он еще помнит нас с папой!»
Почему она не замужем, эта милая женщина, с таким определенно русским обликом, что, наверное, в Москве ее спрашивали покупками обвешанные приезжие — как пройти к ГУМу?
Любила человека, вместе учились, потом он уехал в Англию к родным. Потом он женился там на девушке своего круга. Хотя тоже любил ее. Вот так. И теперь она просто не может ни с кем другим. Годы идут. Папа беспокоится за нее — как жить одной? У нее много друзей — в университете и в Англии, но все равно она не может… (Своя беда — под гримом благополучия…)
И ответом на все это, продуманное про себя, и на весь разговор с Наталией, семейный, вроде бы, с ее терзаниями не связанный, пришло: при чем тут Андрей? И зачем ей Андрей? С самого начала знала это, только не хватало честности сказать ему прямо, а все тянула, словно размышляла еще чего-то! И на это надо осудить себя безоговорочно — женская слабость, надежда, с которой приятно поиграть, как с куклой, радость ощущения, что ты кому-то нужна! Ничего не могло быть, потому что она тоже, там у себя, любила человека, который стоил того, чтобы любить его, и из-за одного этого можно считать полной и счастливой ее женскую жизнь! Потому что не каждой дастся такое. И перед всем тем горьким и ярким, как ветка рябины, — ничто детские дружбы Юрки и Илюшки, и даже ошибка замужества, когда «схватила», в растерянности, не своего человека. Был у нее такой единственный человек, служил ее стране и погиб (но эта уже история — иной книги). И любого другого — Андрея — она станет соизмерять с тем, и ничего не будет! Значит, все правильно!
Самолет взмывает над плоским зданием аэропорта, над серым блином из бетона — взлетным полем, над темноватым залом регистрации, полным незнакомых людей, и непонятных людей и непонятных надписей, над киосками «Дьюти фри» и турникетами, где нет ее уже, над горячей узловатой решеткой ограждения, от которой расходится чужая провожающая толпа, только фигурки маленькие стоят и машут внизу: дядя Максим, Гаррик с семейством, Андрей, Наталия…
Через какой-то промежуток времени, который она не может точно определить, потому что лежала выключившись, выжатая, как шкурка лимона, в комфортабельном кресле с нейлоновыми голубыми подушечками, она видит внизу через иллюминатор Красную пустыню. Ту самую, куда предлагал повезти ее брат Гаррик, где она не была и уже не будет. Сверху пустыня напоминала: кусок карты в красных и желтых разводах с отдельными крапами растительности; шкуру пятнистой кошки, у которой к тому же повыдергали большую часть шерсти; просто кусок ржавой потрескавшейся земли, что видишь под ногами у себя где-нибудь на Крымском побережье, когда из каждой щелочки, из немыслимо жестких камней, на сухих, по видимости, стеблях лезет пучками зелень (только в ином масштабе).
И нет конца и края на вдавленной, как чаша, плоскости этому разводью из твердой морщинистой почвы, и наслоениях чего-то красного и черного, точно в лишайниках…
Все это было видно отчетливо, как на экране телевизора — самолет летел низко, не набрал еще высоту или уже шел на снижение — Порт-Дарвин, самая горячая северная и последняя точка приземления в Австралии!
А еще через промежуток времени, достаточно большой, чтобы вместить не только все то, чем пытались ее накормить из стерильно упакованных коробочек красивые приветливые девочки и университетского облика мальчики-стюарды в этой летучей помеси отеля и кинотеатра, но и внезапную, влажную до удушья — пятьдесят два градуса! — ночь в Сингапуре, мясистые листья пальм в пересеченной огнями черноте, неживое дыхание кондиционеров в затянутом синим от пола до потолка номере отеля, и дневной, сбивающий с ног жар улиц, по которым хорошо было бездумно ходить, забытый, но знакомый запах Азии — толпы, лавчонок, острой еды, зелени (совсем черные швейцары в тяжелейших суконных ливреях стояли в подъездах стеклянных фирм на солнцепеке; житель с босыми ногами цвета темного дерева, в приличном пиджаке и черной шапочке сидел прямо на тротуаре и читал газету; машины с блеском проносились рядом; джонки или сампаны во всей своей многонаселенной живописности, как плавучие домики, качались под набережной, и прекрасные, как жемчужины, причудливые, как на старинных китайских вазах, ультразеленые острова плавали на ультраголубой воде бухты — если смотреть с вершины главной кудрявой горы; и боги — герои индо-китайского эпоса, многорукие, со свирепыми лицами, таращились на нее в том старинном парке, где все из крашеной глины — даже деревья, и оказаться в котором в темноте — потерять рассудок), после всего этого — посадка, ИЛ-62, Аэрофлот!
Не столько поняла это она из невнятного на английском с сингапурским акцентом объявления, сколько увидела, как среди голых плеч и ног — европейских и голых полосок тела в просветах сари — индийских пассажиров пошел потоком из зала московский рейс — шубы, дубленки, сапоги на меху, с магнитофонами японскими, пакетами «Дьюти фри» в обеих руках. Она не могла ошибиться, ринулась в этот поток, укрылась в нем и услышала: все вокруг говорят по-русски!
Забежав в самолет, плюхнулась на задние свободные места и сказала девушкам в красных форменных сарафанчиках: «Не будите меня и не кормите, я не могу!», привязалась ремнями, накинула на себя, без стеснения, клетчатый одеяло-плед (чем снабжают у нас на международных авиалиниях) и, свернувшись в клубок, заснула, как у себя дома. Только в Дели растолкал ее какой-то сосед: «Надо выходить!» Ладно, купим какого-нибудь слоника из сандалового дерева — все-таки Индия!
И, наконец, утренняя Москва, розовая, светлых топов без травы земля, ветви пустые, без листьев, и все — в странно-замедленном темпе — как идут люди, как двигаются машины, как широки и просторны магистрали цвета сиреневого асфальта, как спокойны покатые, чуть тронутые зеленью подмосковные поля! Земля, единственная, на которой стоит жить!
У пес были ключи от комнаты в московской квартире тетушки, которая всегда в эту пору отдыхает в Коктебеле. И она двадцать шесть часов спала в этой комнате в коммунальной квартире, на диване, свесив голову с валика, только в перерывы, с невидящими глазами выходила на кухню, пила холодную воду из-под крана при молчаливом изумлении прочих жильцов и засыпала вновь. Правда, вначале, она еще успела набрать новосибирский номер по телефону:
— Все живы? Я прилетела!
А еще через месяц она будет ходить по совсем голой, утоптанной до твердости камня, буграми нарытой земле между котлованами, из которых подымаются в разной степени готовности коробки панельных корпусов, кое-где сквозные еще, без балконов, под кивающей стрелой крана, кое-где жилые — в полотнищах сохнущего в лоджиях белья, в окружении такого количества детей, которых не замечаешь как-то в старых городах — поселок под Сорокино. Ветра, дующие из Алтайской степи, хрустящая пыль на зубах.
И жить она будет в таком же полудостроенном доме для приезжающих, где кровати полированные, полы — некрашеные, и ни в одной комнате почему-то нет лампочек! И засыпать будет полуголодная, если не успеет схватить в гастрономе хоть бутылку ряженки. И замерзать под этим резким, пронизывающим ветром, хотя начало июня, и уставать так, что ноги деревенеют в туфлях, и воевать до хрипоты с теми, кто не согласен с ней, и с теми, кто задерживает ее в получении материала! Потому что, как всегда, все это — срочно! И домой торопиться — так давно она не была, так мало она была дома! И так хорошо будет ей в этом неблагоустроенном мире, на удивление, такая легкость душевная, и сон глубокий, как провал, а с утра — все заново.
А на горизонте, над пыльными шлейфами идущих тяжело груженных машин подымается уже нечто, все в ажурных конструкциях, опоры и пролеты — будущий коксохимкомбинат, металлургия…
Будет ходить среди всего этого и среди людей — молодых рабочих, девчат в забрызганных комбинезонах и парней-монтажников, лица которых столь отличны от тех лиц, что видела она последние два месяца, только чем — не объяснишь, спокойствием внутренним каким-то, что ли? И сочинять про себя письмо Андрею, потому что, отбросив все женские бредни, хотела она, чтобы он приехал. Считала — должен приехать, чтобы самому увидеть и понять.
Он не приехал. Ни в тот год, когда она послала ему вызов, ни на следующий, когда приехали многие, как гости Олимпиады, и это не сложно было сделать, ни в последующие годы. Один из знакомых — оттуда, что гостил у них в городе у своих и с которым она случайно встретилась, передал его мнение, высказанное в общей компании: он не рискует ехать в Россию при современных событиях в мире!..
1979–1985 гг.
Об авторе
Лариса Павловна Кравченко родилась в городе Харбине в 1929 году в семье бывших строителей КВЖД. В детстве оказалась свидетельницей драматической обстановки, сложившейся в этом городе в результате оккупации Маньчжурии войсками империалистической Японии (1932 г.), установившей там свой режим.
После освобождения Маньчжурии Советской Армией в 1945 г. при вновь организованной Китайско-Советской железной дороге был открыт Политехнический институт. Л. П. Кравченко окончила его, получив диплом инженера-экономиста.
В 1954 году советские граждане, жившие в КНР, выезжали в Советский Союз по призыву Родины — на целину. Л. П. Кравченко приехала с семьей в Новосибирскую область, в Баганский район и работала в с. Казанка первое время в сельском хозяйстве.
С 1955 года живет в г. Новосибирске. Работала вначале на Томской железной дороге, на ст. Новосибирск-Главный экономистом, затем начинает специализироваться в области проектирования в дорожном строительстве, планировки городов («Гипроавтотранс», «Новосибгражданпроект»). Много ездит по области и стране, в частности принимает участие в составлении схемы развития транспортной сети г. Новосибирска, в том числе — новосибирского метрополитена.
Писать и печататься начала с 1940 г. в харбинских местных изданиях. В Советском Союзе вышла первая книжка стихов «Встреча с Родиной» (Новосибирск, 1902 г.), отдельные публикации в журнале «Сибирские огни» и коллективных поэтических сборниках. Занималась в литературном объединении «Голоса весны» при газете «Молодость Сибири», руководимом поэтом И. Фоняковым.
С 1962 года, работая в институте, начала писать первый роман, сокращенный вариант под названием «Преодоление границы» был опубликован в журнале «Сибирские огни» в 1971 году. В 1979 году, после поездки в Австралию, родился замысел второго романа «Пейзаж с эвкалиптами». Первая публикация — журнал «Сибирские огни», 1985 год. Романы объединены общими героями, повествуют о судьбах русской эмиграции.
Лариса Кравченко
*
Земля за холмом
РОМАН
Пейзаж с эвкалиптами
РОМАН
НОВОСИБИРСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1988
ББК 84 Р7
К 77
К 4702010200—005 25—88
М143(03)—88
© Новосибирское книжное издательство, 1988
Кравченко Лариса Павловна
ЗЕМЛЯ ЗА ХОЛМОМ
ПЕЙЗАЖ С ЭВКАЛИПТАМИ
Романы
Редактор А. И. Плитченко
Художник В. В. Подкопаев
Художественный редактор В. П. Минко
Технический редактор Л. А. Полыцикова
Корректоры О. М. Кухно, Т. Ю. Сенокосова
ИБ № 2221
Сдано в набор 25.09.87. Подписано в печать 29.02.88. MH01618. Формат 84×108/32. Бум. тип. № 1. Гарнитура обыкн. новая. Печать высокая. Усл. печ. л. 27,72. Усл. кр. — отт. 28, 04. Уч. — изд. л. 29,92. Тираж 30 000 экз. Заказ № 78. Цена 2 р. 20 к. Новосибирское книжное издательство, 630132, Новосибирск, ул. Красноярская, 112. Полиграфкомбинат, 630007, Новосибирск, Красный проспект, 22.
Кравченко Л. П.
К 77 Земля за холмом. Пейзаж с эвкалиптами. — Романы. Новосибирск: Новосибирское книжное издательство, 1988. — 528 с., ил.
Романы о русских людях, в начале века волей обстоятельств оказавшихся вне Родины; о судьбе целого поколения русских эмигрантов. В центре — образ нашей современницы Елены Савчук. В первой части дилогии перед читателем проходят ее детство и юность в Харбине, долгожданное возвращение в Советский Союз в 50-е годы. Вторая часть — поездка уже взрослой героини в Австралию к родным, к тем, кто 30 лет назад, став перед выбором, выбрал «заокеанский рай».
Счастье обретения Родины, чувство неразрывной слитности с ее судьбой, осознание своего дочернего долга перед ней — таков лейтмотив романов.
К 4702010200—005 25—88
ББК 84 Р7
М143(03)—88
Примечания
1
«Шоппинг» (искажен, англ.) — лавка, магазин, здесь — торговый центр.
(обратно)2
«Трак» (англ.) — колея, дорога, здесь — применительно к грузовому автомобилю.
(обратно)3
«Биру» (англ.) — пиво.
(обратно)4
«Чайна таун» (англ.) — китайский город, здесь — район китайской торговли.
(обратно)5
«Дьюти фри» — фирма по продаже товаров, не облагаемых пошлиной при вывозе.
(обратно)6
«Кантри» (англ.) — деревня.
(обратно)7
«Фривей» (англ.) — бесплатный, свободный путь, здесь — дорога второй категории для бесплатного проезда.
(обратно)8
Флат (англ.) — квартира, в австралийском понимании — снятые в аренду или купленные апартаменты в многоквартирном доме.
(обратно)9
«Момпэ» (яп.) — брюки широкого покроя, которые носило японское население в годы войны, русское — в «оборонные дни».
(обратно)10
…под Чэнгаузом… — разъезд под Харбином, где после ухода частей Советской Армии в период междувластия в перестрелке с мародерами погибло несколько студентов.
(обратно)11
«Серфэйс-парадайз» (англ.) — «рай на поверхности». Название одного из прибрежных районов развлечений.
(обратно)12
Рум (англ.) — комната.
(обратно)13
«Барбекью» — мясо, жаренное на углях — блюдо австралийской кухни.
(обратно)14
Хайвей (англ.) — дорога высшей категории.
(обратно)15
ИНОМ — Новогородный клуб отдыха молодежи при обществе граждан СССР в Харбине, созданный в послевоенные годы и пропагандирующий советскую культуру.
(обратно)16
Гондатьевка — район в Харбине, заселенный русскими. Назван в честь одного из деятелей КВЖД Гондатти.
(обратно)17
Тробл (искажен, англ.) — беспокойство, забота.
(обратно)18
«Раббиш» (англ.) — мусор, хлам.
(обратно)19
Холидей (англ.) — отпуск, день отдыха.
(обратно)20
Пул (англ.) — бассейн.
(обратно)21
«Мемориал Вар» (англ.) — «Военный мемориал».
(обратно)22
«Парти» (англ.) — в смысле «прием гостей».
(обратно)
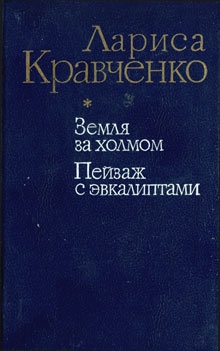
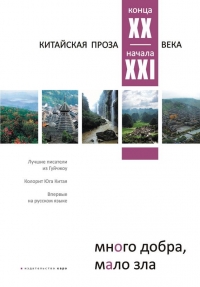

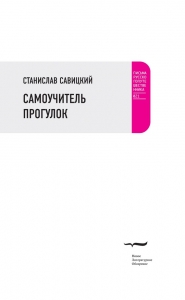

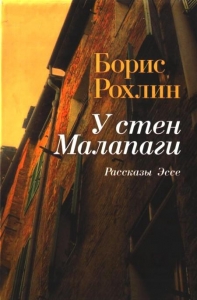
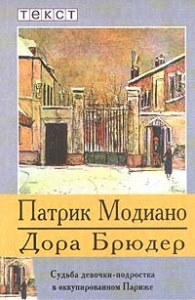

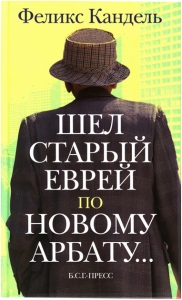
Комментарии к книге «Пейзаж с эвкалиптами», Лариса Павловна Кравченко
Всего 0 комментариев