Вадим Александрович Ярмолинец Кроме пейзажа. Американские рассказы
КРОМЕ ПЕЙЗАЖА
А занесло меня в малопрестижный район Нью-Йорка – Бруклин, который оказался впятеро больше моего родного города, считавшегося третьей столицей России. Ее южными воротами. Одесские лиманы, цветущие каштаны, качается шаланда на рейде голубом! Как много самомнения было у нас там! Каким мелким и невзрачным оказалось оставленное при взгляде отсюда! Каштаны, лиманы, шаланды. Край земли у не самого приглядного моря. Самого синего, особенно если никогда не видел Карибского. Бог мой, как назвать цвет воды, наполненной, как драгоценный камень, живым солнечным светом? С какой другой сравнить ее изумрудно-бирюзовую, пронизанную огненными змейками толщу?
Поначалу я пытался найти в окружающем пейзаже черты хоть чего-то знакомого, за что можно было бы зацепиться, как плющ цепляется за выступы стены, чтобы найти опору, прижаться, прижиться. Я всматривался в поток дождевой воды, хлещущий из проржавевшей водосточной трубы на брусчатку мостовой. Я пытался полюбить красный кирпич, проглядывающий из-под отбитой штукатурки; пятнистую стену лаймстоуна за покачнувшейся в знойном потоке воздуха платановой листвой; чугунную ограду дома сенатора напротив Проспект-парка. Голубей.
– Гули-гули-гули, – звала моя бабушка, кроша размоченный хлеб с балкона на черный асфальт двора. Слетались, хлопая крыльями, ворковали. Самые смелые садились на край балкона, круглыми глазами глядели через плечо на кормилицу.
Некоторые из нас пытались зеркально отражать новую страну. На углу Пятой и 42-й Елизавета Петровна Досааф чистила банан. Банан вставал из отброшенной кожуры. Елизавета Петровна поглотила половину плода, тут же кругло обозначившегося под ее щекой, откусила. На уцелевшей половине остался кровавый след.
Один раз она пришла за мной в литстудию, которую вел поэт местного значения Георгий Лыхаймик. Встав у двери, близоруко сощурилась, пытаясь высмотреть меня в табачном дыму. Лыхаймик, так же близоруко щурясь в ответ, заметил негромко: «Накрашена, как смертный грех». Она окончила гримерное отделение местного худучилища и относилась к косметике, как художник-экспрессионист к краске.
– Димон! Ну наконец-то! – сказала она, продолжая борьбу с бананом. – Где ты был все это время? Я скучала!
Все до буквы, до капризного прогиба интонации «ску-учала!» было знакомо, как прикосновение ее губ.
– Идем куда-нибудь попьем кофе.
Недоеденный банан был брошен на тротуар.
– Так можно? – я, еще боялся укоризненного взгляда, окрика, штрафа.
– Проснись, Димон, ты же в Америке! Всё уберут!
За минувшие с той встречи тринадцать лет я ни разу не видел, чтобы роскошные блондинки в лисьих шубах бросали на тротуар остатки завтрака. Я не видел, чтобы блондинки в шубах ели бананы.
Елизавета Петровна отражала что-то не то.
– Ну, как ты устроился? – она подхватила меня под руку.
– В газете, а ты как?
– Как я могла устроиться, голубчик? Педикюры, маникюры, пятое-десятое. Ты знаешь, я смотрю и вижу, что кроме пейзажа ничего не изменилось. Ты снова пишешь свои статьи, я снова стригу ногти, это какой-то кошмар!
Я подумал, какое занятие могло обозначать ее пятое-десятое. Досаафом ее назвал мой друг Сережа Ч.
– В Елизавету Петровну вступили все, как в ДОСААФ, – сказал он, а я подумал, что он завидует моей победе.
Ей было тогда около тридцати. У нее были глаза, как вода на мелководье в ветреный день. На молочно-белой коже груди, как на мраморе, проглядывали голубые вены. И сейчас, когда она прижимала на ходу мою руку, я снова чувствовал этот мрамор. На него по-прежнему должен был быть спрос.
– Душа моя, – сказал я. – Я не хочу кофе. Поехали лучше к тебе.
– Голубчик, я бы рада, но у меня дома живет Эдиган. Если ты хочешь, мы можем зайти в Публичную библиотеку на 42-й. Я знаю там одну совершенно очаровательную комнатку с видом на Брайант-парк. Ты бывал там? Я поведу тебя. Будем сидеть за столиком, пить кофе и смотреть на голубей.
Голуби. Отражая чужое, она все равно видела свое.
Эдиган бросил якорь в Лос-Анджелесе. В Одессе у него был шикарный подвал на Куликовом поле, где он курил план, а потом красил в разные цвета болты и гайки железнодорожных размеров, приводя в восторг заезжих иностранцев. В Америке болты и гайки не пошли, поэтому он двинулся другим путем.
– Каким же? – спросил я мою подругу.
– Ты не представляешь, что придумал этот проходимец! – ответила Елизавета Петровна, поставив носок стилеты на пришепетывающий радиатор у окна с видом на Брайант-парк и подтягивая черный чулок.
И она рассказала мне историю о том, как Эдиган решил торговать воздухом. Точнее запахом. Знаете, как пакуют запахи? Расклеиваешь сложенный вдвое край журнальной страницы с рекламой духов, а там – запах. В течение месяца Эдиган снимал пробы с интимных мест своей подруги Манон. Она была огромной женщиной с большим потенциалом и гривой диких волос, которых мне хватило бы на две жизни. Эдиган пользовался различными типами бумаги, брал образцы пахучих субстанций в различное время суток, превратился в химика. Потом он сделал портфолио из хастлеровских страниц, упаковав собранный материал в загнутые уголки. С неописуемыми трудностями добился аудиенции у Ларри Клинта.
Недобитый порнограф взирал на визитера. Глаза его, похожие на пуговицы, ничего не выражали. Эдиган, спотыкаясь о собственный английский, объяснял, что его изобретение сделает журнал еще более привлекательным для читателя. Оживит его.
Клинт разлепил краешек странички, уронил голову, засопел, выровнялся. Не говоря ни слова, нажал кнопку под крышкой стола.
– Вам нравится? – с надеждой спросил Эдиган.
Ответом было бесшумное появление в кабинете двух бронеподростков, которые взяли Эдигана с двух сторон под руки. Он взлетел, спинка стула мелькнула под согнутыми в коленях ногами, пронеслись мимо стены кабинета, букеты цветов в приемной, красного дерева дверь с золотой табличкой бесшумно затворилась за спиной.
– Еп-тыть! – сказал Эдиган сам себе.
Планы рухнули, долги остались. Он попросил убежища у Елизаветы Петровны.
– Фу, вонючий, – капризно сказала она, забираясь в постель. На ней была красивая красная грация с черными кружевами из каталога «Фредерик оф Голливуд» – любимого издания водителей-дальнобойщиков.
– Завтра сделаешь мне ванну, – ответил он, впиваясь в нее, как намотавшийся по свету клещ впивается в выставочного пуделя.
На следующий день, всплыв из-под ароматных пузырей, он спросил:
– Ты не знаешь здесь никакого мецената?
– Голубчик, все ищут мецената! Ты не поверишь, но я тоже хочу жить в Калифорнии, а не в Бенсонхерсте! Но что, у меня есть время на поиски? Я не успеваю подойти к зеркалу, чтобы накрасить губы, как появляется очередной друг детства. Ему негде жить, ему не с кем жить, у него творческий кризис!
– Надо быстрей красить губы, – заметил Эдиган.
Все они бросали заваленную их шедеврами, утомленную собственными восторгами Одессу, чтобы найти денежного туза с замком в горах или виллой на берегу океана и доить его, доить, доить, как бесконечную голландскую корову.
В числе первых охотников за меценатскими головами был Додик Фуфло – наглый как танк и пронырливый как глист крепыш в берете, с усами а-ля Сальвадор Дали. При наших уличных встречах он неизменно повторял один и тот же текст:
– Дима, я нашел одного миллионера. У него свой особняк на Ист-Сайде (Вест-Сайде, Гринич-Виллидже, Лонг-Айленде). Он увидел мои картины и чисто выпал в осадок. Он говорит: «Слушай, Додик, я живу в Америке пятьдесят лет, но только сейчас ты мне открыл глаза на настоящее искусство». Я запалю ему штук десять работ на еврейскую тему, он это любит, и переезжаю на Сардинию. У него там дача. Нахера мне та Америка! Страна непуганых дебилов! Посмотри на них, разве они понимают, что такое настоящее искусство?!
Не найдя своего миллионера, он стал присматриваться к тому, как работают другие. Точнее, как продаются их работы. Хорошо продавались работы Штейна и Зуба.
Гиперреалист Штейн рисовал грифелем предметы. Огромные пишмашинки, утюги, ботинки. При фотографической точности изображения он находил такие ракурсы, подчеркивал такие детали, что предметы казались живыми.
Зуб рисовал рубенсовской комплекции балерин, танцующих на спинах слонов и носорогов. Зуб работал не кистями, а мастихином, благодаря чему его полотна выглядели как богатые персидские ковры из бродвейского магазина «ABC». Зуб корпел над своими полотнами месяцами, бесконечно дорабатывая их, вкладывая себя в каждую балерину, в каждого носорога. Он делал по десять-двенадцать работ в год. Их покупали до открытия выставок по каталогам.
Додик заперся в мастерской на Мерсер-стрит и через неделю открыл выставку для друзей и знакомых. Они увидели огромные мясорубки, ботинки и утюги, покрытые геометрической сеткой глубокой фактуры.
– Чем ты работал? – поинтересовался я.
– Навалял все кистью, а потом причесал крупной расческой, – охотно объяснил он. – А что, плохо получилось? По-моему, нормально!
Спустя несколько месяцев он возник, злобно жующий собственные усы, на выставке Зуба. Деловито осмотревшись, хмыкнул:
– Это живопись? Это – картинки из чехословацких книжек!
Кто-то из гостей, знавших цены на работы Зуба, добродушно рассмеялся.
Додик разозлился еще больше. Прихлебывая дармовое презентационное вино, он оглядел собравшихся. В каждом из них он видел потерянного для себя покупателя. Как бы ни к кому не обращаясь, он сказал:
– Я смотрю на этих людей, и у меня такое впечатление, что я на кладбище.
Вокруг него тут же образовалось пустое пространство. Кладбище возможностей своего рода.
Потом он предпринял попытку войти в американскую живопись через академические круги. Пригласил на день рождения нескольких своих стареющих почитателей одесской поры и профессора Сити-колледжа, на которого он поставил все. Плешивый старец когда-то написал труд о Бурлюке.
– А что, мы же с Дэвиком учились в одном заведении! – заявил хозяин дома.
К встрече написал работу в бурлюковском стиле. Баба с морячком пьют чай из самовара на фоне одесского маяка. Очень много неряшливо наложенной краски, которую к приходу профессора пришлось сушить феном.
Стол ломился от одесских яств. Икра из баклажанов, салат из помидоров и огурцов, салат из крабов, салат оливье, холодец – короче, все из соседнего русского магазина плюс две бутылки водки «Джорджи». Жена играла на скрипке. Чтобы произвести правильное впечатление на гостя, Додик надел турецкую феску и красный атласный халат. Подкрутил усы.
Вечер испортил народный художник Юра Брежнев, у которого в Америке все складывалось так хорошо и быстро, что он даже не успел сменить на что-то местное униформу модного парикмахера, в которой прибыл в новую страну: кожаное пальто, белый шарфик, пыжиковая шапка. И зуб золотой.
– У меня только что выставка открылась в Вашингтоне. – Сияя счастьем, он достал из подмышки кассету. – Додик, у тебя есть видик?
– Где ты видел в Америке человека без видика? – с вызовом ответил хозяин. Он открыл стеклянную дверцу тумбочки под телевизором: – Последние поступления гарбиджа. Инджойте!
Поставили запись. Брежнев стал объяснять. Профессор заинтересованно кивал, не переставая есть вилкой баклажанную икру. Икра падала на зеленый шелковый галстук и расстегнувшуюся на животе розовую рубаху.
Додик со своими усами, феской и красным халатом стал удаляться, удаляться, удаляться, пока не оказался на другом конце океана, в далекой Турции. С этим надо было что-то делать.
Он вышел на кухню, вскрыл ножом флакон жидкости «Блэк флэг», набрал в рот содержимое и вернулся в комнату. Он был так возбужден, что чудовищная отрава у него во рту потеряла всякий вкус. В гостиной продолжался просмотр брежневской выставки. С обезьяньей ловкостью Додик вскочил на стол (кто-то ахнул, обнаружив под халатом именинника полное отсутствие белья), щелкнул перед лицом зажигалкой и выпрыснул из себя жидкость, как выпрыскивают воду при глажке белья. Ударившее из головы Додика пламя собралось пылающим клубом под потолком, источая черный дым и удушающее зловоние.
– Спокойно! – крикнул Додик, перекрывая оханье и аханье слабонервных. – Всё в порядке! Щас оно прогорит!
Спрыгнув со стола, он метнулся в ванную и через минуту вернулся со шваброй, которой стал разгонять облако. Оно шипело, стреляло искрами, делилось на части, но потом снова собиралось, продолжая гореть и издавать зловоние. Вода с копотью летела во все стороны. Не выдержав напряжения, гости ринулись к выходу. С продолжительным стоном хрустнула под профессорской ногой скрипка.
– Файр! Файр! – не выдержала профессорская жена. – Колл найн илевн!
Последний раз я видел Додика на уличной выставке в Вашингтон-сквере. Была осень. Тащилась куда-то в Даун-таун палая листва. Пожилой человек с обвисшими усами устроился на складном стульчике возле выставленных у чугунной ограды холстов. Глубоко сунув руки в карманы пальто, поеживался на пронизывающем ветерке.
Одна работа сразу привлекла меня – женщина в пестрой ситцевой юбке сидела на кухонном табурете с попугаем на плече. За ее спиной было открытое окно с рыжими крышами и синей полоской моря.
– Ну, ты узнал ее? – спросил Додик.
Я кивнул.
На только что безучастном его лице появилась знакомая усмешка, в потухших глазах вспыхнули искорки веселья.
– Когда я увидел эту грудь, я ей сказал: «Елизавета Петровна, последний раз я видел такое на Привозе. И это были дыни. Как хотите, но я должен написать этот натюрморт!» Клянусь тебе, Димон, я давно не получал такого кайфа от работы. Это было как в молодости, когда тебе казалось что ты держишь бога за яйца. Ты делал мазок-другой, и за ними была жизнь, ты понимаешь? Не концептуальное дерьмо, а жизнь с мясом, с хлебом, с вином, ты понимаешь? Клянусь тебе, я писал ее вот так вот, без трусов, без ничего, а она сидела на этом табурете и хохотала, как ребенок.
Я знал этот смех. Этот глубокий, волнующий, зовущий смех.
– Елизавета Петровна, когда вы смеетесь, у меня поднимается давление, – говорил когда-то Юра Брежнев, и кончик его носа начинал краснеть. – Не смейтесь, пожалуйста, а то мы вас изнасилуем.
– Нет! Это невозможно! – смеялась Елизавета Петровна.
На щеках ее вспыхивал румянец, она откидывала с глаз соломенную челку.
– Это очень даже возможно, – подтверждал свое намерение Брежнев, и нос его становился пунцовым. – Одно «но»: вам это может понравиться, а у меня много других дел.
– Я вас заверяю, что если мне это понравится, так вам придется бросить все свои дела!
Брежнев сделал состояние на пестрых картинах с жар-птицами и райскими фруктами в стиле русского лубка. Продаже способствовала не столько оригинальность продукта, сколько фамилия советского генсека, которую он носил. Массовость производства обеспечивал старый одесский знакомый народного художника Лев Соломонович Г., иммигрировавший в Израиль, а оттуда перебравшийся в США. Историческая родина ему почему-то не понравилась, но Америка не давала гражданства израильтянам. Дважды беженец, он остался в стране нелегально, наняв адвоката и добиваясь вида на жительство на правах выдающейся личности. Лев Соломонович был одним из самых известных в мире экслибрисистов. Из последних сил он кормил взявшего его дело адвоката, днями и ночами разрисовывая брежневских жар-птиц. Тот приходил к нему раз в неделю, шилом набрасывал на загрунтованный серой военной краской холст типовой набор райской флоры и фауны, а экслибрисист доводил дело до конца: красное перо, зеленое перо, синее перо, золотая окантовка. Зеленое, красное, синее, золотое, красное, синее, зеленое, золотое. Спасибо на этом.
Это был нетипичный случай эксплуатации русским еврея. В то время как Брежнев зарабатывал, по слухам, порядка двухсот тысяч долларов в год, Лев Соломонович еле-еле сводил концы с концами. Потом у бедолаги обнаружили опухоль, но, к счастью, он успел получить грин-карту и пособие по нетрудоспособности, полагавшееся по возрасту. Благодаря этому ему сделали операцию и оказали всю необходимую помощь. Спросите меня, оплатил бы Брежнев лечение своего раба, если бы тот остался нелегалом, – и я не отвечу на ваш вопрос.
Такое лечение могло стоить порядка ста тысяч долларов. Так что, он должен был отдать половину своего заработка человеку, который по чистой случайности оказался на его творческом пути? Ну, не по чистой случайности, конечно. Там, в Одессе, Брежнев смотрел на тогда еще не очень старого Льва Соломоновича как на мэтра, которому делали заказы самые именитые книжники страны: писатели, актеры, академики. От их имен Брежнев возбуждался так же, как от смеха Елизаветы Петровны.
Заглядывая при встречах в глаза экслибрисисту, Брежнев с нескрываемой завистью спрашивал: «Кого сейчас обслуживаем, Лев Соломоныч?»
Дома у Брежнева были полки и полки альбомов с фотокарточками, где он был запечатлен с сильными мира сего. В Америке он даже сфотографировался с президентом. Тот с одинаковым азартом бегал за дамским полом и произведениями народных промыслов, собрав большую коллекцию того и другого.
Щедро раздариваемые жар-птицы позволили Брежневу попасть на страницы «Нью-Йорк тайме», но к тому времени это не произвело впечатления даже на Додика. Тот понял, что это еще одна газета местного значения. Просто место было такое – Нью-Йорк.
– Надо же! – только и сказал он, наткнувшись на снимок Брежнева. Тот сидел в гостиной своей роскошной манхэттенской квартиры перед работой Льва Соломоновича с петухами и фруктами.
Додик к тому времени уже устал от беготни за деньгами, славой, виллами на сказочных островах. Иллюзии вытеснил быт с его простейшими задачами – оплатой счетов за квартиру и услуги. Жизнь научила получать удовольствие от доступного. Это и называлось америкен экспириенс. Мастерской у него больше не было. Какой смысл? Когда жена уходила давать уроки музыки, он ставил мольберт у кухонного окна и рисовал сохнущее на веревках между домами белье, рыжие крыши, синюю полоску Гудзона над ними, голубей в небе. Чем меньше ему надо было от Америки, чем меньше претензий он предъявлял ей, тем ближе она становилась ему. Рисуя ее, он, сам того не осознавая, рисовал свой старый город, и это привязывало его к месту, где он теперь жил.
Иногда, помаявшись в пустой квартире, он набирал зазубренный номер телефона, и, когда на том конце провода снимали трубку, спрашивал с надеждой:
– Елизавета Петровна, вас можно сегодня побеспокоить?
– Нет, я сегодня занята, – отвечала Елизавета Петровна, ероша нежной рукой редеющий ежик моих волос. – Если вы хотите сделать педикюр, позвоните ко мне на работу и попросите Таню.
– Мне не нужен педикюр, – вздыхал Додик.
– Попросите ее, что вам надо, она вам все сделает, – строго говорила Елизавета Петровна и клала трубку.
– Возмутительно! У меня нет никакой прайваси! Никто без меня не может.
Легко ведя кончиками пальцев по моей спине, добавляла:
– Но с другой стороны, Димуля, я же тоже не могу совершенно одна в чужой стране, верно? – Дыхание ее касалось моего плеча, потом я ощущал прикосновение губ. – Кто у меня есть, ну подумай? Я же здесь никого не знаю, кроме всех вас, непризнанных одесских гениев!
Погружаясь в блаженный утренний полусон, я успевал ухватить сознанием обрывок мысли о том, кто у нее есть еще. Откуда я мог знать? Ее как-то естественно, безо всякого душевного и телесного напряжения хватало на всех. Кто-то мог в этот момент подниматься по лестнице к ее двери. Кто-то, купивший картину девушки в пестрой юбке в Вашингтон-сквере, мог сейчас стоять перед ней с разбитым сердцем. Кто-то мог остановить ее завтра на улице и предложить отдых на Карибских островах. Ей было тогда чуть-чуть за сорок, и она все еще была невероятно привлекательна. Эта копна соломенных волос, эти глаза, этот мрамор тела… Но для всех нас она была все эти годы тем самым уступом стены, цепляясь за который, мы лепились к чужой стране, строили новую жизнь, даже не думая о том, как мало в ней изменилось. Кроме пейзажа, конечно.
2003НА МАКДОНАЛДС-АВЕНЮ
Как говорил классик, не станем размазывать белую кашу по чистой скатерти. Место действия – Бруклин. Время – самое неприятное в этих местах: лето. Волна раскаленной влаги гонит по асфальту звонкую банку «Бадвайзера», пока ее с хрустом не вминает в мостовую желтый строительный ботинок Мозеса Сото. Перед нами 22-летний уголовник с наглым взглядом, разноцветным драконом на мускулистом плече и чувственными губами, за которыми открывается ряд редких, низкорослых зубов. На счету Сото поножовщина, кражи со взломом, нелегальное хранение оружия, торговля наркотиками и пара-другая выбитых зубов агрессивной в подпитии мамаши.
Второй персонаж – 63-летний Арон Лакшин. Мы видим его сквозь пыльное окно закусочной «Тоттоно», выходящей на Макдоналдс-авеню. Зажав сигарету в углу рта, Лакшин, щурясь от дыма, неторопливо кладет домино на исцарапанный пластик стола. Трое мужчин с темными невыразительными лицами, кажется, даже не смотрят на выложенные им костяшки. Над ними мохнатыми от пыли лопастями вентилятор разгоняет мух, но не жару.
Лакшин ссужает деньги. Пугающая величина процента вызвана отнюдь не алчностью ростовщика. В качестве залога под взятые деньги клиенты Лакшина, как правило, не могут предложить ничего, кроме своей никчемной жизни.
Не придавая этому никакого значения, оба героя живут через дорогу друг от друга. Их дома разделяет возведенная в начале века железная эстакада, на которой с обморочными вздохами останавливаются высадить своих угрюмых пассажиров поезда маршрута «F».
22 июня (ровно в четыре часа) на перекрестке Макдоналдс и 65-й стрит Лакшин бьет своим тяжелым «шевроле» жестяной бок неожиданно выскочившего перед ним «ниссана».
Чтобы не привлекать внимание полиции, Лакшин предлагает молодому наглецу оплатить ремонт его машины. Мозес, который ездит без прав и страховки, охотно принимает предложение. В тот же день он появляется с тощим и бледным как смерть двоюродным братом Хосе Альворадо в «Тоттоно». Лакшин кладет на стол перед ним три стодолларовые купюры и одну пятидесятидолларовую.
Хруст новеньких ассигнаций, замершие взгляды доминошников, автоматизм движений отсчитывающего деньги Лакшина определяют дальнейшее развитие событий. Волчий инстинкт Сото подсказывает ему, что его новый знакомый не хранит деньги на банковском счете. Выждав удобный момент, он забирается домой к ростовщику. Покрытый инеем сейф обнаруживается в холодильнике рядом с пачкой пельменей. Вскрыть на месте не удается, и Сото уносит его с собой, упаковав в черный пластиковый мешок для мусора.
На следующий день в «Тоттоно» появляется один из должников Лакшина и предлагает выдать имя грабителя в обмен на прощенный долг. На этот раз Лакшин вызывает копов. Те застают Сото у раскуроченного сейфа за пересчетом наличности. На смятой постели лежат оставленные в залог золотые обручалки и «Ролексы». На парня надевают наручники, и еще через час в центральном бруклинском распределителе судья беспристрастно зачитывает ему предварительное обвинение в краже со взломом и хранении краденого. С учетом старых грехов Сото, дело клонится к шести годам минимум, но благодаря стараниям шустрой мамаши обвиняемого отпускают до суда под залог.
Вернув около пяти тысяч долларов, несколько колец и часы, Сото оставляет у себя куда большую ценность – записную книжку, в которой Лакшин отмечает, кто и сколько ему должен. Потрепанный блокнот обладает колоссальным потенциалом. Его новый владелец может наведываться к должникам от имени старого. Чтобы быть от него подальше, Сото стремительно пакует небогатый фамильный скарб и уезжает к брату в Сансет-Парк. Он делает это с такой скоростью, что мамаша не успевает попрощаться с соседями, у которых хороших десять лет брала в долг до следующей получки пособия и крала всякую плохо лежавшую мелочевку, включая половики и оставленную на них обувь.
Но деловые связи так быстро не оборвать, и Сото время от времени появляется на Макдоналдс-авеню. В один из таких визитов он натыкается на Лакшина. За поясом джинсов под выпущенной наверх майкой с надписью «Олд Нэви» у него пистолет. Он знает, что встреча с Сото может произойти в любой момент, но переживает настоящее потрясение, когда сталкивается с ненавидящим взглядом.
Первоначальный план Лакшина – приставить ко лбу подонка короткий металлический ствол и потребовать свое – тут же идет прахом. В долю секунды Лакшин понимает, что у того просто может не оказаться при себе заветного блокнота, что он будет молить о пощаде и наверняка предложит поехать к себе домой, где у него тоже может оказаться оружие.
Упреждая это развитие событий, Лакшин направляет пистолет на Сото и давит на курок.
Счастье мимолетно, как звук выстрела. Бешеное желание стереть обидчика с лица земли покидает стрелка так же стремительно, как пуля покидает взмокший от ужаса пистолет.
Беспомощно опустив руки, старик смотрит на произведенные им разрушения. Жаркий ветерок колеблет редкие седые волосы на покрытой коричневыми пятнами голове.
Молодой парень, с телом рельефным, как у мраморного героя, сидит, раскинув ноги, у зеленой опоры эстакады. Его левый глаз все еще смотрит на Лакшина. На месте правого – заполняющаяся кровью дыра. Кровь стекает по щеке на майку, по ней на джинсы, по джинсам – на пыльную мостовую.
Меня интересует: что заставило 63-летнего Арона Лакшина по возвращении домой сесть на диван, отдышаться и, приставив пистолет к собственному виску, снова нажать на спуск? Боязнь того, что остаток дней он проведет в одной из клеток шумного зоопарка для двуногого зверья? Но может ли до такой степени испугать человека тюрьма, угроза переселения в которую висела над ним практически всю жизнь? В конечном итоге, какая ему была разница, где играть в домино или ссужать деньги? Насколько бы отличались его партнеры и клиенты в местах лишения свободы от тех, с которыми он сидел за столиком «Тоттоно»?
А может быть, всему виной разросшееся до вселенских размеров зерно ветхозаветного ужаса, которое посеяно в душе каждого из нас? Ужаса Каина, отобравшего жизнь у брата своего?
Нет, я не в силах понять, что заставило Лакшина пустить себе пулю в висок.
История, однако, на этом не заканчивается. Сото убит, но память о нем еще жива. Более того, смерть на время делает его еще более популярным в кругу знакомых и друзей, чем сама криминальная жизнь. Прощание с телом в похоронном доме «Каса Эстремадура» обещает стать сбором знаменитостей уголовного мира Сансет-Парка. Взломщики, уличные торговцы наркотиками, золотозубое хулиганье с пятидюймовыми крестами на груди и тощими задами, выглядывающими из приспущенных джинсов, собираются в «Эстремадуре», где героем дня будет убитый горем Хосе Альварадо.
Для прощания с братом он покупает черный костюм с пиджаком длинным, как хасидский сюртук, новую золотую цепь со звеньями толщиной в палец и перстень с рубином, который вопиет о крови.
К дому скорби его подвозит белый «джип-стрэч», асфальт под которым сияет сиреневым светом. Следом за убитым горем братом выбирается подруга покойного – высокая черноволосая девушка лет двадцати трех с очень большой грудью. Впечатление такое, что она еще не научилась носить ее так, чтобы это не обращало на себя внимание. По одним сведениям она родилась в Матанзасе недалеко от Гаваны, по другим – в Белгород-Днестровске, расположенном в стране, название которой напоминает русское слово «окраина» и блестяще определяет ее географическое положение – где-то между Трансильванией и Тувинской республикой на широте Баку. Сама девушка была слаба в географии и, положи перед ней карту, затруднилась бы показать место своего появления на свет. Но в любом случае провинциальность происхождения определила ее судьбу. Слишком много сил и времени было потрачено, чтобы добраться до Нью-Йорка. На пути длиной в несколько лет были торговцы живым товаром, изнасилования, выданные за любовь, и любовь, похожая на изнасилование, нищие аферисты с даром сказочников, создатели порнографических фильмов, дурная болезнь и ребенок, родившийся мертвым в Сан-Диего.
Она появилась в жизни Мозеса Сото одновременно с деньгами и еще не успела привыкнуть ни к роли его подруги, ни к роли вдовы. Последний поворот событий принес новую роль, о которой можно только догадываться по тому, как девушка, уверенно взяв за руку Альварадо, поправляет короткое черное платье, как, касаясь бедром спутника, направляется в похоронный дом, где они садятся в первом ряду партера прямо перед сверкающим полировкой гробом.
У Мозеса Сото безучастное лицо, восстановленное работниками похоронного дома с помощью воска и румян за 350 долларов. Рядом с ним сидит с таким же неподвижным восковым лицом мать. Пастор уже прочел молитву и со вздохом перепоручил душу убитого потусторонним силам, без особой надежды на то, что они доставят ее туда, где она наконец обретет покой.
Среди рядов плюшевых кресел, напоминающих красные волны в золотой окантовке, переговариваются вполголоса нарядно одетые молодые люди. Негромко и со знанием дела они ведут беседу о том, что жизнь человеку дается только один раз и прожить ее надо красиво, в обществе серьезных мужчин и преданных женщин, – и тогда прощанье не будет особенно горьким. Говоря это, они легко касаются спрятанных под одеждой пистолетов.
Пальцы рук Альварадо и его подруги сплетены. Все, что возникло в эти дни между ней и братом ее скоропостижного любовника, продолжает расти и крепнуть, как стена, отделяющая их от носа и сложенных на груди рук, выступающих над полированным бортиком.
Временно простившись с братом, Альварадо войдет с девушкой в номер с широкой постелью, над изголовьем которой висит картинка – Иисус с желтым нимбом над головой. Соединив ладони, Спаситель деликатно смотрит в потолок, чтобы не смущать пары, сменяющие друг друга у его ног.
В то время как девушка принимает душ, Альварадо, закатав рукав, беспощадно дырявит руку в поисках вены. Наконец мощная волна тепла подхватывает и поднимает его. С ее высоты он видит направляющуюся к нему обнаженную женщину с кроваво-красным ртом. Он протягивает к ней руки и внезапно обнаруживает, что это не женщина, а сама Смерть, оскалив гнилые зубы, заглядывает ему в лицо.
Серый утренний свет медленно заливает комнату, где лежат с широко открытыми глазами девушка и покойник, так и не успевший познать ее. Идти ей в этом городе не к кому. Все, что остается, – это терпеливо ждать, когда за окном вскрикнет сирена и голубые вспышки полицейских мигалок дадут знать, что о ней снова кто-нибудь позаботится.
2000
КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ
Первую в своей жизни кредитную карточку Свердловы отправились обмывать в турецкий ресторан «Диван», что на Макдугал, недалеко от пересечения с Бликер. О заведении положительно отозвался ресторанный критик «Нового русского слова». Место для парковки нашли кварталов за пять, едва втиснулись. Потом по ошибке двинулись в другом направлении. Потом Наташа пожаловалась, что, хотя шуба теплая, легкие туфли на шпильках – не самая удачная обувь для мартовского вечера. В общем, походив взад-вперед минут пятнадцать, нашли они этот «Диван», и усатый янычар, приняв у Наташи шубу, провел их к столу. Место понравилось – голые кирпичные стены, свечки в мелких стаканчиках, батареи бутылок на полках.
Заказывал Вячеслав Михайлович, который любил хорошо поесть и при случае повторял не без иронии, что-де в жизни потеряно все, кроме аппетита. У себя в Одессе он знал шеф-поваров лично, все они когда-то были его студентами – он работал преподавателем физкультуры в поварском ПТУ. Когда он заказывал, допустим, обычные вареники в «Украине» на Ласточкина, то говорил официанту: «Скажи Вите, что Свердлов просил положить больше жареного лука». Фамилия у него была запоминающаяся, и Витя, вытирая руки полотенцем, сам сопровождал глечик с варениками к столу высокого гостя. Повара любили его, как любят человека, способного оценить хорошую работу.
В «Диване» они заказали на закуску комбинированное блюдо, на котором было, значит, запоминайте: долма, гумус, бабагануш, маринованные маслины, печеные баклажаны под ледяным цациком и треугольные такие пирожки из слоеного теста с сыром. Горячие лепешки лежали рядом в соломенной корзинке. В качестве основного блюда подали люля-кебаб, от одного аромата которого в рот ударяла такая мощная волна слюны, что человека неподготовленного могла и со стула сбить. Но Свердловы были людьми подготовленными. Они только сделали глубокий вдох-выдох и придвинули к себе тарелки.
Когда им подали турецкий кофе и облитую сладким медом баклаву, они решили перекурить.
– Расплачусь пока, – сказал Вячеслав Михайлович, предвкушая момент, ради которого и был затеян культпоход.
– Сережа! – позвал он официанта.
Он всех официантов звал Сережами, и все они на это имя откликались. Янычар Сережа подошел.
– Чек, – сказал Вячеслав Михайлович на чистом английском языке.
Сережа поклонился и через минуту подал серебряный подносик с чеком. Свердлов внимательно изучил его и приступил к церемонии запуска карточки в большую жизнь. Сперва он легонько, двумя ладонями прихлопнул себя по груди, как бы проверяя, в каком из внутренних карманов пиджака спрятался от него шалун-бумажник. Потом сунул руку в левый карман. Задержав ее там на секунду, достал. Раскрыл. Извлек карточку и, на секунду зафиксировав ее в воздухе, положил на подносик. Готово!
– Сорри, онли кэш, – негромко сказал Сережа, но эти тихие слова произвели на Вячеслава Михайловича, как любят говорить газетчики и начинающие писатели, эффект разорвавшейся бомбы. Его просто контузило этими словами. Контузило и присыпало трехметровым слоем земли. Сережа тем временем вежливо поклонился и ретировался.
Дело было плохо. Начать с того, что весь словарный запас Свердлова был предельно ограничен, при этом большей частью нецензурен. Как-то так выходило, что матюги запоминались первыми. Одна только перспектива объяснений с официантом страшила его, как ребенка страшит визит к дантисту. Между тем объяснение было неизбежно. В кошельке у него лежали аварийные долларов шестьдесят, но должен был он – восемьдесят пять плюс чаевые.
– Я в туалет на минутку, – Вячеслав Михайлович поднялся.
План у него созрел с той фантастической скоростью, которая обычно сопутствует самым безумным и категорически невыполнимым начинаниям. План был простой, как не знаю что. Если в туалете есть окно, он вылезает на улицу, идет в ближайший банк, берет в банкомате наличные, тем же манером возвращается и, ни на минуту не роняя человеческого достоинства, расплачивается с басурманами.
Окно в туалете имелось. Высоковато было, но он – одно слово физкультурник – ногу поставил на унитаз, вторую – на водопроводную трубу, подтянулся, извернулся… короче, вылез. Спрыгнул, правда, неудачно – чуть подвернув ногу. А распрямившись, обомлел. Даже, я бы сказал, не обомлел, а был контужен вторично. Он стоял ни на какой не на улице, а в черном и сыром, как могила, колодце, и только одно окошко светилось в нем – окошко туалета, из которого он только что выбрался. И наверху еще глупая звезда мерцала в ледяном мартовском небе. И все.
Он вернулся к стене, чтобы лезть обратно в спасительный сортир, но тут уже ничего не было: ни унитаза, чтобы поставить ногу, ни водопроводной трубы, чтобы подтянуться, ничего, кроме плотно пригнанных друг к другу кирпичиков глухой стены. Со словами: «Не может быть такого, не может быть, чтобы не было», – Вячеслав Михайлович стал на ощупь обходить дворик. И нашел-таки, нашел сеточную дверь и едва различимые ступени за ней увидел, которые вели в какую-то другую темноту. Напрягая зрение, стал всматриваться.
Что-то там виделось ему вдалеке. Вроде бы еще какой-то дворик со щелью сбоку, из которой сочился сероватый свет и, кажется, даже долетали звуки проезжавших автомашин. Кажется. Он потряс дверь, проверяя крепость замка. Дверь была хлипковатой, и потому он стал действовать решительно. Коротко развернувшись, ударил в поперечную перекладину плечом, отчего дверь с неожиданной легкостью распахнулась, и он скатился по ступенькам во мрак, встретивший его громом пустых мусорных баков. Видимо, он потерял на минуту-другую сознание, поскольку, открыв глаза, ничего вокруг себя не увидел и даже не сразу понял, где он. Потом вспомнил. Потрогал голову – мокрая, конечно. Лизнул палец – соленый… Стал всматриваться. Вроде бы лежал он в каком-то коридоре. Справа мутно желтел проем, ведший во двор, из которого он сюда, так сказать, прилетел. Слева так же мутно серел другой, из которого мог быть выход на улицу. Хотя – мог и не быть.
Поводив перед собой и по сторонам руками в поисках опоры и не найдя ее, встал на четвереньки и пополз. Таким вот макаром Вячеслав Михайлович добрался до каких-то новых ступенек и взобрался по ним в другой дворик. Здесь он поднялся на ноги, но тут его сильно качнуло, и сразу тошнота ударила под дых, да так, что полетели наружу все эти пирожки слоеные с долмой и люля-кебабом в шардоне калифорнийского разлива. Держась обеими руками за стену, Свердлов с надрывом освободил организм от турецких деликатесов. Ничто не должно было обременять его на неожиданном вираже судьбы. Он ослабил галстук, расстегнул непослушными пальцами верхнюю пуговку нарядной розовой рубахи и двинул вдоль черной стены.
В скором времени он снова ткнулся в сеточную дверь. Пошатал осторожно. Эта крепко держалась. И замочек тут висел, как говорили на родине, амбарный. Подналег, да сил не осталось. Но тут уже облегчение было – там, за очередным двором с запаркованными на ночь автомашинами, снова виднелись ворота, уже широкие, и за ними светились окна, уголок витрины выглядывал, такси проехало, а за ним еще. Он снова потряс дверь и крикнул слабо, осваивая легкие: «Хэлп!» И снова, но уже чуть погромче: «Хэлп ми!» Но не менее полусотни метров надо было лететь слабому еще его голосу.
И вдруг перед ним появился человек. Из каких-то коробок, стоявших за сеткой у стены, выбрался и подплыл к нему, освещенный смертельным светом луны. Черныш какой-то. Смрадный, как тяжелое инфекционное заболевание. Спросил чего-то непонятное и стал осматривать его пиджак, голову мокрую, руку с часами, как рассматривает мародер мертвяка, который никуда уже от него не денется.
– Че пялишься, шахтер ты хренов? – сказал Свердлов выпускнику Института Дружбы народов имени Патриса Лумумбы, бывшему товарищу Франсуа Музону. Этот товарищ в свое время получил диплом преподавателя русского языка и литературы, вернулся в родную Доминиканскую Республику, но, не найдя работы, перебрался в Соединенные Штаты, где крэка оказалось куда больше, чем вакансий славистов. – Полицая мне надо. Давай, друг, гоу, за полицаем. Гоу! Выручай. Хэлп мне делай. Андерстэнд ты меня или не андерстэнд?
Звуки приобретенного в забытой уже жизни языка внезапно открыли какой-то клапан в перепутанных мозговых извилинах бывшего товарища Музона. Взявшись обеими руками за железную раму двери и приблизив лицо с поломанными зубами к сетке, он вдруг заговорил:
– Мчаца тючи, вьюца тючи, невидимкою люна освещает снег летючий, мютно ньебо, ночь мютна…
Не веря своим ушам, Вячеслав Михайлович отшатнулся. Пришелец же, вытаращив глаза и водя над головой скрюченной рукой, продолжал:
– Мчаца бьесы рой за роем в беспредельной вишинэ, визгом жялобным и воем надривая серцэ мнье.
– Братан, – остановил чтеца-декламатора Вячеслав Михайлович, – ты давай бросай про бесов. Ты лучше выпусти меня из этой мышеловки. А то ведь замерзну на хрен. Холод-то собачий, а я, гляди, в одном пиджачке. Ну давай, родной, иди. Позови кого-то, как там по-вашему – копа, что ли.
– Копа? – братан раздумчиво почесал затылок.
– Нуда, копа, – занервничал Вячеслав Михайлович. – Да не бойся, не тронет он тебя. Скажешь: человек в беду попал, надо выручить. Тебе еще, может, премию какую дадут, а?
– А пятерку не одолжишь до стипендии, а? – спросил по старой памяти доминиканец.
– На, родной, на, – трясущимися руками Вячеслав Михайлович достал бумажник и, поскольку других купюр не было, дал двадцатку.
– Спасибо, дрюг, – сказал бывший товарищ Музон и пошел, покачиваясь, за подмогой.
О своей миссии несостоявшийся педагог забыл, как только сменял купюру на два пакетика крэка у промышлявшего на углу дилера, выпускника одесского артиллерийского училища из Суринама по кличке Собака. Чем-то он на нее смахивал. Может быть, даже мордой. Скорей всего мордой. Что до Муз она, то где-то так через час, плавно переплывая Бликер, он увидел, как двое полицейских, заламывая руки женщине в шубе, пытались пригнуть ее к капоту патрульной машины. Женщина истерически визжала на русском языке: «У меня нет денег! Не смейте со мной так обращаться!!!» Увидев полицейских, Музон вспомнил, что зачем-то они ему были нужны, но к этим сейчас лучше было не приближаться.
«Фашисты!» – кричала между тем женщина в шубе и, глядя на нее, Франсуа Музон подумал, что эта душераздирающая сцена могла быть на самом деле внеплановой галлюцинацией и означала, что в данный момент он не переходит улицу, а лежит в своей коробке за автостоянкой.
Интересно, что почти такую же галлюцинацию в тот момент видел и Вячеслав Михайлович Свердлов. Как и полагается любящему мужу, он уже много чего нафантазировал про жену, оказавшуюся посреди незнакомого города без единого английского слова и американского доллара за душой. Жена была младше его на хороших лет пятнадцать, и, как это случается, чем больше разница в возрасте супругов, тем сильнее работает фантазия у того, кто постарше. И вот эти две воспаленные мысли – музоновская и свердловская – поползли, цепляясь за урны, парковочные счетчики и светофоры, друг навстречу другу и встретились на углу Бликер и Макдугалл. А поскольку их было две, то и вышло так красочно и звонко, как в кинотеатре «Сони» с широким экраном и многоканальной стереосистемой. Она им: «Фашисты!» А они ее лицом об капот – ба-бам! Но это были только дурные мысли и ничего больше. В жизни такое крайне редко случается. Мы сами знаем о считаных случаях применения полицейскими чрезмерной силы, о чем газеты захлебываются месяца по два, пока мэр не обещает лично спустить штаны со всех виновных.
Но вернемся к Вячеславу Михайловичу. Сперва он пытался для обогрева стынущего организма подпрыгивать, притопывать и делать разные физические упражнения. Но постепенно пенсионный возраст взял свое. И тогда Вячеслав Михайлович присел на корточки и обхватил себя за плечи. В этот момент он с необыкновенной ясностью ощутил, на каком тонком волоске висит человеческое счастье и сама жизнь. Как малейшая какая-то закавыка, дурацкая совершенно случайность может прихлопнуть его, ни в чем особенно и не повинного, гробовой крышкой. Потому что еще неизвестно, когда это говорящее по-русски привидение приведет сюда полицейского или хотя бы вернется само. И от своего бессилия он заплакал.
Остывая на ночном морозце, Вячеслав Михайлович плакал сперва неумело, с некоторым трудом выдавливая из себя стоны и слезы, но постепенно наловчился. И чем лучше он плакал, тем жальче ему становилось самого себя. Он даже уже видел, как на туманном рассвете, под звуки песни «Карузо» в исполнении Лучано Паваротти и Лучо Далла кто-то из владельцев запаркованных в том, другом, дворе машин увидит его окоченевшее тело.
Есть мнение, что такие вот слезы, исторгнутые, как говорится, из глубины души, очищают эту душу и доходят туда, куда они должны дойти. Так вышло и на этот раз. Рыдания услышал некто Свисток. Почему его так прозвали, я расскажу как-нибудь в другой раз, а пока только ограничусь сообщением, что окно его спальни выходило в тот самый колодец, на дне которого плакал мой герой. Свисток услышал рыдания во сне, и сначала ему показалось, что это он сам плачет. У него для этого были все основания. На днях он узнал, что из простого носителя вируса иммунодефицита человека он стал обладателем полновесного СПИДа. Помимо этого, его бросил старый любовник, который стал жаловаться на то, что он свистит не так, как в прежние времена. Врал, конечно, сволочь. Нашел молоденького, вот и все. Но потом другая мысль вкралась в спящее сознание Свистка – о том, что сам он так долго плакать бы не стал. Дело в том, что он работал редактором в одном «голубом» еженедельнике и не мог допустить, чтобы какое-то действие, в том числе и плач, продолжалось слишком долго. Это грозило потерей читательского интереса. И от этой мысли он проснулся. А рыдания между тем продолжались.
– Ы-ы, Нату-у-уля моя, – подвывал кто-то за окном, – Наточка, где ты, солнце мое, у-у…
Свисток встал с постели и, набросив на острые плечи одеяло, подошел к окну. Подняв раму, высунул голову в ночь и внизу увидел сидящего на корточках человека.
– Эй, мен, вот-с ап? – позвал он его.
Человек замолчал. Потом, словно не веря своим ушам, поднялся и произнес неуверенно в темноту:
– Господи, ты ли это? А я уже решил, что ты не придешь.
– Уа-уа? – не понял Свисток.
Мужчина наконец догадался, что говорили с ним из открывшегося где-то вверху окна, и, протянув в направлении Свистка руки, взмолился:
– Хэлп ми. Плиз, хэлп ми!
– О-май-гад! – выдохнул Свисток, хватаясь за сердце. – А-м-каминг! А-м-каминг!
Как подхваченный ветром лист, он вылетел на кухню и, схватив нужный ключ, бросился вниз. И на этом мы оставим их с надеждой, что Свистку, уже к Новому году испустившему свой последний свист, зачтется этот душевный порыв. Что до освобожденного наконец Вячеслава Михайловича, то, чертыхаясь, он захромает в ближайший банк, чтобы снять деньги, а оттуда – в «Диван», где его ждет переволновавшаяся Ната. Но прежде чем подойти к ней, он на минуту задержится в дверях и, посмотрев со стороны на невероятно элегантную худощавую женщину с короткой стрижкой и чудесными карими глазами, подумает, как ему все-таки, холера в бок, повезло в этой жизни. Просто невероятно повезло, а все эти кредитные карточки и подобная дребедень – дребедень и есть. И ничего больше. Сев в свой не очень новый «бьюик», они поедут домой и, устроившись на красивой итальянской постели ложечками, тихо заснут.
Ну вот, пожалуй, и все. А что до того, что кому-то пригрезилось на продутой ночным ветром Бликер-стрит, так это только пригрезилось и будет забыто, как забывается все плохое, увиденное в дурном сне.
1998
УБИЙСТВО НА НОЙВАЛЬД-ШТРАССЕ
Григория Гольдфарба убили в пансионате «Нойвальд-хаус» на окраине Вены. Он появился здесь в девятом часу вечера 9 января 1989 года. Рваные полосы мокрого снега косо пересекали черные квадраты окон, выходивших на пустынную Нойвальд-штрассе. С Гольдфарбом была Ольга Нунц, показания которой помогают частично восстановить события.
Григорий пропустил свою спутницу вперед и, отряхнув метелочкой снег с брюк и ботинок, прошел в холл. За стойкой администратора дремала седая старушка.
– Добрый вечер, фрау Борман, – поздоровался он.
Та открыла глаза, водрузила на нос очки и, внимательно всмотревшись в лицо посетителя, сказала бесстрастно:
– Гольдфарб. Я запомнила вашу фамилию, потому что такая же была у прежнего владельца гостиницы. Он умер.
Он ожидал, что администраторша проявит хоть видимость расположения к давнему постояльцу, но от нее повеяло такой холодной отчужденностью, что ему стало не по себе.
Пока Григорий заполнял гостиничный бланк, фрау Борман сняла телефонную трубку и негромко отдала распоряжения.
Дверь номера была открыта. Пакистанка лет пятидесяти застилала постель. Пряча взгляд, она приняла два доллара чаевых и исчезла.
– Я приехала к нему около девяти вечера, – рассказывала Ольга следователю венской прокуратуры Йозефу К., ведущему дело об убийстве американского туриста. – Мы познакомились здесь, в Вене, около года назад. Вчера он позвонил мне и сказал, что хочет повидаться.
Йозеф К. выглядел как бухгалтер, смертельно уставший от конторской тоски. Лысый мужчина лет пятидесяти пяти с отечным лицом, в мятом твидовом пиджаке с черными замшевыми налокотниками.
– Вы видели убийцу?
– Нет, я услышала выстрел, когда была в ванной.
– Вы не слышали, как открылась дверь?
– Нет, я только услышала выстрел. После этого я встала за дверью и ждала. Потом щелкнул замок, и я поняла, что он ушел.
– Кто?
– Тот, кто стрелял.
– Дальше, – следователь зевнул, как бы демонстрируя безразличие к делу и одновременно то, что торопиться ему некуда.
– Дальше в номер вошла горничная и закричала. Потом я вышла из ванной. Потом вызвали полицию.
Следователь достал из ящика стола фотографию и поманил Ольгу пальцем. Та наклонилась к столу, и он подвинул к ней снимок:
– Это то, что вы увидели, выйдя из ванной?
Гольдфарб лежал на постели с разбросанными в стороны руками и головой, провалившейся между двумя темными от крови подушками.
– Да, – она отодвинулась.
– Вы не австрийка? – спросил Йозеф К., пряча фотографию в стол.
– Я русская. – сказала Нунц. – Мой муж немец. Мы живем в Ганновере.
«Русские мужики предпочитают русских любовниц, – подумал Йозеф К. – Конечно, после секса им же еще нужно поговорить по душам! Боже, если бы только напоить эту сухопарую стерву и лечь с ней в постель, то сколько дел можно было бы закрыть наутро? Десять? Сто?»
На допросе Ольга Нунц не сообщила немаловажную деталь, которую мы обойти не можем. Находясь в ванной, еще до того, как хлопнул выстрел, она, протянув руку к крану, замерла – в комнате кто-то коротко и жестко скомандовал на чистом русском языке: «Молчать!» Мгновенно осознав, что голос принадлежит не Гольдфарбу, она неслышно отступила за приоткрытую дверь.
Что касается требования молчать, то оно было практически бессмысленным. При виде убийцы страх парализовал Григория. А вошедший взял его, как непослушного ребенка, за ухо и, больно прижав глушитель к его левому глазу, нажал на спуск.
Гольдфарб родился в солнечной, укрытой ласковыми платанами и прозрачными акациями Одессе. Днем он торговал валютой возле «Лондонской» и «Красной», ночи просиживая за карточным столом. В юности его несколько раз жестоко избивали за непростительные ошибки при «ломке» долларов. Благодаря этой суровой школе, двадцатилетие он встретил непревзойденным мастером своего дела.
Инфляция первых постсоветских лет убила представление о его истинных доходах. Скажу лишь, что его путь из Одессы в пограничный Чоп был усеян купюрами самого высокого достоинства. В Чопе хмельные от его щедрости таможенники желали ему счастливого пути, как родному.
И вот они в Риме. Его жену Валентину, сидящую за чашкой капуччино на Пьяцца ди Република, неторопливо листающую модный журнал, можно было принять за скучающую от достатка жену крупного бизнесмена. В это время Григорий с тремя фотоаппаратами на груди и пятью парами командирских часов в каждой руке перекрикивал шум и гам грязной Американы: «Сувенир ди руссо! Троп-п-по бене! Но костозо!»
Перепродавая привезенное другими, Григорий заработал около двадцати пяти тысяч долларов.
Валентина намеревалась стать манекенщицей. Америка представлялась ей журналом мод, на одной из страниц которого она должна была занять свое законное место. У нее, несомненно, были для этого данные. Пытаясь восстановить ее образ, я обнаруживаю, что он возникает лишь в коротких вспышках памяти, в полуоборотах, полушагах, полуподъемах плеч в самых живописных местах моей провинциальной Одессы: у кромки прибоя, бьющегося о бетонные ступени аркадийских Плит; у борта катера, вырвавшегося за волнолом яхтклуба; с сигаретой в аристократических пальцах за столиком «Красной».
Личность Гольдфарба все же выходила за рамки просто удачливого торгаша и афериста. Он был из породы обаятельных мерзавцев, с чувством юмора, заразительным смехом и сияющим взглядом, которые маскировали его волчью натуру. Кроме того, в нем была толика пусть бандитского, но благородства. Я имел случай убедиться в этом в те далекие годы, когда служил корреспондентом морской газеты. Ее редакция помещалась на улице Пушкинской, в здании с высокими узкими окнами и огромными пустынными комнатами. По утрам мы с заведующей отделом культуры этого издания пили кофе в «Красной». Слушая сказочные истории о ее бесчисленных увлечениях, я втайне мечтал стать ненадолго одним из них. Я слушал ее, наблюдая по ходу неторопливого рассказа жизнь приходящих в себя после трудовой ночи проституток и фарцовщиков.
Григорий сидел за соседним столиком со своим напарником Сашей Шкетом, тогдашней подругой Олей Спицей и старым шулером Люсиком Дворкиным.
Шкет, развалясь в кресле, тыкал сигаретой в лицо своему печальному собеседнику:
– Люсик, кто ты вообще такой? Что ты из себя представляешь? Ничего. Ну, ты облапошил пару лохов, а дальше?
– Ну, положим, я облапошил не пару лохов, – хорохорился Люсик.
– Ты – ноль, Люсик, – говорил Шкет, упиваясь собственной состоятельностью на фоне чужого ничтожества. – Тебя мама должна была назвать не Люсиком, а Ноликом, ты понял?
Сидевшие вокруг захохотали, а Шкет продолжал:
– Скажи, кого ты знаешь? Ты знаешь хоть одного известного человека? Хоть одного музыканта, режиссера, писателя?
– Зачем мне их знать? – пожимал плечами Люсик.
– Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты. Правильно? Кто твой друг, Люсик? А?
И тут Григорий повернулся ко мне и сказал:
– Ярмолинец, я хочу тебя представить Люсику. Дворкин, это – Ярмолинец, писатель.
Бледный от обиды и волнения Люсик поднялся и, протянув мне подрагивающую руку, сказал с благодарностью битой собаки:
– Здравствуйте, я – Люсьен Наумович Дворкин. Можно просто Люсик.
В этот момент, я помню, глаза Спицы сияли. В такие минуты женщина влюбляется в мужчину за широту натуры, за щедрость души, за благородство.
Они тогда постоянно были втроем. Оля Спицына, Григорий и Саша Поздняк по кличке Шкет. Они промышляли на круизных судах, ходивших из Одессы в Сухуми и обратно. Спица заманивала «лохов» за карточный стол, а Шкет с Григорием раздевали их. Это была легкая и радостная жизнь, безвозвратное счастье, которое Григорий оценил с большим опозданием. Потом Ольга вышла замуж за заезжего немца-инженера, и Григорий неожиданно для самого себя затосковал.
Он женился на закройщице из местного Дома моделей. Она была хороша, Валентина, Валентина… нет, не могу вспомнить ее фамилию. Слишком простая и гладкая. Сидорова, Петрова, Иванова, что-то в этом роде. Высокая худощавая блондинка с голубыми глазами. Ей было безразлично, чем он занимается, она хотела уехать. Она жила в мире своих иллюзий, изобиловавшем дорогими тканями, мехами, красивой обувью, косметикой.
Брайтон-Бич произвел на них тягостное впечатление. Они увидели одну из ипостасей улицы Советской Армии, причем не в том ее районе, где она, плавно изгибаясь и минуя тонущий в платанах Приморский бульвар, уходит к картинной галерее времен Ришелье, а в совершенно противоположном. Там, где, залитая пивом и мочой, она приближается к Привозу, запутавшемуся в паутине темных улочек со зловонными овощными лавками, винными подвалами, ханыгами и их испитыми подругами.
Они быстро обнаружили, что американская яркость упаковок уступает яркости свежей зелени, горячему земляному аромату помидоров, пропитанному солнцем меду. Все это осталось дома.
Их встретил приехавший на два месяца раньше Шкет. Приняв новых американцев в «Одессе» на Тринадцатом Брайтоне, он говорил с видом знатока:
– Гришок, это чисто работный дом, в натуре. Перед тобой открыты все пути. Хочешь – иди работай в такси, хочешь – торгуй на улице хот-догами. Если ты будешь пахать двадцать четыре часа в сутки, так это – золотое дно. Не хочу тебя расстраивать, – делал он вывод, – но, кажется, мы не туда попали.
Его подавленность передавалась новоприбывшим.
«Небоскребы, небоскребы, а я маленький такой!» – старался усатый человек на сцене.
– Шкет, прикинь, это чисто Токарев, – попытался воспрять духом Гольдфарб.
– Да и хер с ним, – отмахнулся Шкет.
Гольдфарбы поселились в двухкомнатной квартире на Четвертом Брайтоне. Пока их содержала НАЯНА, Григорий не решался открыть счет в банке. Он присматривался, слушал, что говорят знающие люди. Предложения вступить в бизнес были самыми разными – от покупки винного магазина до торговли наркотиками. Шкет с поразительной скоростью сел.
Он приобрел в Пенсильвании четыре «Форда-Торуса» и, подсунув доверчивым американцам «куклу», едва покрывшую стоимость одного, перепродал их в Бостоне. Шкета погубило то, что он не знал английского и мог действовать только с переводчиком – Яником Ройтером. Тот жил в Филадельфии с мамой, не отпускавшей его из дому больше чем на полчаса. По истечении этого времени, она начинала вести долгие беседы с телевизором и, если ей случалось выйти на улицу, по многу дней не могла найти обратную дорогу домой. Обычно ее привозили в полицейской машине. Мать Ройтера тронулась через год после приезда, когда старшего брата Яника зарезали латиноамериканские коллеги, не поделившие с ним выручку от продажи пятнадцати килограммов марихуаны.
Будучи привязанным к Ройтеру, Шкет и во второй раз поехал в Пенсильванию, где напоролся на дилера, которого предупредили о возможном появлении мошенника, ловко управляющегося с пересчетом толстых пачек наличных. Он снова вставил продавцам «куклу», после чего оказался в полицейском участке городка Лихэйтон. Перепуганное сознание судорожно пыталось освоить незнакомое слово: «Охламон! Лэхайм! Охламон! Лэхайм!»
Гольдфарб все больше склонялся к тому, чтобы купить видеопрокатный пункт, и его свели с человеком из Киева, с которым у него были общие знакомые. Тот искал компаньона. Их совместное предприятие так и осталось нереализованным.
В день, когда НАЯНА известила Григория о снятии с довольствия, его обокрали. Он еще вникал в содержание официального письма, когда, выйдя из лифта, увидел, что дверь его квартиры не заперта. Сквозняк то приоткрывал ее, то прихлопывал, лязгая замком. Окно гостиной, выходившее на пожарную лестницу, было открыто настежь, и ледяной холод вливался через него в перевернутый вверх дном дом. Замок с решетки, предусмотрительно поставленной на окно, был аккуратно снят и лежал на полу. Телевизор не унесли только потому, что по размерам он не прошел в окно. Видеомагнитофон отсутствовал. Среди разбросанной одежды лежал пустой дипломат с раскуроченным номерным замком, где хранилось все состояние Гольдфарба.
Соседи утверждали, что ворует суперинтендант. Он жил на первом этаже. Пьяная и грязная его подруга с ужасным синяком под глазом открыла дверь и сказала, что супер болен. Григорий отшвырнул ее и вошел в квартиру, преследуемый испаноязычными проклятиями. Супер спал в скомканных и грязных простынях мертвым сном смертельно пьяного человека. Конечно, Гольдфарб мог дождаться, когда тот протрезвеет, и вышибить из него деньги вместе с жизнью. Но, ворвавшись в квартиру, он засветился, потерял алиби и поэтому отложил расправу до лучших времен.
Когда Григорий в роскошной кожаной куртке и Валентина в рыжей лисьей шубе пришли оформлять пособие велфэра на Ист 16-ю стрит в Манхэттене, у них потемнело в глазах. В огромном помещении, выкрашенном казенной желтой краской, дремала унылая нищета. Сбившиеся в отдельные группки русские выдавали себя взглядами, в которых ненависть к окружающему мешалась со страхом и униженной мольбой о помощи.
Григорий пребывал в таком невыносимом, черном отчаянии, что готов был бросить все и вернуться назад в Союз, где деньги искали его, а не он их.
Валентина первой нашла выход из положения.
– Иди в такси, – сказала она. – Машину-то водить ты умеешь.
– Что?! – поразился он. – А что я там заработаю?!
Очень скоро их отношения стали походить на обычные в тех семьях, где на счету каждая копейка. Она стала некрасивой и злобной, он – жадным и раздражительным. Предлагаю читателю самому уже представить последовавшие домашние скандалы, метания по городу в попытках найти нужных людей, некогда крутившихся возле «Красной» и «Лондонской», переезд Валентины к неизвестным ему друзьям в Бронкс, безъязыкость, одиночество, безденежье. Загнанный в угол, не представляющий, какой следующий шаг предпринять, он вспомнил о Спице.
Видимо, по его голосу она поняла, что отказывать ему нельзя.
Они поселились в скромной квартире с одной спальней на Мэдисон-авеню, прямо над синей вывеской банка «Чейз». Григорий надел кипу и начал посещать синагогу на Ист 83-й стрит. Он искал наставника, который мог объяснить ему, как вернуться к потерянными корням, и нашел его в румяном лице господина Жаботинского. Хаим Жаботинский держал ювелирный магазин на 47-й стрит. Несколько раз они сходили в ресторан. Первый раз с женами. Господин Жаботинский с сухонькой госпожой Жаботинской, Григорий («Какое несчастье, такая молодая, привлекательная женщина…») со своей глухонемой супругой Леей.
Григорий советовался. У него был небольшой капитал, и он хотел открыть собственное дело. Господин Жаботинский обещал помочь. Они договорились об оптовой покупке.
Жаботинский пришел к нему в пятницу утром с толстым саквояжем и двумя сотрудниками. Черные лапсердаки плотно облегали их крутые плечи. Пока Григорий, устроившись за столом, рассматривал в лупу принесенные драгоценности, глухонемая Лея подала кофе и печенье. Как обученные говорить глухонемые, она неожиданно громко каркнула, что все поданное «кошер». Гости были смущены. Лея, обворожительно улыбаясь, покинула комнату. Она не была какой-нибудь шиксой, но что-то неуловимое, развратное чувствовали в ней эти проницательные люди.
Григорий изучал товар. В бриллиантах искрилось, едва сдерживая смех, близкое счастье.
– Господа, – он поднялся из-за стола. – Я не могу сказать, что я вам не доверяю, но, выходя в банк за наличными, я бы хотел, чтобы все это полежало в сейфе.
Он снял со стены морской пейзажик, и гости увидели за ним серую дверцу. Они переглянулись, поскольку подобное развитие событий не предполагалось. Упреждая возможные сомнения, Гольдфарб открыл сейф и продолжил:
– Господа, шифр замка, как вы понимаете, знаю только я, – он взял футляры и положил их в сейф. – А ключ я оставляю вам. Я вернусь с наличными минут через пятнадцать-двадцать. Нет смысла хранить дома наличные, когда под тобой – банк.
Он постучал ногой по полу.
– О’кей, – кивнул Жаботинский и посмотрел на часы.
– Если вам понадобится что-либо, – Гольдфарб вручил ключи ювелиру, – зовите Лею.
Он указал Жаботинскому на кнопку рядом с выключателем и нажал ее. Жаботинский увидел, как в коридоре зажглась красная лампочка – и тут же в дверях показалась Лея.
Григорий махнул рукой, и она, понимающе закивав, ушла.
– Поторопимся, – сказал Жаботинский. – Сегодня пятница, я бы хотел все закончить до начала шабеса.
Когда Жаботинский произносил эти слова, Лея-Спица, открыв в соседней комнате заднюю дверцу сейфа, разгрузила его содержимое в сумку и выскользнула из квартиры. Через полчаса Жаботинский и его спутники обнаружили, что в квартире, кроме них, никого нет.
Что же, спросите вы, привело беглецов в «Нойвальд-хаус» на окраине Вены?
Видимо, натерпевшись от Америки, сам того не осознавая, Гольдфарб стремился вернуться к той черте, за которой осталось не просто его комфортабельное прошлое, но сама жизнь. Хотел ли он вернуться в Одессу? Не знаю. Для начала ему нужно было время, чтобы прийти в себя, решить, что делать с оказавшимся в его руках состоянием, и в качестве временной крыши над головой он выбрал знакомый пансионат на Нойвальд-штрассе, из окон которого открывался вид на старинный парк с белокаменными скульптурами атлетов.
Его погубил, если так можно выразиться, литературный прием, которым он пользовался, садясь за карточный стол. Как бы безбожно он ни врал, очаровывая лохов, он всегда начинал с зерна истины, вокруг которого плел липкую паутину вымысла.
– Ярмолинец, – сказал он мне однажды, когда мы сидели с ним на ступеньках аркадийских Плит, опустив ноги в Черное море моей молодости. – Мне кажется, что если бы я записывал свои прогоны, из них бы выходили готовые рассказы. Даже романы. Начинаю я всегда с правды. С чистой правды. Потом идет импровизация. Нет, это что-то от Бога. Если бы ты умел сочинять, как я, ты бы уже был Хемингуэем.
Он все же был талантливым парнем, убитый Григорий Гольдфарб, поскольку сам открыл тыняновскую формулу, согласно которой автор начинал там, где кончался исторический документ. Но вне литературы литературный метод дал гибельный результат.
Сидя в манхэттенском ресторане с четой Жаботинских, Григорий рассказывал драматическую историю своей иммиграции:
– В Вене нас поселили в крохотной гостинице «Нойвальд-хаус», и по иронии судьбы у хозяина гостиницы была такая же фамилия, как и у меня, – Шмидт. Когда нас, голодных, измученных дорогой, перетаскиванием багажа, ввели в холл и стали поименно вызывать к стойке администратора, стоявший там директор услышал мою фамилию. «Вы – Шмидт?» – поинтересовался он. На нем был прекрасный зеленовато-серый клетчатый пиджак, черные фланелевые брюки и мягкие мокасины. Вы бы слышали, как он это произнес: «Вы – Шмидт?». Как он смотрел на меня! Как миллионер на нищего, осмелившегося заявить о своем родстве. Но что меня убило – это то, как он просто-таки облапал глазами Лею. Вот когда я понял, что значит быть иммигрантом.
Госпожа Жаботинская достала из сумки белоснежный платочек.
– Нацист! – с чувством сказала она и промокнула уголки глаз.
– К счастью, ХИАС помог мне найти родственников, – продолжал Григорий, – а синагога – друзей.
«Нойвальд-хаус» стал отправным пунктом поиска, и вскоре Жаботинский знал, что фамилия афериста не Шмидт, а Гольдфарб. Как развивались события дальше? Можно предположить, что убийца уже находился в Вене и о появлении Гольдфарба ему сообщила либо фрау Борман – вот откуда эта отчужденность! Либо горничная-пакистанка – вспомните только ее опущенный взгляд, когда она принимала чаевые!
Расследовавший это дело Йозеф К., не ведая о происшедшем в Нью-Йорке, привычно списал все на русскую мафию. На это его навело неожиданное открытие – фрау Борман оказалась русской, попавшей в Австрию в годы Второй мировой войны. Девочкой-подростком работала на швейной фабрике в Инсбруке. Он, однако, не смог выяснить ее историю целиком. У фрау Борман остановилось сердце во сне, и ее переход в другой мир был безболезненным, как у праведников.
1996
ПРИКЛЮЧЕНИЕ С ГРИНКАРТОЙ Детективные записки русского репортера
1. Шурик
Шурику под семьдесят. Он невысокого роста, сухой, часто небритый и всегда с сигаретой в железных зубах. Когда он приехал в Америку, ему предложили сменить эту реликвию советского зубоврачевания на что-то менее устрашающее.
– Если вы хотите, чтобы я произвел на кого-то сильное впечатление, так это не входит в мои планы! – заявил он и остался при своих нержавеющих.
Моего героя можно часто видеть в скверике на Корбинплейс, откуда в солнечные дни доносятся голоса детворы и стук домино. Шурик считает домино жлобской игрой, и ходит в сквер с целлофановым кульком, в котором у него лежат шахматы. Шахматное поле предусмотрительно нанесено на поверхность бетонных столов трудящимися из городского управления парков. Те, ясное дело, не могли предполагать, что местное русскоговорящее население всем настольным играм предпочитает «козла». Шурик принадлежит к крохотной группе любителей шахмат, в которую входят, помимо него, отставной полковник бывшей советской армии Осип Шпигун и я. К счастью, в шахматы можно играть только вдвоем, что позволяет мне избегать полковника, которого я не переношу на дух. Проникшись благодарностью ко всем тем еврейским организациям, которые устроили ему райскую жизнь в Америке, а главное – возгордившись своей причастностью к ним, пусть даже в качестве бедного клиента, Шпигун написал книгу очерков о выдающихся военачальниках-евреях. Он начал ее с библейского Давида, который победил Голиафа, и постепенно добрался до героев наших дней. В творческом угаре он включил в свой справочник не только евреев, но и тех, в которых он подозревал таковых. В их числе оказался адмирал Нахимов, за фамилией которого, по версии этого доморощенного историка, стояло имя его еврейского папаши или деда – Наума или Нахума. Сперва он был Наумов или Нахумов, а потом стал Нахимовым. Оккам прославился своим лезвием – Шпигун для отделения всего лишнего от своих восторженных изысканий пользовался топором. С исторической точки зрения его книга имела ту же ценность, что и Протоколы сионских мудрецов, но члены местной Ассоциации ветеранов Второй Мировой войны, которые получили в Америке долгожданную возможность гордиться своим происхождением, легко прощали Шпигуну антинаучность его произведения. Им было приятно сидеть на солнечном бордвоке, дышать целебным океанским воздухом и читать, к какому героическому народу они принадлежат. Там, откуда они приехали, об этом лучше было помалкивать. Там их приучили к мысли, что основным фронтом, где они себя проявили, был Второй Ташкентский. Мотивы их интереса к творчеству Шпигуна были понятны, тем не менее меня бесило то, что их национальное самосознание подпитывалось трудом автора, не имевшего ни малейшего представления о таких тонких материях, как мораль и нравственность. Для него происхождение его героев было единственным мерилом их военного гения и человеческих достоинств. Лев Троцкий у него был и талантливым стратегом, и блистательным тактиком, и хрен его знает кем еще, но в очерке о нем у Шпигуна не нашлось полслова об ответственности этого красного упыря за миллионы угробленных им и его талантливыми соратниками жизней россиян, в том числе евреев, которым не повезло родиться в революционную эпоху.
Шурик относился к Шпигуну как к неизбежному злу. Когда я с ним впервые поделился своими соображениями об этом псевдоисторике, он пожал плечами:
– Слушай, шо ты от него хочешь? Он же военный. Но если бы ты видел, как мы с ним вчера разложили алехинскую защиту, ты бы плакал.
Потом ему, видимо, стало неловко за свой шахматный прагматизм и он добавил:
– Ты про маяковское дело не слышал?
– В смысле дело Маяковского?
– Нет, в другом смысле. Слушай сюда. Мне об этом рассказал еще мой папаша. За старую Одессу он знал почти все. Так вот, когда Троцкий был военкомом, он должен был приехать в Одессу. Так местные чекисты сделали ему подарок. Они сочинили историю, что на маяке на Даче Ковалевского засела группа контрреволюционеров, которые должны были сигналить белому десанту, чтобы те высадились и захватили Одессу. На самом деле никакого десанта не было, но на маяке работало пару человек, которые служили еще в царской армии. И этого хватило ровно на то, чтобы поставить их всех к стенке. Ты меня понял?
– Расскажи это своему партнеру.
– А-а-а… – Шурик махнул рукой. – Всех идийотов не перевоспитаешь.
– А он не идиот.
– Нет?
– Ну во-первых, он тебе иногда ставит мат. Во-вторых, я предполагаю, что для получения чина полковника он должен был предпринять определенные усилия. И я готов поспорить на любые бабки, что там, в Союзе, он клеймил сионистов по полной программе. Как только может клеймить коммунист с «пятой группой инвалидности», которого могут заподозрить в связях с ними. Но когда кормушку прихлопнули, он быстро сменил советский мотив на еврейский.
– Все хотят кушать, – вздохнул Шурик.
– Ну конечно! Во всем виноват желудок. Я бы даже назвал аморальность симптомом язвы. И лечил бы ее у гастроэнтеролога.
– Слушай, кому может помешать хорошая клизма? – очень резонно заметил мой собеседник.
В Одессе Шурик до выхода на пенсию был следователем райотдела милиции. Он приехал в Нью-Йорк в начале 90-х, когда все то, что осталось от СССР, погрузилось во мрак, нищету и голод, которым, казалось, не будет конца. Он получал копеечную пенсию, его дочь Лариса работала, не получая зарплаты вообще. Как это произошло тогда со многими, они вспомнили забытых еврейских родственников, или просто сочинили их, уехав в США по липовому вызову. Я знал старых иммигрантов, приехавших в Америку в 70-х, которые относились к этой постсоветской иммиграции с презрением. Сами они уехали от советской власти, а эти уехали после советской власти, при которой у них была вполне сносная жизнь. По иронии судьбы послевоенная иммиграция, сплошь состоявшая из Ди-Пи, иммиграцию 70-х окрестила «колбасной». Это звучало очень уничижительно, но согласимся – у нас на родине производство колбасы было прямо связано с политическим курсом ее производителей. И кто станет спорить с тем, что у многих людей, доживших до последних дней советской власти, были более скромные аппетиты, чем у тех уехавших, которым она не давала реализовать свои таланты в сфере бизнеса или в области культуры? Остававшиеся мирились с властью, как мирятся с плохой погодой, стараясь не замечать ее и занимаясь своими делами. Так жил и Шурик – рядовой мент, так жила его дочь Лариса, работавшая секретаршей на канатном, кажется, заводе. И так бы они и жили дальше, если бы только в один прекрасный день не обнаружили, что жить им не на что, а в окружающей среде стали доминировать типы, которых Шурик совсем еще недавно ловил и отправлял за решетку. И они не были бы одесситами, если бы не нашли спасительную еврейскую бабку или троюродную тетку.
Они поселились в нашей желтого кирпича шестиэтажке, что на углу 13-го Брайтона. Двери наших квартир выходили на одну площадку. Шурик завел знакомство со слов: «Ну так шо вы тут вообще делаете в свободное время? В шахматы, чи шо?»
Он облюбовал скамейку в нашем сквере, скоро оказавшись в центре компании собиравшихся там пенсионеров, и тут же начал разбирать их дрязги, как и полагается работнику райотдела милиции в послании. Его дочь Лариса стала работать в редакции «Репортера» наборщицей. Это придало нашим отношениям некоторый оттенок семейственности. Но лишь оттенок. Вся ее душевная энергия направлялась по телефонным проводам в Южную Каролину, где нес военную службу ее сын Коля. Год назад я отвез их всех на вербовочный пункт на Флэтбуш-Авеню, где бледная Лариса подписала документ о том, что не возражает, чтобы ее сын служил в корпусе морской пехоты. До 21-летнего возраста для подписания контракта нужно согласие родителей. Мы с Шуриком одобряли выбор Коли, мальчика спортивного и активного, который заявил после окончания 12 класса, что в колледж не пойдет, а на улице того и гляди попадет в беду. Со стороны это выглядело как проявление высокой сознательности. Мне этот подросток признался: вербовщик заверил его, что через три месяца он будет иметь собственную машину. Это резко поднимало ставки Коли среди его товарищей и особенно подружек. По окончании учебки он действительно приехал домой на черном спортивном «додже». Военным кредит предоставляли безоговорочно. Трехмесячный бут-кемп пошел парню на пользу. Он сбросил вес и вместе с тем окреп. Держался он очень уверенно и явно был доволен своим выбором. Вид внука наполнял Шурика гордостью, Лариса тоже, казалось, успокоилась. Я предполагаю, что внутренне и она была рада такому развитию событий, поскольку на учебу сына в хорошем колледже денег у нее не было, а улица со всеми ее соблазнами представляла реальную угрозу.
От Шурика я знал, что Колин отец умер, когда ему было года три. Он был старше Ларисы лет на двадцать, что поначалу обещало семейную стабильность. Но у него диагностировали рак желудка, диагностировали с большим опозданием, а борьба за продление жизни в условиях полного отсутствия лекарств оказалась невозможной. «Сгорел за два месяца», – сказал Шурик. После чего он, как говорится, заменил Коле отца. Жили они вместе. И в Одессе, и здесь, в Нью-Йорке.
Лариса была приветливой и симпатичной женщиной. Невысокая и худощавая – в отца, сероглазая, с россыпью веснушек на лице, с короткой стрижкой светло-каштановых волос и всегда на каблуках, она обращала на себя внимание, но, как я понял, второй брак в ее планы не входил. У нее был сын, был отец, был дом, и у нее явно нигде не подзуживало, если вы понимаете, о чем я говорю. Мне было немногим больше сорока, и я был холост, она была лет на пять моложе. Но ни разу за несколько лет нашего знакомства она не проявила интереса к сближению. И это при том, что свою работу она получила благодаря мне и чуть ли не на следующий день после приезда в Америку! Ждал ли я от нее благодарности? Нет! Но я, как говорится, был открыт для предложений. Она была, знаете, из таких людей, которые настолько погружены в заботы о близких, что окружающие в ее поле зрения просто не попадают. А если и попадают, то у нее нет никакого стимула, чтобы навести резкость и разглядеть в оказавшемся рядом человеке какие-то ему одному присущие черты. Но, послушайте, если она так устроена и это никому не мешает, включая меня – потенциального жениха, то о чем переживать?
Но я отвлекся. А история, о которой я хочу рассказать, началась одним погожим сентябрьским утром, когда по причине, я думаю, чисто возрастного характера я проснулся в половине седьмого утра и осознал, что спать больше не буду. Поднявшись, я почистил зубы, выпил стакан клюквенного сока, надел спортивный костюм, кроссовки и выбежал на бордвок. Дотрусив по деревянному настилу до Вест 12-й улицы, я подошел к колонке напиться и, наклонившись к ней, увидел кошелек. Он лежал в луже – очень худой и насквозь промокший. Я не отрывал взгляда от него все время, пока пил, думая, что именно здесь, под настилом, два года назад изнасиловали иммигрантку из Киева. Самому младшему из четверых насильников было 13 лет. Глядя на кошелек, я первым делом решил, что, может быть, ночью здесь еще кто-то попался в руки молодежи из видневшихся над забором Аквариума многоэтажек. Многоквартирный комплекс для городской черни носил аристократическое название «Мальборо». Я спустился по лесенке на песок и заглянул под настил. Пострадавших или следов борьбы не наблюдалось. Там и сям валялись мятые банки из под пива, которые днем подберет нищий, чтобы нажить пятерку на порцию крэка. Я вернулся к колонке, у которой теперь стояла бегунья с моей находкой в руках. Встретившись со мной взглядом, она испуганно спросила: «Это ваш?» – и протянула кошелек мне. Не дожидаясь ответа, она побежала дальше в сторону Си-Гейта.
Открыв кошлек, я обнаружил в нем несколько квитанций и в отделении для документов грин-карту на имя Ирины Кудрявцевой – черноволосого очкарика с синими губами. Я потрусил домой, держа находку в руке, в надежде, что ее кто-то заметит. Но в такую рань замечать ее было некому.
Это, значит, было в среду. Обычно среда у нас сумасшедший день – номер отправляется в типографию, и всегда находится тысяча недоделанных мелочей, но тем не менее я выкроил несколько минут, чтобы найти в телефонном справочнике двух Кудрявцевых. В одном месте со мной говорили на плохом английском с польским акцентом. Сперва очень обрадовались, услышав про гринкарту, потом потребовали по буквам произнести фамилию владелицы и, наконец, сказали с тяжелым вздохом, что такая у них не живет. По второму номеру включился автоответчик и мутный голос попросил оставить запись. Я оставил. В редакции я успел воткнуть в номер крохотное объявление о найденном документе в раздел «Разное». Да, забыл сказать: квитанции и кошелек я положил сохнуть на подоконник, а гринкарту бросил в ящик стола. Потом подумал и переложил ее к себе в бумажник. С учетом того, что большинство офисов в нашем городе убирают мексиканские нелегалы, испытывать их честность с помощью такой наживки не стоило. Не думаю, что наши уборщики лазили по столам, но, взяв добровольное шефство над таким важным документом, как гринкарта, я должен был проявлять максимальную бдительность.
Какое значение имеет для нас вся эта история с кошельком? Как нам объяснил классик, если в первом акте на стене висит ружье, то в третьем оно выстрелит. Просто так, для создания стильного интерьера, вешать его не надо. С другой стороны, в американском детективе к ружью нельзя предъявлять те же требования, что и в пьесе о тоскующих от безделья русских интеллигентах. В детективе автор умышленно вводит в рассказ необязательные детали, которые не дают читателю возможность сразу догадаться, кто убийца. Специально для выполнения этой задачи существуют такие персонажи, как Доктор Ватсон, хотя изобрел их не Конан Дойль, а нью-йоркский газетчик Эдгар По. Газетчик?! Очень хорошо, что вы слышали про «Ворона» и «Убийство на улице Морг», но на жизнь классик американской литературы зарабатывал газетной поденкой. Представьте, что По принес бы своего «Ворона» в редакцию «Репортера». Я просто вижу, как наш главред – Леон Клопман по прозвищу Лёня Циклоп – сунул бы дужку очков в рот и, откинувшись на спинку кресла, сказал:
– Эдик, это гениально, но для газеты я бы предпочел сокращенный вариант. Ну подумай, кто в наши дни способен прочесть восемнадцать куплетов? Краткость – сестра таланта и гарантия того, что читатель доберется до финала.
Эдик, наверное, поджал бы свои тонкие губки и сказал:
– Леон, я бы попросил вместо слова «куплет» употреблять более подобающее случаю слово «строфа».
– Эдик, я тебя умоляю, не придирайся к словам! Я хочу тебе только хорошего, поэтому моя рекомендация – восьми куплетов, в смысле – строф, вполне достаточно! Идеальное число – пять. Что до гонорара, то мы с тобой рассчитаемся по самой высокой расценке – двадцать пять долларов. Но ты же знаешь, мы всегда рады хорошей статье на наши иммигрантские темы. Хорошая статья – это пятьдесят долларов. Две статьи – сто. При этом я знаю, как никто: писать статью чуть проще, чем хорошее стихотворение. Я прав?
Первый гонорар По за «Ворона» составил девять баксов. Сумма кажется смехотворной, но напомню, что через год после написания своего самого знаменитого стихотворения По снял с юной женой домик в Бронксе, за который вносил пять долларов в месяц! На что хватит пяти долларов в наши дни? А двадцати пяти, которые бы ему предложил Циклоп? Не спрашивайте! Но и сегодня поэт может рассчитывать на благотворительный порыв издателя. Хотя и не такой щедрый, как в дни Эдгара Аллана По. Интересно, что первый издатель, которому По показал своего «Ворона», – это был владелец филадельфийского «Graham’s Magazine», – публиковать поэму отказался, но дал ее автору пятнадцать долларов. С барского плеча, так сказать. В дни, когда наш главред пребывает в благодушном настроении, он может пригласить забредшего в редакцию служителя муз в соседний «Dunkin Donuts» и угостить кофе с глазированым пончиком. Как мельчает литературный люд, и особенно – в иммигрантской среде!
Короче говоря, история с потерянным кошельком может быть всего-навсего трюком для отвлечения внимания. А может и не быть! Но терпение, читатель, история недолгая, ты доберешься до ее конца быстрее, чем думаешь.
Итак, впереди у меня было четыре выходных, и я собирался провести их на пляже. Сентябрь – мое любимое время года. Вода еще не остыла, а пляжи пустеют и становятся чище, радостные детские вопли, горький плач и изматывающие румбы из бумбоксов стихают. Шумный и грязный Брайтон-Бич становится неузнаваемо тихим и чистым. Я уже предвкушал, как брошу поближе к воде полотенце и поваляюсь на нежарком солнышке с только что купленным Миланом Кундерой. Книжка называлась «Медлительность». Я купил ее, только пробежав первые несколько страниц. Медлительность – это именно то, чего мне так не хватало в моей репортерской жизни. Медлительности и покоя.
Из редакции я повез газету в типографию в Квинс, на обратном пути попав в пробку. Из-за аварии перед выездом на Проспект-экспрессвей два ряда были закрыты, машины втягивались в одну открытую полосу бампер к бамперу, как черепахи. Домой я вернулся часов в девять. Ложиться спать было рано, а делать – нечего. Я настрогал себе одесский (он же греческий) салат: помидоры, огурцы, лук, брынза, оливковое масло, соль, перец, стакан белой рецины – и, употребив его с первой половиной шоу Хеннети и Колмса, пошел в сквер, надеясь сыграть партию в шахматы. Шурика на месте не было, и когда я спросил у доминошников, где он, один из них кивнул в сторону – в густой тени под платанами виднелись две фигуры. Худой был без сомнения Шуриком. Подойдя ближе, я узнал во втором Изю по прозвищу Толмач.
В прошлой жизни Изя был школьным учителем английского языка. В этой он возил безъязыких пенсионеров по разным городским организациям соцобеспечения, выясняя, почему им прекратили выплату пособия, недодали фудстемпы или еще что-то в том же роде. Брал он за эту услугу двадцать пять долларов в день и пользовался повышенным спросом. Его охотно ангажировали работающие дети, у которых не было ни времени, ни желания возить своих стариков в город и убивать время в очередях.
Изя был явно встревожен и при моем появлении замолчал.
– Это свой парень, можешь не стесняться, – успокоил его Шурик.
– Я знаю этого парня, – ответил Изя. – Он потом такое напишет в своей газете, что мало не покажется.
– Изя, кончай, ты имеешь дело с порядочными людьми. Я хочу, чтобы он услышал твою историю еще раз, только с подробностями. Может, он на свежую голову подскажет нам что-то дельное.
– Я должен сесть… – сказал Изя. – Я так нервничаю, что у меня дрожит в ногах.
Шурик осмотрелся по сторонам и кивнул на скамейку. Мы с Изей сели, Шурик остался стоять.
2. Начало бессонной ночи
– Ой, – начал Изя. – Когда я говорю, я чувствую, как у меня поднимается сахар. Значит, вчера ко мне позвонил один человек и назвался Николаем. Он сказал, что мой телефон ему дала его сестра Мила. Ее маму я возил на Юнион-сквер две недели назад.
– Ты помнишь эту Милу?
– Как их можно всех помнить? – ответил Изя. – Каждый, кто мне звонит, говорит, что ему мой телефон дала сестра, брат, кто угодно. Я говорю: нет проблем, дайте адрес и поехали. На что он говорит: мы за вами заедем сами. Я ему говорю: если вы можете заехать за мной, так почему вам самим не отвезти свою маму, куда ей надо? Он говорит: я бы завез, но я не сильно говорю по-английски. Я себе думаю: хорошенькое дело, он еще не сильно говорит, но уже разъезжает на машине! А я здесь живу девятнадцать лет и езжу на велисапеде!
– Ну, допустим, на велосипеде ты ездишь, потому что ты – зажим-контора, – заметил Шурик. – Так шо же дальше с этим Николаем?
– Кто – я зажим-контора? – обиделся Изя. – Ты что, знаешь, какие расходы у приличных людей? На прошлой неделе у Брони была пятая годовщина со смерти мужа. На позапрошлой – день рождения у моей племянницы Мишеллочки. Так с чего я им несу конверт? Со своей пенсии? Щас!
– Давайте вернемся к делу, – вмешался я. – Он за вами приехал?
– Он за мной приехал в новеньком «Линкольне» с темными стеклами. Когда я сел внутрь, так понял, что влип. Там не было ни мамы, ни папы. Там сидело два таких грузина, что они могли меня взять за руки и за ноги и выкрутить, как тряпку.
– Откуда ты знаешь, что это грузины? – перебил Шурик.
– Ну что я – грузин не видел? – удивился Изя. – Короче, я уже понял, что лучше не спрашивать, куда мы едем. И они, кажется, тоже поняли, что я этим вопросом не интересуюсь. На всякий случай я только спросил, уверены ли они, что им нужен именно я. Они мне кивнули. Ехали мы минут пять, от силы десять. Потом остановились. Водитель опустил стекло и сказал кому-то: «Доктор Максимов». Кому из нас нужен был доктор, я не знаю. Но мы поехали дальше. Вышли на какой-то захолустной улице и тут же прошли в дом.
– А что за улица?
– Если бы мы были на перекрестке, так я бы сказал. А это было посреди квартала. Значит, заходим внутрь. За столом сидит молодая женщина. Светленькая такая. Под левым глазом фуфляк. Рот залеплен дак-тейпом. Руки тоже перемотаны дак-тейпом. Один мне говорит, чтобы я сел рядом с ней. Я сажусь. Он мне говорит: «Будешь переводить». Потом говорит ей: «Еще будешь орать, еще раз получишь по морде». От этих слов мне стало нехорошо. Чтоб женское лицо назвать мордой… Меня так не воспитывали. Но я перевел. После этого они сняли ей дак-тейп со рта. Она говорит: «Дайте мне пить». Я перевожу. Они говорят: «Пока не найдем твоего, я извиняюсь, факанного начальника, не получишь ни пить, ни есть. Понятно?» Я перевел. Один из них говорит второму: «Я бы все-таки дал ей пить, а то она может перекинуться». Второй, я извиняюсь, отвечает: «Ни хрена подобного!» Я спрашиваю: «Это переводить?» Так он на меня так посмотрел, что я понял, что это можно не переводить.
Из дальнейшего диалога, который передал нам Изя со своими комментариями, мы поняли, что грузины захватили девушку по имени Полин как заложницу, хотя им нужна была не она, а ее начальник, которого звали Майком. У девушки с собой был сотовый телефон, и они надеялись, что рано или поздно этот Майк ей позвонит, и они поймают его на нее как на живца. Под конец, по словам Изи, женщина стала рыдать и говорить, что этот Майкл обманул ее так же, как их, и глупо было бы ждать, что теперь он объявится.
– Но, что мне показалось интересным, – добавил Изя. – Во время разговора я ей говорю на английском, чтоб те не поняли – ты, мол, держись, если я отсюда выберусь, так я немедленно позвоню куда надо. Так она мне отвечает – не надо никуда звонить! Слушайте, я был удивлен, но с другой стороны, если она так говорит, так она знает, что она делает, правильно? А какая она была беззащитная! – Изя свел руки на груди. – Она так просила их: «Пустите меня, пустите меня, я же ни в чем не виновата…» И один из них, я видел, таки ее жалел, а второй сказал – ничего подобного! Если он захочет, он тебя найдет, если ты захочешь, ты его найдешь.
Тут я должен был вмешаться. Я сказал: «Джентельмены, я не могу здесь сидеть два дня, пока у вас зазвенит телефон. У меня диабет. Если я вовремя не приму инсулин, так вам надо будет срочно искать другого переводчика». Что же они? Они посмотрели друг на друга и отвезли меня обратно, чтобы я взял шприц и инсулин. Один из этих жлобов поднялся со мной в квартиру, а я пошел в ванную, якобы пописать и оттуда вылез через окно на пожарную лестницу. Но я не стал спускаться во двор, потому что он же меня мог поймать снизу. Так я спустился до третьего этажа и постучался в окно к Броне.
– Слушай, прямо как в «Трех мушкетерах», – сказал Шурик. – Так ты еще имел ночь любви?
– Шурик, перестань шутить. Это серьезное дело, – голова у Изи задрожала. – Может быть, она и хотела более близких отношений, но все, что я мог себе позволить в этих условиях, это – чашку чаю. Больше я не мог, так я вынужден был прийти сюда. Но у меня такое ощущение, как будто они ищут меня по всему Брайтону.
3. Идти в полицию или не идти?
– Ну, что ты скажешь? – спросил меня Шурик, прикуривая новую сигарету от старой.
– А что говорить? Я только удивляюсь, что вы до сих пор не позвонили в полицию.
– Минуточку, – Из я выдвинул руку в моем направлении. – Не все так просто, как вам тут всем кажется. Значит, я сейчас позвоню в полицию. Они приедут со всеми своими сиренами и собаками. А эти люди не такие шлимазлы, как хотелось бы. Они спрячутся, а полицейские увидят, что никого нет, и уедут. А те вернутся и скажут мне: «Изя, зачем же ты звал этих людей? Мы тебя об этом просили?»
– А я знаю, где она, – сказал я. – Доктор Максимов живет в Си-Гейте. Си-Гейт охраняется частной полицией. Посторонняя машина туда может въехать только через КПП, где водитель должен сказать, к кому едет. Отсюда туда ехать минут десять-пятнадцать.
– Ты знаешь этого Максимова? – спросил Шурик.
– И очень хорошо.
Володя Максимов на самом деле был не доктором, а экстрасенсом. Я несколько раз интервьюировал его для «Репортера». В частности, когда пропал знаменитый боксер Кобзев и Максимов нехотя сказал, что его, скорее всего, уже нет в живых. Так оно и вышло. Парня, точнее его останки, потом нашли в Нью-Джерси.
– Идем, от меня позвоним.
Когда мы направлялись к нашей парадной, Изя пугливо осматривался по сторонам, и Шурик, легонько хлопнув его ладошкой по макушке, сказал:
– Изя, прекрати бздеть, я же рядом!
Он едва доставал Изе до плеча.
– Слушай, старик, – отвечал Максимов на вопрос, нет ли у него каких-нибудь знакомых грузин в Си-Гейте. – Тут на меня уже жалуются. Когда кто-то хочет проехать на наш пляж, он говорит, что он к доктору Максимову. Работает как «сим-сим, откройся». Если бы у меня было столько клиентов, я бы уже был счастливым человеком.
– Они не профессионалы, – сказал Шурик, когда я повесил трубку. – Так отпустить Изю могли только последние лохи. И пить ей не давать. Это неумно. Они просто злые как собаки.
– Наверное, сообщить об этом происшествии в полицию надо, но осторожно, – сказал Изя. – Чтобы они ехали не ко мне, а туда, к ним. Потому что, если не начать действовать, так они еще ее убьют.
Помолчав, он добавил:
– А потом они убьют меня. Потому что я – единственный свидетель.
– Ты таки не лишен здравого смысла, – отметил Шурик.
– Шурик, – снова затряс головой Изя, – если ты не прекратишь меня подначивать, я тебя просто пошлю подальше. Потому что тебе шуточки, а речь, между прочим, идет о человеческой жизни…
– Изя прав, – сказал я. – Надо звонить в полицию. У меня там есть знакомый сержант по связям с общиной – Питер Суарес. Если его сейчас нет, можно поговорить с дежурным. Я им все объясню.
– Дежурный, а обычно это какой-нибудь лох, будет два часа терзать тебя вопросами, а когда они наконец доберутся до этого Си-Гейта, труп уже не будет даже комнатной температуры, – сказал Шурик.
– Шурик, поверь мне, они знают, кого и куда посылать. Я звоню.
– Хорошо, а если это не Си-Гейт? – возразил Шурик. – И почему она не хотела, чтобы Изя звал полицию?
– Откуда я могу знать? Может, они на пару с этим Майклом продавали героин. Или ракеты СС-20. Ей что эти грузины, что полицейские – один хрен.
– Слушай, Дима, – сказал Изя, – ты – хороший парень. Я могу у тебя переночевать?
– Ночуй, конечно.
– А что из себя представляет этот район? – спросил Шурик.
Я достал с полки телефонный справочник, в который была вложена подробная карта Бруклина. Развернув ее на столе, я показал Шурику полуостровок на западной оконечности Кони-Айленда.
– Хм, – сказал он, отрываясь через минуту от карты, – пять улиц вдоль и десять поперек. Его можно обойти за полчаса. А чего бы нам не съездить тоже к доктору Максимову?
– В двенадцать часов ночи?
– А как туда еще можно попасть?
– Можно попытаться пройти через пляжи.
– Ты же говоришь, что на пляж едут на машине.
– На машине едут те, кто не хочет оставлять ее в черном районе, который вплотную примыкает к Си-Гейту. А пешком можно пройти без особых проблем.
– Ты можешь нас туда отвезти? – спросил Шурик.
– Кого – нас? – подпрыгнул Изя. – Я никуда не собираюсь ехать! На улице – ночь. Тоже мне, понимаете ли, Шерлок Холоймес! Лучше бы я вообще никому ничего не говорил. Правильно говорит Броня: язык твой – враг мой! Сидел бы тихо, и все обошлось. Они же не знают, что я понял, куда они меня возили.
– Ой, кажется, мы уже наложили полные штаны, – сказал Шурик. – Кажется, даже уже начало пахнуть.
Изя ничего не ответил. Он смотрел на Шурика ненавидящим взглядом и голова его мелко тряслась.
4. В полиции
– Короче, вы как хотите, а я звоню в полицию.
Я набрал номер 60-го участка и попросил «офисера» Суареса. Я всегда спотыкаюсь о слово «офисер» с ударением на первом «о», когда речь заходит о полицейских. Дело в том, что у наших иммигрантов это слово ассоциируется с офицерским званием. Между тем офисерами зовут только рядовых ментов, в смысле обычных патрульных. Если назвать так какого-нибудь лейтенанта или капитана, те сильно обидятся.
– Я только что видел его, – ответил дежурный. – Не вешайте трубку.
– Вам крупно повезло, – сказал я Шурику и Изе, прикрыв трубку рукой, и тут же услышал на другом конце провода:
– Дима, привет! Я думал, ты уже спишь!
– Русский репортер никогда не спит, – сказал я наш редакционный лозунг. – Питер, у нас тут произошло похищение.
– Похищение?! Хочешь, чтобы я подъехал куда-то, или ты подъедешь к нам?
Я посмотрел на скорчившегося от ужаса Изю. Полуночная встреча с полицией, которая наверняка затянется на несколько часов, была бы для него слишком большой нагрузкой.
– Я сейчас подъеду.
– Из я, – сказал я вставая, – ложитесь на диван, накройтесь пледом и не высовывайте носа наружу. Я буду часа через два. Спите.
– Я не могу спать без валидола.
– Могу предложить только рюмку коньяка.
– Даже лучше! – сказал Изя.
На лестничной площадке Шурик попросил, чтобы я подождал его, и зашел в свою квартиру. Он появился на улице через несколько минут и сказал решительно:
– Значит так, перед тем как ехать участок, отвезешь меня к этому Си-Гейту.
Я высадил его за несколько кварталов до ворот со шлагбаумом и будочкой, в которой виднелась фигура полицейского. Шурик, сунув руки в карманы брюк и мерцая в темноте сигареткой, направился к шумящему в темноте морю, понемногу забирая вправо. Когда огонек сигаретки исчез, я развернулся и поехал в участок.
Суарес, к счастью, не заставил меня ничего писать, а составил рапорт сам. После чего ушел к стойке диспетчера, и скоро я увидел, как тот подозвал несколько куривших и обменивавшихся шумными шутками детективов в джинсах и коротких куртках. Суарес стал объяснять им, что случилось, и лица у них посерьезнели. Получив указания, они молча вышли из участка. Суарес вернулся и сказал, что все под первоначальным контролем.
– Этот дед никуда от тебя не уйдет? – спросил он.
– Вряд ли. Он перепуган насмерть.
– А ты уверен, что он за собой никого не привел?
– Надеюсь, что никого.
– Все равно нам придется его потревожить. – Он взял ключи со стола. – Ну что – поехали?
– Поехали, – ответил я, с тоской осознавая, что мой короткий отпуск начинается с бессонной ночи.
Еще два слова о Питере Суаресе. Он родился в Доминиканской Республике, но вырос в Нью-Йорке. После школы пошел в полицейскую академию, но, уже работая патрульным, женился на пробивной девушке, которая решила продвинуть его по службе в соответствии со своими представлении об американской мечте. С ее подачи он поступил в школу уголовного права Джона Джея, получил свою нынешнюю должность и сменил ментовскую форму на скромный серый костюмчик. Судя по всему, следующим его местом работы должна была стать окружная прокуратура. В участке он отвечал за связи с общиной. Это должность была создана специально для укрепления доверия между полицией и местными жителями. Раз в месяц Суарес созывал местную общественность на встречу с командованием участка, где та высказывала свои пожелания и предложения по поводу положения дел в районе. Эта система работала замечательно, поскольку у людей был как бы свой человек в полиции, с которым можно было обсудить массу вопросов, не требовавших срочного вызова машин с сиренами и собаками, как выразились только что мои друзья. Скажем, появление бездомных на бордвоке или подозрительных молодых людей в сквере. Полиция таким образом получала информацию о том, что происходит в районе и временами даже реагировала на нее. Особенно если близились выборы и на собрания в участок начинали ходить местные политики и их потенциальные сменщики. Перед выборами они начинали сильно болеть за безопасность электората. Я ходил на эти собрания как представитель местной прессы. Суарес явно ценил во мне то, что я не гонялся за дешевыми сенсациями и не раздувал из мух слонов. Поэтому мы были с ним почти в приятельских отношениях.
5. Размышления репортера о своей нелегкой судьбе
Как бы ни любил свою работу репортер, всегда бывают дни, когда он начинает завидовать тем, кто работает с девяти до пяти, независимо даже от того, какую зарплату они получают. Не без того, что зарплата определяет отношение человека к самому себе – богатый уважает себя больше, чем бедный, но это не делает первого счастливей. Я знаю сколько угодно несчастных богатых людей. Они болеют так же, как бедные. Им изменяют жены. Обычно от скуки и, как правило, с другими богатыми. Поскольку те богатые такие же скучные, как и мужья, они в конечном итоге возвращаются в семью. Наверное поэтому у богатых процент разводов меньше, чем у бедных. Потом богатые супруги понимают, что делить все нажитые ими материальные блага так сложно и накладно, что в целях экономии они предпочитают терпеть друг друга. Наша эмиграция не знала ни одного шумного бракоразводного процесса. Если терпеть уже совсем невмоготу, один из супругов предпочитает убить второго, но не доводить дело до суда. У нас тут была одна Рита Глузман, так она порубила родного мужа на куски. Интересно, что помогал ей в этом даже не любовник, что хоть как-то объяснило бы эту кровавую историю, а брат. Кое-как отмыв квартиру и упаковав останки в пластиковые пакеты для мусора, брат пошел топить их в реке. Там он наткнулся на полицейского, обратившего внимание на то, что у этого самодеятельного мясника штаны по колено в крови.
Глядя на собирающуюся в «Бруклинской микропивоварне» на Пятой компьютерную интеллигенцию – наш знаменитый средний класс с двумя детьми и тридцатилетним моргиджем, – я думаю, что эти люди куда счастливей миллионеров-врачей и адвокатов, хотя живут как будто невыразительной, на русский взгляд, жизнью: собираются за пивом, чтобы посмотреть очередной матч «Янки», обсуждают шумные судебные процессы, матерят адвокатов, которые за деньги доказывают, что черное – это белое, клянут присяжных, которые не видят, что черное – это черное, перед очередными выборами тему юриспруденции сменяет тема налогов и дороговизны медицинских страховок. Посредством спорта, судебных процессов, политики и пары бутылок «Сэма Адамса» они живут жизнью страны.
Русские в массе своей спортом не интересуются. В политику вникают на уровне внешнего вида кандитатов: посмотри на него – он же вылитый идиот! Самой содержательной частью их бесед является пересказ новых анекдотов. Именно поэтому им для общения не хватает одного пива. Им нужен изобильный стол, который займет их, и шумная музыка, которая заменит разговор. Мой коллега Володя Козловский говорит, что за моей позицией стоит скрыто протекающая классовая ненависть. Может, и так. За критическим умом, как правило – нехватка денег. Достаток притупляет чувства.
Взять, к примеру, моего соседа Витю Ленца. В Одессе он был инженером-наладчиком. Летними вечерами его можно было встретить на бульваре, где он со своей фирменной скептической усмешечкой обсуждал текущие события и ел пломбир за девятнадцать копеек. На соседней скамейке сидела с подругами его жена Таня, работавшая бухгалтером на молочном заводе, благодаря чему в их доме всегда был полный ассортимент продукции их предприятия. Они, как говорится, неплохо жили. И это придавало Ленцу уверенности в себе. Он был всезнающ и самодоволен. Потом совок накрылся, и Ленцы приехали в Нью-Йорк, где попали в полную зависимость от пособия велфэра. Бедность скоро довела Витю до того, что он стал раздавать на улице рекламные листовки какой-то пиццерии. Это была довольно-таки утомительная и не очень хорошо оплачиваемая работа. Витя тут же вызверился на Америку, назвал Нью-Йорк местечком самодовольных идиотов, которых не волнует ничего, кроме своевременного внесения платежа по удачно взятому моргиджу. Все их мысли вращаются вокруг него, как вокруг тотемного столба. И если этот столб упадет, то катастрофа неминуема. И поэтому надо работать. Хорошо и много. На износ и до самой смерти. Спустя два года примитивная американская система стимуляции жизненного успеха заставила Витю побежать в ее ритме.
Он стал говорить с пулеметной скоростью, что оставляло ему больше времени на устройство жизни. Он нашел место клерка в приемной второразрядного колледжа, куда новоприбывшие русские шли приобретать так называемые ходовые специальности. Там он очень точно подметил одну чисто русскую особенность абитуриентов. Они не могли просто спросить: «Как найти такую-то аудиторию?» Или: «Когда принимает консультант по предоставлению финансовой помощи?» Прежде всего они сообщали, что у них уже есть настоящее университетское образование, которому не нашлось применения в прагматичной и бездушной Америке. Помимо простого ответа на простой вопрос они требовали к себе жалости и одновременно уважения. У Вити это вызывало отвращение. Эту реакцию можно было бы назвать вполне естественной, если бы Витя еще недавно не был точно таким же обиженным иммигрантом с интеллигентным прошлым.
Кончилось тем, что Витя как-то незаметно окончил этот же колледж, получив специальность техника по обслуживанию медицинского оборудования. Он быстро нашел работу в городской больнице, вступил в профсоюз и получил хорошую зарплату. Еще через год он получил моргидж и купил квартиру в красивом кооперативном доме прямо напротив нашего. Теплыми вечерами его можно видеть в сквере, где он все с той же усмешечкой обсуждает текущие события и делится соображениями, какой из карибских курортов лучше и почему. Когда к скверу подъезжает с музыкальным звоном грузовичок мороженщика, он поднимается и идет к нему. «Таня, что тебе взять?» – спрашивает он у жены, сидящей с подругами на соседней скамейке. «Возьми эскимо», – отвечает она. Его Таня тоже неплохо устроилась. Она окончила курсы английского языка, встала на кассу в обычном универсаме, потом на нее обратили внимание и она получила место менеджера манхэттенского «Whole Food». Работа позволяет ее семье питаться органическими продуктами и выглядеть сытыми и довольными собой людьми. Умышленно не пишу самодовольными. Они добились всего своими силами, если, конечно, не считать годика-другого на велфэре, который не дал им утонуть. Теперь они, как у нас тут говорят, добропорядочные налогоплательщики. Я не исключаю, что их дочь, которая учится в Нью-Йоркском университете, считает их про себя мещанами и, может быть, даже стесняется их в обществе своих изысканных соучеников. Но для меня они – совершенно нормальные люди.
6. Продолжение бессонной ночи
Вернемся к нашему детективу. Итак, мы с Суаресом подъехали к дому. Брайтон-Бич авеню была совершенно пустынна. Ночной ветерок с шорохом тащил по земле рекламные листовки и мятые целлофановые пакеты. В квартире никого не оказалось. Я позвонил в соседнюю дверь. Открыла заспанная Лариса.
– Папа у тебя? – спросила она еще до того, как я успел спросить ее, дома ли он.
– Он решает какую-то проблему с Изей Толмачом, – о-очень уклончиво ответил я. – Я думал, он уже вернулся.
– Нет, не вернулся.
Пока Суарес заглядывал в мои стенные шкафы, я набрал номер телефона Изи. Послушал, как на том конце включился автоответчик, и повесил трубку.
– Если он появится, позвонишь мне, я буду в участке. – Зевая, Суарес посмотрел на часы. – Черт, второй день не могу поспать по-человечески.
– Ты мне говоришь!
Суарес уехал, а я повалился прямо на диван, где должен был сейчас спать Из я. Не успел закрыть глаза, как задребезжал телефон.
– Привет, это я, – сказал Суарес. – Ты знаешь Шурика Осипова?
– Да, а что случилось?
– Приезжай, он здесь, и мне нужен переводчик.
Но я не бросился спасать Шурика. Я пошел на кухню и приготовил себе кофе.
В участке печальный Шурик сидел на казенном пластиковом стуле и смотрел на меня глазами провинившегося первоклашки.
– Ты его знаешь? – спросил Суарес.
– Еще как!
– Его арестовали в Си-Гейте за то, что он находился на территории чужой собственности.
– Питер, – сказал я, – это мой сосед. У старика – альцхаймер. Он просто не отдает себе отчета, где он находится.
– Это точно?
– Сто процентов. Отдай его мне, я его доставлю домой, и мы все ляжем спать.
– Я тебе его отдам со штрафной квитанцией на семьдесят пять долларов, но если у него альцхаймер, то пусть его родственники приложат к квитанции справку от врача, в квитанции напишут «не виновен» и пошлют в суд в течение тридцати дней.
В машине Шурик нарушил тишину первым:
– Пока ты выяснял отношения со своими друзьями, я ее почти нашел.
– Что значит почти?
– Ее уже нет в Си-Гейте.
– А где же она?
– Не знаю. Ее посадили в тот самый «Линкольн» и увезли.
– Ты что, видел ее? Вообще, ты можешь рассказать, что произошло?
– Я могу. Как я и предполагал, в этой деревне пять улиц вдоль и десять поперек. Райончик – дохлый. В таких местах «Линкольны» под каждым домом не стоят. Поэтому я нашел его почти сразу. После этого я встал у дома и стал слушать, шо там происходит. Сперва было тихо. Потом я перешел на другую сторону улицы и увидел на втором этаже мужика с телефоном. Минут через пять он вышел на улицу. Осмотрелся и говорит кому-то в доме: «Рафик, поехали!» А потом из двери вышел этот Рафик, и с ним была эта подруга.
– Дела, – сказал я. – Как ты думаешь, она еще жива?
Шурик пожал плечами.
– А я знаю?
– Ты номер машины заметил?
– Какой номер, когда я без очков.
– Я одного не понимаю – почему нельзя было все это сказать в участке?
– А какой смысл? В доме все равно никого нет. Я зашел внутрь, походил туда-сюда. Там никто постоянно не живет. Его, видно, сдают приезжим. Вот, а через пять минут меня уже взяли за жабры. Кстати, что мы решим насчет того, что они грузины?
– Какая разница, кто они?
– Разница есть всегда. Например, они – грузины, которые приехали в США, не зная английского. То, что они эмигранты – маловероятно. Грузины вроде бы не эмигрируют.
Значит, какие-то бизнесмены. Лимузин взяли либо напрокат, либо у друзей. Значит, друзья с бабками. Теперь вопрос – грузины ли? Кто вообще сказал, что они грузины?
– Изя.
– А шо, Изя знает грузинский? Или грузинский похож на идиш?
– Так что ты хочешь сказать? – устало сказал я.
– Думай. Кто у нас репортер, ты или я?
Я тупо смотрел на него. Ему не было сносу. Он курил, держа сигарету в кулаке, словно прикрывая ее от ветра, сухой, темный, всегда находящийся в одном и том же состоянии духа и тела.
– Я сейчас отрублюсь, – наконец сказал я. – Скажи, что ты нашел?
– Шо тебе говорит имя Рафик?
– Ничего. Может быть, он бухарский.
– Если они бухарские, значит, они все-таки иммигранты, а иммигранты могли бы говорить по-английски сами. Плохо, но сами. Тем более особо сложных разговоров там не было. Дальше: если бы они жили здесь, они бы побоялись вот так вот кого-то похищать. Они – залетные, которые знают, шо они здесь ненадолго. И они откуда-то с Кавказа.
– Все ясно, это – чеченцы.
– Этого мы утверждать не можем. Но мы можем предположить, что они приехали сюда делать какие-то гешефты и напоролись на местных шалопаев.
Я ничего не мог к этому добавить. Я был уже на автопилоте и хотел одного – закрыть глаза.
– Будем считать, что с этим все ясно. Теперь второй вопрос: где Изя?
– Следов насилья нет. Дверь не взломана. Домой он пойти не мог, так как боится, что там его поймают. Рупь за сто, что этот шлимазл пошел к своей Броне. Можешь ложиться спать.
Я опрокинулся на диван, прямо где сидел. Я ощутил, что под щекой у меня оказался лист бумаги, но это не помешало мне заснуть. Утром я обнаружил, что на листе было написано:
7. Утро второго дня
...
«Димуля, я бы поняла, если бы застала в твоей постели женщину, а не какого-то Изю. Где ты его взял? Он ушел, а я прождала тебя час и тоже ухожу. Буду завтра на пляже часам к 12.
Лиза
».
О том, кто такая Лиза, я вам сообщу позже, главное, что следовало из записки, – Изю никто не похищал. Видно, ему стало неловко при внезапном появлении моей знакомой, и он решил уйти. Я набрал номер его телефона, но у него снова включился автоответчик.
Было десять часов. Покачиваясь, поплелся под душ. Я включал горячую воду, потом холодную, потом горячую, потом холодную. Закончил на холодной и стоял долго под ледяными струями, наполняясь если не свежей энергией, то раздражением оттого, что вынужден испытывать этот жуткий холод – а мог бы лежать в теплой постели и набираться энергии в здоровом глубоком сне.
Когда меня уже всего трясло от холода и злости, я выбрался из ванной и, набросив халат, направился на кухню, где меня ждал, дымя сигареткой, мой неутомимый сосед. Чайник на плите уже посвистывал.
– Слушай, – сказал Шурик. – В общем, я тут подумал, у тебя есть какие-то знакомые туристические агенты?
– Есть, а что ты от них хочешь?
– Если мы допустим, что эти рафики прилетели сюда дня три назад, есть вероятность, что мы можем найти их имена в списках пассажиров. Пусть они там прощупают это дело через свои компьютеры. В Одессе я бы это сделал за пять минут.
– У тебя что, есть их имена?
– Рафик.
– Ну и как ты себе это представляешь? В каждом самолете летит человек по двести. Значит, мне надо список имен всех пассажиров?
– Сделай иначе. Узнай, есть ли прямые рейсы из Баку или Еревана.
Зная, что от Шурика не отделаться, я подошел к телефону и позвонил в рекламировавшееся в «Репортере» агентство «Панорама-трэвел».
Выслушав меня, владевшая агентством Ира Синобичер, сказала:
– Дима, без фамилии я ничего сделать не могу. Потом, как я объясню причину этого поиска?
– Ну представь, что сестра некоего Рафика пытается узнать, когда он прилетел в США.
– А чего она его ищет? Если он прилетел, так он должен ей сам позвонить.
– Допустим, он потерял блокнот с ее телефоном.
– А она забыла его фамилию! – Ира расхохоталась. – Дима, это нереально. Я предполагаю, что тебе нужна распечатка имен всех пассажиров нескольких рейсов нескольких авиакомпаний за несколько дней. Наверное, такую информацию может получить полиция, но не я.
Я повесил трубку и сказал:
– Шурик, мне надоело играть в доктора Ватсона при Шерлоке Холмсе. Я звоню Суаресу.
– Ну и что ты ему скажешь?
– Что? Что мужики – не грузины, а азербайджанцы или армяне, и пусть они их ищут по спискам пассажиров с этих авиалиний.
Я набрал номер, но Суареса не оказалось на месте. Был его напарник Марк Лист, который сказал, что Питер будет только завтра, так как он взял отгул и повел ребенка к зубному врачу. Что-то передать?
– Передай, что я звонил, – попросил я.
Не хреново! Суарес, у которого на участке похитили неизвестную женщину, взял отгул и повел ребенка к дантисту. Хотя в приличном триллере детектив должен был бы бросить все семейные дела и гореть на работе, даже если это грозило бы ему разводом и судебной тяжбой за родительские права. Во-первых, это помогло бы ему продемонстрировать зрителю свою преданность профессии, а во-вторых, порадовать в финале воссоединением с любимой женой и ребенком. А вдруг похищенную убьют? Он об этом думает, слушая зуд бормашинки? Или уже убили? С другой стороны, он мог передать это дело по инстанциям и им теперь занимается кто-то еще. И, теоретически, они должны были позвонить мне. Потому что в своем рапорте Суарес должен был начать историю с моего имени.
Не успел я подумать об этом, как в мою дверь позвонили. «Кто там?» – спросил я в интерком и тут же получил вполне ожидаемый ответ: «эф-би-ай». Через минуту-другую я пропустил в квартиру двух молодых ребят, один из которых показал мне удостоверение сотрудника ФБР. Я понял, что день мой убит, но ошибся. Разговор длился не более часа. Я с несказанным облегчением сообщил им нашу кавказскую версию, после чего они, оставив свои визитки, вежливо попрощались. У меня с плеч свалилась гора. Честно говоря, я испытал такое облегчение, как будто просто вычеркнул эту историю из сознания. Это мое состояние укрепилось еще больше после звонка Лизы, спросившей, не хотел бы я встретиться с ней на пляже.
– Очень хочу, – ответил я и, не без злорадства выпроводив Шурика на лестничную площадку, забросил на плечо сумку с пляжной подстилкой и кундеровской «Медлительностью».
8. Русский репортер
Пляж был именно таким, как надо, – безлюдным и чистым. Я искупался, и вода была именно такой, как я люблю, – прозрачной и слегка прохладной. Плаванье для меня всегда представляет некоторое испытание. Я боюсь глубины. В глубине, как я узнал в детстве из романов Жюля Верна, водятся разные морские гады: вечно голодные акулы, гигантские осьминоги, кальмары-людоеды и ядовитые медузы. Отплывая от берега, я часто с ужасом представляю, как из глубины ко мне устремляется с неторопливой уверенностью в беззащитности жертвы темный торпедообразный предмет. В поисках подозрительной ряби или черного серпа плавника я тревожно оглядываю поверхность вод, пытаясь успокоить себя мыслью, что на брайтонском пляже ничего такого не водится. Но напрасно. Повернув, я устраиваю скоростной заплыв к берегу, яростно молотя конечностями по воде. Опять же, как следовало из одной детской книжки, кажется Луи Буссенара, некий юноша бежал из плавучей тюрьмы и, чтобы отпугнуть кишевших вокруг него акул, что было сил колотил по воде руками и ногами. Как я сейчас понимаю, беглец не мог этим не привлечь внимание охранников.
Я упал на полотенце и, отдышавшись, взялся за Кундеру. Тот развивал замечательную мысль об ушедшей от нас медлительности жизни, неспособности переживать какое-то значительное событие долго, смакуя каждую его грань, тем более яркую, чем отдаленней она от нас во времени. Он начинал книгу с пересказа истории французского автора прошлого века Виван Денона о двадцатилетием виконте, который волею женской интриги пережил удивительное приключение.
Молодая любовница виконта познакомила его в театре с подругой – Мадам де Т. После театра Мадам де Т. пригласила виконта к себе. Приняв это недвусмысленное приглашение, виконт был крайне удивлен, поскольку у Мадам де Т., об этом все знали, был постоянный любовник – некий маркиз. Прибыв в шато Мадам де Т. на берегу Сены, они поужинали в угрюмом обществе молчаливого старика – мужа хозяйки. После ужина он, сухо простившись, удалился, а виконта пригласили в сад. Уже стемнело и в небе сияла полная луна. Шепот близкой реки мешался с шелестом листвы. В саду переломанных черных теней и пятен мертвенного лунного света виконт поцеловал свою спутницу. За первым поцелуем последовала ночь любви, начавшаяся в беседке в глубине парка и завершившаяся в тайной комнатке шато.
Утром, когда утомленный и ошеломленный молодой человек покидал дом, к его крыльцу подкатила карета. Из нее вышел тот самый маркиз, с любовницей которого виконт провел волшебную ночь. Маркиз обнял виконта и со смехом рассказал ему, что тот стал жертвой розыгрыша. Оказывается, его специально отправили в дом Мадам де Т., чтобы ее муж решил, что именно он, а не маркиз – ее любовник, и ни в чем не подозревал в дальнейшем маркиза. Интрига навсегда осталась в памяти молодого человека, как навсегда остается в морской раковине шум моря. Весь остаток его жизни был посвящен воспоминаниям об этом удивительном случае. Описав его в новелле, Денон даже не подписал ее своим полным именем, ограничившись инициалами. Удовлетворение тщеславия не являлось целью этого литературного труда. Автор взялся за перо лишь с тем, чтобы по крупицам собрать свои воспоминания на бумаге и еще раз пережить ту удивительную ночь в саду на берегу Сены.
Отложив книгу, я окинул беглым взором свою жизнь и обнаружил, что в ней не было ни одной истории, которая представлялась бы мне сейчас по-настоящему значительной. Меня не тревожила память о женщинах, которых я знал в прошлом. Я любил свою работу – они ее не переносили. То есть сначала она казалась им привлекательной и даже романтичной. Но потом они обнаруживали, что она отнимает столько времени и при этом приносит такой небольшой доход, что связываться с представителем этой профессии просто неумно.
Судя по всему, я допустил ошибку с выбором профессии, но часть ответственности лежит на моих многочисленных друзьях и знакомых. Только приехав в Америку, все мы были одинаково бедны, и всем предстояло начать жизнь с нуля. Кто учился, кто делал попытки поставить на ноги новый бизнес. И вот на этом историческом этапе все они очень гордились знакомством со мной. Не сочтите за хвастовство, но благодаря нашей дружбе они считали, что принадлежат к цвету нашей иммиграции – талантливой, образованной и потому имеющей блестящее будущее. Я был их справкой об интеллигентности, и меня это просто окрыляло. Я, как говорится, чувствовал себя востребованным. Эта востребованность была лучше денег. Но жизнь шла, и постепенно мои старые друзья стали владельцами прачечных и авторемонтных мастерских, программистами и бухгалтерами, врачами и юристами. В своем новом качестве и при своих значительно возросших доходах они осознали, что цветом нашей иммиграции являются именно они, а не полысевший и располневший репортер этнической газетки. И знаете что? Они были правы! В Америке талант имеет такое же денежное выражение, как сила, красота и миллион других достоинств. Поэтому вы не ошибетесь, если скажете, что владелец подержанной «тойоты», арендующий студию на Брайтон-Бич, не так талантлив, как владелец особняка на соседнем Манхэттен-Бич, у ворот которого сияет черным лаком 750-й «бимер».
Меня об этом предупреждали еще в Италии. Мы поселились в курортном городке Ладисполи под Римом. Здесь я пошел в местное отделение Сохнута, надеясь получить работу, поскольку мне не хватало 240 долларов на покупку клетки и билета для собаки. Я вез с собой пуделя, за которого еврейские благотворители платить отказывались. Они спасали евреев. Собак евреев они не спасали, хотя все, кто видел эту собаку, говорили, что в ее глазах живет скорбь всего еврейского народа. В действительности этот скорбный взор выражал ни на минуту не утихающую надежду на то, что какой-нибудь чудесный незнакомец достанет из кармана и протянет ей кусочек колбаски.
Я надеялся получить место преподавателя английского, но, посмотрев мое резюме – трудовую книжку, – чиновник сказал, что на этой неделе в США отбыл редактор местной иммигрантской газеты, и я могу занять вакансию. Газета называлась «Голос Ладисполи» и выпускалась на двух листах бумаги размером 11 на 17 дюймов, согнутых пополам для удобства чтения. Выходило 8 страниц. До отправки в США я успел выпустить четыре номера и получить за них искомые 240 долларов. Выдававший мне эти деньги симпатичный израильтянин, звали которого, помню, Яир, сказал: «Там, в США, постарайся найти себе какую-то другую работу. Русский журналист в Америке – это… – он презрительно сморщился, – дрек мит пфеффер…»
Он, конечно, был прав, этот Яир, но так вышло, что когда я приехал в США, «Репортер» дал объявление, что ему требуется журналист-переводчик. Я стопроцентно подходил под это требование. Я окончил иняз, после которого работал в газете. Бинго!
За моим звонком в редакцию стояло нечто большее, чем необходимость платить по счетам, которые посыпались на меня, как листья в октябре. Как я уже сообщил выше, мной гордились, и, соответственно, я рвался в бой, стремясь доказать, что отношение ко мне моих друзей и знакомых совершенно обоснованно. Мной начали гордиться в кругу отъезжавших еще в Одессе, потом мной стали гордиться в Ладисполи и по инерции продолжали годиться в Нью-Йорке. И, наконец, последний фактор: когда ты достигаешь какого-то уровня мастерства в своем ремесле, то бросить его сложно. Сознание того, что ты занимаешься своим делом, отчасти компенсирует скромный заработок.
Душевная женщина, читающая эти строки, легко поймет меня и даже посочувствует. В принципе, это поймет любая женщина. Кроме, как показал опыт, тех, которые имели счастье проснуться в моей постели больше двух-трех раз.
9. Лиза ДОСААФ
Но я все время отвлекаюсь, а между тем обещал рассказать про свою подругу Лизу, собиравшуюся быть на пляже к полудню. В два ее еще не было. Это было в ее духе. Мы были знакомы еще в Одессе. Она была девушкой легкого поведения в романтическом смысле этого слова. Она легко увлекалась и легко отдавала своим возлюбленным все лучшее, что у нее было. Каждый находил в ней именно то, в чем больше всего нуждался. Мне нравилось ее удивительное умение сосредоточенно слушать и в знак понимания кивать. Есть люди, которые говорят с чувством – она с чувством слушала. Особенно истории про несчастную любовь. В конце таких доверительных, когда ты ожидал дельного совета, Лиза говорила: «Голубчик, я слушала тебя и все время думала, как тебе помочь. И знаешь, что я решила? Пошли эту дуру на хрен! Посмотри лучше, какая перед тобой сидит баба!»
И для пущей убедительности она расправляла плечи, демонстрируя свой роскошный бюст.
Сто лет назад и я стал членом ДОСААФ. Я даже не знаю, стоит ли мне стыдиться этого факта своей биографии, поскольку тогда я стремился стать членом максимально большого числа добровольных организаций.
Появившаяся в Нью-Йорке Лиза нашла во мне старого друга, с которым можно было выкурить сигарету, выпить чашку кофе и поговорить о жизни. Некоторые наши одесские знакомые, встречая нас то в кафе, то на пляже, спрашивали многозначительно – что, у вас это снова? Я не знал, что отвечать. Иногда мы действительно просыпались в одной постели. Но преобладала в наших отношениях дружба. Насколько страсть избавляет от необходимости говорить, настолько продолжительные разговоры нейтрализуют чувственность. Если дочь Шурика Лариса, всегда пугаясь этого, заставала Лизу в моем халате, это не обязательно значило, что Лиза провела у меня ночь. Она могла просто от нечего делать зайти, приготовить обед и пообедать в приятной компании. В смысле – в моей компании. А халат надеть для удобства.
Она появилась в тот день часа в три, когда с моря уже потянуло пронзительным холодком и я собирался идти домой. Сев на полотенце рядом со мной, она сказала:
– Извини меня голубчик. Ты знаешь, когда я уже сложила сумку и собиралась выходить, мне позвонил один мой приятель и сказал, что у него есть для меня хорошее предложение.
– Руки и сердца?
– Если бы! Работы. На Бас-авеню открылся новый ресторан. Какая-то «Вышка». Говорят, очень стильное место, и им нужна барменша. Так им порекомендовали меня.
Совсем забыл сообщить, что именно работа барменши отчасти способствовала тому, что вокруг Лизы постоянно крутились люди, готовые если не предложить ей руку, то положить руку на нее.
– Сегодня я выхожу первый день. Хочешь прийти посмотреть? Говорят, там очень хорошая кухня. Придешь?
– С удовольствием, – сказал я, поскольку вечером мне делать было совершенно нечего, а главное, я боялся, что Шурик снова втянет меня в свое самодеятельное расследование. Я предпочитал, чтобы этим занималась полиция. И предполагал, что к выходу следующего номера «Репортера» у меня будет достаточно информации, чтобы привлечь читателя. А дальше пусть эстафету подхватывает «Новое русское слово».
– Не знаю, как теперь быть, – сказала Лиза. – Так хотела выкупаться, а уже прохладно.
– Осень. Дни становятся короче и холоднее. Посиди просто на свежем воздухе. Это тоже помогает.
– В моем возрасте мне, кажется, уже ничего не поможет.
– Мне тоже.
– Димуля, ты, надо сказать, не по-мужски кокетлив. В твоем возрасте люди женятся на девках на двадцать лет моложе себя и еще имеют любовниц.
– Молодые любят богатых.
– Ты прямо считаешь, что все женщины такие уже бляди. Ну есть, конечно, немножко в нас этого, но ты себе найди такую, которая на богатом уже обожглась, а теперь хочет обыкновенного. Чтоб не пил, не курил, не играл в карты и не хотел мальчиков. Найди себе что-то типа меня, только лет на десять моложе. – Она засмеялась, но тут же переключилась на свой обычный поучительный тон. – Голубчик, ты должен срочно жениться. Посмотри на себя. Ты опускаешься. Сколько можно носить одни и те же джинсы? Я недавно заглянула в твой шкаф, у тебя там висит один этот твой серый твидовый пиджак и один парадно-выходной синий костюм. Это – позор!
– Это костюм от Армани.
– Пусть он будет от трех Армани сразу, но я вижу тебя в нем уже хороших пять лет! Такое впечатление, что ты живешь не в Америке, а в Советском Союзе!
10. Шурик не унимается
Когда я вернулся домой, Шурик, видно поджидавший меня, тут же вышел на лестничную площадку и прошел следом за мной.
– Шурик, – сказал я, бросая сумку на пол и направляясь в ванную, – я не хочу больше заниматься этой историей. Ей занимается полиция и ФБР. Я – пас. Во-первых, я хочу пару дней отдохнуть от этих бесконечных новостей, от постоянной необходимости куда-то идти. А во-вторых, я за то, чтобы каждый занимался своим делом. Полиция ищет похищенных, я – пишу статьи в газету.
Перед тем как закрыть за собой дверь ванной, я услышал, как Шурик не без обиды в голосе сказал:
– Я, между прочим, занимаюсь своим делом.
Смыв с себя песок и соль, я заварил кофе, соорудил бутерброд с моцареллой, канадским беконом, базиликом, помидорами и майонезом и сел напротив Шурика, который никуда не собирался уходить. «Пусть говорит», – подумал я.
– Ну хорошо, – сказал Шурик как ни в чем не бывало. – Давай прикинем одно место к носу и посмотрим на это дело так…
– Какое именно?
– Что какое именно?
– Какое место я должен прикидывать к носу?
– Слушай, не прикидывайся шлангом, – сердито сказал Шурик. – Это так говорят, а ты можешь прикидывать себе к носу то, что тебе больше нравится.
– Понял.
– Короче. Что мы имеем? Выхаренных азербайджанцев – раз. – Он загнул палец. – По меньшей мере двух жуликов. Один из них Майк, вторая – девка. Это – два. Девку они как-то заловили, а Майка хотят поймать на нее как на живца – три. Пока они не поймали Мишу, девку они не тронут. В смысле не замочат.
– Слава богу, – я промокнул побежавший по подбородку помидорный сок.
– Теперь вопрос: где их искать?
– В Азербайджанском культурном центре при ООН, – сострил я.
– Правильно, – сказал Шурик. – Эти жлобы только что приехали и еще никого не знают.
– А ты откуда знаешь?
– А шо тут знать? Если они новенькие, так им надо искать если не прямых знакомых, то хотя бы близких по крови. Поэтому они пойдут куда?
– В ресторан «Баку», – ответил я, в очередной раз восхитившись про себя профессиональной сообразительностью Шурика. – Или в «Ереван».
– Ну ты видишь, – он укоризненно посмотрел на меня. – Ты же можешь тоже думать. Так неужели тебе не интересно довести это дело до конца и спасти, может быть, еще живого человека?
При упоминании о еще живом человеке я положил остаток бутерброда на тарелку.
– А что ей могут сделать?
– Я знаю? – пожал плечами Шурик. – Поставить на кодляк могут.
– Что?
– Групповое изнасилование ей могут сделать, – так тебе понятней? Но в ближайшие день-два ее не убьют, это точно.
Мы замолчали. Позвонил телефон. Звонил один из фэбээровских парней. Когда я повесил трубку, Шурик спросил:
– Нашли машину?
Я кивнул.
– Охранник у въезда в Си-Гейт запомнил ее номер. Ее взяли в аренду на две недели. Некто Мельник. И на это же имя была снята квартира в Си-Гейте. Спрашивают, не слышал ли я о Мельнике.
– Я же тебе сказал, они – не местные. Их сюда привезли и обобрали. Короче, напиши мне на листике список местных восточных ресторанов.
Я знал две «Бухары» – обе на Кони-Айленд авеню, «Баку» – там же, «Узбекистан» и «Сахару». Армянских ресторанов я не знал.
– Вечером сходим в «Баку». – Поймав мой удивленный взгляд, Шурик добавил: – Ну шо, я не понимаю, у американского журналиста не хватит на чашку кофе для старшего товарища?
– Шурик, – снова начал злиться я на настырность соседа, – вечером я иду в ресторан «Вышка». Меня пригласила туда одна женщина. Это – раз. Два – в русских ресторанах не подают чашку кофе.
– Почему?
– Потому что в русских ресторанах считают, что на чашке кофе ты только испачкаешь чашку и ничего не заработаешь. Ты у них попросишь кофе – они тебя пошлют в «Макдоналдс».
– А шо это за «Вышка»?
– Не знаю, только что открылась. У музыкантов есть такое слово «вышак» – это означает высший класс. Может, отсюда…
– А-а, – сказал Шурик. – А у зэков «вышка» означает расстрел.
11. Вышка
Бас-авеню с ее безрадостными двухэтажными домиками, где квартал за кварталом вывески прачечных сменяются вывесками пиццерий и продуктовых лавок, а дайнеры по своему внешнему виду мало чем отличаются от похоронных домов, не кажется самым подходящим местом для русского ресторана. Хотя, вероятно, то же самое думали, когда на Брайтоне появились «Националь» и «Одесса». Может быть, Бас-авеню тоже ждет расцвет, хотя еще непонятно, станут ли появившиеся здесь русские первыми смертниками или первыми ласточками вторжения в район, где, говорят, итальянцы все еще взимают мзду с новоприбывших.
В поисках парковки я поехал помедленнее и скоро увидел над крышами стоявших у тротуара машин моргающую цветными огнями «Вышку». Вышка над козырьком ресторана была намечена вытянутым в небо треугольником из светящихся желтых трубок с переломанными перекладинами внутри, а сверху над ней вертелся красный огонек, вероятно, изображая огонь над нефтяной вышкой, насколько я себе ее представляю. Вот тебе и еще одно Баку!
У входа толпилась молодежь, из репродукторов ревела «Макарена», на вязках белых и голубых шариков было написано: «Grand Opening».
– Здравствуй, голубчик, – сказала Лиза, подвигая ко мне бокал красного вина. – Ты мне нужен как никогда.
– Слушай, что за нефтяники открыли это место?
– Представь себе, что именно нефтяники. Хозяин из Баку. Накачали там этой нефти и вложили бабки.
– Так зачем я тебе нужен?
– Секундочку.
Она сделала джин с тоником подошедшему к стойке усатому мужику и, наклонившись ко мне, тихо стала говорить:
– Я пришла где-то часа за два до открытия. И скоро после этого сюда пришли какие-то знакомые хозяина и с ними была одна девка. Как мне показалось, она была такая обдолбанная, что еле шла. Они вели ее с двух сторон под руки. Бледная как смерть. Клянусь тебе, когда я ее увидела, мне стало не по себе.
– Она сейчас здесь?
– Да, в подсобке. И ты знаешь, чего я боюсь?
– Ну?
– Что она там врежет дуба и всех потом затаскают по полиции. Это именно то, чего мне не хватает.
– А кто ее привел?
– Они сидят у тебя за спиной, только не поворачивайся сразу. Четверо за столиком в левом крайнем углу.
Надо ли говорить, что мы подходим к концу нашей истории? Кому-то может показаться, что Нью-Йорк – большой город и потеряться в нем – проще простого. Даже и Бруклин с его трехмиллионным населением большой город. Но, как однажды высказалась моя знакомая художница Юля Беломлинская, все мы здесь живем, как в гарнизоне, где все всё знают обо всех. Орбиты вращения в нашей иммиграции постоянно пересекаются. Любой поиск завершается довольно быстро.
Шурик точно вычислил, что похитители – азербайджанцы и что искать их надо в азербайджанских ресторанах. Кто мог знать, что за названием «Вышка» скрывается ресторан бакинских нефтяников? Я был на сто процентов уверен, что в подсобке лежит эта похищенная Полин. Конечно, она была не обдолбана, а просто обессилела от голодухи и стресса.
– У вас здесь телефон есть?
– Есть, в кабинете у Сергея. Это – хозяин.
– Я знаю эту подругу. Ее похитили два дня назад. Я сейчас уйду и вызову ментов. В случае чего ты меня не знаешь, о’кей?
Она смотрела на меня широко раскрытыми глазами, но я уже с опозданием понял, что означает ее взгляд. На плечо мне легла тяжелая рука, и кто-то с сильным восточным акцентом сказал:
– Зачем вмешиваться не в свое дело, да? Похитили-шмохитили, может быть, причина била, правильно?
– Может быть, – сказал я, пытаясь стряхнуть с себя руку, но меня так крепко прихватили, что проявить независимость мне уже не удалось.
С удивительной скоростью – я только успел заметить, как прокрутилось вокруг меня помещение бара и мелькнуло изумленное лицо Лизы, – меня втолкнули в темный, заставленный ящиками коридор с открытой дверью подсобки в конце, где я получил удар по затылку и отключился.
12. Знакомство
Я пришел в себя от ледяного холода, проникшего в самую глубину мозга. Надо мной сидела светловолосая девушка с бледным лицом, самой выразительной деталью которого был синяк под левым глазом. Голова моя лежала на чем-то твердом и холодном. Я сел, но тут же стены тускло освещенной комнатки стали заваливаться вбок.
– Блин, – сказал я. – Полина, сколько же я из-за вас натерпелся! И ради чего, спрашивается?
На всякий случай я лег и закрыл глаза. Движение комнатки замедлилось. Снова приподнявшись на локте, я обнаружил, что холод шел от пластикового пакета со льдом. Вероятно его подложила мне под голову моя сокамерница.
Я постарался его убрать, но, изменив положение тела, тут же ощутил, как комнатка стала резко входить в штопор.
– Hold on, – сказала моя новая подруга по несчастью и помогла убрать пакет.
Я сел, опершись о картонный ящик. Комната остановилась, но все равно под наклоном, и казалось, что расставленные на стеллажах бутылки сейчас поедут на пол. Я потрогал голову, обнаружив на затылке внушительных размеров шишку.
– You know my name?
Я только махнул рукой, со словами к горлу подкатил тошнотный ком, и тут же я уткнулся в темную щель между стеллажами и картонным ящиком, вернув негостеприимному заведению его вино. Когда я вытер рукавом лицо, она поинтересовалась:
– Are you from police?
– Нет, я не из полиции. Я работаю в газете, мне про тебя рассказал старик, который переводил тебе для этих азербайджанцев. Он – мой сосед, и после того, как он убежал от них, он пришел ко мне. Короче… – я остановился, потому что эту историю целиком мне было не рассказать: слишком много действующих лиц, а мне казалось, что каждая фраза грозит кончиться рвотой.
– Are you speaking Russian? – спросила она, и тут я вспомнил, что она, действительно, не должна была говорить по-русски. Ведь именно поэтому ее похитители и притащили к ней Изю.
– Do you know how to get out of here?
– Absolutely not.
Как говорится, положение узников было плачевным. И это состояние могло только усугубиться. Когда ресторан закроется, это будет часа в три-четыре утра, они могут устроить нам допрос с утюгом на животе, а потом закопать подгоревшие трупы во дворе за домом. Или положить в карманы наших брюк гантели и спустить в мутную воду Шипсхед-бея. Некоторые удивляются, откуда в ней так много рыбы. Наверное, ей есть что там кушать.
Мои размышления были прерваны тем, что дверь открылась и к нам в подсобку вошла с растерянным видом Лиза, а следом за ней крепкий парень, который, подтолкнув ее в нашу сторону, сказал коротко и ясно:
– Сидэт и молчат, а то убъю всэх на фих. Понял?
Обведя нас всех строгим взглядом, он скрылся, закрыв за собой дверь.
– Голубчик, – сказала Лиза, наклоняясь ко мне, – ты что, вырвал? У тебя, наверное, сотрясение мозга. – Она приложила ладонь к моему лбу. – Слушай, ну как тебе нравится это местечко? Черт меня сюда занес! Это же надо быть такими идиотами!
– А ты-то как сюда попала? – спросил я.
– Ты не поверишь, когда они увели тебя, я подошла к этому Сергею и спросила, что произошло. Так ты представляешь, он мне сказал, чтобы я шла за стойку и помалкивала! Я ему говорю: Сергей, мы так не договаривались, чтобы моих друзей ни с того ни с сего сажали в какую-то вонючую подсобку и при этом говорили мне, чтобы я помалкивала. И тут еще пришел этот твой старичок.
– Изя?!
– Шурик.
– Так он сейчас наверху?
– Да, ты понимаешь, он взял у меня бутылку пива и встал не у бара, а как-то странно, почти у входа. Они, видимо, хотели с ним тоже поговорить, но он вышел в коридор к игровым автоматам, а там было несколько человек, и ему просто повезло, что они его тоже не затащили сюда. Ничего, сейчас его приведут.
– А я думаю, что его-то они и не приведут, – сказал я.
– Да? – удивилась Лиза. – А нам-то что делать?
– Там еще люди есть?
– В баре, может быть, человека два-три, а в ресторане человек пятнадцать. Но еще час-полтора, и все разойдутся.
– Надо отсюда вырваться любыми средствами, пока там еще кто-то есть. Главное – вырваться за эти двери хотя бы одному. Как я помню, участок должен быть в двух-трех кварталах отсюда. Лиза, слушай, что мы сейчас будем делать. Дверь открывается внутрь, мы начнем барабанить и кричать. Свет выключим. Когда они приоткроют дверь, вставляем в просвет какой-нибудь ящик, чтобы ее сразу не захлопнули, и бежим к выходу. И еще – орать что есть сил: они не хотят шума. Если вырвется один, полиция здесь будет через пять минут. За пять минут они никого не тронут, только потому, что не успеют спрятать трупы.
Полине я сказал очень коротко, в надежде, что она во всем разберется по ходу развития событий, чтобы она просто бежала к выходу и громко звала полицию. Она кивнула.
Качаясь и хватаясь за стены, я поднялся, подставил к входной двери ящик с шипучим «Асти спуманте», откуда каждый из нас взял по бутылке.
– Итак, я вырубаю свет, а вы начинаете орать что есть сил.
Еще до того, как я сбил бутылкой лампочку, девушки подняли такой дикий визг, что от его звука меня качнуло еще сильнее. Не в силах вторить им и понимая, что это лишено всякого смысла, я просто стал бить ногой в дверь и бил даже тогда, когда услышал, как с той стороны зазвенели ключи. Дальнейшее произошло очень быстро – дверь открылась, я ударил человека, который сунулся в темную кладовку, бутылкой в лицо, ощутив, как он осел под ударом. Кто-то из девушек вытолкнул меня в темный коридор и потом, как поршнем, выдавил мной всех, кто стоял на нашем пути. Небольшая заминка произошла лишь у бара, когда кто-то бросился мне наперерез, но ударившая в голову итальянская шипучка остановила его. Последним на нашем пути был Шурик, которому я буквально влетел в объятия. Дальше весь этот клубок тел, гремя опрокинутыми стульями и звеня битой посудой, выкатился на улицу, где случилось несчастье. Патрульная машина стояла у тротуара. Я увидел, как напряглись лица полицейских и видел, как Шурик, которого сзади толкала, как вагонетку, ослепшая от страха Лиза, налетел на одного из них и все трое повалились на тротуар. Второй полицейский, выхватив дубинку, тут же бросился разбирать кучу, под которой оказался его напарник. Я уже заранее знал, что бедному Шурику достанется на орехи, но все это было включено в плату за свободу, поэтому я приготовился к длительному объяснению, подыскивая удобный момент, чтобы крикнуть: «Офицер! Офицер!» Но тут я обнаружил, как меня настойчиво дергает за рукав Полина, повторяя как заведенная:
– Where is your fucking car?
– Around the corner, – ответил я. – Police is here. Everything’s gonna be all right now!
– No! Run!
He представляю, как это произошло, но я побежал за ней, насколько возможно было бежать по сильно накрененному тротуару с грозящими упасть на меня фасадами домов. Бежал я, пока она буквально не втолкнула меня в мою машину, выдохнув:
– Any motel!
13. Золотые ворота Бруклина
Минут через двадцать мы запарковались в «Голден Гейте» на восточной оконечности Белт-парквея. Моя новая подруга, не успели мы толком познакомиться, вовлекла меня в большую неприятность. Зачем мне было бежать от полиции? Зачем мне было платить за мотель 59 долларов в сутки? Я понимал, что вступать в отношения с полицией не хотелось моей спутнице. Что-то она такое натворила, за что ей грозило наказание не только от ее Рафика.
Клерк за конторкой спросил, собираемся ли мы остановиться на несколько часов, и был удивлен, когда моя спутница отрезала: нет! На сколько – скажем завтра утром.
Когда я хотел расплатиться «Американ-экспрессом», она остановила мою руку с карточкой и распорядилась: «Только наличными».
К счастью, у меня было с собой 70 долларов.
В номере я сел на кровать и спросил, что она собирается делать теперь.
– Купаться, – ответила она.
Она вошла в ванную, и я услышал, как там полилась вода. Я лег и, кажется, заснул. Очнулся от того же самого ощущения – кровать медленно наклонялась, грозясь сбросить меня на пол. Этот процесс перекашивания реальности продолжался бесконечно, в то время как угол наклона оставался тем же. Я открыл глаза, но процесс не остановился, зеркало с комодом и телевизор, стоявшие напротив кровати, так же бесконечно ехали в сторону. Я осмотрелся – вокруг никого не было.
Я подумал, что она просто смылась.
Я прошел к ванной и, приоткрыв дверь, увидел, что она спит в воде. Наверное, сам я спал недолго, поскольку сигарета у нее в руке еще оставалась зажженной. Я осторожно вынул ее из пальцев и погасил. Ощутив мое прикосновение, она открыла глаза и долго смотрела на меня, не шевелясь и не делая никаких попыток укрыться от моего взгляда. Совершенно не помню, как она выглядела тогда.
– Что-то мне неважно, – сказал я. – Пойду лягу.
Я разделся и забрался под одеяло. Сквозь тяжелую дрему я слышал, как она несколько раз набирала телефонный номер, а потом, тихо скользнув под одеяло, замерла на другом конце кровати. Может быть, от ощущения того, что она легла, я наконец заснул. Ночью я снова проснулся от ее голоса.
Сидя у туалетного столика в белой простыне, она отчетливо сказала в телефонную трубку: «Если этот пидор не перезвонит мне по этому номеру, он об этом сильно пожалеет».
От неожиданности я поднялся.
– Так ты говоришь по-русски?
– What? – спросила она, вешая трубку. – You better sleep, O.K.?
Она встала из-за туалетного столика, обошла кровать и легла рядом со мной. Легкой рукой она стала гладить меня полбу, приговаривая: «Sleep, honey. Sleep».
Я не знал, что думать. Может быть, мне показалось, что она говорила по-русски. Я внимательно рассматривал ее. У нее был длинноватый нос и немного раскосые карие глаза с залегшими под ними глубокими тенями. Под одним глазом темнел синяк. Я повернулся на бок и прижался к ней, а она положила голову мне на локоть, продолжая поглаживать мне лоб, пока я снова не заснул.
Утром она попросила принести что-то поесть. Я внимательно слушал ее английский, но не замечал в нем никаких следов русского. Судя по произношению, она была явно не из Нью-Йорка, но это еще ни о чем не говорило. Когда я ее спросил, откуда она, она коротко ответила: «Guess». Я пожал плечами. Она сказала, что приехала сюда из Ирландии. Она не похожа на ирландку внешне, а произношение слишком мягкое для ирландки. На вопрос, как она оказалась вовлеченной в эту историю, она коротко объяснила, что нашла работу секретарем в одной фирме, а хозяин оказался мошенником. Забрал деньги и убежал. А клиенты решили, что она заодно с хозяином.
– So what they do?
– Technologies.
Я взял деньги в банковском автомате, потом зашел в магазин напротив мотеля, купил ей бутерброд и кофе. Взяв еду, она тут же отправила меня заплатить еще за день. Она ничего не просила – она распоряжалась, и я не без опоздания заметил, что незаметно попал под ее начало.
Когда я вернулся, пустая тарелка стояла на полу возле кровати, а сама она лежала, свернувшись калачиком под одеялом. Взглянув на меня, сказала: «Shit!», медленно встала и прошла в ванную. Вернувшись, она со стоном легла и сказала: «I ate to much».
Я выпил уже подостывший кофе, походил по комнате и, когда остановился у двери на балкон, услышал, как она сказала тихо:
– Don’t go anywhere. All right?
Почему я ее слушался, так, словно она была моей подругой, любовницей, пусть хотя бы старой знакомой, как, например, Лиза? Кем угодно, кто имел на меня хоть какое-то право? Не знаю. Вероятно, это ощущение подчиненности возникло во мне из-за жалости к ней – больной, избитой, измученной трехдневной неволей, в истинных причинах которой я имел все основания сомневаться. Возникшее к ней чувство было сродни тому, которое возникает к больному ребенку. Я сделаю все, что хочешь, только говори, дай знать, хоть своими глупыми распоряжениями, что ты не собираешься умирать.
От нечего делать, я лег на кровать и задремал. Неторопливое течение жизни нежданно-негаданно занесло меня в какой-то приток моей биографии. Я оказался связанным с женщиной, которая явно нуждалась во мне. И она, вероятно, знала лучше, какая помощь ей нужна, поэтому мне оставалось только выполнять ее просьбы.
Когда я проснулся, она сидела у окна и перебирала содержимое моего бумажника. Она пересчитала деньги, а затем пересмотрела мои кредитные карточки и удостоверения. Мне показалось, что она взяла что-то – скорее всего часть денег – и сунула в карман своих джинсов. Сложив остальное в бумажник, она положила его снова мне в куртку и тут заметила, что я смотрю на нее. Ничуть не смутившись, она спросила:
– Can you bring more coffee?
– Why can’t you go yourself?
Мне казалось, что так логичнее было бы объяснить экспроприацию средств.
– Is it far?
– Across the street.
Она поправила футболку, надела туфли и осмотрела каблуки. Только сейчас я заметил, что на правой руке у нее тоже был синяк. Большой синяк. Она провела по нему рукой. Потом, приблизив лицо к зеркалу, стала внимательно рассматривать отражение. Она чувствовала себя, как бы это сказать, не в своей тарелке, и я, кажется, понял, отчего. Ей не хватало косметики, помады, туши для ресниц, того, с чего женщина начинает свой день. К тому же ей надо было как-то замаскировать следы побоев.
– Listen, stay here. I’ll go.
– Good. – Она испытала явное облегчение.
В магазине я с удивлением обнаружил, что деньги на месте. Во всяком случае, если что-то и пропало, то от силы долларов пять. Я не помнил, сколько мне дали сдачи, когда я расплачивался за номер. На обратном пути я подумал, что, даже с учетом перенесенного, она могла бы хоть коротким словом поблагодарить меня. Поставив перед ней кофе, я пошел в душ, а когда вернулся, обнаружил, что она лежит под одеялом, а ее джинсы висят на стуле. Я пил кофе под ее внимательным взглядом. А потом она протянула ко мне руку и сказала: «Come here». В очередной раз я послушно выполнил ее распоряжение.
14. Побег
Мы уехали из «Голден Гейта» около часу дня. Небо было серое, ветровое стекло тут же покрылось каплями мелкого дождя. У меня было новое задание, и каким бы диким оно ни казалось, я взялся его выполнить, по сути став сообщником Полин. Я хотел зайти домой переодеться, но она, крепко сжав мне запястье и глядя в глаза, сказала: «Please, don’t go anywhere. Please…» Это «Please» было новой формой приказания.
Пока я ждал ее в машине на Кингс-Хайвей, она вошла в магазин и через полчаса вышла оттуда в черной лаковой куртке, бейсбольной кепке и очках в тонкой металлической оправе. В руках у нее был пакет, как оказалось позже – с бельем для себя и меня. «I need one more hour», – сказала она, наклонившись к окну, и, когда я кивнул согласно, направилась в парикмахерскую на другой стороне улицы. Я купил несколько газет и на час погрузился в привычный мир. В Индии столкнулись два самолета, 240 человек погибли. Бруклин готовился к выборам депутатов в школьные советы. На Парк-авеню женщину изнасиловали в телефонной будке.
Когда она вернулась, я не узнал ее. Последний раз я видел ее со светлыми волосами до плеч. Передо мной стояла брюнетка с короткой стрижкой.
– Like it?
– Well, I’ve got to get used to it.
Она села в машину и вернула мне сильно похудевший бумажник.
– Where now? – спросил я, выруливая от тротуара и вливаясь в поток машин, двигавшийся в сторону Оушен-парквей.
– Montreal, – ответила она.
Вот об этом абсурде я и говорил. Почему в Монреаль? По ее словам, там у нее друг-адвокат, который уладит всю эту историю.
Ненавижу долгую езду в машине, особенно если мне приходится сидеть за рулем. Меня никогда не привлекали придорожные пейзажи, городки с тюдорами под красной черепицей, «макдоналдсы», «гамбургер-кинги» и «пицца-хаты», станции «Амоко», «Мобил» и «Шелл», «Холидей-Инны» и «Мотор-Инны» вдоль дороги, по краям которой простираются американский лес или американская степь. Езда мне всегда казалась напрасной тратой времени, но я уже попал в поле притяжения моей спутницы и внезапно ощутил его силу, как ощущал ее в школьном детстве – тревожной дрожью в желудке.
Мы двигались на север под мелким дождем. Она спросила:
– Can you drive with one hand?
– Sure, – ответил я, и она взяла мою правую руку в свои.
У нее были прохладные и очень нежные руки, и время от времени я прижимал их к щекам и целовал ее ладошки.
– Your face is hot, – сказала она один раз.
Иногда она, укачанная движением, клала голову мне на плечо и дремала.
Я не знал, чем кончится эта история. Отправляясь в относительно недалекий Монреаль, я не знал, на сколько еду туда. Я не знал, насколько дружескими были ее отношения с упомянутым адвокатом. Я отдался течению жизни, которая сделала неожиданный поворот, и последствия в данный момент меня не беспокоили. Это был тот редкий случай, о котором мы часто мечтаем: когда сама судьба предлагает нам перемену участи. Не важно, в лучшую или в худшую сторону. Эта перемена обещает потерю старого багажа, о каком бы багаже мы ни говорили: деньгах, доме, бывшем близком человеке, опыте. За этой потерей лежит тайное стремление еще раз вернуться в юность, когда тебя не обременяет ничего, кроме невнятных ожиданий больших перемен к лучшему, которые и являются самой большой ценностью.
Что меня могло ждать в Монреале? Вероятно, втайне я надеялся, что, доставив ее к друзьям, обозначу для себя точку, в которой смогу снова найти ее. Через день, максимум два, мне снова надо было вернуться в наш захламленный офис на бруклинской 18-й авеню и снова писать статьи, без особой надежды на то, что когда-либо они всплывут в чьей-то памяти или будут помянуты добрым словом. Мои старшие товарищи смотрят на нашу профессию проще. «Газета живет один день», – говорит Леша Орлов, и, отметая все остальные вопросы, Володя Козловский добавляет: «Главное – сумма прописью».
В тот момент у меня даже мелькнула грешная мысль о том, что если бы сейчас на скользкой трассе в меня въехал какой-нибудь лихой грузовик, которые носятся по шоссе как угорелые, невзирая ни на какие дожди и туманы, это было бы не так грустно, как могло бы показаться десятку-другому ценителей моего журналистского таланта. Жизнь в тот момент казалась мне доведенной до логического конца. Лучшее было только что пережито, будущее обещало лишь потерю, рассасывание родившегося во мне тревожного чувства в каждодневной топи обязанностей; прошлое уносилось прочь со скоростью 65 миль в час.
Через три часа, когда мы въехали в Хадсон, дождь обрушился на нас грязно-серой стеной, из которой время от времени выплывали навстречу светящиеся вывески автозаправок и придорожных магазинов. Мы вышли возле первого же мотеля, перебежав с автостоянки в освещенный мутным светом офис администратора.
15. Прощание
Прожив некоторое время в США и начав забывать родину, я ощутил, что провинциальные американские мотели и гостиницы очень похожи на советские, за вычетом, может быть, туалетной бумаги, которую на родине подменяли газетой. Все остальное – от наружной проводки и засохших растений в фойе до деревянных перил с облупившейся коричневой краской и затоптанных красных ковров – напоминает о временах, когда у строителей этих мест была надежда на то, что завтра будет лучшим, чем сегодня. Увы, их надежда оказалась тщетной.
Примыкавшее к мотелю кафе пустовало. Привлеченная стуком двери, к стойке вышла румяная девушка лет двадцати.
– Hi! – сказала она, улыбаясь. – What can I do for you?
Положив перед нами меню в потертой пластиковой обложке, она сообщила, что повар ушел на почту, но она может нам быстро поджарить яичницу с ветчиной и сыром.
– Good! – сказала Полин. – I’m dead hungry.
Девушка поставила перед нами большие белые чашки, наполнила их кофе и ушла на кухню.
Я поднялся и пошел следом за ней. Девушка клала в микроволновку булки. Закрыв дверцу и набрав на попискивающей панели время, включила ее.
– Извините, – сказал я. – У вас есть что-то выпить? Мы продрогли как черт знает кто.
– Бар закрыт, – сказала девушка. – А ключи у повара. Честно говоря, в такой дождь я даже не представляю, когда он вернется. Хотя он всегда держит что-то для себя… – Она прошла в дальний конец кухни, открыв дверцу шкафа, подвигала в нем что-то со звоном и вернулась с початой бутылкой.
– «Хеннеси» – это не очень крепко?
– Отлично, – я достал бумажник. – Можно оставить всю бутылку?
– О-о, – сказала она, – у меня будут неприятности.
Я достал пятьдесят долларов.
– Нормально?
– Добавьте еще пятерку, на всякий случай, – она поставила бутылку передо мной. – Вы, наверное, хотите взять с собой в номер? – Она подмигнула мне сообщнически, затем достала с полки шоколадку «Херши» и положила на стол. – Бонус.
Она принесла тарелки действительно через пять минут, промозглость погоды и усталость сделала коньяк идеально совместимым с горячей яичницей.
Когда я закрыл за нами дверь номера, Полин, обнимая меня, попросила:
– Don\'t turn the lights on. I can’t see this poverty.
Ax, читатель, как описать этот удивительный поцелуй, возвращающий тебя в далекое прошлое, где шумят знаменитые, пропахшие креозотом ветви, полные цветов и листьев, где ночные стекла выгибаются и дрожат под напором весеннего ветра, несущего запах теплой земли? Какими словами напомнить тебе о той ночи, когда в освещенном недобитым фонарем парке ты был обучен искусству, краткий курс которого молодая ведьма взяла без твоего спроса у курсанта местной мореходки? Помнишь ли ты, с какой силой ее поцелуи захлопнули главу твоей юношеской биографии, наполненной ревом «Свинцового дирижабля», едким плановым дымом и невнятными мечтами о счастье?
Лил безумный дождь. Он лил откуда-то из тропиков, из каких-то Бразилий и Венесуэл, пересекая тысячи километров американских небес и отрезая нас непроницаемой стеной от холодного осеннего мира, заливая своими мутными и жаркими потоками. Выплывая из них, возвращаясь к берегу, приходя в себя, я думал, какой глупой была недавняя мысль о смерти, посетившая меня на дороге, когда мне казалось, что все главное достигнуто.
Дождь стих под утро и новый день робко заглянул в окно. В его рассеянном свете я увидел сидевшую в кресле у окна женщину с сигаретой, дымок которой, поднимаясь, таял на фоне светлеющего окна. Склонившись, она подвинула к себе туфли и, надев их, поднялась. У нее были узкие бедра, прямые плечи и грудь, о которой говорят, что она должна помещаться в ладонь.
– Дима, – позвала она меня тихо, но я не смог ей ответить. У меня перехватило дыхание – она позвала меня по-русски. У меня такое имя. В английском невозможно произнести мягкое «и» после твердой «д». – Baby, – позвала она меня снова. – We have to go.
Когда я вышел из номера, она уже сидела за рулем. Через несколько часов мы въехали в очередь машин, медленно направлявшихся к канадской границе.
– By the way, do you have any ID? – вспомнил я.
– Sure.
– Вы везете какой-то коммерческий груз? – спросил меня пограничник и, не слушая ответа, добавил: – Откройте багажник.
Я вышел из машины и открыл. В багажнике лежала пачка «Репортера».
– Зачем вы едете в Канаду? – спросил он, доставая одну газету из-под пластиковой ленты и разворачивая ее.
– Провести выходные.
– А зачем газеты?
– Я работаю в газете. Это редакционные копии, я просто забыл их достать их багажника.
– Отъедьте сюда, – пограничник махнул рукой, показывая, где я могу поставить машину.
Полин отогнала машину на площадку рядом с трейлером, на котором был прикреплен пластиковый канадский флаг, а под ним красовалось на французском и английском: «Добро пожаловать в Канаду». Меня попросили пройти в офис.
– На каком языке эта газета?
– На русском.
– Где она издается?
– В Нью-Йорке.
– Зачем в Нью-Йорке русская газета?
– Там живет полмиллиона русских.
– В Нью-Йорке?
– Да, сэр.
– О чем там написано?
– О жизни русских в Нью-Йорке.
– Есть рабочее удостоверение?
Я достал из бумажника свой пропуск. В окно я увидел, что Полин говорит со склонившимся к ней пограничником.
Когда мы въехали в Монреаль, она сказала, что без чашки эспрессо заснет.
Бар, у которого мы остановились, назывался «Мариот». Деревянная вывеска качалась на цепях над стеклянной дверью. Это было узкое и длинное, как вагон, помещение с единственным высоким окном у входа, свет от которого падал на стойку из потемневшего дерева и стеллажи с бутылками. Стены были выкрашены отвратительной краской изумрудного цвета, под высоким потолком змеились вентиляционные трубы. Над столами горели в бумажных абажурах лампы. Мы устроились в дальнем конце зала за круглым мраморным столом, где едва поместились два блюдца и пепельница.
– Wanna drink something?
– Thanks, dear, I can’t.
Неотрывно глядя на меня, она сбивала пепел прямо на пол. Тогда я впервые задумался о том, сколько ей лет. Может быть, тридцать. Худощавые и светловолосые женщины всегда выглядят моложе. Сейчас, став брюнеткой, она как будто не сильно изменилась. Уже выучив тревожный запах ее тела, я все еще не мог толком рассмотреть ее. Была ли она красавицей? Вряд ли. Свежесть – вот что было самым привлекательным в ней. Ее молодое тело пьянило меня.
Сделав последний глоток и затушив сигарету, она поднялась и, проведя рукой по моей щеке, ушла. Минут через двадцать я понял, что она не вернется. Скорее для очистки совести я попросил барменшу, чтобы она заглянула, нет ли ее в туалете.
– А кого вы ищете?
– Худую девушку в голубых джинсах и черной лаковой куртке.
– Я видела, как она вышла и остановила такси.
После паузы спросила:
– Поссорились? Ничего, помиритесь. Хотите еще выпить?
Я не хотел. В этот момент я ощутил сильный голод, но одновременно и такую сильную боль в желудке, что только покачал головой.
Искать ее было бессмысленно. Я не знал ни ее фамилии, ни адреса. Я не знал о ней ничего. Easy come, easy go. Как пришла, так и ушла. Благородно оставив на столике ключи от машины.
Я отправился в обратную дорогу. В районе Хадсона я достал из бардачка кассету, оставленную Ларисой, когда я последний раз вез ее на работу. Сюткин пел все про то же:
Тайное движенье в небе без конца,
вижу отраженье твоего лица.
Движенье было абсолютно тайным. Мрак окружал меня и мрак был во мне. И в этом мраке не видно было ничего, кроме ее лица. И вкус ее поцелуя все еще оставался на губах, и когда я прикладывал к носу ладонь, она еще пахла ею.
Ты далеко от меня, за пеленой другого дня,
Но даже время мне не сможет помешать
Перелететь океан и, разогнав крылом туман,
упав с ночных небес, скорей тебя обнять…
Я мог лететь только в свой Бруклин и падать в объятия Шурику, Изе, Лизе, Ларисе, Лёне Циклопу. Я снова ехал на 18-ю авеню, где меня ждали заваленная бумагами редакция, полиция, рекламодатели, писанина до боли в руках.
16. Ружье на стене
В понедельник я вышел на работу. Надо ли рассказывать, как я хотел работать? Нахально устроив ноги на столе, я тупо смотрел сквозь пыльные оконные стекла вдаль, где не было ничего, кроме серого неба и красной пластиковой надписи «Silver Rod» над входом в аптеку на другой стороне улицы. Я впал, как говорили в старые времена, в апатию. И, пребывая в этой апатии, я понял всю мудрость хвостенковских строчек: «Хочу лежать с любимой рядом, а с нелюбимой не хочу» и «Пускай работает рабочий, пускай работает, кто хочет, а я работать не хочу». Ничего мне не хотелось, кроме как обнять бросившую меня Полин и держать ее в объятиях, ощущая лишь тепло ее тела. Но обнимать было некого. И с учетом обстоятельств дела, в которое я оказался впутанным, жаловаться на эту потерю было глупо. От этих меланхолических мыслей меня отвлек главред. Он вызвал меня к себе в кабинет и, кивнув на кресло перед своим столом, сказал с воодушевлением, что мы начинаем печатать нового автора и мне предстоит внести его в разметку.
– Что за автор? – поинтересовался я.
– Очень востребованный литератор, – заверил меня Леон. – Ты будешь доволен.
– Кто же это?
– Осип Шпигун.
– Нет!
– Еще как да!
– А что он еще написал?
– Он написал книгу о евреях-героях. Наши старики это любят.
– Наши старики могут покупать его книгу про евреев-героев в «Черном море» или в «Санкт-Петербурге»!
– В этом проблема. У него кончилась эта книга, и он хочет собрать немного денег на дополнительный тираж.
– Елки-палки, вы же постоянно жалуетесь, что у вас нет средств на увеличение гонорарного фонда!
– Он не просит гонорар.
– А что он просит?
– Он просит ставить в номер одну главу и под ней заказной талон на его книгу. Потом ему присылают заказ и чек, и вот его гонорар.
– А что имеем с этого мы?
– Мы имеем популярного автора.
– Шеф, – сказал я, – я знаю его книгу. И я вам скажу точно: его глава встанет приблизительно на наш разворот.
Это значит, что вам надо будет добавить в номер четыре полосы. Один разворот заполнит он, а еще две полосы кто-то другой. И тоже попросит гонорар. Что будет иметь с этой сделки Шпигун – понятно, но вам надо будет за нее доплатить. Вам напомнить, сколько стоит наша полоса?
– А почему не снять две полосы и освободить ему?
– Что вы планируете снять? Платную рекламу? Или полосы наших постоянных авторов, которые плачут, что вы не даете им места? Снимите полосу Марины Потемкиной, и завтра она пойдет в «Новое русское слово». У вас есть, кем ее заменить?
– С тобой говорить – только портить здоровье, – вздохнул Циклоп. – Можешь идти.
Вернувшись к столу, я подумал, что прагматизм босса неизбежно возьмет верх, что станет редким случаем победы циклоповского цинизма над шпигуновской безнравственностью. Но я знал и то, что победа будет временной.
Чтобы как-то оправдать ожидавший меня чек, я стал перебирать письма. Я люблю письма больше, чем статьи. Статьи пишут в основном такие же профессионалы, как и ты. Они всегда предсказуемы. Письма часто таят в себе неожиданности. Недавно я, например, получил письмо следующего содержания:
...
«Господин Санин!
Гитлер – величайший подлец человечества. А вы поместили в газете его фотографию. Я этого просто не понимаю!
Геннадий Штурм
».
Когда я собрался выйти на обед, позвонил телефон, и, сняв трубку, я услышал волнующийся голос:
– Здравствуйте, меня зовут Ира Кудрявцева. Я прочла объявление, что кто-то нашел мою гринкарту.
– А, да, – вспомнил я. – Заходите.
– Можно прямо сейчас? Я тут недалеко.
– Давайте.
Когда она вошла, мне стало немного не по себе. Это была брюнетка с короткой стрижкой, в очках и с рюкзаком на плече.
– Здравствуйте, – сказала она. – Я за гринкартой. А вы хотите какую-то награду?
– Нет, я уже все получил, – я достал бумажник, уже зная, что гринкарты там нет. – Послушайте, Ира, – сказал я, заглянув еще для приличия в верхний ящик стола. – Произошло недоразумение. Вашу гринкарту случайно отдали другому человеку. Но я надеюсь, что он заметит ошибку и вернет ее.
– Боже, это судьба, – как-то очень трагически выдохнула она и просто упала на стул.
– Ну не расстраивайтесь, – я с тревогой почувствовал, что дело запахло долгим выяснением отношений. – Только оставьте свои координаты. Мы позвоним вам.
– Понимаете, я не расстраиваюсь из-за гринкарты. Просто вся эта история с ней – это какой-то знак…
– Знак чего?
– Понимаете, – она устроила рюкзак на коленях, – я выиграла эту гринкарту по лотерее. И решила уехать. Знаете, доживаешь до какого-то момента в жизни и хочется перемен.
– Это мне знакомо, – кивнул я, отметив по себя, что ей как-то очень рано захотелось перемен. На вид ей было лет двадцать пять, может быть, чуть больше.
– А здесь я уже полтора года, и все никак не удается зацепиться. Работы постоянной нет, живу то здесь, то там…
Как-то бестолково все. И там еще хоть друзья какие-то были, а тут – ни фига. Когда я потеряла эту гринкарту, я подумала: это знак, надо возвращаться. Родители все время назад зовут. А тут еду в поезде и вижу – ваша газета лежит на сиденье, кто-то оставил. Я стала просматривать и вдруг наткнулась на объявление. Нет, думаю, видно, не судьба уезжать. А тут ее снова кому-то другому отдали. Так судьба?
Я засмеялся.
– А кто вы по специальности?
– Химик.
– Слушайте, я ваш должник. Хотите, я помогу вам найти работу? Серьезно. У нас есть знакомые в бюро по трудоустройству, потом объявления разные приходят, рекламодатели иногда спрашивают, нет ли кого для работы в офисе. У газеты большие связи. Хотите?
Она покачала головой.
– От этих ваших американских горок просто обалдеть можно.
Это ее «аб-балдеть» и напористая интонация явно оставались от недавних студенческих времен.
– Какую-то работу я вам найду. Большой зарплаты не ждите, но на жизнь хватит. Потом пойдете подучитесь, так и устроитесь, как все.
– Понимаете, у меня за квартиру заплачено только до конца месяца, а сегодня 22-е. Если за неделю вы ничего не найдете, то я снова окажусь…
– Поживете у меня, – нагло предложил я.
– А вот это мне знакомо! – она хлопнула себя ладошкой по колену. – Вот это мы уже слышали неоднократно! Нет, дядя, сперва работа, а потом – поживешь у меня!
– Я знаю, что я дядя, – вздохнул я. – Делайте как знаете. Только оставьте свой телефон на всякий случай. Если гринкарту принесут до конца месяца, я вам позвоню.
Она взяла лист бумаги, карандаш и, написав свой телефон, подвинула ко мне. Поднявшись, закинула рюкзак за плечо.
– Ну, вы это, ну… то, что я дядей вас назвала, не обижайтесь. Я ничего такого не имела в виду.
– Ничего-ничего, – успокоил я ее, сметая листик с телефоном в ящик стола. – Не тетя же я, в самом деле.
Через несколько дней мне позвонил Суарес и попросил зайти в участок. Я зашел.
– Что ты о ней знаешь? – спросил он без обиняков.
– Ничего, – как на духу ответил я.
– Слушай, – сказал Суарес. – Я тебе сейчас расскажу одну историю, только это не для прессы. Если ты что-то услышишь, то перед тем, как писать, ты знаешь куда звонить. Верно?
– Верно.
– Мы имеем четырех азербайджанцев из бывшего Советского Союза. Город Баку. По их словам, там, в Баку, их нашли двое американцев, которые предложили вложить деньги в американскую нефть. Где-то в Техасе. Они согласились. Их привезли в Хьюстон. Поселили в гостинице. Потом повезли на буровую. Показали нефть. Они внесли задаток.
– А что, у них в Техасе так просто купить буровую? Приехал, заглянул в скважину и рассчитался?
– Дима, я тебе никогда не рассказывал, как одному русскому продавали Эмпайр-стейт билдинг?
– Нет.
– Его привезли из «Кеннеди» на 34-ю, показали, как дом выглядит снаружи, завели внутрь, провели по офисам, назвали цену. Нравится? Да, красиво, но для начала хочется что-то менее габаритное. Никаких проблем! Его отвезли на 42-ю к Крайслер-билдингу. Показали снаружи, провели по офисам. Это лучше? Да, это намного лучше, и потом, такой шпиль красивый!
– А документы?
– Видишь вон ксерокс у окна? – он кивнул на копировальную машину «Canon». – Если тебе нужны какие-то документы, я тебе напечатаю. Пятнадцать центов страница.
– А адвокаты сторон, представители банка?
– Слушай, ты как вчера на свет появился! Поверь мне, если я торгую буровыми или Эмпайр-стейт билдингами, то мне ничего не стоит открыть офис и посадить в него одного адвоката, а потом привести к нему на встречу другого, который будет представлять Леону Хелмсли, или Дональда Трампа, или кто там еще владеет этими небоскребами. Это же все кукольный театр, ты что, не понимаешь?
– Уже понял, – сказал я.
– И эта девка, о которой я тебя спрашиваю, могла быть таким адвокатом. Или секретарем такого адвоката. А теперь скажи мне: ты сидел с ней в подвале «Вышки», потом вы вылетели с ней на улицу. И ты не знаешь, куда она делась?
– Не знаю.
– Дима, – укоризненно сказал он, – ты не хочешь быть соучастником мошеников, которые вступили в тайный сговор с целью обмана предположительно порядочных людей и выдали себя за лиц, которыми они не являются.
Я плюнул на щепоть и перекрестился.
– Не богохульствуй.
– Кто, я богохульствую?!
– Ты знаешь мой телефон.
– Никогда его не забываю.
У дверей я остановился.
– Питер, а что с этими, из Баку?
– Не имею представления, – он пожал плечами. – Пострадавших нет, свидетелей нет, никто ни на что не жаловался. Эти ребята в таких ситуациях ищут своих обидчиков без нашей помощи.
Работа снова втянула меня в свой серый омут, и неделя промелькнула незаметно. В пятницу выдался солнечный день, и я ушел из офиса пораньше, захватив почту с собой. Подходя к дому, я увидел беседовавших Шурика и Шпигуна. Шпигун, рубя воздух рукой, говорил:
– …и я ему так и сказал: это – трусость! Но вы можете не волноваться, я давно имею в планах и другую книгу: о евреях-предателях! И вы – хороший кандидат для нее!
Заметив меня, он махнул рукой и, бросив: «Ладно, Шура, пойду поработаю», – двинул к парадной.
Шурик, у которого в руке был кулек с шахматами, сказал:
– Ну шо, Димитрий батькович, пару партий, чтобы отвлечься от забот жизни?
– Можно, только я почту просмотрю быстро.
Устроившись за бетонно-шахматным столом, Шурик закурил и, отмахнув дым от лица, сказал:
– Что ты знаешь? Шпигун будет писать второй том.
– Да, я слышал, про евреев-предателей.
– И знаешь, с кого он начнет?
– Не имею представления.
– С твоего редактора. Он отказался печатать главы из его книги.
От неожиданности я рассмеялся.
– Ну шо ты смеешься?
– Я думаю, что он должен посвятить пару строчек мне.
– Дай время, может, он и посвятит. Слушай, возвращаясь к предыдущему вопросу: посмотри какие неплохие девочки тут крутятся, а? – Шурик кивнул на двух мамаш с отпрысками на качелях. – Смотри на ту в чулках, а? С такой я бы и сам замастырил пару пацанят.
– Пойди познакомься, пока не поздно, может, она одинокая, – предложил я.
– Щас, тока докурю, – сказал он.
Пока Шурик докуривал, я открывал конверты. В одном из них оказался свернутый лист белой бумаги, в котором лежало что-то плотное. Я развернул его и на землю выпала гринкарта. На листке не было написано ни слова, а только стоял красный отпечаток губ.
– Таки красиво, – заметил Шурик.
Он взял у меня из рук листик, рассмотрел со всех сторон, шумно понюхал и сказал:
– Ну, и ше это такое? Прощальный привет?
Потом он взял конверт и, близоруко щурясь, прочел:
– Рома. Италия. Как же ты ее туда отправил, а?
Я покачал головой.
– Я не знаю, Шурик. Я довез ее до Канады, а там она потерялась.
– Так я и думал. Какая-то русская шалашовка. Видимо, в Канаде у нее были еще одни документы. Может быть, даже настоящие. А оттуда она вернулась в Россию. Или в Израиль. Или в Германию. Та еще гастролерша!
– Гастролерша, а гринкарту вернула.
– Попользовалась и вернула, – уточнил Шурик. – Может, она к тебе таки неплохо отнеслась.
Может быть. Я чувствовал себя, как, вероятно, чувствовал себя в 18-м веке мой далекий предшественник – лирический герой виконта Виван Денона. Меня использовали, подарив за услугу две ночи, продолжения у которых никогда не будет. И этот подарок был, как говорится, от чистого сердца. Я поднял с земли гринкарту Иры Кудрявцевой. Потом забрал у Шурика листик с отпечатком губ и, сложив его, положил в стоявшую рядом урну.
– Правильное решение, – похвалил он. – Сантименты – для лохов.
Дома я сел к телефону и позвонил своему доктору Кагановскому.
– Ну, что тебя беспокоит, писатель? – сразу поинтересовался тот.
– Доктор, меня чуть-чуть беспокоит сердце, но я по другому вопросу.
– Надо следить, что ты ешь, – сказал он. – Избегай жирного. Так какой вопрос?
– Вам не нужна в офис хорошая девушка?
– Это из-за нее у тебя болит сердце?
– Нет, болит из-за плохой, а эта – хорошая.
На другом конце линии раздался вздох.
– Сначала они все хорошие. Поэтому надо есть меньше жирного и больше свежих фруктов. Мне нужна девочка в регистратуру, она пойдет?
– Я дам ей ваш телефон, хорошо? Она скажет, что она от меня.
– Давай. И посмотри, когда ты был последний раз на обследовании. Если больше года, приди проверься, сдай анализы, ты меня понял?
– Я вас понял, спасибо. Если она позвонит, ее зовут Ирина Кудрявцева.
Повесив трубку, я достал листок с телефоном Кудрявцевой и скоро услышал знакомый голос:
– Слушаю вас.
– Здравствуйте, Ира, это – Дмитрий Санин из «Русского репортера». У меня есть для вас две новости.
– Одна плохая, одна хорошая, начинайте с хорошей.
– Обе хорошие.
– Так не бывает.
– Почему? Считайте, что судьба наконец вам улыбнулась.
– Ну не тяните.
– Во-первых, у меня есть ваша гринкарта, а во-вторых – работа.
– Невероятно, – сказала она, но как-то грустно. – Понимаете, я через два дня съезжаю со своей квартиры к знакомым, а на следующую пятницу у меня билет домой. – Она помолчала. – Наверное, уже поздно.
– Если вы верите в судьбу, то никогда не поздно. У вас есть гринкарта и работа. Попробуйте еще раз.
Она молчала.
– Ира, вы меня слышите?
– Слышу.
– Что вы делаете вечером?
– Не знаю… Ничего не делаю.
– Хотите, сходим куда-то? В конечном счете, я же должен объяснить, что это за работа.
– Надеюсь, это не в подпольном публичном доме?
– Вы с ума сошли! Одним словом, выбирайте – в кино или на ужин?
– Хм, – сказала она. – Я в кино уже лет сто не была.
И после короткой паузы добавила:
– И в ресторане тоже.
2008«БМВ»
Петя Монастырский снимает квартиру с одной спальней у хасида Хаима Тульчинского в Бенсонхерсте. Хаим работает в ювелирной мастерской на 13-й авеню. Ездит он на «Шевроле-Каприсе» 1985 года выпуска – мятом, как старый мусорный бак, и огромном, как пароход. За бортом этой машины остались несколько владельцев, аварии и сотни тысяч миль. И она может сменить еще столько же владельцев, перенести столько же аварий и проехать еще столько же тысяч миль. Это хорошая американская машина, которой нет сноса. Б-г даст, Хаим еще будет учить на ней вождению своего старшего сына.
Единственное неудобство – парковка. Перед домом места ровно на две машины. Это если парковаться аккуратно. Но жилец Тульчинского, который возвращается с работы в половине шестого, ставит свой роскошный «БМВ» так, будто он здесь один. То есть ровно посередине между гидрантом и подъездом к гаражу соседнего дома. Поэтому для «Каприса» места уже не хватает.
Иногда Тульчинский, запарковавшись за три или четыре квартала, подходит к дому и видит, как Монастырский усаживает в «БМВ» свою очередную шиксу. Тульчинский стоит у освободившегося места с разбитым сердцем. Из-за тупости этого полухазера, который не в состоянии думать о ком-либо, кроме себя и этой разрумянившейся, ясное дело от чего, шиксы, Тульчинский готов плакать. И он прекрасно знает, что если даже он сейчас пойдет за своим «Каприсом», то к тому моменту, когда он вернется, место все равно займут. Такое уже происходило тысячу раз. И он не даст себя обмануть в тысячу первый.
– Хорошего ганефа нет на твою голову! – Дрожащим от возмущения ключом Тульчинский пытается попасть в замочную скважину. В парадной царит неприятный 25-ваттный полумрак.
Монастырский тоже хочет, чтобы у него угнали этот «БМВ». Он застрахован на значительно большую сумму, чем за него можно выручить при продаже. И у него есть один специальный человек, который решает эти проблемы. Человек держит компанию «Ремонт и круглосуточная буксировка Тони Фарины» в Ист Нью-Йорке. Здесь бригада умельцев под его руководством тратит на разборку хорошей машины 45 минут максимум. Доходы от реализации запчастей с лихвой компенсируют риск.
Монастырский меняет таким образом уже третью автомашину, потому что новая – залог успеха у девушек. Однажды его старший брат Семен из Казани сказал, что он должен переспать с максимальным числом женщин, пока не напорется на ту, которая прихватит его за одно место и женит. И он хорошо запомнил эти слова.
На днях Петя звонил этому Тони, но ему сказали, что тот сейчас отдыхает в Мексике и вернется только через месяц.
«Блин! – думает Монастырский, бросая трубку. – У меня, программиста с высшим образованием, – две недели отпуска, а этот бандит может уехать на месяц в Мексику!»
Наконец Тони возвращается. У него загорелое лицо питекантропа и шея быка, с которой свисает массивная золотая цепь.
Монастырский отдает ему второй ключ от зажигания и оставляет машину у кинотеатра «Сони» на Шипсхед-Бее.
Бель де жур Монастырского – жгучая брюнетка с ослепительно голубыми глазами. Наша девочка из Бей-Риджа – Джессика Рапопорт. Ей отведена роль свидетельницы, но она об этом даже не догадывается. Когда после сеанса они выходят на улицу, машины, как и полагается, уже нет.
Джессике приятно видеть, как четко, по-деловому кавалер дает показания «копам». Молодец. Настоящий мужчина умеет сдерживать свои чувства.
Домой их отвозит полиция.
– Ты расстроен? – она ерошит его волосы.
– Если бы у меня украли тебя, я бы расстроился, – Монастырский привлекает ее. – А машину мы купим новую.
Нежные руки обвивают его шею. Звонит телефон, но Петя продлевает чудное мгновенье. Не отрываясь от ее губ, ждет, когда включится автоответчик, и он услышит, кто звонит.
Излишняя уверенность в себе губит лучших специалистов. Тони Фарина садится в «БМВ», как хозяин. Кожа, скрипнув, принимает его в жестковатые объятия. Настоящая машина для настоящего водителя. С такой тяжело расставаться. В смысле, сразу. И вместо того, чтобы ехать в Ист Нью-Йорк, Фарина направляется к подруге на Шипсхед-Бей. Она живет в новом кондо с окнами на канал. Из-за близости воды постель в ее доме постоянно влажная. Он бы в такой постели постоянно спать не смог. Но ему и не надо. У нее есть муж. Летчик. Он пусть и мокнет. Тони оставляет машину в глубокой тени на стоянке универмага «Ломан» и спешит к подруге.
В этом месте в кадре появляются два новых персонажа – братья Лёня и Миша Белоцерковские. Они приехали в Америку совсем недавно, но уже делают свою копейку. Их работа не требует знания языка. Все, что нужно, – это найти на улице машину поприличней и в назначенное время подогнать ее по указанному адресу. Обычно это особняк какого-нибудь врача, юриста или международного бизнесмена. Там их уже ждут товарищи с чемоданами, набитыми меховыми и ювелирными изделиями. Чем лучше машина, на которой приезжают братья, тем меньше она привлекает внимания соседей обворованного. В тот вечер в поисках подходящего транспортного средства братья наталкиваются на «БМВ» Монастырского.
Через полтора часа, стоя на пустынной и темной, как обратная сторона луны, стоянке, Фарина достает телефон и набирает номер заказчика.– Питер, пик ап да фон! – говорит телефон голосом Тони.
Петя, оторвавшись, наконец, от подруги, берет трубку.
– Хай, мэн! Воцап?
– Хайдуин, Пит?
– Ам окей, вот эбаут ю?
– Ай-дон-но, – отвечает Тони, который поставлен перед необходимостью спасать реноме. – Дид ю чейндж йор майнд?
– Уай?
– Ай кам ту дэт плейс ниар мувиз, ю толд ми, бат я донфайнд йор фрикен кар, мэн!
– Шит! Ду ю билив дет сам мадафака стол ит?
– Ю но, – Тони пожимает плечами. – Шит хэппенс!
– Вотэвер, – говорит Петя. – Иф итс гон, итс гон.
– Йе, итс гон. Энд май доу гон ту. Ю но?
– Ай но. Шит хэппенс.Утром Тульчинский замечает, что ненавистного «БМВ» на обычном месте нет, хотя обычно жилец уезжает на работу после него. Вечером он снова не видит «БМВ» и ставит свой «Каприс» так, что второй машине места уже не остается. Долг платежом красен. Когда темнеет и под полом начинает бить музыка, он снова выглядывает в окно. Нышт!
– Питер, ты продал свою машину? – спрашивает он, столкнувшись с жильцом в парадной.
– Угнали, – коротко отвечает тот.
– Нет!!! – Тульчинский не верит своему счастью. – Я же говорил! Кто держит на улице такую цацку?!
Увы, счастье Тульчинского недолговечно. Через несколько дней Монастырский находит на автоответчике запись полицейского, который составлял рапорт об угоне. Машину нашли на Статен-Айленде.
– Блин! – говорит в сердцах Петя. – Каким надо быть идиотом, чтобы угнать такую тачку и бросить ее!
– О-май-гад! – чуть не плачет от обиды Хаим Тульчинский, подъезжая к дому и обнаруживая на старом месте до боли в сердце знакомый «БМВ».
Тульчинский жалуется на жизнь беспрестанно, пока на работе к нему не подходит парень из Самарканда, который на дикой смеси идиша и английского сообщает ему доверительно, что у него есть один знакомый, а у этого знакомого есть два пацана, которые могут угнать любую машину.
– Во что это мне обойдется? – спрашивает Тульчинский.
– Дашь мне адрес и номерной знак. И можешь еще накинуть соточку за наводку.
– Пятьдесят! – отрезает Тульчинский.
Следующую ночь Хаим проводит у окна. Сердце его замирает, когда он видит, как возле «БМВ» появляются две тени и через минуту дверцы едва слышно хлопают. Мотор заводится, и машина освобождает бесценное место.
Хаим спешит в постель. Жена вскрикивает во сне, когда он прикасается к ее распаренным ото сна ногам своими заледеневшими.
В это время Лёня и Миша гонят машину в Ист Нью-Йорк, где она навсегда исчезает за металлическими воротами компании «Ремонт и круглосуточная буксировка Тони Фарины».
– Настоящая машина для настоящих водителей, – Тони с любовью хлопает ее по капоту, а двое его мастеров уже свинчивают с нее номера.
Полицейский снова составляет рапорт об угоне автомашины, и на этот раз страховая компания выплачивает Монастырскому компенсацию в размере 20 тысяч долларов. Но он не покупает себе новый «БМВ», потому что та жгучая брюнетка с ослепительно голубыми глазами – Джессика Рапопорт – так и не ушла от него. Она рассудила, что целесообразней добавить к ним еще тысяч десять и купить квартиру. Потому что квартира – это вещь, а «БМВ» – это что? Игрушка для пускания пыли в глаза несовершеннолетним прошмандовкам. И Петя Монастырский, видя ее рассудительность, преданность и заботу, осознает с теплеющим сердцем, что, видимо, она и есть та самая женщина, которая рано или поздно должна была прихватить его за одно место.
Еще через месяц он покупает кондо с двумя спальнями и окнами на канал Шипсхед-Бей, а также обручальное кольцо со скромным двухкаратником. Он так счастлив, что даже решает пригласить на свадьбу, смеха ради, конечно, своего старого домовладельца Хаима. Тот, ясное дело, находит отговорку, но присылает молодым поздравительную открытку с традиционным «мазл тов!».
1998МАКУМБА
В Америке сфера приложения творческих сил Шурика Пастернака только расширилась. Он быстро встал на ноги, обзаведясь карточкой «Американ-экспресс», которую ему мастерски изготовил один наш пенсионер с Брайтон-Бич. В свое время старик сильно пострадал от советской власти, увидевшей в нем опасного конкурента в сфере печатания государственных казначейских билетов. Карточка выглядела как настоящая, и в течение полутора месяцев Шурик успешно прикупал на нее итальянские мебельные гарнитуры в одном специальном магазине на Кони-Айленде и, не распаковывая, сбывал за треть цены в другой магазин на Джамайка-авеню.
Где-то так на шестнадцатом гарнитуре карточку перестали принимать, после чего Шурик нанялся бухгалтером на оптовый склад компании «Каттэрпиллер» в Ньюарке. Здесь он трудился до тех пор, пока не обнаружилось, что зарплату получают на шесть грузчиков больше, чем числится. Только тогда опешившее от изобретательности счетовода начальство обратило внимание на то, что скромную «Хонду-Аккорд» Пастернак сменил на непристойно шикарный для этих индустриальных мест «Ягуар». Шурика отпустили до суда под залог в пять тысяч долларов, но он не стал дожидаться разбирательства. Тем более что рисковал он не многим. Дело было заведено на покойного Джеймса Фенимора Купера, чье имя Пастернак с гордостью носил на автомобильных правах и карточке соушиал секьюрити изготовления упомянутого выше брайтонского умельца.
Спустя полгода мама беглеца получила открытку в три слова: «Мама, не волнуйся». На почтовом штемпеле значилось: «Correios Brasil. Rio de Janeiro».
В действительности старушке было самое время начинать волноваться, ибо непутевый отпрыск рода Пастернаков – рода снабженцев, завмагов и директоров баз – уже подпал под влияние сил куда более влиятельных, чем вездесущий ОБХСС, неподкупный американский суд и коррумпированная бразильская полиция.
Сам Шурик еще плохо представлял, что его может подстерегать в новой стране. Перебрав несколько смуглокожих кандидаток, он остановился на юной Сандре Майбиде. Помимо замечательного сложения, она располагала собственной квартирой на Авениде королевы Елизаветы в Ипанеме, воспетой местным композитором Антонио Карлосом Жобимом. Португальский язык мой герой одолел месяца за два, не вылезая из постели любовницы. Они занимались языком по нескольку раз днем, старательно повторяя пройденный материал ночью.
Когда первая вспышка страсти прошла, он снова сел за карты и стал ломать реалы с тем же успехом, с каким раньше ломал рубли и доллары. Раз в месяц он собирал на карманные расходы деньги с американских туристов, которых привлекал экскурсией с ритуальными танцами индейцев Амазонки возле развалин испанской крепости и романтическим ужином под луной. На 30-м километре от Рио, возле мотеля «Агава-Эксельсиор», он отправлял туристов освежиться и делил полученные деньги с водителем автобуса. Когда полчаса спустя экскурсанты обнаруживали исчезновение автобуса, их лихой проводник уже был на пути к дому.
В начале 90-х Пастернак открыл судоходную компанию, которая за месяц существования собрала несколько десятков грузовых контейнеров для отправки за океан, а затем исчезла с лица земли и поверхности вод вместе с деньгами, хозяевами, контейнерами и пароходом.
Шурик блаженствовал. Простой народ вкалывал год, чтобы провести неделю на берегу лазурного океана, – он слышал его шум из открытых окон спальни. Когда он подъезжал на новом белом «Ягуаре» с открытым верхом к ресторану «Дон Педро» на бульваре Республики, его встречал почетный караул ливрейных лакеев. Сандра, нежная и страстная, как и полагается настоящей латиноамериканке, смотрела на него глазами, в которых томилось знойное желание замужества. Но зачем жениться человеку, над которым ярко светит солнце, тихо шелестят пальмы и круглые сутки дежурит влюбленная красавица? Шурику казалось, что время остановилось и загустело, как сладкий компот из персиков и вишни, который делала его мама.
Из этой дремы его вывел ряд необыкновенных событий.
Во-первых, его обворовала проститутка, появившаяся в гостинице «Камплехо-Танго», где он подрабатывал игрой в карты. Сидя на открытой террасе бара, он видел, как она вышла из «БМВ» 50-х годов, громко хлопнула тяжелой дверью и уверенно направилась к входу, где швейцар уже уступал ей дорогу. Она была гренадерского роста и на высоченных каблуках, но Шурика больше заинтересовал ее автомобиль. Он дождался, когда она обслужит клиента и спустится в бар, и там завел с ней разговор о машинах. Она охотно поддержала его, и он заказал каипринью, от которой они перешли к ударным дозам чистой качаки. Гренадерша пила, как рыба, но Шурик даже не старался догнать, тем более перегнать ее, чтобы сохранить мужское достоинство. У него был совсем другой план – утром он собирался воспользоваться ее машиной для одной конфиденциальной поездки, надеясь, что владелица «БМВ» в это время будет еще спать. Поездка должна была завершиться в витрине давно присмотренного им ювелирного магазина на улице Сенадор Верейра. Этому номеру его научили два нью-йоркских товарища. Они въезжали на большом, как десантная баржа, «Шевроле Монте-Карло» в заранее облюбованную лавку, у окна которой уже дежурил Шурик. В результате шумного инцидента он оказывался под прилавком и находился там до прибытия «скорой». Та увозила его с места происшествия, залитого липовой кровью из флакона и с карманами, набитыми драгоценностями.
Но, проснувшись поутру, Шурик обнаружил исчезновение не только длинноногой наемницы, но и бумажника с 200 реалами, часов и даже могендовида на золотой цепочке. Это не столько разозлило, сколько подавило его. Осадок был тем тяжелее, что после всего выпитого он не мог припомнить, сблизило ли его с воровкой нечто большее, чем собственно воровство. Она была первой в его жизни женщиной такого роста, и, помимо финансового, он имел к этому делу и чисто человеческий интерес.
Еще через день в подсобке бара той же гостинцы двое дюжих полицейских безжалостно отмолотили его туго свернутыми в рулон газетами. Какому-то посетителю не понравились его карты. Это было поразительно, потому что бармен получал свою долю и должен был позаботиться о его безопасности. На вопрос, как столько несчастий могли свалиться на него за каких-то два дня в одном и том же месте, бармен только развел руками:
– Макумба, брат. Тебя явно заколдовали.
– Что же мне теперь делать? – поинтересовался Шурик.
Бармен набрал номер телефона и через минуту протянул пострадавшему листок с адресом.
Офис индейца-макумбейро, принявшего Шурика, находился при складе автомобильных запчастей на улице Бальбастро. Индеец дремал у кассы. Кожа у него была того благородного светло-коричневого цвета, который в модных магазинах зовется сигарным, и пахла табаком. Выслушав объяснения посетителя, он поднялся и показал рукой, чтобы тот следовал за ним. В полутемной подсобке, отодвинув к краю стола остатки недавней трапезы, он кивнул, чтобы гость садился, потом достал из тканого мешочка горсть камней и бросил их на липкий пластик.
– Макумба, – повторил он знакомое слово и уверенно кивнул. – Муйто макумба.
Много макумбы.
– Кто? – только и спросил Шурик, которому уже объяснили, что в этой стране макумба была универсальным средством борьбы с любыми проблемами. Если тебя бросала любимая, соблазнителя можно было лишить по меньшей мере здоровья. Наслать смерть на кредитора было проще, чем рассчитаться с долгом. Плохого начальника можно было лишить поста. Естественно, жертвы макумбы предпринимали ответные действия, поэтому профессия макумбейро не знала экономических кризисов.
– Твоя женщина, – пожал плечами индеец. – Кому ты еще нужен, подумай?
Шурик достал из кармана деньги и по привычке хотел сломить двадцатку, но, встретив неподвижный взгляд индейца, отсчитал оговоренные в начале визита 50 реалов.
– Хорошо, – похвалил тот и добавил: – Придешь домой, проверь холодильник.
Отворив дверь морозильной камеры, Шурик не без удивления обнаружил покрытую легким инеем лягушку со странно искореженной головой. Взяв большой мясной нож, он выковырял ее и бросил на стол. Что-то белое торчало у нее изо рта. Придержав земноводное концом лезвия, он потащил бумажку наружу, развернул. Это было его фото.
Выйдя к бассейну, где загорала Сандра, и держа лягушку на острие ножа, он спросил, едва сдерживая бившую его дрожь:
– Зачем ты это сделала? Ты же католичка!
– Я посоветовалась, – успокоила его Сандра, поднимаясь и натягивая лифчик на упругую грудь, между смуглыми полушариями которой поблескивал золотой крестик. – Мой священник так и сказал: если ты стремишься к церковному браку, то одну макумбу Бог тебе простит! И хватит обманывать людей! Живи честно!
– Какая честная жизнь! – заорал Шурик. – Ты же первая пошлешь меня в болото, если у меня не будет денег!
– Нам много не надо! – очевидно, Майбида приготовилась к этому разговору. – Мне в этой жизни не хватает двух вещей. Колечка вот здесь вот, – она показала ему безымянный палец, – и детей вот здесь! – она похлопала себя по животу.
– У меня такое впечатление, что я не в Рио-де-Жанейро, а в Орехове-Зуеве, – сказал Шурик.
– Что?
– Ничего, до свидания!
Когда она попыталась вырвать чемодан, который он набивал своими вещами, Шурик сгреб ее в охапку и, вынеся во двор, швырнул в бассейн. Сердце его неприятно екнуло, когда, падая в воду, она ударилась рукой о мраморный бортик. Но было поздно – чтобы жалеть ее, надо было остаться.
Ушел Шурик недалеко – к барменше из бильярдной «Нитрой» Беате Мазовецкой. Она только что похоронила мужа и снова была кобетой на выданье. Потеряв работу на стройке, ее ревнивый Вацек днем сидел на крыльце, а ночью колотил вернувшуюся с работы жену. Однажды Беата, по горло сытая еженощными побоями, переночевала на бильярдном столе. Когда она вернулась домой, Вацек висел в гостиной на вентиляторе. Полька перекрестилась и стала подыскивать самоубийце замену.
К Беате, встречавшей Шурика призывными взглядами всякий раз, когда он появлялся в ее заведении, он вошел как к себе домой.
– Коханый! Зачекалася! – захлопотала Беата, которая от свалившегося на нее счастья не знала, куда раньше бежать – то ли накрывать стол, то ли стелить постель.
Шурик не хотел ни еды, ни любви. Он хотел забыться. К ночи дюжина стопок «Люксусовой» кое-как примирили его с новой действительностью, и он стал прикидывать на глаз габариты пани Мазовецкой, которая воодушевленно готовилась поступить под его командование. Но ее планам не суждено было сбыться – в окно постучали. И крепко постучали, да так, что сердце остановилось от неожиданности. Через минуту дом наполнился дикими воплями Беаты: «Вацек! Вацек!»
Шурик выглянул в окно и увидел там восставшего из могильного праха Вацека с обрезком железной трубы в руке.
– Беата, – позвал Шурик хозяйку. – Ты не волнуйся, это мне моя подруга макумбу пристраивает. Это не твой Вацек. Это только кажется.
– То ты хочешь казать, что я много выпила? – от ужаса Беата стучала зубами.
Он насилу уговорил польку лечь, но Вацеку это не понравилось, и он снова трахнул по ставне трубой. В конечном итоге Шурику пришлось ночевать в кресле, которое не перестававшая причитать Беата: «Давно пора було домой в Полонью въехать с той сратой Бразилии!» – выставила ему в кухню.
Наутро Шурик взял так и не распакованный чемодан и, не прощаясь с хозяйкой – что толку? – вышел на улицу. Улица, он это хорошо помнил, была совершенно пустынна, но как только он ступил с тротуара на мостовую, из воздуха просто за секунду-другую соткался велоразвозчик пиццы с цинковой коробкой над передним колесом. Еще Шурик запомнил: у развозчика была широчайшая беззубая улыба и черные очки газосварщика. Удар от столкновения был такой силы, что его отбросило назад к парадной, из которой он только что вышел. Очнулся он в больничной палате. Левая нога была в гипсе. Ночью в окно постучали. Самоубийца, которого, видимо, не радовала возложенная на него миссия, сказал через стекло:
– Шурик, твоя Сандра не дает мне покоя. Она говорит, что желает тебя видеть.
Вацек стоял на телевизионном кабеле, который тянулся к фонарному столбу, балансируя знакомой трубой как шестом.
– А до Беаточки моей не ходи. Лады?
После выписки Шурик не поехал ни к Майбиде, ни к Беате. Прямым ходом он махнул в аэропорт, и уже на следующее утро мама кормила его домашними котлетами.
Майбида позвонила к обеду. Шурик включил на телефонном аппарате спикер и подавленно слушал, как его разъяренная подруга клялась всем своим сатанинским пантеоном устроить семейству Пастернаков черную жизнь. Мать Шурика с методичностью заводной куклы повторяла в трубку: «Алекс ноу хоум. Сорри. Алекс ноу хоум!»
Ночью Шурику приснился страшный сон. Омытая голубым сиянием луны женщина нежно целовалась с прильнувшим к ней гусем. Из мрака доносился грохот барабанов, мешающийся с шумом близкого водопада. Когда женщина оторвалась от гуся, тот, вытягивая шею, стал следовать за змеиными движениями ее рук. Подчиняясь им, он положил голову на плоский, как эшафот, камень. Женщина достала мачете и, примерившись, отмахнула гусю голову. Собрав в ладони бьющую фонтаном черную кровь, опустила в нее лицо. Гусь же поднялся, и Шурик увидел, что тот стоит посреди кладбища. Потоптавшись на месте, гусь заковылял в направлении стоящего над могилами оранжевого, как от костра, зарева. Шурик подкрутил свой внутренний визир и двинулся за обезглавленной птицей. Скоро он увидел стоявшее на четырех надгробиях кривоногое кресло с высокой спинкой, скрывавшей сидевшего в нем.
– Это дигектог кладбища! – заквакала из-под ног отрубленная гусиная голова.
Приблизившись к креслу, гусь остановился и, сделав почтительный поклон, то есть отставив лапку и любезно развернув к земле одно крыло, с сухим хлопком взорвался. Когда перья, качаясь из стороны в сторону, осели, Шурик увидел окровавленное лицо Сандры Майбиды, которая громко расхохоталась и, ударив себя по внутреннему сгибу локтя ребром ладони, сказала зло:
– Вот ты от меня уйдешь!
Шурик проснулся в холодном поту с бешено бьющимся сердцем. Он подошел к окну и стал свидетелем удивительного природного феномена. Брайтонский променад с его ресторанами, велосипедистами, собачниками, доминошниками и разноцветными пляжниками был залит солнцем, а над их домом, выходившим одной стороной на океан, а другой на Седьмую улицу, висела черная грозовая туча. Сквозь толстые, как канаты, струи дождя время от времени прорастал с сухим треском электрический корень молнии.
Родители куда-то собирались, тихо споря, брать ли им зонтик.
– Вы куда? – спросил Шурик.
– Да вот, мать к врачу веду, – сказал отец.
– После того как я поговорила с твоей подругой, – пожаловалась мама, – у меня такое чувство, как будто кто-то держит меня рукой за сердце.
Через неделю непрекращающегося ливня Шурик вышел на улицу за газетой. На страницах, где рекламировались экстрасенсы, народные целители и гадалки, он нашел алтайскую шаманку бабу Нину и созвонился с ней. Он, как говорится, решил вышибать клин клином. Бразильский – алтайским.
За день до встречи он испытал еще одно потрясение. Стоя под душем, он обнаружил на левом плече зеленовато-серое пятно, какое он раз видел на трупе бездомного, пролежавшего с неделю под настилом набережной на Трокадеро. От ужаса Шурик сел на край ванны. На следующее утро, только открыв глаза, он увидел двух тараканов, деловито разгуливавших по разросшемуся пятну на плече так, словно они прикидывали размеры новой жилплощади.
Шаманка, поводив вокруг него руками, сказала:
– Заколдовала тебя, милай, подружка твоя, да крепко-то ка-ак. Давно я такой любови не видывала. Тут травы нужны, а лучше даже и кровь пустить.
– Кому? – спросил Шурик.
– Ну, может петушку молодому, чи даже поросеночку. Потому как у поросеночка душа вроде есть, так оно и посильнее будет.
– Ас пятнами что делать?
– Я же и говорю, с пятнами поросеночек нужен. Ты, милай, как бы ужо умер. Вокруг живого человека всегда такая упругая жисть еся. Ты ее руками тудою, а она тебя от себя как бы это отталкивает. А я вокруг тебя руками вожу, а там пусто. – Баба Нина покачала головой. – Ты знаешь чего, милай, смерть, она холодная, так ты свои пятнышки попробуй кипяточком обдать.
– Какие пятнышки, – простонал Шурик. – Ты посмотри, у меня все плечо зеленое!
– Так я ж и говорю, что случай тяжелый. Вот я тебя и успокаиваю со всей своей деликатностью. А то, что оно у тебя подмышку залезло, так это я вижу.
Оставив бабе Насте двести долларов на поросенка и травы, Шурик поплелся домой. Там по-прежнему лил дождь. С трудом стащив с себя липнущую к телу одежду, он сразу забрался под душ, медленно доведя воду до такой температуры, что едва выдерживал ее. Через час, задыхаясь, выбрался из ванной и пошел к зеркалу. Пятно побледнело.
Через неделю позвонила баба Нина. Травы прибыли.
– А что, пятнышки-то сошли от кипяточку? – как будто вспомнила она.
– Уменьшились.
– Ну, я ж тебе говору – смерть от горячего отступается. Она холод любит.
В назначенный час Шурик позвонил в дверь знахарки, но ему никто не ответил. Он звонил с перерывами еще минут пять, пока не открылась соседняя дверь. В просвете появилась круглая голова в бигудях и бодро доложила:
– Вы если к Нине Петровне, так ее сегодня арестовали.
– А за что? – опешил Шурик.
– Нарушение визового режима. У нее же ни гринкарты, ничего. Пришел утром маршал и арестовал.
– Какой еще маршал?
– Судебный исполнитель по-русски. Вы только приехали, что ли? А по-американски – маршал. И симпатичный, между прочим. Вацеком представился. А вы лечиться к ней ходили? Так она аферистка, шли бы лучше к врачу. У вас страховка есть?
Сгоряча Шурик чуть было не вернулся на родину. Затем прикинул, что от Рио-де-Жанейро до Брайтон-Бич не намного дальше, чем от Рио-де-Жанейро до Одессы. А все эти Вацеки, обезглавленные гуси и прочая чертовщина Сандры Майбиды не знали никаких пределов. На алтайских нарушительниц визового режима в этой войне полагаться было нельзя. Тут нужен был макумбейро самого высокого класса.
Когда, собрав чемодан, Шурик, с больной головой и обваренной кожей, зашел проститься с родителями, отец дрогнувшим голосом сказал:
– Сынок, маме так плохо, я не знаю… У меня сахар скачет, как сумасшедший… Может, останешься?
– Папа, послушай меня, – сказал Шурик. – Когда я уеду, вы оживете.
Старый знакомый – индеец с кожей цвета сигары, увидев его, печально закивал головой, показывая, что помнит, и, усадив за стол, снова бросил камни. Поглядев на них, он повторил диагноз: макумба, муйто макумба.
– Что же мне делать, папай? – спросил Шурик. – Она же меня доконает.
Индеец покачал головой:
– Ее макумбейро, видимо, из Бахии. Сильнее тамошних колдунов нет. Они знают знаешь кого?
– Кого?
– Они знают директора кладбища.
– Какого еще кладбища?
Индеец многозначительно закатил глаза и показал пальцем в потолок.
– Выше его никого нет. Но это неважно. Важно другое – ты знаешь, что она от тебя хочет? Твоя подруга, я имею в виду.
– Она хочет замуж.
– А ты?
– А я не знаю, нужно ли мне торопиться с этим делом…
– Тогда езжай в Бахию.
Не стану описывать в деталях дальнейшие странствия истерзанного Пастернака, его метания по сельским базарам южной провинции. Переходим сразу к моменту, когда он направляется к старцу, чье имя я даже не берусь воспроизвести. Сперва путешественник задыхается в раскаленном вагоне грязной электрички, затем истекает потом в забитом крестьянами и назойливыми мухами автобусе, плывет по сумрачным протокам Амазонки. Наконец нос лодки с шорохом выезжает на песок, и стоптанный ботинок швейцарской фирмы «Бали» ступает на дикий берег.
Стоя среди пронизанной солнцем зелени и оглушительного птичьего гама, Шурик наблюдал, как к нему неторопливо приближается группа темнокожих детей с надутыми животами и глазами, в которых читается надежда на подарки, – конфеты или жевательную резинку. У него не было подарков. У него были последние две с половиной тысячи реалов, зашитые отдельными пачками в плечах пиджака и в поясе брюк.
Сухой как щепа старик дремал в гамаке, свесив к земле увитые взбухшими венами ноги. Не открывая глаз, он приветствовал гостя стократно слышанным: «Муйто макумба. Муйто».
– Так что мы будем делать, папай? – спросил визитер, нервно закуривая.
Колдун вздохнул и стал неторопливо рассказывать, что нужно позвать танцоров из соседней деревни и каждому пошить новый костюм. Потому что, если наденешь старый, боги воспримут это как неуважение и рассердятся еще больше. Много жертв надо, много крови. Хороший подарок надо.
– Та женщина, – продолжал колдун, – она не успокоится. Она снова сделает макумбу. Поэтому нам надо сразу дать столько, чтобы ее подарки были меньше. Тогда боги рассердятся на нее.
– Ну и во что это выльется, папай?
– Деньги теперь ничего не стоят, – начал тот издалека. – Инфляция страшная. Все, что в банке на счету лежало, президент, будь он проклят, украл за день. А у меня два сына и дочь. И все колдунами быть не могут. Это же дар, ты знаешь?
Макумбейро на всякий случай бросил взгляд на Шурика, и тот кивнул:
– Кто спорит!
– Одного я на врача выучил, – продолжал старик, загибая пальцы. – Второй – адвокат. Дочь за американца вышла. И все – деньги. А танцоров надо человек двадцать. И каждому надо дать за вечер реалов двадцать пять. Чтобы танцевали с чувством, а не валяли дурака. Хороший костюм – это еще реалов двести – двести пятьдесят. Теперь множим на двадцать… Короче говоря, меньше чем за пять тысяч даже не стоит браться. Ну и подарок. Что это у тебя за часы?
– «Ролекс».
– Золотой?
Вопрос заставил Шурика расхохотаться. Совершенно неожиданно он увидел в этом дремучем старике самого себя. Роль лоха, соответственно, выпадала ему.
– Напрасно смеешься, – сказал колдун. – Не послушаешь меня, она в конце концов тебя окрутит. Знаешь, кому она дала взятку?
– Директору кладбища, – со знанием дела ответил Шурик.
– Правильно! А мы должны дать взятку любовнице директора кладбища. Она одна имеет на него влияние. Как она скажет, так и будет. Женщины такие: если они себе что-то втемяшат в голову, они своего добьются. Поэтому умные мужчины, а директор кладбища – умный мужчина, им уступают. Ты меня понял?
Шурик достал новую сигарету и зажег ее. Он сделал затяжку, но не торопился с ответом, и колдун увидел, что что-то в госте переменилось. Его словно оставила та забота, с которой он появился десять минут назад, лицо посветлело.
– Папай, знаешь, что я вдруг подумал? – спросил он, улыбаясь.
– Что?
– Что эта Сандра Майбида была не самой худшей из моих подруг. Я даже заскучал по ней. Честно. Чем сидеть сейчас в этих дебрях и прикидывать, где взять пять тысяч реалов, я мог бы лежать с ней возле бассейна и пить джин с тоником.
– Я же тебе сразу сказал, что она возьмет тебя, – вздохнул колдун. – Теперь ты видишь, что я не какой-нибудь аферист? Давай пятьсот реалов и езжай к ней.
– Двести.
– Давай, – махнул рукой колдун.
Шурик достал из пояса деньги, отсчитал перед лицом у старика четыре купюры по пятьдесят реалов и, привычно сломав половину, протянул ему остаток.
– Эй, лодочник! – крикнул он, направляясь к берегу. – Поехали назад, меня ждут.
1997
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ
Мой любимый рассказ у Дая (это, естественно, псевдоним) о том, как всякий раз, когда он хотел изменить жене, с ним происходило что-то непредвиденное, препятствовавшее измене. Среди дюжины описанных им случаев нет особенно эффектных или анекдотических. Рассказывая о неспособности своего любвеобильного персонажа уклониться от неизбежности очередного провала, Дай, казалось, не стремился развеселить читателя. Он просто документировал события жизни, чтобы продлить память о них. Литература была для него своего рода морской раковиной, прикладываясь к которой, он слушал приятный ему звук. Правильно, это – цитата из Кундеры.
Из списка непредвиденных случаев я выберу три, почему – вы узнаете позже.
Один раз, выходя из автобуса, он поскользнулся на мокром тротуаре и подвернул ногу. Из-за этого он не смог пойти в спортивный клуб. Вечером того же дня к клубу подъехала синяя «Хонда-Аккорд», за рулем которой сидела молодая женщина по имени Лена. У нее были прекрасные черные волосы, замечательные карие глаза, чувственные губы и удивительной красоты руки. В нее можно было влюбиться за одни эти руки. В его случае именно так и произошло. Он встретился с ней в офисе у своего дантиста, где она работала медсестрой. В свои 33 года она еще не сомневалась, что найдет приятного ей спутника жизни, но тревожная мысль о том, что поиск немного затягивается, стала время от времени наведываться к ней. Она приехала специально, чтобы задать Даю прямой вопрос: каким он видит развитие их отношений? Она могла задать этот вопрос и по телефону, но подумала, что при личной встрече ее внешность поможет ему принять единственно правильное решение. Добрых два часа она просидела в машине, слушая Сесарию Эвору и представляя, как он выйдет на улицу – подтянутый, со спортивной сумкой через плечо – и она просигналит ему. А он лежал дома на диване перед телевизором. Рядом стояли бутылка каберне и тарелка с сыром, виноградом и сухофруктами, которую ему соорудила не очень любимая в тот момент, но все равно очень заботливая жена Ольга.
Видя, как он мается, невпопад отвечает на ее вопросы и очень нервно реагирует на телефонные звонки, Ольга, как говорится, вычислила его. Измотанный двойной жизнью, он сдался без боя. Она тогда предложила ему сделать выбор и не обманывать ни себя, ни ее. Он попал в тупик: Лена была младше его на тринадцать лет. Он легко представлял себя самого лет через десять, уже сильно сдавшего, с потекшими щеками, плешеватого, и ее – все еще очень привлекательную полногрудую брюнетку. Это был бы, что называется, неравный брак. Поэтому он хотел, чтобы последнее слово осталось за ней.
В тот вечер, когда жена поставила ему ультиматум, бушевала гроза. Дождь хлестал как из ведра. Молния то и дело с оглушительным грохотом раскалывала небо на мелкие куски. Порывы ветра повалили много деревьев и оборвали линии электропередач на огромном пространстве Восточного побережья, от Бостона до Норфолка. Гроза выглядела достойной декорацией к семейной драме. Ольга подала ему телефон и вышла из комнаты. Но из-за непогоды его попытка связаться с Леной оказалась неудачной. Она жила в Коннектикуте, он – в Бруклине. Мобильная связь не работала. Поскольку Ольга ждала ответа, ему ничего не оставалось, как проститься с Леной, оставив запись на ее автоответчике.
Года через два после этой истории Дай попал в автомобильную аварию из-за другой своей пассии – ресторанной певицы Светы. Светика. Та только что отпела свое и вышла на улицу. Было около полуночи. Он ждал ее у ресторана не один. Он знал, что у нее есть другие ухажеры, но ему это было абсолютно безразлично. Он просто хотел ее, очень молодую и невероятно сексуальную, как голодный хочет мяса. Увидев сразу двух кавалеров, Светик мудро решила не отдавать предпочтения ни одному из них, что позволяло сохранить обоих. Изобразив высшую степень раздражения, 25-летняя бестия решительно направилась в сторону желтой вывески кар-сервиса. Стук каблуков, разлетающиеся полы черного платья, развевающиеся на ночном ветерке соломенные волосы заставили его сердце сжаться от боли. Нет, не Светик, а сама жизнь уходила от него! Дай завел мотор и медленно поехал за ней. Соперник двинулся следом в своей машине, ожидая, чем кончится их диалог. Диалог был таким: «Света, остановись, сядь ко мне, мы должны поговорить!» Она: «Да идите вы оба к черту!» Кончилось тем, что он проехал на красный сигнал светофора и врезался в машину, пересекавшую перекресток. С места происшествия его увезла «скорая», а Светика увез домой тот, другой.
Еще один случай – с официанткой Юлей. Он познакомился с ней в турецком ресторане в Бей-Ридже, куда они зашли с Ольгой поужинать. Дай имел обыкновение заводить разговоры с незнакомыми людьми, проявляя к их историям чисто профессиональный интерес. Он работал репортером в иммигрантской газете, поэтому на любое знакомство смотрел как на материал для новой статьи. Юля родилась в Якутии. Ее родители работали горными инженерами на алмазных приисках. До пятнадцати лет она жила в краю, единственной достопримечательностью которого является северное сияние. В начале 90-х она увидела по телевизору передачу о Иерусалиме. Город с сияющими на солнце куполами церквей и мечетей очаровал ее. Она выучила иврит по словарику и, когда семья перебралась на Украину, устроилась переводчицей в летний лагерь Сохнута. Работники лагеря были уверены, что она еврейка. Ее премировали поездкой на историческую родину. В Иерусалиме она вышла замуж за тренера сборной страны по лакроссу и уехала с ним в США. По ее словам, причиной их развода стали его постоянные измены, поэтому в Израиль он вернулся без нее. В Америке Юля окончила финансовый колледж, мечтая стать менеджером хедж-фонда. Работа официантки позволяла выживать.
Все это она рассказывала Ольге и Даю, когда не была занята с другими посетителями. После ужина, когда они направлялись к машине, Ольга заметила:
– Ну ты просто из кожи лез, чтобы ей понравиться!
– Обязательно напишу о ней, – сказал он. – Всего добивается сама, и при этом красавица. К ней еще очередь женихов выстроится.
– Ага! Сам только в эту очередь не попади!
Дай приехал в ресторан на следующее утро, когда басбои только готовили столы к ланчу. Юля принесла кофе, и он проболтал с ней добрых два часа, сфотографировав перед уходом. Она была так хороша, так изящна была ее рука с тонкой кистью и длинными музыкальными пальцами на стойке бара (в детстве она училась игре на фортепиано), что он использовал фото для скринсейвера на рабочем компьютере.
Очерк о Юле назывался: «Есть женщины из русских селений». Редактору тоже понравилось: иврит стал для предприимчивой девочки из Якутии пропуском в Америку. Помимо этой целеустремленности, Дая необычайно привлекала в Юле ее крепкая фигурка и веселый нрав. У нее были тяжелые темно-каштановые волосы, карие глаза и заразительный смех. Ей было 29 лет. Ему – 49.
Ольга, прочитав очерк, поинтересовалась, не намерен ли он подарить героине экземпляр газеты с автографом.
– Еще чего! – ответил он.
– Ну, будем надеяться, – вздохнула она.
И однако на следующий день после публикации очерка, он, не дождавшись звонка с обычной в таком случае благодарностью, полетел в Бей-Ридж. Владелица ресторана сообщила, что он разминулся с Юлей буквально на пять минут. Она уволила ее, заподозрив, что та хочет соблазнить ее мужа, работавшего в ресторане поваром. Где ее искать – он не знал.
Это была еще одна не случившаяся связь Дая, платонический роман, зарубленный на корню, но послуживший исходным материалом для очередного рассказа.
Все рассказы Дая о его несчастных любовях были написаны по одной и той же схеме: герой-рассказчик встречает молодую женщину, как правило, из нижних слоев общества, и влюбляется в нее. Она отвечает взаимностью. Ему нужно сделать выбор между молодой любовницей и стареющей женой. Это сложный шаг, поскольку жена на редкость порядочна и неподдельно любит его. Дай скромно упускал из этой сюжетной формулы немаловажный компонент, который мог бы пролить дополнительный свет на причину его колебаний.
На родине Дай был журналистом. Иммигрировав, он сразу нашел работу в крупнейшей иммигрантской газете США. Это обеспечило его куском хлеба, но лишило возможности роста. В единственном ежедневном русскоязычном издании Америки расти было некуда. Его коллеги держались за свои места мертвой хваткой, и если покидали их, так только, как говорится, вперед ногами. Ольга же поступила в американскую архитектурную фирму обычной чертежницей и, будучи прилежной и толковой работницей, доросла за пятнадцать лет до позиции вице-президента. Ее успех обеспечил им очень комфортабельную жизнь: квартира в престижном Парк-Слоупе, летний дом в Катскильских горах, «бимер» последней модели, ежегодные поездки в Европу летом и на Карибские острова зимой. Тема нравственного долга перед стареющей женщиной при введении в рассказ дополнительных финансовых обстоятельств звучит чуть-чуть фальшиво, верно?
Но я отвлекся от сюжетной формулы. В жизни все романы Дая прерывались подвернутой ногой либо грозой, нарушившей телефонную связь, автомобильной аварией или увольнением с работы. Но поскольку эти и другие случаи сами по себе не могли придать рассказу даже мало-мальского драматизма, автор достигал его другим путем: в его первой повести герой топился в ночном озере; в последней – умирал от рака горла; в одном из ранних «готических» рассказов гиб под лавиной; в одном из последних – засыхал от тоски в полном одиночестве и забвении. Наибольшего КПД Дай достиг в рассказе, где герой устроил себе автокатастрофу вскоре после того, как героиня спрыгнула с 24-го этажа. Этот мартиролог оживил персонаж, которого автор превратил в трехдюймового карлика и отправил не на кладбище, а на постоянное место жительства под диван.
Я догадываюсь, почему все романы Дая цвели пышным эротическим цветом на бумаге, хотя в действительности никогда не выходили за рамки платонических отношений. В созданном им художественном пространстве он мог пережить страсть во сто крат более сильную, чем в жизни. На бумаге он любил, как сказал поэт, «на разрыв аорты», безоглядно, насмерть. В жизни он был слишком наблюдателен и критичен, чтобы долго сохранять преданность очередному идеалу. В тесном общении он начинал обращать внимание на мелкие детали, которые из мелких скоро превращались в доминирующие: интонация, лексика, пальцы ног, едва заметная отечность под глазами, рубенсовские переливы теней на бедрах, вялый живот…
Потом вот еще: в отличие от него самого, его персонаж мог повести подругу в самый замечательный манхэттенский ресторан, не заботясь о том, как потом объяснить исчезновение из семейного бюджета двух-трех сотен долларов. Его герой мог проводить с любимой сколько угодно времени и бывать где угодно, не остерегаясь вызвать подозрения жены или столкнуться с общими знакомыми в самый неподходящий момент. В постели двойник Дая творил чудеса, а в действительности мужская сила уже понемногу оставляла его, что неизбежно сказалось бы на отношениях с молодыми женщинами, зайди они так же далеко, как в прозе. Короче говоря, его творческий полет был абсолютно свободен. В реальности он жил у жены под микроскопом. Ольге была свойственна та чуткость, которую порождает многолетнее и доскональное знание близкого человека.
Это, однако, не объясняет череды странных происшествий, предотвращавших измены Дая.
Попробуем разобраться.
В иммиграции, с ее неизбежными на первых порах стрессами и неопределенностью, Ольга приняла православие, крестившись в старом синодальном храме на Парк-авеню. Она окунулась в религию с головой, как в крестильную купель. Ежевоскресно посещала Свято-Троицкий храм в Астории и каждое утро начинала с «Отче наш», за которым следовала ее самодельная молитва: «Святая угодница Ольга, молю тебя о спасении и сохранении моей семьи».
Голливуд приучил нас к мысли, что черная магия с приворотными зельями и «иглоукалыванием» восковых фигурок – такое же верное средство для устройства любовных дел, как аспирин для лечения простуды. Лишенная всяких визуальных эффектов простая христианская молитва воспринимается как пережиток прошлого. Неинтересная сказка. Но я не вижу ничего, кроме этого пережитка, на что можно было бы списать любовные неудачи Дая. Вы, конечно, скажете, что все это простые совпадения, но сколько раз может совпадать? Пусть два раза. Пусть три. Даже пять. Но если совпадает десять раз подряд?! Я вам не рассказал историю, как он сел в вагон электрички, двери которой не открылись на той остановке, где его ждала экскурсовод из музея Метрополитен. Или как его арестовали по подозрению в попытке организации террористического акта на глазах у виолончелистки из оркестра Нью-Йоркской филармонии, из-за которой он две недели забывал побриться. Я вам еще много чего не рассказал!
Но я снова отвлекся, а между тем хотел перейти к другой теме. Говорят, что каждому воздается по вере его, и поскольку мы уже перешли в сферу паранормального, то думаю, что никого не шокирую еще одним предположением: в реальной жизни Дай получил то, о чем вольно или невольно просил через носителей своего литературного альтер эго, отказывая им не только в любовном счастье, но и в самой жизни. За этим стоял простой литературный трюк – покойников читатель жалеет больше, чем неудачников. А жалость к персонажу неосознанно трансформируется в любовь к его создателю. Вы понимаете?
Так вот, о полученном даре Дай узнал через внезапно наваливающиеся на него многодневные головные боли, порой доводившие его до рвоты. Поскольку обычные «эдвил» или «тайленол» не помогали, он был вынужден обратиться к врачу. Диагноз: опухоль в левом полушарии. Ему рекомендовали немедленно лечь на операцию. В больнице ему сообщили, что медицинская страховка не покроет всех расходов, поэтому придется взять значительное долговое обязательство. Ольга должна подписать его тоже. При этом прогноз нельзя было назвать оптимистичным – вероятность возвращения опухоли в течение двух лет составляла 85 процентов. Он отказался от операции. Причин две: он не хотел отдавать за операцию, не сулившую выздоровления, все собранное, по сути, Ольгой. С учетом того, что операций могло быть несколько, ей грозила банальная нищета. И потом, он не хотел жить со вскрытым черепом, дренажными трубками, бинтами со следами крови и гноя, помраченным болеутоляющими средствами сознанием. Он спросил, сколько еще протянет. Может быть, полгода, ответили ему. Может быть, больше. Может быть, меньше.
Ему тогда было 55. Мужчина в расцвете сил на пороге старости. Он подумал, что никаких новых впечатлений жизнь ему уже не принесет, после чего и отколол номер, который можно назвать его последним и самым значительным произведением.
Из списка женщин, которые ему когда-либо нравились, он выбрал трех, о которых было рассказано выше. Он выбирал с запасом, даже не ожидая, что откликнутся все. Если определяющим для женщины в ее отношении к мужчине является искренность и сила его чувства, то в сложившейся ситуации Даю просто не было равных. Он любил их буквально – как в последний раз. И он изложил это в письмах, каждое из которых было, что называется, криком души. На этот крик откликнулись все, и он вернулся в их жизни, забрался наконец в их постели, заявив каждой, что она должна стать матерью его ребенка. Должна!
Он действительно хотел ребенка. Детей. В высказываниях нескольких его персонажей встречается пожелание «распространить себя в народах», стремление увидеть собственные черты в детях от любовницы-негритянки, кореянки, таиландки, шведки. Звучит, конечно, странновато, если только не знать, что своего единственного сына от первого брака, заключенного и расторгнутого в очень ранней молодости, Дай оставил вскоре после его рождения. С возрастом этот вакуум стал тревожить его, как незаживающая рана. Он вызвал сына в США, но тот приехал взрослым и незнакомым ему человеком со своими интересами и планами. Поблагодарив папу за труды, он поселился в далекой Калифорнии, исправно отправляя ему поздравительные открытки ко дню рождения и большим праздникам.
Первой на предложение завести ребенка клюнула официантка Юля. Он это предвидел. Дело в том, что вскоре после отъезда в Израиль ее родители умерли. Мать ушла из жизни через год после отца. Не исключено, что недалеко от алмазных приисков, где они трудились, располагались урановые рудники. Юля рассказывала, что ее ощущение полного сиротства становилось совершенно невыносимым, когда, гуляя по Иерусалиму, она останавливалась у открытого окна дома, где за субботним столом собралось четыре поколения одной семьи.
Светик приняла его второй, но все равно с распростертыми объятиями. Она сидела без работы, денег и любовников, постоянно ожидая появления домовладельца с просьбой очистить помещение. Дай, обеспечивший ей полгода редкой для нее стабильности, стал подарком судьбы.
Лена открыла ему дверь нерешительно, со вздохом, предполагавшим, что в ее положении выбирать не приходится. Но он был так нежен с ней, а потом так страстен, а потом снова так нежен, что она простила ему и грозу, и испорченный телефон, и суровые слова прощанья на автоответчике, и несколько лет очередных проб и ошибок, о которых даже вспоминать было тошно.
Как этому авантюристу удавалось в его состоянии поддерживать отношения сразу с тремя женщинами – не знаю. Но он любил. Его, кажется, тоже любили. Потерю веса и бледность его любовницы списывали на слишком активную сексуальную жизнь, которая длилась ровно три месяца. Потом он либо просто устал, либо же ощутил, что пора сматывать удочки, иначе его разоблачат.
Забыл сказать, что из дому он ушел, чтобы не видеть разбитую горем Ольгу. Она упорно добивалась, чтобы он сдался врачам, а главное – вязала его по рукам и ногам, когда свобода ему была нужна, я извиняюсь за двусмысленность, как жизнь.
Сообщив возлюбленным, что едет в Россию, где якобы готовилась к выпуску его книга, он уехал в город Портленд, что в штате Орегон, напоминавший ему своими платанами родную Одессу. Еще через месяц он сдался в хоспис, где неслышно переместился из наркотического полузабытья в полное забытье и далее по цепочке, конец которой скрыт от наших земных взглядов. Он оплатил похороны заранее, выбрав самый недорогой гроб из пристойных. От картонного за четыреста баксов отказался, вероятно в последний раз в жизни рассмеявшись – от мысли, что не хотел бы нарушать кладбищенских приличий.
Каждому, повторяю, воздается по вере его или, если хотите, по устремлениям, поэтому официантка Юля родила двойню – мальчика и девочку. Певица Света родила мальчика. Лена – девочку.
Это можно считать чудом, поскольку все три могли легко прервать беременность. Возможно, этого не случилось, потому что из своей последней портлендской квартиры он отправил им письма, в которых объяснял, что произошло, и прощался с ними, признаваясь, что получательница письма была его самой главной в жизни любовью. Текущая любовь – всегда самая главная. Письма были совершенно душераздирающими. По ироничному замечанию Ольги, тоже получившей свое письмо, Дай был мастером конца. Он действительно умел вкладывать в финал своих текстов такой мощный эмоциональный заряд, что, перечитывая некоторые из них не в первый и даже не во второй раз, я испытывал жжение в глазах.
За два десятка лет работы в газете у Дая собрался приличный пенсионный фонд. Он уведомил своих подруг, что средства из него будут поделены на равные части между наследниками, каковыми следует считать его детей и их матерей. Дележ привел к тому, что четыре женщины встретились. Не сомневаюсь, что это полностью соответствовало плану Дая. По меньшей мере в двух его рассказах персонаж стремится познакомить жену с любовницей в надежде на то, что у них возникнет «тройственный союз», в котором не останется обиженных и обделенных его драгоценным вниманием.
Первой реакцией четырех женщин был шок. Потом осознание того, что ни у одной из них нет оснований предъявлять друг к другу какие бы то ни было претензии. Ни одна из них ни у кого ничего не украла, ни одна из них никого не обманула. Дети каждой были его детьми и, соответственно, братьями и сестрами.
За первыми осторожными телефонными звонками последовали первые встречи, вздохи, жалобы, объяснения, слезы и затем объятия. Боже, какой идиотизм! Несчастный человек! Это же надо было такое придумать! Бедный, бедный, бедный, бедный Дай!
Но какие бы слова ни были произнесены вслух, проект Дая стал реальностью.
Каждая женщина подошла к новому союзу по-своему, но все оценили готовность Ольги принять их детей как своих… ну, скажем так, внуков. На чем основывалась ее привязанность к ним? Дай, конечно, бросил ее. Простить это было невозможно. Но только поначалу. Потому что, отплакав свою обиду, она не могла не согласиться с тем, что он избавил ее от долгих и изматывающих забот. Теперь, когда его уже не было, она признавала, что лечение лишь оттянуло бы его кончину, но оставило бы ее без гроша за душой. Сейчас она могла выйти на раннюю пенсию, не думая о куске хлеба. И еще – они оба хотели детей, да Бог не дал, и вот, как ни крути, перед нею были его дети. В них она могла продолжать любить его, ими могла заполнить пустоту, неизбежно возникшую с его уходом. Не без удивления она отметила родственность своего чувства к ним: те же пробивающиеся через посторонние влияния родные черты, те же зеленые глаза, та же ухмылочка.
Ольга прекрасно понимала, что молодым женщинам, самая старшая из которых была на пятнадцать лет моложе ее, а самая младшая – на двадцать пять, нужно было устраивать жизнь, поэтому внуки жили у нее чаще, чем у родных мамаш. Больше всего свободы требовалось Светику, которая часто переезжала с места на место и в конце концов улетела в Лос-Анджелес, откуда больше не вернулась. Лена, выучившаяся на операционную медсестру, вышла замуж, когда ее Аннушке было три года, и скоро родила еще одну девочку – Аллочку. Увы, ее муж, имевший бизнес на Урале, нашел более молодую женщину по месту работы, и его брак с Леной распался. Она, однако, вышла замуж снова – за бруклинского библиотекаря Борю Сайлентова, от которого родила третью девочку – Жанночку.
Ближе всех Ольге оказалась бывшая официантка Юля, которая с двумя детьми и всесокрушающим стремлением к устройству карьеры так и не нашла спутника жизни. Зато вошла в руководство большого взаимного фонда и получила соответствующую зарплату. Помню, как это произошло.
– Взяли? – спрашивает Ольга, впуская в прихожую Юлю, вернувшуюся с рабочего интервью. На той темносерый костюм «Тахари» – жакет и узкая юбка, черные стилеты от «Джимми Чу», сумка «Гермес».
– А куда же они денутся от такой пробивной бабы?!
Они хлопают в воздухе правыми ладошками. Юля смеется, глаза ее сияют.
– Я открываю шампанское, – говорит Ольга и шлепает на кухню.
Сложив свои капиталы, Ольга и Юля приобрели трехэтажный таунхаус с чудесным английским садом на Четвертой стрит и Восьмой авеню в Парк-Слоупе. Ольге в этом году будет 72. Она начинает свой день с занятий йогой в саду, потом идет на кухню. Дом наполняется ароматом свежесваренного кофе. Это сигнал, заменяющий трезвон будильника.
Всегда наполненный детскими голосами, этот дом стал центром семейного притяжения, в поле которого скоро возник старший сын Дая со своей женой и детьми. Обычная история – возраст отправил его на поиски корней, заставив пожалеть, что он пропустил возможность узнать отца ближе. Но в ощущении потери он с удивлением обнаружил силу, прочно связавшую его с обретенными родственниками. Как необычна была их судьба! Как много их оказалось! Как замечательно было то, что он не стал одиноким семенем, занесенным ветром судьбы в чужую землю!
Сидя за большим столом, где звенели посудой и шумели пятеро детей Дая с двумя сводными сестрами, двумя внуками, одной женой, двумя любовницами и невесткой, Юля вспоминала, как 19-летней девочкой стояла у открытого окна еврейского дома в далеком Иерусалиме, всем естеством стремясь сидеть за таким же столом со своей семьей. Я вам говорю: каждому воздается по его устремлениям! Кто-то там, наверху, прекрасно знает о наших самых тайных желаниях!
За этим столом не было лишь Светика. Последним местом ее жительства в Лос-Анджелесе была квартира, которую она делила с порнозвездой Эсси Эбисс, ее настоящее имя было Ванда Преснякова. Соседство, вероятно, и объясняет наличие в крови Светика кокаина, о чем говорится в заключении патологоанатома. Бедолага вышла из дому, будучи сильно не в себе, и угодила под грузовик. Хочется надеяться, что она не участвовала в том же кинопроизводстве, что и ее сожительница. Я внимательнейшим образом пересмотрел не менее полусотни полнометражных фильмов с участием Эсси, с легким трепетом ежеминутно ожидая появления на экране объекта моих поисков. К счастью, этого не произошло. Назовите меня старомодным, но мне не льстит слава сына звезды фильмов «для взрослых». Я очень плохо помню мать и предпочитаю видеть ее такой, какой ее изобразил Дай – очень молодой, взбалмошной, наивной, мечтающей о высокой сцене, цветах и аплодисментах.
Что до отца, то думаю, что именно многообразие прожитых в прозе вариантов собственной биографии и позволило ему так легко подвести черту в пятьдесят пять. К этому возрасту он пережил столько, сколько другим не удается пережить и к ста. Его жизнь и его проза двигались по параллельным каналам: Дай постоянно ожидал момента, когда обстоятельства подскажут новый поворот в его типовой истории. Едва это произошло, он совместил пространство литературы и жизни, выключив компьютер и став из рассказчика действующим лицом.
Его последнее сочинение хоть и не снискало ему посмертной литературной славы, произвело небольшой демографический взрыв, что не может не радовать автора, который, я думаю, посмеивается сейчас где-то над всеми нами, в своей новой постлитературной ипостаси.
Август, 2007
ЭТО НЕ МЕСТЬ!
Как он мог вернуться к ней после всего, что между ними было?
Одни считают, что это та самая любовь, которая, как говорится, глаза застит. Другие придерживаются мнения, что он просто олух Царя Небесного. Приехал в Нью-Йорк из Одессы лет тридцать назад, днем работал, вечером учился, сперва грыз гранит английского, потом мрамор юриспруденции, подсиживал одних, водил в ресторан других. Короче, лез из шкуры, пока не докарабкался до партнерского места в известной юридической фирме, бешеной зарплаты, шестидесятилетия. Третьи утверждают, что на самом деле Леон, Лёня Аппельбаум, просто отомстил предавшей его любовнице самым жестоким из всех возможных способов – заставив жить с ним.
Ну хорошо, давайте попробуем разобраться сами.
В ветреный февральский вечер Леон заходит в стриптиз-клуб на Вест 36-й стрит, где знакомится с танцовщицей Линн Кроссбин. Ей двадцать два года. Она приехала из чистенькой, но мертвоватой Женевы. Она хочет посмотреть на город, который никогда не спит, и заодно показать себя. От стойки бара они переходят в отдельный кабинет с типовым для таких мест названием «Шампанская комната». Девушки любят шампанское. Приглушенный свет, тихая музыка, засаленный бархат красных диванов, глухое мычание за тяжелой портьерой. Здесь Леон переживает оргазм всей жизни. Он потрясен до основ. Нет, серьезно, а что он видел дома? Сколько он просил жену надеть черные чулки и пояс:
– Неля, раз в жизни!
– Не морочь голову! – отмахивалась та и, видя его обиду, удивлялась: – Чего тебе не хватает так? Зачем тебе это?
Так никогда и не поняла – зачем.
Красива ли его новая любовь, нет ли – вопрос спорный. Кому что нравится. Большегрудая подкрашенная блондиночка с серо-голубыми глазами и настоящим талантом к тому роду деятельности, которая на данном этапе интересует Леона больше всего. Тут главное не изображать непонимания на лице. Жена, с которой прожита жизнь, сын, тоже очень занятой юрист, постоянно забывающий поздравить с днем рождения, – что там еще? Один взгляд в зеркало и испорченное на целый день настроение. Вам это не знакомо?
Аппельбаум снимает Линн квартиру в одной из стеклянных башен Верхнего Ист-Сайда. Они ужинают в «Баббо», купаются на Сент-Барте, слушают в Метрополитене вердиевский «Реквием». Оркестром дирижирует модный Гергиев, в труппе певцов – бесподобная Рене Флеминг, но Линн едва скрывает зевоту. Публика в вечерних нарядах привлекает ее больше происходящего на сцене.
Что думает по этому поводу мадам Аппельбаум? Она ничего не думает по этому поводу. Она занята. Полгода она проводит в Майами, потому что нью-йоркская зима ее убивает. Еще она ездит на винные аукционы в Европу. Она арендует место на Вест 15-й в Мясоупаковочном районе, где у нее хранится роскошная коллекция Амароне-Бертани. Один раз была у сына в Гонконге.
Сообщение о связи Леона бьет ее с изрядной силой, но гордость позволяет легко согласиться на развод. Ты хочешь жить с этой прошмандовкой?! Ха-ха-ха-ха! Ты? С ней! Что ты будешь с ней делать? Вытирать сопли? Кто держит? Конечно, если бы у нее был компромат на предателя, в суде она бы получила от него максимум. Поломанная жизнь стоит денег. Но где взять этот компромат?
Чтобы ответить на этот вопрос, введем в историю 25-летнего Михаила Бахонько. Майка. Он – любовник любовницы Нелиного негодяя. Молодой человек приехал в Нью-Йорк по студенческой визе. Из Чебоксар. О, эта чудесная виза J-1, поставщица в Америку самых интеллигентных в мире официантов и кухонных работников! Работай и путешествуй! Гуляй и веселись! Майк трудится в клубе для женщин, где за удовольствие подержаться за рельефное мужское тело платят двадцатку. Сложенную вдоль купюру с визгом вкладывают под резинку плавок танцора. В принципе он, конечно, не танцор. Он – качок-любитель с выпускного курса факультета иностранных языков Чебоксарского университета, не проявивший энтузиазма к работе школьного учителя.
Майк нужен Линн для удовлетворения тех потребностей, которые ее пожилой друг удовлетворить не в состоянии. Она любит это дело до седьмого пота, до полного изнеможения. По молодости и простоте она, конечно, не пользуется словом «потребности». Для нее это – романтика, игра в прятки с нудным стариканом. Она стоит в одних туфлях у окна спальни и смотрит на разноцветные коробочки автомашин, ползущие по дну ущелья под ее ногами. Скоро-скоро у входа в дом должен появиться плечистый парень в желтой куртке. С высоты, где она находится, он похож на яркую булавочную головку на черной после утренней поливки мостовой. Майк. Мишя, как она, бывает, нежно называет его.
Ничего не поделаешь, содержание молодой женщины в некоторых случаях включает оплату услуг помощника, который поддерживает тонус подруги так же, как спортивный «мерс» или очередная пара туфель от Маноло Бланика.
Как утверждают некоторые женщины, все мужики одинаковы. Отчасти они правы. Казалось бы, что общего у юриста, разбирающего миллиардные корпоративные тяжбы, и исполнителя экзотических, как их называют, танцев, единственным достоянием которого является хорошо выраженная мускулатура? Что?! Тяга к этим мягким губам, к этой груди, круглой и твердой, как два круга швейцарского сыра! О, этот сыр! У меня у самого при одной мысли о нем начинается обильное слюновыделение!
А между тем, устроившись на плече молодого любовника, Линн с широко открытыми глазами проецирует на потолок созданный ею остросюжетный кинофильм: Мишя проникает в квартиру Нелли и убивает ее. Например, дает ей по черепу каминной кочергой. Она знает, у них есть камин. Возле тела он оставляет очки Леона, которые заранее получает у Линн. Одно стекло можно разбить. Очки станут смертельной уликой, которая отправит старика за решетку, а ее сделает распорядительницей состояния. Линн даже не сомневается, что за право раз в полгода увидеть ее хоть через стекло он отдаст все, что имеет.
Но Мишя не торопится следовать этому сценарию. Для того ли он ехал в эту страну дурных денег, глупых баб и неограниченных возможностей, чтобы пачкаться в чьей-то липкой крови?
Поглаживая приникшую к его груди Линн, он вполуха слушает уже поднадоедающую песню о том, как они будут потом жить в шато на берегу горного озера, а еще лучше в Тоскане. Это в Италии.
– Там так красиво, ты даже не представляешь.
– О, бэйби, – соглашается он.
Отказываясь совершать убийство, Мишя не отказывается от возможности заработать, но только по своему сценарию. Связавшись с мадам Аппельбаум по телефону, он предлагает ей купить у него фотографии мужа в обществе любовницы. Чисто теоретически сделать такие снимки несложно, установив в квартире, где он постоянно бывает, камеру.
– Вы можете достать такие снимки?! – Нелли Аппельбаум придерживает ладонью разволновавшееся сердце.
– Да. Это будет стоить десять тысяч баксов.
– Десять тысяч?! Давайте сойдемся на пяти, – торговая одесская кровь дает себя знать в любой ситуации.
– Это не так просто, как вы думаете. И вопрос решаю не я один.
– Частный детектив сделает нужные снимки за меньшую сумму.
– Я – частный детектив, поэтому я вам говорю, что завтра вам такие снимки не сделает никто. А я этими снимками располагаю уже.
– Хорошо, я могу увеличить сумму, но не намного.
Удача сама идет в руки Нелли. Нежданно-негаданно она получает возможность реализовать идею, которая еще совсем недавно казалась несбыточной мечтой. В конечном счете, что эти десять тысяч в предстоящей битве за миллионы? Семечки! Выяснить бы только, не аферист ли этот фотолюбитель. Но как уверенно он говорит! С легким акцентом, но кто в Нью-Йорке без акцента?
И вот липовый детектив приступает к действию. Он идет в магазин В&Н на 34-й стрит и долго выясняет, какая видеокамера нужна для многочасовой съемки в полутемном помещении.
– А меньшего размера есть?
Бородатый продавец идет к полкам, перебирает выложенный на них товар.
– Да, вот эта подходит.
– Шестьсот пятьдесят долларов в кассу, камеру получите на выходе, спасибо, следующий!
Следующая проблема – как ее установить, чтобы Линн ничего не заметила? Черт, как же все сложно! При этом старая вешалка постоянно торопит его и, кажется, готова выложить всю сумму.
Танцор просит у Нелли еще несколько дней, чтобы окончательно согласовать вопрос цены, а в это время Леон включает стоящий в квартире любовницы компьютер. Ему надо освежить в памяти детали интересующей его тяжбы в сетевом архиве Верховного суда штата. Он включает компьютер и видит в почтовом ящике новое письмо. Интересно, от кого оно? От Майка. Кто такой Майк? Что-о? Я – горбатый карлик?!
Его первая реакция – потенциального убийцу надо немедленно остановить, и он вызывает полицию. Он ждет чего угодно, но не этого: Линн в наручниках отправляют для допроса в полицию, а затем – за решетку, где она будет ожидать суда или освобождения до суда под залог. Но не коварная измена заставляет Леона рыдать всю ночь напролет, а то, что он, оказывается, отвратителен той, которая столько раз клялась ему в любви! О, лгунья! О, сука! Какой ужас, а? В то время, когда он наслаждается ее телом, его вызывает у нее гадливость. И это при готовности выполнять все его прихоти! Все! Он размазывает соленые слезы по седой щетине. За окнами погруженной во мрак квартиры горят огни города, где он так безуспешно пытался найти счастье. Город желтого дьявола. Кто это сказал? Какая разница? Желтый – цвет золота и цвет света, открывающего обман. Уткнувшись лицом в подушку, он ощущает густой, горьковато-сладкий запах духов. Какой хороший.
Бахонько, арестованный следом за Кроссбин, тут же соглашается сотрудничать со следствием. Детективы располагают всей историей возникновения и краха любовно-финансового треугольника еще до того, как Леон нанимает коллегу для защиты любимой.
Да, пусть все смеются над ним! Пусть хохочут светские хроникеры «Нью-Йорк пост» и «Дейли ньюс». Он не может, он не хочет и он не будет жить без ее сладких губ, без ее… Ах, что толку перечислять детали! Без нее.
Как меняет человека тюрьма! Всего две недели в камере, и вот уже изменница молит прощения и целует ему руки.
В комнате для свиданий она плачет, как малое дитя. Боже мой, вы только посмотрите, как порозовела и припухла нежная кожа под заплаканными глазками! И вот он уже тоже не в состоянии сдержать слез обиды, благодарности, любви. Мама моя родная, эта влага прибывает с такой скоростью, что когда я ударяю по клавиатуре, она просто так и брызжет из-под пальцев! Нет, если мои герои будут так много плакать, мне точно придется работать в галошах! Скорей бы конец этой мыльной опере.
Короче, через несколько месяцев и сотен тысяч долларов Линн Кроссбин освобождают условно-досрочно. Леон больше не будет работать. Пора и отдохнуть, пожить для себя, попользоваться своим новым сокровищем всласть. После дележа имущества и развода он решил покинуть Нью-Йорк. Теперь они будут жить полгода в Майами, а остальное время в шато, которое он приобретет на берегу озера недалеко от Женевы. Прекрасное место, чтобы растить детей. Медовый месяц они проведут на его яхте в Карибском море. Когда-то они были на этой яхте украдкой от мадам Аппельбаум, а теперь будут бывать чаще – по итогам передела имущества яхта осталась за ним. Надо ее только чуть-чуть обновить, но с этим проблем не будет. Яхта – отличная.
Что до Нелли, то она сейчас пытается утопить пережитое в бокале густого риберо дель дуро, который ей подали в садике ее любимого севильского ресторана «Кораль дель аква». Острая тень листвы колеблется на белой скатерти. На узкой тарелочке треугольник манчего, орехи и мед. Пожилой официант, она знает, не подойдет к ней, пока она не подаст ему едва заметный сигнал. Она не торопится. Торопиться совершенно некуда. Маршрут ее новой поездки пролегает по карте воспоминаний, снов и фантазий. Пока, что она даже предположить не может, что через месяц он оборвется в родной Одессе. Узнав, что неизлечимо больна, а лечиться – только продлевать агонию, она решит не возвращаться в Нью-Йорк и купит бывшую квартиру родителей у ее новых владельцев. Улица Княжеская, 27, дом художника Буковецкого. На Княженской малине она остановилась, она остановилась отдыхнуть. Окончен путь, устала грудь…
Мысль о том, что она уйдет из жизни там, где пришла в нее, успокаивает. Ее постель будет стоять у окна, выходящего во двор с акациями. Она будет слушать голоса соседей, шум воды в дворовом кране, осторожное топтание голубей по карнизу. Витой шнур наружной проводки тянется по обоям с цветочным узором к черному выключателю. Все точно как в детстве, словно никогда и не было какой-то другой жизни: чемоданов, плохих домов и особняков, «олдсмобилей» и «мерседесов», дешевой обуви и дорогой обуви, стеклянных украшений и бриллиантов. Как это они говорили тогда, уезжая под хлопки бьющегося на декабрьском ветру кумача: там – живут, а здесь только подыхают! Ну что ж, пожила там, теперь – к своим. Но почему, почему судьба оказалась так несправедлива к ней? Она прижимается к мокрой подушке. Что она сделала и кому? Не спрашивайте. Не знаю.
Но пока Нелли Аппельбаум еще ничего не знает. Мучающую ее время от времени тошноту и головную боль списывает на стресс, пережитый перед разводом и во время самого развода. Подонок! Он готов был отдать ей все, чтобы только не видеть ее, не слышать ее голоса. И ради кого?! Она подзывает официанта.
– Мороженое со свежими фигами.
Кого уже интересуют эти калории, холестерин, сахар, талия, бедра? Не ее! Двумя решительными глотками она допивает вино.
– И амаретто ди сарроне, пожалуйста.
– Со льдом?
– Боже упаси!
Моя соседка старуха Мизлинг, ежедневно прочитывающая от корки до корки «Нью-Йорк пост», со знанием дела заявляет:
– Леон – юрист самой высокой квалификации. Эти люди не такие простые, как вы думаете. Он мог спокойно засадить эту мерзавку на всю оставшуюся жизнь, а потом найти себе новую подружку. Мало этих стервятниц слетается в Нью-Йорк? И он мог бы еще выбирать: филиппинку, русскую, какую-нибудь бледную моль из Прибалтики! Послушайте меня: он прекрасно знал, что жизнь с ним будет для нее хуже любой тюрьмы! И он наверняка составил брачный контракт так, что в случае малейшей провинности она прямым ходом загремит на нары!
Я не перестаю удивляться, откуда у этой фурии столько злости. Кажется, она хочет дожить до ста пятидесяти лет. До ста она уже дожила. Таскает сумки из универсама на наш двенадцатый этаж, игнорируя лифт и перепуганные лица жильцов. Каждый раз, выходя на площадку, я ожидаю увидеть на полу ее костлявое тело в россыпи яблок и пестрых баночек йогурта. Но пока она энергично тычет суставчатым пальцем правой руки в раскрытую ладонь левой:
– Малейшей провин-ности! Малейшей!
– Какой, например? – интересуюсь я.
– Не-вы-пол-не-ния су-пру-жеских обя-зан-ностей! – неистовствует Мизлинг. – Как вы не понимаете, это самая настоящая месть! Он прекрасно знал, что следующая молодка отколет точно такой же номер, поэтому решил ограничиться одной!
Нет, сказать, что Леон мстит вытащенной им из тюрьмы любовнице, просто глупо! Да, глупо. Отбери у старого дурака эти детские пальчики с игрушечными ноготками, белую кожу с пульсирующей под ней жилкой, молодую кровь – что останется? Известно что: панический страх новых знакомств и новых потерь, сиденье перед бессмысленно мельтешащим телевизором да глубокий, переходящий в беспробудный, сон.ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ
1. Михаил Михайлович, Софья Борисовна и Катя
Михаил Михайлович в изящной федоре, с опоясывающей тулью черной креповой лентой, вошел в автобус и сел рядом с пышной брюнеткой лет тридцати пяти. Та читала газету, время от времени потирая кончики очень изящных пальцев, словно сбрасывая липнувшую к ним типографскую краску. По привычке он посмотрел на раскрытую страницу, обнаружив на ней свою статью: он был ресторанным критиком в местной русской газете, – потом на женщину, проверяя ее реакцию на текст. Та читала и улыбалась. Ощутив на себе его взгляд, она повернула к нему лицо, улыбнулась еще шире и негромко засмеялась, словно чтение мешало ей сделать это раньше. У нее были белоснежные зубы и очень веселые карие глаза. Глядя на нее, Михаил Михайлович ощутил сильное волнение, и она это заметила.
– Почему вы смотрите на меня так пристально? – спросила она для порядка.
– Вижу, вам понравилась статья.
– Вы ее тоже читали?
– Я ее писал.
Она вернулась к газете, повела по странице пальцем, потом спросила с вызовом:
– А как ваша фамилия?
Он назвался. Действительно, это был он – написавший так вкусно и смешно, и вот теперь он сидел перед ней и волновался, как мальчик. Загорелый, в очень свежей белой рубашке и смешной шляпе с узкими полями. Кончики его седеющих усов были закручены вверх, и ей тут же захотелось прижаться к ним губами. Сердце ее дало тревожный сбой, в природе которого сомневаться не приходилось. Она себя знала.
– Так это вы постоянно пишете про рестораны?
– Я.
– А как вы знаете, куда идти и что заказывать?
– А я не знаю… – он пожал плечами. – Я пробую то, что мне предлагают.
– Кто?
– Жизнь, – улыбнулся он.
– Мне надо выходить, – она поднялась и смотрела на него с ожиданием.
– И мне, – сказал Михаил Михайлович.
Автобус остановился и, открывая двери, тяжело вздохнул, словно зная, чем кончится их знакомство.
У каждого романа есть своя музыка. Они часто слушали Нору Джонс, особенно выделяя песню I’ve got to see you again («Я должна увидеть тебя снова») – о страсти молодой женщины к пожилому любовнику. Михаилу Михайловичу больше всего нравилась строка Lines on your face don\'t bother me («меня не беспокоят морщины на твоем лице»), а ей – Down in my chair when you dance over me («когда я в кресле, а ты танцуешь надо мной»). Они занимались любовью везде, в том числе и в кресле.
У их романа было и свое вино – полученный в благодарность от какого-то ресторатора ящик вионье со смешным названием «AfterBefore». Они, действительно, употребляли его до и после близости, видя, как это часто случается с влюбленными, в названии вина еще один знак, подтверждение неслучайности их встречи.
Их счастье было, однако, неполным. Обессилевший от любовной гимнастики Михаил Михайлович ехал в Бруклин к супруге, а Катя оставалась дома в своем нью-джерсийском Хобокене, это тут у нас, за Гудзоном, куда к ней время от времени заходил другой ее приятель – Гена. У Гены была своя жена и восьмилетняя дочь Маша, которых он все не мог решиться оставить – наиболее часто встречающийся тип полузанятых мужчин на пути женщин, которым за тридцать. У Гены был собственный магазин мобильной связи на Вашингтон-стрит возле пересечения со Второй, между ресторанчиком «Четыре Л» и офисом «Барбера риалти» в том же Хобокене.
Чем Михаил Михайлович отличался от Гены помимо возраста и веса – скоро вы увидите, насколько это важные параметры, – так это способностью быстро принимать решения: ресторанный критик легко ориентировался в любом меню и всегда знал, чего хочет. Один раз, уйдя от Кати, он с такой болезненной остротой ощутил ее отсутствие, что у него заболел живот. Он кое-как доехал домой и, игнорируя волнение жены – «что с тобой?» и «на тебе лица нет, что случилось?» – не раздеваясь, лег. Жена, ее звали Софья Борисовна, между тем не оставляла его, и когда вопрос «ты можешь мне, наконец, объяснить, что произошло» прозвучал в пятый, а может быть, и в десятый раз, поднялся и уехал обратно в Хобокен. Не забыв надеть свою федору! Была у него такая черта – обостренное внимание к деталям даже в самые напряженные моменты жизни. Через сорок минут он был на месте. Выйдя из своего серебристого «бимера», он увидел, что свет у Кати еще горит, и даже представил, как любимая, стоя у кухонного шкафа, выбирает чай, размышляя: мангово-имбирный или польский травяной сбор с шиповником? Бросив щепоть сухих лепестков в белый фарфоровый чайник, она заливает в него горячую воду, и та тут же становиться ярко-бордовой. Звонок отделяет фантазию от реальности. Дверь открывается.
– Что случилось, Миша?!
Обратите внимание – то же самое «что случилось», – но реакция просто противоположная:
– Я люблю тебя, вот что случилось. Мне так плохо без тебя, даже живот разболелся.
– Ты хочешь в туалет?
– Ты с ума сошла, какой туалет?!
Она отступает, пропуская его в гостиную, где сидит плотный мужчина в желтой полурукавке, синих шортах и кроссовках на толстой подошве. Он значительно крупней Михаила Михайловича. У него большие плечи, руки, ноги и голова с ухоженной бородкой.
Михаил Михайлович вопросительно поворачивается к любимой, все еще поглаживая рукой больное место. Лицо Кати в красных пятнах.
– Это – Геннадий, познакомься.
Он протягивает ему руку, встряхивает.
– Геннадий.
– Михаил.
– Мы можем на минуту выйти в кухню? – спрашивает Михаил Михайлович хозяйку.
Она следует за ним. В кухне он берет ее за руку, чтобы привлечь к себе, наталкиваясь на неожиданное сопротивление. Легкое, но сопротивление.
– Я совершенно не могу без тебя, Катя. Совершенно. Видишь, вот – вернулся. Кто этот – в комнате?
Этот из комнаты уже стоит в дверном проеме. Сунув руки в карманы, склонив голову набок, рассматривает их с вызывающим интересом.
– Это у вас, что – так вот серьезно?
– Очень серьезно, – отвечает Михаил Михайлович.
– Как всегда, я узнаю обо всем последним, – открывает Гена домашний разговорник. – Я не понимаю, мне что – выкинуть этого клоуна отсюда, чтобы получить наконец какие-то объяснения?
И правда, в наши дни не все относятся к шляпе как к предмету гардероба серьезного мужчины.
Очень далекое, слабое, несформулированное за ненадобностью подозрение о еще одной связи его подруги вмиг вырастает до пугающей высоты волны и накрывает Михаила Михайловича с головой. Он – клоун?!
– Даятебещасблядьпокажуктоздеськлоун!!! – кричит он, хватая со стола широкий мясной нож.
Вот он – захватывающий миг счастья! Цунами неподдельной страсти! Мужчина, способный ради тебя на все, но, бог мой, почему же в такой дикой форме, почему так не вовремя?
Да, Михаил Михайлович, конечно, легковат – Гена легко отбрасывает его первый удар сбоку и тут же хватает за горло. Абажур летающей тарелкой пересекает потолок. Что-то валится и звенит. Своей левой Гена прижимает его правую – с ножом – к полу. Да, они уже на полу, среди осколков чего-то, но нож прижать тяжело и поэтому он снова в воздухе. Михаил Михайлович бьет соперника по большой голове, как бьют саблей, точно рассекая лоб надвое. Гена рычит и размазывает по лицу жирную кровь. Катя кричит незнакомым голосом. Михаил Михайлович, задыхаясь, выбирается из-под ослепшего великана. Теперь уже он хватает его за шею и швыряет на пол, но вопль «Миша, не надо!» предотвращает расправу. Кухонная сталь втыкается острием в пол и пружинисто раскачивается, словно приглашает к продолжению потехи.
– Всё, всё, всё, ты должен уйти, сейчас ты должен уйти, – повторяет хозяйка, как заведенная. Схватив на всякий случай страшное оружие и, бросив его в холодильник, заслоняет дверцу спиной. – Ты должен уйти, Миша. Гена, я сейчас помогу тебе. Не трогай ничего руками, я все сделаю сама.
Забыл сообщить, Катя – медсестра. Она работает в местной больнице ветеранов вооруженных, в том числе и ножами, сил. Это очень кстати.
Дверь хлопает за Михаилом Михайловичем, и он не видит, как его любимые пальцы утирают вражеский лоб тампоном с перекисью водорода, стягивают края раны пластырем.
– Я сейчас отвезу тебя в «скорую». Тебе надо наложить швы.
Подхватив с кресла сумку, она проверяет, на месте ли ключи и телефон.
– Только об одном прошу тебя, – говорит Катя, пристегивая ремень безопасности и заводя мотор, – не говори, что это он. Придумай что угодно. Я одна во всем виновата, я одна. Я не сказала ничего тебе, я не сказала ничего ему. Это – моя вина, но я устала ждать. Я хочу семью, а не траханье в удобное для вас всех время. Точно как твоя Вика, между прочим.
Его Вика! Как забыть ее голос в телефонной трубке, когда она простонала ей: «Из-за вас, Катя, я не могу завести второго ребенка, вы понимаете это?» Она просто видела, как слюна тянулась у той от губы к губе и липла к зубам, когда она произносила: «В-вы п-поним-маете…» В таком отчаянии и на вы! А этот второй ребенок ее просто доконал. Она не мужа крала у той, а куда большее. Впрочем, что значит крала? Это он ей покоя не давал, а не она ему. Вернется домой с работы – он сидит на скамеечке у входа, курит.
– Привет, как дела?
А в темной прихожей обнимет, привлечет к себе, большой, горячий, сильный. Сумка выскользнет из рук, и все, на что хватит сил, – так это попросить зайти на минуту в ванную.
Теперь сидит, молчит. Естественно, все понимает. В отделении «скорой» говорит, что бросал нож в мишень на двери, а нож попал в металлическую раму и неудачно отскочил. Хорошо еще, что в лоб попал, могло быть и хуже.
– Вы хотите вызвать полицию? – спрашивает женщина в коричневой, как школьная форма, чадре за стойкой регистратуры. Глаза поблескивают в узком зазоре между обтягивающей голову тканью и ажурной занавеской. Не понять, что думает обладательница этих глаз. Подозревает ли, что ее обманывают, или совершенно безучастна к посетителям-иноверцам? От ее отношения многое зависит – наберет ли сама номер полиции, когда они займут место среди ожидающих помощи, или тут же забудет о них.
– Не нужно, – отвечает раненый.
Они ждут вызова к врачу. Вокруг дремлют, стонут, молчаливо терпят боль, говорят по телефонам, смотрят беззвучный телевизор поздние посетители. «Райбек!» Это – он. Вообще он Рыбак, но уже привык откликаться на Райбек. Американцам так удобней. Он идет к санитару со списком пациентов в руке, тот проводит его желтым коридором в смотровую, велит лечь на накрытый бумажной лентой стол. Он с хрустом ложится. Лицо в белой маске заслоняет созвездие ламп. Мелькает шприц, он ощущает укус иглы.
– Вам повезло, что рядом оказалась ваша знакомая. Она отлично обработала рану, но небольшой шрам останется. Как это вам так повезло?
Клац! Сверкает хирургический скоросшиватель. Клац!
Он снова рассказывает про метание ножа, осознавая, что жене эту историю он не продаст. Какого ножа? Где?Поставив «бимер» на стоянку, Михаил Михайлович идет домой. Он не сомневается, что у парадного его поджидает мигающая огнями патрульная машина. Но машины нет. Софья Борисовна, словно приросшая к дивану, говорит дрожащим голосом:
– Ты можешь мне, наконец, объяснить, что происходит?
Как объяснить? С чего начать? С того, что он уже несколько месяцев беспрерывно думает о другой? И с небольшими перерывами забирается в ее постель?
– Нам надо расстаться, – говорит он устало.
– Как? – вопрос на выдохе похож на прощание с жизнью: —…ах…
– Раньше не мог решиться сказать, а теперь уже придется… – он усмехается.
– Почему, Миша?
Медленно и мучительно он восстанавливает картину измены и обретения своего краткосрочного счастья. Поразительно все-таки, как тесно эти два процесса связаны. Не полюбишь – не изменишь, это он уже понял, а вот вторую часть уравнения: не вернешься – не спасешься, – еще не выучил, потому что не пережил. И он думает, что все пропало, жизнь, как говорится, под откос.
Михаил Михайлович сидит возле своей законной супруги Софьи Борисовны и рассказывает ей понемногу о встрече в автобусе. Как пригласил новую знакомую на ужин в тот самый ресторан, о котором она прочла в газете, как она сказала, что пишет он лучше, чем там готовят, а он ответил, что с ней трудно не согласиться. «А ты ее сюда приводил?» – спрашивает Софья Борисовна о главном, а он отвечает, что нет, и переходит к их первой близости в запаркованной на стоянке у моря автомашине, когда ее запах вошел в него и пропитал насквозь, просто отравил, можно сказать. И как после этой встречи он стал бывать у нее в Хобокене, и она овладела им, как болезнь, когда не знаешь, где явь, а где бред и что лучше. А теперь ему, наверное, придется сесть в тюрьму, потому что он раскроил ее другому хахалю череп надвое, вся кухня была в крови. Так что теперь жди звонка в дверь и вывода из дому, руки за спиной, на глазах у всех соседей. Полицейский придержит его голову, когда он будет садиться в патрульную машину, дверца хлопнет, шоу кончится, прилипшие к окнам лица исчезнут в квартирном мраке.
Они лежат на широкой супружеской постели совершенно опустошенные, словно на крутом повороте жизнь выплеснулась из них. Они лежат, ждут звонка и незаметно засыпают. А во сне жизнь возвращается и начинает потихоньку сращивать разорванное, склеивать разбитое.
Утром они принимают по очереди душ и завтракают в совершеннейшей тишине с надеждой на то, что допьют кофе до того, как их разлучат, но ничего не происходит. За окном плывет волнообразно колокольный звон из храма Пречистого сердца на Хэмилтон-авеню. Девять часов. Она высказывает предположение, что срок не может быть большим, ведь он не убил того. Если бы убил, его бы уже давно забрали. А она будет приходить к нему в тюрьму на свидания, говорить через стеклянную перегородку, приносить книги, какие он захочет, а может быть он и сам напишет что-то. Он же всегда мечтал написать хороший детектив и говорил, что знает миллион совершенно потрясающих сюжетов о наших в Америке. Работа ресторанного критика, среди прочего, включает и слушанье застольных историй, а вино развязывает языки лучше всякого следователя. Что ж, вот тебе и оказия! Не вполне ординарная, но, что поделаешь, в жизни случается всякое, и такое вот тоже – люди сидят в тюрьме, в том числе хорошие, просто не в меру нервные. Но, может быть, судья учтет, что все это было сделано в состоянии сильного аффекта, в приступе ревности. И жена подтвердит, что он у нее человек в принципе добрый, но вспыльчивый. «Таким вот мужем меня наградила судьба, ваша честь, – вздохнет она. – Слегка припадочным, что ли».
Ах, боже мой, боже мой, ну чего ему не хватало дома? Они переходят из кухни в гостиную и устраиваются на диване. Она звонит на работу и сообщает начальнице, что сегодня не придет, почему – объяснит потом, и, положив телефон на стол, закуривает первую за день сигарету. Он не просит ее пересесть к открытому окну, потому что не выносит табачного дыма, а наслаждается тишиной и покоем дома, и тот начинает проступать из забвения, в которое он сам его отправил, во всем совершенстве своего стильного уюта – ковров, дорогой мебели, стеллажей с книгами, картин в меру именитых художников, цветов. Надо только не смотреть на хозяйку, достаточно ощущать надежное тепло ее руки на своей руке и… думать, что это не она.
Звонок телефона подбрасывает их.
– Твой?
– Нет, твой.
– Але?!
– Это я.
– Да?
– Он решил не вызывать полицию, так что можешь спать спокойно.– Хорошо.
– И еще…
– Да?
– Пока не приходи. Я должна все это обдумать. Я сама позвоню. Хорошо?
Он отключает телефон и кладет его в карман.
– Что она сказала?
– Что этот… Гена… решил не вызывать полицию и не возбуждать дела.
Откинувшись на спинку дивана, Софья Борисовна закидывает голову, по щекам текут слезы. Одна, скатившись, падает на выступающую из-под бледной кожи ключицу. Михаил Михайлович отводит глаза. Главное – не смотреть, научиться вовремя менять угол зрения, довести это до автоматизма, реагировать только на голос, который остался таким же, каким был, сколько же это уже… двадцать лет назад? Нет, бери все двадцать пять, бог мой, как жизнь-то быстро уходит.
– Я хотела бы сделать ремонт в кухне, – говорит неожиданно Софья Борисовна и утирает кончиком мизинца уголки глаз.
Это занятие, думает она, отвлечет его от потери. Да, она признает, что это – потеря. Сердцу, как говорится, не прикажешь. Своему-то вот она не приказывает. Другая бы сказала изменнику: «Пошел вон, подлец, видеть тебя больше не хочу!» – а она хочет. Хочет, чтобы он подавал ей омлет с сыром и ветчиной на завтрак, потом кофе, как он умеет готовить в турочке, хочет с ним лежать в одной постели, потому что никого даже представить себе не может на его месте, рядом с собой. От этих мыслей ее собственное сердце готово разорваться от боли, но не разрывается, получая от мучения свое горькое удовольствие. А что, может быть, такая боль нужна любви? Для ее оживления. Как, знаете, бывает, колют иголками немеющую конечность или пропускают через нее электрический ток, а?
– Надо бы подшпаклевать потолок над холодильником, – продолжает она. – Там, где протекло осенью. Стены бы тоже неплохо освежить. Взять очень светлую охру, как ты думаешь?
– Давай, – соглашается он.
Они едут в магазин стройтоваров. Покупают галлон краски, фунт алебастра, пачку шпатлевки и небольшой стол с удобным нижним ящиком для овощей. Она переместит на него миксер и эспрессо-машину. Когда они достают покупки из багажника, картонная коробка со столом раскрывается и содержимое высыпается на асфальт.
– Ножка поцарапалась, – отмечает она.
– Хочешь, поеду поменяю?
Раньше бы только подняла брови удивленно – что за вопрос? – теперь избегает оказывать малейшее давление.
– Можно. Если настроение будет.
Он складывает рассыпавшиеся детали на заднее сиденье – на случай появления настроения.
Проходит неделя в ремонте. Он чинит потолок сам, он это умеет. Красит. Цвет для стен она, как всегда, подобрала изумительно, он так хорошо сочетается с зеленым абажуром над столом! Они обмениваются короткими репликами, привыкая снова говорить друг с другом, но яд казалось бы вырванного чувства снова пропитывает его, и он украдкой нюхает собственные руки. Ему кажется, что Катин запах пробивается даже сквозь запах краски. От воспоминания о ней в животе возникает и сгущается знакомая боль. И она, там, у себя за Гудзоном, почувствовав его состояние, звонит ему и едва слышно выдыхает в трубку: «Приезжай». Все бросив, он несется на Запад, стараясь поскорей забыть растерянное лицо Софьи Борисовны. Конечно же, она прекрасно понимает, что брошенная ей на лету фраза о срочном заказе – ложь. И он это понимает. Пусть! По пустоте трасс, по внезапному хлопку петарды и рассыпавшимся над кронами деревьев розовым и бирюзовым осколкам он понимает, что сегодня – Четвертое июля. День Независимости. День Свободы! И это открытие вызывает пьянящее чувство, которое он подогревает страшным заклятием: будь что будет! В памяти всплывает отвыкший от родного языка голос его землячки Дины Верни: «Свабода, бля, свабода, бля, свабода!» – и он смеется.
О, это первое после разлуки объятие, это ощущение полного слияния двух тел, словно вырезанных друг под друга, как символ слившихся инь и янь. Прочь с дороги мебель, в стороны одежда, дайте салют! Салют!!! Оглушенные, они лежат в воронке простыней. Теперь бы ему взять да и остаться в этом чудесном коконе, порвать связь с прошлым последним решительным движением. Даже не движением, а наоборот – неподвижностью! Нешевелением плеча под весом устроившейся на нем головы, нешевелением ноги, придавленной к постели ее ногой – такой горячей. Ну что ты там забыл, дуралей? Что оставил в своем несчастном Бруклине? Пару любимых итальянских мокасин? Лэптоп? Документы? Все документы у тебя в бумажнике! Верно, документы – в бумажнике, а лэп-топ с любимыми мокасинами – не много стоят, но как одолеть многолетний рефлекс тяги в свой дом после наступления оргазма в чужом? Михаил Михайлович – человек ироничный, и потому ответ на этот вопрос у него есть. Он лежит в ящичке памяти с табличкой «Анекдоты» и звучит так: «Апатия – это отношение к половому акту после полового акта». В каждой шутке есть доля шутки, пытается оправдаться он перед собой и, вздохнув, выбирается из постели. Нет, анекдотом мотивы его ухода, конечно же, не исчерпываются. Куда сильней опасение за то, что ему не выдержать напряжения жизни со значительно более молодой любовницей, и ее разочарования долго бы ждать не пришлось. Что потом? Примут ли его на пепелище, оставшемся от его нынешнего, такого уютного дома?
Катя тоже поднимается, идет на слабых ногах в ванную, включает воду. Кран сипит, потом перестает сипеть. Когда она возвращается, он уже одет. Она обнимает его. Его пальцы скользят по нежной коже.
– Что ты будешь делать?
– Посмотрю что-нибудь на платном канале.
– «Вики, Кристина, Барселона» уже идет, – вспоминает он.
– Да? Отлично!
Они видели этот фильм в кинотеатре и решили, что посмотрят еще раз, когда его покажут по телевизору.
Мягко лязгает замок, он выходит на автостоянку перед домом. Ах, какое небо раскинуло над миром свой бархатный полог! Сколько звезд высыпало, какие яркие, сочные! С чем их там обычно сравнивают поэты: со слезами, с бриллиантами, с чем еще? Какая неописуемая никакими словами красота и свежесть! Какое удивительное ощущение полноты жизни! Как прокатившая по коже вибрация смывает груз прожитых, как говорится, лет. Нет, жизнь, в свете нынешней средней ее продолжительности для некурящих мужчин, не окончена в пятьдесят! Надо только перетасовать колоду и разложить новый пасьянс.
– Эй, приятель! – окликают его из темноты.
Михаил Михайлович поворачивается и видит сперва огонек сигареты, потом – смутное пятно лица с белой заплаткой на лбу. Темная фигура приближается, в руке что-то вспыхивает металлическим блеском, телефон, наверное.
– Только не здесь, – говорит Михаил Михайлович, отступая к «бимеру». – Чуть отъедем, хорошо? Подумаем о ней, ладно?
– Ну давай отъедем, – неохотно соглашается Гена и выстреливает окурком в темноту.
Две машины бесшумно выезжают одна задругой со стоянки. Михаил Михайлович, поглядывая в зеркало заднего вида, следит за фарами соперника, который явно решил оставить последний удар в их поединке за собой. Есть такие люди – не прощают никаких долгов. Ты полоснул меня, теперь я полосну тебя. Чтобы помнил. Куда ехать? Фары в зеркальце настойчиво требуют остановки, но он не торопится. Подальше надо отъехать, подальше. Машина Гены, натужно взвыв мотором, обгоняет его и сигналит о том, что пора съезжать с трассы. Рано! Оранжевые стрелки приборов бросаются вправо и «бимер» легко уносится вперед. Не машина, а ракета! Они мчатся еще минут пять, а может быть десять, пока Геннадий, опасно приблизившись и грозя ударить боком, не сгоняет его в рукав выезда. Они вылетают на узкую двухрядку, минуют мертвую автозаправку, какие-то темные озерца, черное здание школы, почты, гигантский плакат «Ремонт корпусов и смена шин», вдруг начавшийся и кончившийся лесок и выезжают, наконец, к огороженным сеткой теннисными кортам. Под колесами шуршит гравий. Передняя машина останавливается, стоп-сигналы, вспыхнув, гаснут. Перебросив руку через спинку сиденья, Михаил Михайлович берет ножку от кухонного стола. Как она здесь кстати! От возбуждения его бьет дрожь. Никаких разговоров, никаких выяснений отношений, им нечего выяснять. Кто бьет первым, тот выигрывает спор. Выбравшись наружу, он не ждет, когда соперник выйдет из своей машины, а, забежав сзади и, высоко вскинув деревянный брус, наносит удар по высунувшейся ноге, а потом, когда грузное тело с мычанием вываливается наружу, еще один – и тоже с большого размаху – по голове.
«Бэнг!» – звенит полированный кленовый ствол. Не выясняя, каково самочувствие в очередной раз раненого соперника, Михаил Михайлович идет к своей машине, бросает оружие на заднее сиденье, оборачивается – Гена, разбросав руки по земле, неподвижен. Он возвращается к нему. В широко раскрытых глазах врага сияют звезды. Присев на корточки, Михаил Михайлович прикладывает ладонь к его груди. Чье это сердце так тяжело и быстро бьет в ладонь? «Нет, это мое сердце», – думает он. Потом достает выглядывающий из кармана шортов телефон. Интересно, как часто они перезванивались? Позвонит ли она ему сегодня? Он кладет телефон к себе в карман. Враг по-прежнему неподвижен. Далеко за деревьями свистят и хлопают петарды. Он поднимается и, перевернув тело ногой, бог мой, до чего же тяжелое, достает из заднего кармана бумажник.
На обратном пути, проезжая мимо озер, Михаил Михайлович замечает темный проезд между ними. Притормозив, сдает назад, сворачивает на узкую асфальтовую полосу и оказывается на автостоянке со столами для пикников на краю.
Заглушив мотор, включает телефон и проверяет историю звонков. Гена напоминает о себе почти каждый день, иногда по несколько раз. Катя тоже звонит ему, хоть и реже. Сука, одного любовника ей мало. Вдруг телефон оживает и чуть не выпрыгивает из руки! На загоревшемся бирюзовым светом экране возникает: «ДОМ». Михаил Михайлович быстро выходит из машины, подходит к берегу озера и, сильно размахнувшись, забрасывает телефон в темноту. Бирюзовый светлячок описывает пунктирную дугу с прощальным «бульк!» на конце. Теперь бумажник. В нем – удостоверение, кредитки, визитки и три купюры по двадцать баксов, которые он перекладывает к себе в карман, я говорю о купюрах. Подобрав с земли камешек потяжелей, затискивает его в отделение с прозрачным окошком и тоже забрасывает в темноту. Звук «пляк!» подхватывают и многократно повторяют первые крупные капли дождя. Он быстро идет к машине, ощущая, как намокают голова и плечи. Теперь – домой!– Опять был у нее?
– Нет, дали срочный заказ.
У ресторанного критика – вечерняя работа, пора привыкнуть. Он ставит коробку со столом к стене. Софья Борисовна уходит. Когда исчезает угол света под неплотно прикрытой дверью спальни, он раскрывает коробку. Рассматривает ножку, нет ли на ней крови. Есть и, надо же, густой красный мазок – именно там, где дерево поцарапалось, выпав тогда из коробки. Он включает воду и ждет, когда струя смоет красный след, потом, намылив губку, долго трет это место, смывает пену водой. Куда там! Кровь впиталась в древесину, попробуй вымой! Взяв в ванной фен, он сушит дерево. Теперь надо пройти по царапине мелкой шкуркой, у него есть, и покрыть бесцветным лаком, у него он тоже есть. Положив ножку на стол под лампу и, приблизившись к еще влажному лаковому пятну, он видит – под розоватой пленкой законсервирован след преступления.
– Что это было? – вопрос подбрасывает его.
– Ничего, запачкалось тут.
– Ты что, убил ее? – о-о, эта ее проницательность!
– Нет, она цела.
– Жалко. А это ты кого?
Он разворачивает план сборки стола. Руки дрожат.
– Кто это был?
Как всегда, ее неумолимая настойчивость делает свое дело. На этот раз он рассказывает все быстро, точными короткими фразами, как пишет статью, завершая:
– А что я должен был делать? Он в два раза больше меня. Бык.
– Тебя кто-то видел?
– Я не видел никого.
Михаил Михайлович открывает холодильник, берет початую бутылку вина и пьет прямо из горлышка. Софья Борисовна закуривает.
– А если убил?
– Я не искал с ним встречи, Соня.
Взяв телефон, она уходит с ним в гостиную. Он слышит ее ровный голос:
– Если вы его любите, Катя, вы должны мне обещать, что никогда и никому, ни при каких обстоятельствах, не скажете, что он был у вас дома этим вечером. От этого зависит его жизнь. И ваша, возможно, тоже.
Он снова опрокидывает бутылку и громко допивает ее. Конца разговора он не слышит. Вернувшаяся из комнаты жена кладет телефон на кухонный стол перед ним.
– Почему ты не можешь порвать с ней? Просто не отвечай на ее звонки. Перестань ездить к ней. Неужели ты не понимаешь, что пройдет еще каких-то пять лет – и разница в возрасте даст себя знать? Сегодня твой полтинник кажется ей пикантной деталью ваших отношений, а потом ее это будет только раздражать. Старых не любят, Миша. Это общеизвестно. Поэтому у старых небольшой выбор – они должны любить друг друга.
Он снова говорит о болезни. Любовь – это болезнь, «шуба-дуба», как пел один любимый ими когда-то артист, а она спрашивает с совершенно неподдельным отчаянием:
– Почему я – не твоя болезнь?
«Ты была моей болезнью, – думает он. – Просто я выздоровел. Это как грипп: переболел одним вирусом – у организма выработался иммунитет. А вирусов много, и они постоянно мутируют, поэтому на следующий год грудь снова заложена и из носа течет».
Обессиленные, они сидят и молчат. Каждому жалко себя. Потом Софья Борисовна, вздохнув, встает и идет на кухню. Достав овощи, сыр, маслины, готовит греческий салат. Есть совершенно не хочется, в горле ком, но надо занять себя чем-то. Михаил Михайлович выходит за ней, открывает новую бутылку, достает бокалы. Как все хорошо, как все налажено, зачем ломать это? И разве вино в высоких тонкостенных фужерах или салат в белоснежных тарелках хуже какого-то там супер-тетрациклина для борьбы с очередным вирусом? Как сказать… Некоторые вообще обходятся без антибиотиков. Круглый год принимают ледяной душ, бегают по пять миль перед работой, и никакие простуды их не берут. А на другого чуть подуло из приоткрытого окна, и – приехали.Красавица из-за реки больше не звонит ему. И он не звонит ей. Несколько раз она звонила Гене, но тот не отвечал. Вместо него позвонила его жена.
– Вы в курсе, что случилось с Геной?
– Нет, что?
– На него кто-то напал. У него тяжелая черепно-мозговая травма. Он лежит в коме.
– Какой ужас, – картина начинает проясняться. – Когда, где?
– Четвертого июля. Вы виделись с ним в ту ночь?
– Нет! – ее охватывает возбуждение несправедливо обвиняемой, голос дрожит. – Я прошу вас понять: я многократно просила его не приходить ко мне, оставить меня в покое! Вы можете мне поверить, что у меня не было ни малейшего желания отбирать его у вас?
В ответ она слышит усталое:
– Слушайте, какая вам разница – верю я или нет? Пусть полиция выясняет, какое вы имеете ко всему этому отношение.
Катя кладет трубку и говорит себе: «В ту ночь его у меня не было. Что еще я могу сказать?»
Время сгущается в ожидании новых звонков или, скорей, повестки. Сердце замирает всякий раз, когда она открывает почтовый ящик, потом отпускает.
Вечера Михаил Михайлович и Софья Борисовна проводят у телевизора. На столике перед ними – вино, сыр и виноград. Кино – плохое средство борьбы со страхом неопределенности, но другого нет. «Нет есть!» – вдруг вспоминает Софья Борисовна и достает с антресолей старые фотоальбомы. Михаил Михайлович смотрит на ноги стоящей на стремянке жены и отмечает, что они по-прежнему хороши – сухощавые, с мягко очерченными икрами и изящным хрящиком над пяткой, четко прочерчивающимся каждый раз, когда она привстает на носках. Вернувшись, Софья Борисовна протирает замшевым лоскутком переплеты из тисненой кожи. Увы, эта красота – вчерашний день, в последние годы они смотрят фотографии на экране. Очень удобно, плюс изображение – полтора метра по диагонали. Они берут альбом за альбомом и рассматривают старые снимки, невольно начиная восстанавливать пошатнувшийся фундамент совместной жизни.
– Поразительно все же, – говорит Софья Борисовна, подавая ему раскрытый альбом. – Посмотри, как ты стал похож на отца. Раньше я этого не замечала.
Он вглядывается в подернутую вуалью времени сцену. Отец сидит на камне и держит его на руках. За ними – уголок пляжа с мутными фигурами отдыхающих и сероватое на любительском снимке Черное море. Ему лет семь, ребра торчат из-под смуглой кожи, он смеется. Отец лыс, у него мощные грудь, плечи, руки. Он – спортсмен. В правом нижнем углу фото – белая надпись «Большой Фонтан, 1969». Сколько тогда было отцу? Лет пятьдесят, наверное. И действительно, как они стали похожи, за вычетом мускулатуры, конечно. И волос. Он свои унаследовал от матери. Запуская руки в ее роскошные каштановые, отец говорил: «Люба моя, мне бы этого на две жизни хватило!» Отец так называл маму: «Люба моя», – хотя звали ее Аннушкой. А вот эти, только намеченные у него две вертикальные морщины на лбу, и вот эти – у рта – от отца, только у того они прочерчены четко, глубоко, как будто мастеровитый скорняк заложил эти резкие складки. Америка, как известно, замедляет процесс старения.
– Смотри, эта какая хорошая, – Софья Борисовна указывает на фото, где отец сидит в дачном шезлонге. На коленях – раскрытая газета, в руке – стакан. Рядом стоит мать с трехлитровой бутылью компота в руках. Наверняка позвал ее: «Люба моя, попить не дашь? Жарко ужасно…» – и она принесла. В наполняющей сосуд фотографической мути едва различимы светло-серые шарики абрикосов и темные точки вишен.
«Мам, пап, ну-ка не шевелитесь!» – дает команду маленький фотограф и, вращая рифленый ободок объектива, совмещает двоящееся желто-сиреневое изображение родителей, пока они не становятся одним ясным целым.
«Клац!» – фиксирует вечность отцовский «ФЭД».
– Пить не хочется? – голос Софьи Борисовны достигает его барабанных перепонок, превращается в нейро-электрический, кажется, так это называется, сигнал и спустя секунду-другую добирается до того самого ящичка с табличкой «Анекдоты». Где же нужный? Да вот же он – жена говорит мужу: дурак, не уходи от меня к молодой, будешь умирать – она тебе стакана воды не подаст! Муж не ушел, а умирая, думает: что-то пить не хочется. Сигнал летит к нервным окончаниям, приводящим в действие мышцы лица, и вызывает сперва ухмылку, а затем и смех. Мать налила отцу стакан компота, чтобы у него не было соблазна на стороне? Ерунда, отец всю жизнь любил только ее! Бравый фронтовик, вся грудь в медалях, он взял ее после демобилизации, совсем молодую, ей было чуть больше двадцати, и всю жизнь посматривал по сторонам, чтобы дать своевременный отпор возможному сопернику! Скажи после этого, что разница в возрасте не гарантия вечной любви. По крайней мере, со стороны того, кто постарше. А теперь что же, его Соня предлагает ему попить, пока еще не совсем поздно? Нет, поздно. Уходить ему уже не к кому. Но анекдот – жизненней не бывает! Содержимое ящичка искрит, и вот смех переходит в хохот со жгучей слезой и потом ручьем слез, которые, как дождь после страшной засухи, смывают с него тяжелую коросту вины и страха. И Софья Борисовна, радуясь произведенному эффекту, смеется вместе с ним и берет за руку и прижимает к теплой и мокрой щеке.
– Для меня смех – самое сексуальное проявление мужской натуры, – говорила она лет сто назад, когда они были близки, как – ну вот как сейчас, наверное.
– А знаешь, чего я вдруг захотела? – говорит Софья Борисовна, отсмеявшись и закидывая руки за голову.
– Что?
– Велосипед!
– Велосипед?!
– Все, решено! Покупаем два складных велосипеда с небольшими колесами, знаешь, есть такие? И будем кататься на них вдоль моря. Нравится тебе такая идея?
В ней оживает детский восторг. Она вспоминает, как неслась на огромной для ее роста «Украине», просунув левую ногу под верхнюю перекладину рамы, с седла она еще не доставала до педалей. Грунтовка дачной улицы страшно подбрасывала ее, теплый воздух бил в лицо, развевал волосы, отбрасывал за спину заборы и деревья с белеными основаниями стволов, фиолетовые петушки на обочине, дома и лица.Катя проснулась, как всплыла из-под воды. Потянулась, зевая, и так при этом прогнула тело, что даже хрустнуло где-то. Солнце лежало яркими пятнами на стенах, на полу, сияло на золотом орнаменте смятой простыни. Попыталась вспомнить, что снилось, и в этой попытке слепить из уходящих сквозь пальцы образов-намеков что-то цельное вдруг осознала, что беременна. Она явно чувствовала в себе присутствие новой жизни. Это было не столько даже ощущение, сколько знание – я больше не одна. Она поднялась и подошла к окну. Тихое и прозрачное утро стояло за ним. Дверца белой машины у тротуара отворилась, и показался мужчина в светлых джинсах и темно-синей трикотажной полурукавке. Поправив узкие черные очки, направился к ее двери.
«Одеться, – подумала она, – или так встретить?»
На ней была только черная шелковая рубашка на тонких бретельках. Пока не зазудел звонок, она прошла на кухню, достала из холодильника банку клюквенного сока и налила в стакан, который тут же бросило в холодный пот. Отпила и пошла открывать.
Визитер стоял в шаге от половичка, держа на поясе загорелые, поросшие блондинистым волосом руки, жевал жвачку, двигая мощной челюстью с тонюсеньким клинышком бороденочки и такой же тонюсенькой полоской усов.
Насмотревшись на него, она зашла за дверь и сказала:
– Извините, я только что поднялась.
– Доброе утро, – поздоровался пришелец. – Я детектив Перрон из полиции графства. Я могу говорить с Кейт Хачатуриан? – Ударение на «у», как положено у местных.
– Да, – она снова отпила сок. – Это я.
Заныло в груди.
– Вы знаете Геннадия Райбека?
– Да.
И тут же вспомнился голос в телефонной трубке: «Если вы его любите, Катя, вы должны мне обещать, что никогда и никому…»
– Вы можете одеться, чтобы мы могли поговорить?
– Да, конечно, зайдите.
Она ушла в глубину квартиры, а детектив Перрон, переступив порог, смотрел, как она ступала чуть полноватыми, но очень стройными ногами по мраморному полу и как вздрагивали выглядывавшие из-под пикантной рубашонки половинки ягодиц. Вернулась, подпоясывая красный с птицами халат.
– Проходите в комнату и садитесь. Так почему вы спрашиваете о нем?
– Его нашли в Гаррисоне с проломленной головой. Он в коме.
– О боже… А когда это произошло?
– Вы не возражаете, если я вам задам несколько вопросов?
– Конечно!
– Где вы были вечером и ночью четвертого июля?
– Дома. Так это случилось четвертого июля?
– Кто-то может подтвердить, что вы были дома? Соседи, например.
– Кажется, они уезжали на уикенд к родственникам.
– Как я могу быть уверен в том, что вы были в тот вечер дома?
Она опускает горящее лицо в ладони.
«Если вы его любите, Катя, вы должны мне обещать, что никогда и никому, ни при каких обстоятельствах, не скажете, что он был у вас дома этим вечером. От этого зависит его жизнь. И ваша, возможно, тоже».
«Почему я должна верить этой женщине? – думает она. – Та защищает свое, что сейчас защищать мне?»
– Я была дома. Я заказала кино по платному каналу. Вуди Аллена. Этот заказ есть на моем счету. А почему в Гаррисоне? Что он там делал?
– Я думал, вы можете знать.
– Я не знаю! Но не думаете же вы, что я могла проломить ему голову. И потом… чем?
– Тупым тяжелым предметом, – привычно отвечает детектив.
– А следы там какие-то нашли? Какие-то, ну, я не знаю, отпечатки?
– Ищем.
– Если я не ошибаюсь, той ночью шел сильный дождь. Я поднималась закрыть окна.
– Верно…
– Стало быть, все смыло?
Он смотрит на нее изучающе, потом спрашивает:
– Как я понял, вы были близки?
– У нас уже давно ничего не было. Может быть, год… Но он иногда звонил, а иногда его жена. А я хотела только, чтобы они оставили меня в покое.
– Его жена звонила вам?
– Да. Говорила, что из-за меня не может завести второго ребенка, – ее обдает волной возбуждения. – Как насчет меня?! Что, если я тоже хочу ребенка? И мужа я хочу своего, а не ее.
Детектив Перрон с трудом отводит взгляд от узкой ступни и пальцев с аккуратным педикюром, проводит ладонью по короткому ежику волос.
– Хотите проведать его?
– Зачем? У меня нет ни малейшего желания встречаться с его женой. Могу себе представить, что она мне скажет у его постели!
Гость поднимается, достает из нагрудного кармана заранее заготовленную визитку, протягивает ей. Хозяйка берет ее и тоже встает. Они оказываются совсем близко друг от друга. Он повыше ростом, поэтому она смотрит на него, чуть отведя голову назад. Чего он медлит? Почему не уходит? Стоит, смотрит в беспокойные карие глаза. Сейчас толкнет ее легонько на диван и станет расстегивать пояс. Нет, не толкает. Жует.
– Если вы вспомните что-то, что может помочь следствию, звоните. Здесь мои телефоны.
– О’кей, я позвоню, – отвечает она севшим от волнения голосом и снова вспыхивает от мысли, что он это слышит.2. Виктория и другие
Вернувшись в участок, Перрон видит жену пострадавшего. Узкое осунувшееся лицо, серые глаза, светлые волосы собраны в тугой узел на затылке. Поднимается ему навстречу.
– Здравствуйте, Виктория. Есть что-то новое?
Он проводит ее в кабинет, который делит с тремя другими детективами. Четыре заваленных бумагами стола в углах комнаты, старомодные коробки мониторов, два зарешеченных окна, желтые казенные стены, нити паутины на обвисших лопастях мертвого вентилятора. Детектив Макаллан, прижав плечом трубку к рыжим кудрям, пишет что-то в блокноте. Кивает при его появлении.
– Садитесь.
– Я принесла вам телефонные счета за последние шесть месяцев. Их звонки я отметила желтым маркером.
– Они перезванивались в тот вечер?
– Нет. Но вы понимаете, что это не могло быть простое ограбление? Что занесло его на эти корты ночью? Он никогда не играл в теннис.
– Наша главная надежда на то, что ваш муж придет в себя и расскажет о случившемся. Что говорят врачи?
– Надо ждать еще двадцать четыре часа.
Рука сжимает руку так, что костяшки проступают из-под побелевшей кожи.
– Все идет от той женщины, детектив. От этой Кати. Я это просто чувствую…
– Может быть, – неопределенно отвечает он. Мало ли кто что чувствует? Чувства к делу не подошьешь. – Мы работаем над этим.
Собравшись с силами, она поднимается, и он провожает ее до двери. Вернувшись к столу, достает из верхнего ящика сигареты, закуривает. Струйка дыма добирается до потолка и укладывается на нем полупрозрачной змеей. Звонит телефон – убийство в магазине спорттоваров в Юнион-Сити, надо ехать.
Крохотный офис залит мертвым светом люминисцентных ламп и муторным запахом разложения. У входа – фотограф с аппаратом наготове. Руки убитого раскинуты, кисти свисают с краев стола. Голова с сильно поредевшей растительностью неловко повернута. У основания шеи темный след от удара. Бейсбольная бита брошена на пол. Пришедшие могли, например, потребовать старый долг, а хозяин сказал, что сейчас денег нет. Тогда те, устав от его «приходите завтра», этот долг решили списать. Когда грабят кассу, убивают прямо у прилавка. Если вообще убивают.
Перрон видит на стене красный треугольный вымпел с золотыми буквами и лобастым профилем с острой бородкой.
– Русский? – спрашивает он, кивая на покойника.
– Павэл Лебедински, – отвечает детектив Макаллан. – Пашя.
Он стоит на одном колене, в левой руке – включенный фонарик, в правой – пинцет с несколькими волосками в цепких лапках. Рядом – такой же коленопреклоненный техник из лаборатории графства с раскрытым пластиковым пакетом наготове. Оба в резиновых перчатках. Макаллан кладет волоски в пакет, и техник, запечатав его, раскрывает следующий. Макаллан, продолжая осматривать светлый овал на ковре, говорит:
– Русские, говорят, такое придумывают, что итальянцам нечего делать, а кончается у всех одинаково – бейсбольной битой по башке, и готово!
– Точно, – соглашается Перрон.
Вернувшись в торговый зал, он заходит за прилавок, приседает – на полке несколько коробок от обуви, под листом пестрой упаковочной бумаги что-то лежит. Приподняв лист, он видит темную рукоятку «Глока».
– Эй, Джим! – он поднимает руку, привлекая внимание появившегося в зале техника.
Техник протискивается к нему, приседает рядом.
– О-о!
Перрон проходит по залу. Аккуратные ряды футболок и спортивных костюмов на вешалках, кроссовки на стенах, порядок за прилавком, нетронутый пистолет – все указывает на то, что убитый и его гости виделись раньше. Сначала в магазин вошел тот, кого хозяин хорошо знал. Пока они разговоривали в офисе, вошли остальные. Теперь надо ждать результатов сверки анализа ДНК-материала и отпечатков пальцев с образцами в базе данных штата.
Появляется Макаллан, говорит поджидающим у входа полицейским, что те могут выносить тело. Разворачивая черный пластиковый пакет на змейке, толстозадый коп пересекает зал, за ним тарахтит разболтанными колесиками металлическая тележка.По дороге в участок Перрон думает, что у него нет никакого желания оставаться на службе еще семнадцать лет, необходимых для получения полной пенсии. Обилие покойников в его жизни и ненормированный рабочий день стали в последнее время действовать угнетающе. Пора, видимо, обзавестись своей семьей и простой работой с девяти до пяти. Он мог бы, например, открыть компанию по установке систем безопасности. Ставил бы видеонаблюдение таким, как этот Пашя. Камеру над дверью, несколько камер в зале и кнопку под столом. Трудно сказать, помогло бы ему это пережить визит Пашиных товарищей, но шансов было бы больше, чем без камер и без кнопки.
На пересечении 22-й и Либерти он тормозит. Бензовоз с жирной надписью Lukoil на зеркальном борту цистерны, мучительными рывками – видимо, водитель новичок – въезжает на заправку. Детектив снимает рычаг со скорости, снова закуривает, открывает окно. Куда торопиться? На встречу с очередным трупом? Или с его вдовой?
Мысли возвращаются к русской, с которой он встретился утром. У нее густые черные волосы, смуглые плечи, тяжелая грудь. Смотришь на такую, на округлую тяжеловесность ее форм, и видишь в ней мать своего ребенка. Если бы она не была русской, он сказал бы, что она итальянка. Откуда-то с юга. В офисе он перебирает оставленные предыдущей посетительницей телефонные счета с желтыми отметками переговоров пострадавшего – хоть какая-то от них польза! – и набирает ее номер.
– Здравствуйте, Кейт, это детектив Перрон. Мог бы я пригласить вас сегодня на ужин?
В трубке повисает молчание, потом он слышит:
– Ну попробуйте.
Они встречаются в «Мару-Суши» на Вашингтон-стрит. В Хобокене всё на Вашингтон-стрит. Катя в черных свободных брюках и белой блузе навыпуск, искрящиеся волосы рассыпаны по плечам. Вначале разговор общий. Она ему рассказывает о работе в больнице ветеранов, а он интересуется – не надоели ли ей все эти раненые и пострадавшие. Она отвечает, что человек ко всему привыкает, а он замечает, что люди разные, кто привыкает, кто – нет.
– Послушайте, – переходит она к давно заготовленному вопросу. – Я так думаю, что в своей практике вы сталкивались с такими ситуациями. Я имею в виду случай с Геной. Как это могло произойти?
– Жена хочет получить страховку и нанимает кого-то, чтобы прихлопнуть мужа, – высказывает предположение он. – Потом дает копам телефон его любовницы.
– Он был застрахован?
– Да.
– Мне казалось, что жена любит его.
– Или изображала, что любит.
– Есть еще какие-то варианты?
– У него могла быть любовница, – теперь он смотрит ей в глаза. – Он привык считать ее своей собственностью. Потом она нашла кого-то, кто имел на нее более серьезные виды. А этот Гена продолжал звонить, может быть, угрожал. Тогда от него решили избавиться. Мужчины встретились без свидетелей и выяснили, кому достанется женщина.
Она чувствует, как краска заливает лицо. Такое у нее лицо. Чуть что – на скулах просто пожар.
– Похоже на ваш случай? – он усмехается.
Катя берет стакан с водой, лед звякает о стекло, делает глоток. Достав из сумки зеркальце, проверяет, не смазалась ли помада.
– А кем мог быть тот, который его ударил?
– Их могло быть двое. Когда Геннадий говорил с одним, второй незаметно подошел сзади и ударил. Там не было драки.
Катя разглаживает ладонью складку на скатерти. Молчание нарушает Перрон:
– У вас есть бойфренд?
– Это профессиональный интерес? – снова брови взлетают, снова пожар на скулах.
Он молчит, ждет.
– Слушайте, мне не двадцать лет, и я не уверена, что вы хотите знать обо всех моих любовниках. Я сама хотела бы забыть о них. О некоторых – точно.
Он наливает из кувшинчика в стопку остывшее саке, выпивает, словно для храбрости, потом спрашивает:
– Как насчет еще одной попытки?
В ее глазах мелькает испуг, не свойственный женщинам, привыкшим к безоговорочным победам, но он знает: женщины – притворщицы.
– Как вас зовут, детектив?
– Джейкоб. Джейк.
– Яша, – улыбается она.
– Яшя, – повторяет он. – Яшя, Пашя, почему у вас такие мягкие имена?
– Мы – мягкие люди, – говорит она и касается кончиками пальцев его руки.
– О-о, да! – смеется впервые за вечер Джейк, но не своей шутке, а радуясь предстоящему.
В машине, бросая быстрые взгляды на сидящего рядом мужчину – свою машину он оставил возле ресторана, ехать недалеко, – она с замирающим сердцем загадывает, что если у них, точнее у нее, все получится с ним с первого раза, то он останется с ней и станет отцом мальчика. Она уверена, что у нее будет мальчик.– Решение в ваших руках, – говорит человек в белом халате Вике. Стекла очков перечеркнуты белым отражением ламп на потолке, на лице выражение сочувствия, сдержанного профессиональной деловитостью. – Его мозг мертв. За легкие и сердце работает вот эта машина, – доктор кивает в направлении приборов у изголовья.
«Как же так? – думает Вика. – Как же организм может продолжать функционировать без мозга, ведь кто-то должен давать команды сердцу, печени, почкам…»
Двое стоят у открытой двери палаты, где лежит все еще живой организм ее мужа. В синем пластиковом кресле у стены – вжавшаяся в него светленькая девочка с очень пристальным взглядом исподлобья. Крохотные пальчики сжимают ручки розовой сумочки. На глянцевой клеенке аппликация: красные губки и белая надпись ХО ХО, – так обозначают поцелуй.
– Я слышала, что некоторые люди возвращаются, проведя в коме… годы…
– Чудеса случаются, – очень сдержанно, но достаточно, чтобы в ответе был ощутим научный скептицизм, усмехается доктор. – Но очень редко. При этом такая тяжелая травма мозга никогда не проходит бесследно. Даже если произойдет чудо, на которое вы рассчитываете, он не вернется к вам таким, каким вы его знали. Мы называем это состояние вегетативным. Моторные функции могут…
Она перестает слушать врача. Хочет ли она, чтобы он вернулся к ней таким, каким она его знала, если произойдет чудо? Нет. И, преодолевая страх, Вика, наконец, решается:
– Хорошо, отключайте.
– Вам нужно заполнить некоторые документы.
– Хорошо, я заполню.
Она оборачивается к дочери:
– Маша, идем со мной, дорогая.
Соскользнув с кресла, девочка робко подходит к ним, берет мать за руку, прижимается к ней лбом, поглядывает на доктора.Вика и Маша сидят на брайтонском бордвоке, наслаждаясь тихим сентябрьским солнцем. Осенняя прохлада смывает с нее горячечный жар посещений больницы, похорон, общения с полицейскими, юристами. Она бы хотела ходить в театр. Ее привлекает возможность наблюдать за чужими драмами, не опасаясь быть вовлеченной в них.
Ее чувство к Геннадию нельзя было назвать любовью, той спокойной и деловой любовью, которая связывала ее родителей. У нее это было ожидание любви, обида за его измены, а главное – страх за то, что он узнает, что Маша – не его дочь. Когда еще кормила ее грудью, пристально всматривалась в игрушечное личико, искала хоть одну его черточку и не находила. Она не сомневалась, что и он смотрел на Машу с теми же мыслями. Отсюда и страх – он спросит, его ли ребенок, а она, не наученная врать, ответит: «Не знаю», и – конец. Что будет делать тогда одна, без работы, без связей в чужой стране? Выходом казалась вторая беременность, чтобы уже наверняка – от него.
Она, конечно, понимала причину его холодности к ней, но только вины в этом своей не видела. Принудительно окольцованный, он своей нелюбовью к ней мстил тестю, а заодно и ей с Машей. Все заботы о девочке он еще до ее появления на свет поручил родителям – Марии Ефимовне и Евгению Семеновичу. Те действительно помогали Вике, пока Маша не пошла в дошкольную группу. Старики тогда перебрались во Флориду, ближе, как у нас тут говорят, к Богу. На кремацию приехал только свекор. Страшный, как ящер, с обвисшей под подбородком сухой кожей, с трясущейся пятнистой головой, черными глазами. Забрал урну с пеплом и отбыл в свою страну цветов и венков, безмолвно разорвав последнюю связывавшую их нить. Мария Ефимовна, страдавшая диабетом, была на диализе и приехать не могла. Если умрет первой, заберет урну с собой. Пусть. Вика уже это знает: самый дорогой человек – ребенок. Твои плоть и кровь – буквально.
А Машей она забеременела случайно. На третьем курсе университета, она училась на факультете романо-германской филологии, соученица Женя пригласила ее к себе домой на вечеринку – родители были на даче. Дома у нее постоянно что-то происходило – она была весела и любвеобильна. Зажав полными бедрами сведенные ладони и раскачиваясь – к парте, от парты, – она, бывало, говорила: «А зудит у меня, девочки, ну просто везде». И глаза у нее мутнели. С курса на курс она переходила с помощью бородатенького латиниста Сережи Шевелева – доцента кафедры классических языков, где они постоянно запирались, и выходили потом в полутемный факультетский коридор, едва волоча ноги и делая вид, что друг друга не знают. Отец Шевелева был деканом факультета. Еще Женя умела готовить убийственной силы коктейли из молдавского коньяка, кока-колы и кофейной настойки домашнего приготовления. Вику в группе считали тихоней, и Женя позвала ее только по просьбе парня из своей другой, не университетской компании – Геннадия. Тот с приятелями поджидал Женю после вечерней лекции и, заметив в гурьбе студентов Вику, попытался заговорить. Та испугалась и, сославшись на занятость, быстро ушла, а потом пожалела. Он показался ей симпатичным – высокий, аккуратно подстриженный, хорошо одетый и явно старше ее, что тоже привлекало. Направляясь к дому, то ныряя в густую тень деревьев, то входя в круги света на разбитом асфальте, она легко представила, как он сейчас шел бы неторопливо рядом, может быть, положив ей руку на плечи, а у парадного привлек к себе на прощание. Закрыв за собой дверь, она поняла, что хочет увидеть его снова. А когда Женя пригласила ее, сказав, что будет парень, от которого она тогда сбежала, с замершим сердцем согласилась.
Их было шестеро – три девушки и трое ребят – собравшихся послушать музыку и потанцевать, но танцы быстро кончились, и началось совсем другое. Вика была так пьяна, что сил сопротивляться ходу событий не было. Она то смеялась, то плакала, то обнималась с кем-то. Качался потолок, ходили ходуном стены, магнитофон пел: I’m a sex machine in town. The best you can get 60 miles around. Рядом задыхались, стонали, вскрикивали с машинной ритмичностью, пока спасительная темнота не сомкнулась над ней.
Утром, когда она перебралась через спящих, нашла свою одежду и, стараясь двигаться по возможности бесшумно, направилась к выходу, паренек с шапкой светлых кудряшек окликнул ее из кухни: «Эй, кофейку-то хоть попей со мной, а?» Худющий, босой, в одних джинсах, он стоял у газовой плиты, помешивая ложкой коричневую пену над медной турочкой и улыбался. Солнце лило свой свет в окно за ним, наполняя кухню тихим утренним счастьем. Но ей было не до кофе, она хотела в душ.Они с Геннадием продолжали встречаться и после той ночи, но, узнав, что она беременна, он стал от нее прятаться. Она звонила ему – мать или отец отвечали, что его нет. Она просила, чтобы он перезвонил, – он не перезванивал. От Жени она услышала, что семья Геннадия собирается в Америку и им не нужны осложнения.
Так бы они и уехали, если бы ее мать, а потом и отец, не узнали, что случилось. Мать звали Тамарой, отца – Анатолием. Отец, хотя она боялась его гнева панически, не сказал слова в укор, а, похлопав рукой по колену, – во время страшного разговора они сидели рядом, – сказал негромко:
– Ты не волнуйся, Викуша, я с тобой.
По службе он, капитан ГУВД, видел разное и понимал, что случившееся с его дочкой еще не самое страшное. Напротив, оно сулило интересную перспективу.
– Он просто испугался, Викуша, – сказал он, привлекая ее к себе. – Это с юношами бывает.
И она прильнула к нему с благодарным облегчением, как хотелось бы прильнуть к тому, кто теперь бегал от нее, как от прокаженной. Тем же вечером отец привез ее в служебном луноходе к дому на Пастера, где жил Геннадий. Прямо напротив библиотеки. Ждали они его часа полтора. Отец, включив лампочку в потолке салона, разложил на руле газету, то читая, то поглядывая на улицу. Закончив статью, хрустел страницами в поисках новой. Когда Гена появился, отец погудел, привлекая его внимание, и махнул в опущенное окошко – подойди. Она сидела ни жива ни мертва, боясь повернуть голову в сторону любовника. Гена подошел, а отец открыл дверцу, опустил ногу на тротуар и закурил.
– Ну что, Генаша, поздравляю, папашей будешь!
Тот молчал.
– Ты вроде как не рад?
– Пусть сделает аборт, я заплачу, – выдавил тот.
– Аборт я сделаю собственноручно, но не ей, а тебе, – отец сложил руки на груди, при этом китель на его плечах чуть не затрещал. – Так что, сынок, вы распишетесь, она родит, и поедете вместе. Америка страна хорошая, я бы и сам туда уехал, да здесь работы много. Так что поставь в известность родителей.
– А если нет?
– Тогда будете жить на родине и платить алименты.
Высокий и стройный Геннадий рядом с ее отцом оказался нескладным мальчишкой. А отец был из породы питбулей – возьмет кусок арматуры, натужится, побагровеет и свернет в узел. В кривой, но все равно узел. И Гена, бросив испуганный – она видела это – взгляд на ее защитника, сказал:
– Ладно, я передам.
– Ну вот и хорошо, сынок, – похвалил тот. – Телефон ты наш знаешь, пусть мама позвонит. Тамара моя обо всем с ней договорится. Роспись, свадьба и все такое. Только не тяни.
В предотъездные месяцы Вика словно одеревенела и оглохла, не вполне понимая, о чем говорили с ней или между собой родители. Они часто повторяли тогда, что в этой стране жить стало невозможно и будет только хуже. Родители Геннадия – очень пожилые по сравнению с ее – приняли ее на удивление хорошо, особенно Мария Ефимовна. Может быть, смирились с судьбой, а может быть, захотели получить от нее, оказавшейся тихой и ласковой, то, чего не получили от сына. Поступив в институт связи, а по окончании его – в ателье «Рембыттехника», тот дома бывал редко, и что делал, где и с кем, для них было тайной. Он их в свою жизнь не пускал скорее всего из-за большой разницы в возрасте и стеснения перед товарищами. Казалось, что жена, в смысле – Вика, если не вернет его, то хоть приблизит немного.
На вокзале Мария Ефимовна обняла Тамару и несколько секунд не отпускала, словно хотела закрепить многократно сказанное о том, что ее девочке и внуку или внучке будет хорошо с ними. Геннадий курил в тамбуре у двери. Вика с букетом совершенно бесполезных цветов стояла рядом, на перроне, готовая ступить в вагон, как только он тронется. Лицо Евгения Семеновича серело за пыльным окном купе. Время от времени он помахивал им рукой, прощаясь издалека. Здоровья даже говорить с этими людьми у него не было.
Тесть, хлопнув Геннадия по плечу, дал последний наказ: «Береги жену. Если что, с тебя спрошу, ты меня знаешь». И смотрел потом на женские объятия со скептической ухмылкой.
Оставшиеся в Одессе родители были уверены, что дочь, как только встанет на ноги, вытащит их за собой. Все это было многократно обговорено на семейных советах, но вышло иначе. Тревога телефонных переговоров ее первых американских лет – о жилье, о Маше, об успехах Геннадия, начинавшего свой бизнес, – сменилась тревогой о новой работе отца. Из ГУВД тот перешел в частную компанию по обеспечению безопасности.
«Большую ответственность взял на себя, – вздыхала мать на другом конце земли. – Не знаю, что будет, Викуша. Скучаю по тебе так, что не передать, а все же рада, что ты там. Беспредел у нас просто жуткий».
Потом родители переехали в просторную двухкомнатную квартиру в Аркадии – с балкона над кронами деревьев видно море. Отец купил внедорожник «Мицубиши». В голосе матери появилась уверенность, а в лексиконе – новые слова. Когда Киев заполыхал оранжевыми флагами, мать ей сказала с нескрываемой досадой: «Ну к какому-то консесусу эти козлы могут прийти или нет?» Новое русское слово неловко втиснулось в сознание и, побродив среди залежей неиспользованной университетской лексики, обернулось старым взаимопониманием.
Когда отец приехал в свою первую командировку в Нью-Йорк, Вика встретить его в Кеннеди, к своей большой досаде, не смогла. Геннадий не хотел оставлять магазин, а она сама не водила. Приехала уже в гостиницу на 52-й стрит. Отец встретил ее в фойе и она, привыкшая видеть его в форме, едва преодолевая стеснение, прижалась к нарядному светлому костюму в полоску – в Америке люди с положением одевались не так броско.
– А внучка-то где?
– Ее сильно укачивает в машине, папа, она у Марии Ефимовны осталась. Поедем к ним, они обед приготовили.
Пожимая Геннадию руку, гость заметил добродушно:
– А ты раздобрел, Генаша, на американских харчах-то!
– На родине, я смотрю, тоже не голодают, – ответил в тон.
– Кто как, кто как, – философски заметил тесть.
В приземистой гостиной субсидируемой квартиры в Форт-Ли, опрокинув несколько рюмок «Абсолюта», визитер рассказывал настороженно слушавшим его свойственникам: «Фирма наша обеспечивает безопасность. Но реально работа многопрофильная. Включает физохрану клиента и его родных, мониторинг объектов недвижимости и бизнеса, просчет риска выхода на новые рынки, взыскание задолженностей. Главное в нашем деле – контакты. Викуша, подай рыбку, мама такую еще укропчиком взбрызгивает для аромата. Но, как говорится, нас много на каждом километре. Сейчас проведу переговоры в Нью-Йорке. В следующем году двинем на Майами. Много потенциальной клиентуры, никто не хочет работать с любителями».
Бог мой, в каком диком сне могло присниться тем измученным сборами и перепуганным невнятным будущим иммигрантам, стоявшим на перроне Одесского вокзала, что провожавший их простой советский милиционер будет оперировать такими словами, как Нью-Йорк и Майами, или просчитывать риск выхода на новые рынки?!
Когда хозяева вышли на кухню, а Геннадий – на балкон, покурить, отец достал из внутреннего кармана пиджака конверт, дал Вике.
– Это – тебе лично, дочка. От нас с мамой.
В ванной комнате она раскрыла конверт, обнаружив тонкую пачку еще не бывших в обращении сотенных купюр и в пакетике из вощеной бумаги – крестик с цепочкой. Крест был бабушкин – медный, с сине-белым эмалевым рисунком. Она достала его, положила на ладонь, прижала к губам, зажмурилась. Старое, родное хлынуло в нее вибрирующей волной, наполнило до краев. Когда волнение отпустило, положила конверт в карман брюк и пошла на кухню помогать Марии Ефимовне.
Через несколько дней, когда они прощались в аэропорту, а Геннадий оставался в машине, отец сообщил, что они с матерью хотели бы купить на ее имя кондо с двумя спальнями где-нибудь на Брайтоне и наезжать на несколько месяцев, может быть, даже на полгода. Зима в Одессе, особенно февраль-март – она знает – муторное время. А на лето – назад. У них теперь участок за Дачей Ковалевского, скоро начнут строительство. И Машеньке там будет хорошо: воздух, море, овощи и фрукты – все свое, органическое.
И вот Тамара приезжает на следующей неделе. Первым делом, говорит, хочет посмотреть Брайтон. Она много о нем слышала, и Вика приехала сюда, чтобы знать, что показывать. Здесь неплохо, конечно. Океан, пляж, магазины, концертный зал и русский язык, куда ни ступи. Для родителей это все же удобство. Вика рада, что они снова будут вместе. За годы жизни в Америке у нее не появилось ни одной подруги. Если бы не Маша и телефонные разговоры с домом, свихнулась бы. Муж и жена – одна сатана, – поговорка, оказавшаяся неприменимой к ним с Геннадием. Он приходил, пользовался ей, как пользуются тем же, скажем, холодильником, хлопал дверцей и уходил. Их редкие выходы в рестораны на деловые встречи, где Геннадию приличествовало появляться с законной женой, были мучительны для нее. Он даже не скрывал интереса к окружавшим их женщинам, словно ее не было рядом. И вот он ушел, как всегда не попрощавшись, а она осталась со своей жизнью, еще, по большому счету, не начатой. А ей только тридцать три, и мысль о том, что в этом возрасте она еще встретит человека серьезного и надежного, приятна ей.
Иногда ее посещает шальное желание – вернуться в Одессу, найти свою старую знакомую Женю и узнать, кто был с ней, кроме Геннадия, в ту далекую летнюю ночь. И даже как-то невзначай встретиться с тем кудрявым и босоногим мальчишкой, предложившим ей кофе. Посмотреть, каким он стал, спросить, как живет, с кем. Но сколько таких ночей было у Жени? Чего бы ей хранить в памяти именно ту? Guess! С другой стороны, говорят же – к прошлому возврата нет, в одну реку дважды не войти. Столько еще нового ждет впереди! Да, ей не повезло с первого раза, ну что ж, повезет во второй. Живут же люди вместе всю жизнь – и счастливы. Как ее родители, например, или как, может быть, вот эта пожилая пара на велосипедах. Худощавая женщина в узеньких, как растянутая восьмерка, солнцезащитных очках и мужчина в стильной соломенной шляпе с узкими полями, вид которой вызывает у нее невольную улыбку. Маша, мгновенно отреагировав на улыбку матери, тут же смотрит в направлении велосипедистов и неуверенно машет им ручкой. Мужчина с женщиной, улыбаясь, машут ей в ответ и проезжают дальше, оставляя в воздухе легкий механический зуд велосипедных шестеренок.
Август 2010 – февраль 2011ДЖИНДАЛ БЭЛЛ
Март в Бруклине. Солнце просто дуреет. Остатки снега чернеют и съеживаются. Деревья покрываются легкой зеленой сыпью. С дикими воплями носятся над заливом Шипсхед-Бэй чайки. «Новое русское слово» сообщает: в ресторане «Григорий», что на Кони-Айленд авеню, пьяные хулиганы начали метать с балкона в зал посуду и столовые приборы. К счастью, пострадала только одна женщина – бабушка виновницы торжества. Бедолага получила перелом ключицы от удара кувшином, в котором была кока-кола со льдом. Могло быть и хуже. Хулиганов выдворили, пострадавшие отказались вызывать полицию. Но почему же?! При такой травме можно легко рассчитаться со всеми долгами и еще купить квартиру в Майами-Бич!
Проворный репортер, он же по совместительству ресторанный критик, Д. Рукомойцев выяснил и сообщил: никаких хулиганов не было! Ответственность за инцидент целиком лежит на супруге некоего Марка Дубецкого – бизнесмена, входящего в совет директоров международной торговой фирмы с офисами в Бруклине и в Одессе. Чем они торгуют? Всем, что продается! От мочевины до халвы. По работе Марку приходится до полугода проводить на Украине, но его отсутствие компенсируется доходами, на которые супруга жаловаться не может. О любимом постоянно напоминают как минимум десять каратов в различных изделиях, «Лексус CS10» и кондо в Бейридже. Что до всех этих «армани», «гермесов» и «маноло блаников», то это, как говорится, мелкие брызги.
Но как долго молодая и привлекательная женщина может быть одна? Да, вот эта – блондинка в солнцезащитных очках «Гуччи», с холеными руками на обтянутом красной кожей руле. Серебристый «лексус» режет густой, как топленое масло, воздух, и от этого масла моя героиня слабеет. Остановившись на красный свет, она сканирует движущийся мимо нее поток лиц. Совсем забыл – ее зовут Таня. Сколько томной нежности в этом имени, вы чувствуете?
Встреча, к которой она так стремится, не зная даже, кем будет этот встреченный, произойдет не на улице. Нью-Йорк – это вам не Одесса. Даже Бруклин – это вам не Одесса. Тут на улице не знакомятся. Но для этого может сгодиться ювелирный отдел универмага «Барни». Рассматривая кольцо из миланского бутика «Анаконда», известного своей ретро-огранкой, она замечает:
– Какое странное свечение у этих камней.
– Меньшее количество граней снимает типичную для современной огранки искристость, – объясняет продавщица. – Свет камня мягче и теплее.
– Оправа тяжеловата, нет?
– У вас потрясающие руки, – говорит продавщица. – На них любое изделие будет выглядеть отлично. Вы знаете, что вы можете зарабатывать своими руками?
– Что вы имеете в виду?!
– Как модель. Вы вообще можете зарабатывать как модель, но вы знаете, что есть модели, у которых снимают только руки. Или ноги. Обычно это связано. У людей с красивыми руками – красивые ноги. Им неплохо платят.
И вот тут это случается. Сперва она слышит голос с немного насмешливой, но вполне доброжелательной интонацией, и лишь после этого до нее доходит смысл сказанного:
– Обычно женщины, приобретающие «Анаконду», не нуждаются в дополнительном заработке.
Она поворачивает голову – он высокий, худощавый, широкоплечий, черноволосый, в подчеркивающей его смуглость белоснежной рубашке с расстегнутым воротом. И с ослепительной улыбкой.
– У вас действительно потрясающие руки, – как бы извиняясь говорит он и достает черный с тонкой металлической пластинкой «Эрменеджильдо Зенья» бумажник. Вынув из него визитку, протягивает ей.
– Моя хорошая приятельница – владелица модельного агентства. Она специализируется именно на руках. Работает с ведущими ювелирными и часовыми компаниями. Позвоните ей. Я уверен, что она будет рада с вами познакомиться.
– А вы… фотограф?
– Нет, я – тоже ювелир. И я был бы счастлив показать свои изделия на ваших руках.
Он берет ее правую руку, как берут ткань: кладут на ладонь левой и проводят по ней пальцами правой. Руки у него легкие и уверенные.
– Если вы не торопитесь, я мог бы пригласить вас на чашку кофе.
За столом он рассказывает о себе так легко и так подробно, как если бы они были старыми знакомыми. Родился в Мадрасе. Шум, вонь, толпы, вам бы там не понравилось. Вы знаете, что у нас делают с трупами? Кладут на специальную плиту и сжигают. Прямо при родных. Когда сжигали мою бабку, у нее поднялась нога.
– Так и горела с поднятой?
– Нет, подошел служащий с кочергой и опустил.
– Может быть, сжигать действительно лучше. А нервные могут и за дверью подождать. Мой отец умер в январе, мороз стоял страшный, и земля была твердой как камень. Чтобы вырыть могилу, запросили какую-то невероятную для нас сумму. Мать ходила по двору и собирала у соседей на похороны. Мне потом стыдно было на них смотреть. А могильщики просто положили на землю автомобильные покрышки и подожгли их. Ночь они горели, а к утру уже можно было копать. Взяли за знание технологии, можно сказать. А вы где учились?
– Окончил арт-колледж в Лондоне. Учился скульптуре, а увлекся ювелирным дизайном. Потом переехал сюда, работал в мастерской Джеффа Купера.
– У меня есть его кольцо!
– Какое?
– Двухкаратник в центре матового платинового каста и два третькаратника по бокам от него.
– Почти квадратный обруч ближе к камням и закругляющийся под пальцем? Я делал для него каст.
– Потрясающе! Я обожаю это кольцо!
Через день они ужинают в «Ривер-кафе» с викторианскими букетиками, лампочками, зеркалами и видом на меркнущий за рекой Манхэттен. Выпив для смелости чуть больше, чем позволяют нормы приличий, она приглашает его к себе: сгорел забор, гори и хата – сколько можно быть одной? Еще через неделю она зовет его в развеселый «Григорий».
– Это надо видеть! – сообщает она. – Лас-Вегас на Кони-Айленде!
Оркестр в дыму и ногастые танцовщицы в перьях еще не оставили равнодушным ни одного американца. В том числе и индийского происхождения. Снова забыл сказать: его зовут Нихил Джиндал. После «Ривер-кафе», точнее после двух бутылок шасаньи-монтраше, она, с трудом двигаясь на высоких каблуках по исторической брусчатке (у нас в Америке много исторического), обернулась к нему – он расплачивался с подогнавшим машину валетом – и позвала: «Эй, Нихил, а ну, хиляй сюда!» – и захохотала, да так звонко, как не смеялась уже лет сто, потому что ее Марик был не тем человеком, с которым можно посмеяться. И сама удивилась, покачиваясь на теплом ветерке: «А чего это я? Неужели хорошо мне?»
В «Григории» они устроились на балконе. Под ними шумело семейное торжество с корзинами лилий, черными и белыми надувными шарами (символизирующими, соответственно, черное мужское и белое женское начала) и поздравлениями в микрофон типа: «Бабушка Мила и дедушка Сеня дарят внучке Джессике на ее первый день рождения эту красивую песню». Бог мой, откуда у уроженцев Гомеля или, скажем, Кишинева, такая страсть к имени Джессика? Или, например, Саманта? Я вам отвечу – из Гомеля. А также из Кишинева. Оркестр играет «Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам». Русско-американская экзотика прикрывает еврейскую ассимиляцию. Кое-кого это беспокоит, но не нас с вами. Звучат рифмованные поздравления, неизбежные, как конец света: «В этот праздничный денек мы зашли на вечерок, чтобы нашей Джессике пожелать расти большой, радовать родителей и домой не приводить никаких вредителей!»
Хохот и аплодисменты. Как говорится, не в бровь, а в глаз! Автор счастлив.
Сияющие бриллиантами и маникюром нежные пальцы касаются смуглой руки дизайнера. В двух милях от этого стола их ждет просторная постель с видом на мост Верразано. Это нечто, как говорили в моем городе. Я имею в виду мост. Прогнувшиеся в черном небе гигантские бирюзовые дуги, под которыми движется, как мерцающая лава, поток стоп-сигналов. Любовник он тоже потрясающий. Лежа обессиленная на самом краю сна, она спрашивает его, где он так научился, и он, многозначительно подняв указательный палец, отвечает: «Чин-чи!» – и улыбается. Она не успевает спросить, что это значит, соскальзывая в блаженное небытие.
«Как много открывает улыбка в человеке! – думает Таня, лежа утром в опустевшей постели. – Она… как бы это поточней выразить, освобождает, что ли. Я становлюсь какой-то беззаботной с ним. Мне как бы ничего не надо от него. Только он сам мне и нужен. Нихил. Ник. Коля».
Как переиначить его фамилию – Джиндал, – она еще не решила, но что-нибудь придумает. Она это так не оставит.
Устроив голову на его плече, она любит водить рукой по легко намеченному рельефу мышц, вспоминая забытые названия: дельтовидная, большая грудная, передняя зубчатая, прямая живота. Давно-давно она училась в медицинском училище. Как-то она вышла из него на солнечную, в прозрачных акациях Пушкинскую и увидела стоявший у тротуара темно-вишневый «ниссан». Человек со скрещенными на груди руками подпирал машину, глядя на нее с косоватой улыбкой пренебрежения ко всему на свете, а она подумала: все, вот он и приехал.
– Покатаемся? – спросил Марик.
– Покатаемся, – сказала она, прекрасно зная, что будет дальше.
Он отвез ее в обувной и предложил выбрать, что она хочет. Побродив вдоль полок, она выбрала туфельки из розовой замши, на низкой стопочке, с по-детски круглыми носиками и таким же детским названием – «Миу Миу».
– Принесите мне 37-й с половиной, пожалуйста.
Уже скептически отреагировавшая на ее кеды продавщица неторопливо ушла в подсобку, принесла коробку и спросила, зная, что получит отрицательный ответ:
– Вам помочь?
– Помогите, – распорядилась она, легко вступая в долгожданную роль.
Та послушно встала на колено, расшнуровала кеды и, осторожно взяв ее за чуть влажную пятку, помогла надеть «Миу Миу».
– По-моему, очень хорошо, – выдавила. – Вам нравится?
– Да, неплохо.
О, это волшебное ощущение легкости и прилаженности дорогой обуви к ноге, моментально возникающего между ними родства! Она походила перед зеркалом у стены, разулась, снова пошла босиком вдоль полок. Брала одну пару, другую, прикладывала кожу к щеке, вдыхала запах. Остановилась наконец на дивных белых, чешуйчатых, остроносых «Хьюго Босс» с как бы таким полированным, как бы деревянным таким каблуком сантиметров в пять, и бросила вопросительный взгляд на новоявленного спонсора. Тот стоял у входа, привалившись к стене, привычно сложив руки на груди, отчего пиджак чуть не трещал на плечах, ритмично перемалывал тяжелой челюстью резинку. Сказал коротко:
– Возьми обе, че за проблема?
И она взяла – как плату за неизбежное, а неизбежное приняв как плату за вход в другую жизнь. Она все про него уже знала, в том числе и про то, что он намеревается сваливать.
Ведущий в бабочке объявляет: «А сейчас мы все попросим выйти на сцену молодых родителей маленькой Джессики – Алину и Марка! А дорогим гостям я предложу наполнить бокалы, чтобы выпить за их неувядающую любовь!»
– Лёня, передайте водку на этот край стола! Я не понял: как это кончилась?! Вы в Америке, здесь ничего не может кончиться, главное – вовремя заказывать.
Таня видит пересекающих танцплощадку плотного мужчину и такую же плотную женщину в серебряном платье, туго перетянутом в талии широким черным поясом. Что-то знакомое видится ей в корявой походке молодого отца, в небольшой бритой голове, втянутой в крутые борцовские плечи. Вид с балкона искажает пропорции, мешает узнаванию. Марик поднимается на сцену, берет у ведущего микрофон, поворачивается к залу. Сердце у нее останавливается. Это не просто Марик. Это ее муж Марик.
Маза! Фаза!
«Большое спасибо всем, – хрипловато говорит он и прокашливается в кулак. – Кто пришел поздравить нас с Алиной и Джессикой!»
Волна бешенства накрывает и оглушает ее. Первое, что вылетает с балкона в сторону предателя и его шалавы – бутылка Opus One, за которой следуют: початый стейк без тарелки, тарелка, нож, еще один нож, полбутылки минеральной воды «Сан-Пеллегрино» и еще один стейк в тарелке, с не тронутым фуа-гра в смородинном соусе. Когда на столе не остается ничего, кроме бесполезных из-за незначительности веса вилок и бокалов, она выхватывает у остолбеневшего официанта кувшин с кока-колой и отправляет его по тому же воздушному маршруту.
«Пад-донок!» – первое и последнее членораздельное слово, которое ей удается выкрикнуть, перед тем как ее выводят из этого во всех отношениях благопристойного заведения.
Обманутая проводит бессонные сутки на стуле в прихожей своей квартиры с бейсбольной битой на коленях. Она приобрела ее специально для встречи мужа, если только тот явится с объяснениями. Продавец предлагал начать с алюминиевой, но она предпочла деревянную. Как сказал один известный персонаж, русский человек во всем идет до последних столпов – если бить, то до состояния инвалидности. Сигарета сгорает за сигаретой, но звук ключа, входящего в механизм замка мягко, как нож входит в сердце, так и не раздается.
Таня ставит биту в шкаф и нанимает адвоката, у которого уже есть клиенты из числа жен работающих в СНГ бизнесменов. Она узнала о нем по русскому радио «Дэвидзон», поэтому все, что ей надо, – это набрать случайно завалившийся за подкладку памяти номер.
– Послушайте, – говорит юрист с сочувственной улыбкой, – девять из десяти заводят там вторую семью, для вас это новость? Я никому не рекомендую разводиться.
– Почему?
– Ну, потому что всегда лучше распоряжаться полным доходом, а не алиментами с той верхушки айсберга, которую ваш супруг показывает налоговому ведомству.
Мама моя родная, откуда он знает про верхушку айсберга? То, что он не читал Хемингуэя, это, как говорили у нас в Одессе, – рупь за сто. Скорей всего, слышал в машине по русскому радио, когда ехал на работу. В передаче того самого Рукомойцева. Да, на радио он тоже подрабатывает. Как говорится, наш пострел везде поспел!
А этот адвокат всегда проверяет, вовремя ли они дают его рекламу. «Развод – это новое начало!» Хорошее или плохое – бабушка надвое сказала, но клиент должен сохранять оптимизм как можно дольше. В этом – гарантия платежа.
– Что же делать? – спрашивает Таня.
– Прежде всего, надо реалистично оценить свои возможности. Обычно мужчина хочет остаться либо с той, которая моложе, либо с той, которая живет в более привлекательной для него стране. Вы – в Америке, это уже плюс. Что до возраста… Она моложе вас?
– Какая разница? Она же тоже в Америке!
– Это верно, – адвокат чешет затылок. – С таким я еще не сталкивался. Две жены на один Бруклин… Таки многовато.
Трудно даже сказать, чем мы обязаны неординарности сложившегося положения: тупости Марика или его наглости. Возможно, и тому и другому. Оба качества часто встречаются в характере преуспевающих бизнесменов и, до известной степени, объясняют их успех.
– При этом мы еще не знаем, с кем ваш супруг жил в Одессе и что из этого вышло, – добавляет юрист. – Кстати, у нас за многоженство могут посадить.
– Кто бы возражал! Так каким будет наш следующий шаг?
– А чего вы хотите?
Ее брови удивленно приподнимаются.
– Я имею в виду – мужа или деньги? – уточняет юрист.
– Какого мужа я могу хотеть, если у него там уже ребенок?
– У вас нет общих детей?
Она качает головой.
– А сколько вы были женаты?
– Видите ли, Юрий, тут дело не в том, сколько мы были женаты, просто я… Не знаю, должна ли я это говорить вам…
– Чем больше я буду знать о ваших отношениях, тем легче мне будет строить ваше дело. Не стесняйтесь, отнеситесь ко мне как к лечащему врачу.
– Если коротко, то со временем я перестала быть женщиной его типа. Образно говоря, мы оказались в разных весовых категориях. Придем, например, в магазин, продавцы нас узнают, здороваются, а он им: «Ну, что у вас новенького на мою вешалку?» Представляете?
– Кгм, по-моему, вы в прекрасной форме.
– Спасибо, доктор. Не вы один такого мнения, но как-то я перестала его возбуждать. А он меня, честно говоря. Он всегда был крепкого сложения, а с годами просто зарос мясом. Знаете, что происходит с бывшими спортсменами? Потом вот еще – каждый раз, когда мы ездили в Майами, у нас там квартира, я обращала внимание, как он смотрит на латиноамериканок на пляже. Он просто не мог оторваться от них. У нас в Одессе про таких говорили, что они могут работать на волнорезе.
– Не понял.
– Ну, в смысле отбивать задом волны. Для этого нужен большой зад. Вы вообще знаете, зачем строится волнорез?
– У вас, одесситов, очень специфический юмор, – замечает юрист.
– А вы сами откуда?
– Я из Винницы.
– Как говорится, nobody’s perfect. Но вас же, наверное, не за это ценят?
– Конечно, – голос его становится суше, улыбка сходит с лица. – Давайте теперь возьмем с вами чистый лист бумаги и попробуем составить список недвижимости, имущества и счетов, которые вы хотели бы разделить со своим супругом. Итак, у вас есть квартира в Бруклине и еще одна в…
– Я уже составила такой список, – говорит она, раскрывая сумку.
Через час Татьяна выходит из офиса. Несмотря на возбуждение, она не теряет способности видеть себя со стороны: изящная блондинка в легком коротком плаще от «Диора» садится в великолепный кабриолет. Убийственной формы стилета «Джимми Чу» придавливает педаль тормоза, указательный палец – кнопку зажигания. 288 лошадей тут же дают тихим урчанием знать, что проснулись и ждут ее команды. Приборная доска подмаргивает ей снопом огоньков. Она достает из сумки косметичку, смотрит на себя изучающе, припудривает порозовевшие щеки, затем, достав помаду, поправляет контур губ. Снова смотрит в зеркало. Прячет косметичку. Можно ехать, но она не едет. Достав мобильник и набрав номер, ждет. В голове ее возникает праздничная песенка, в текст которой она внесла на днях небольшую поправку:
Jindal bell, Jindal bell,
Jindal all the way.
Oh, what fun it is to ride
In a one horse open sleigh!
– Джиндал бэлл, Джиндал бэлл, – тихонько напевает она, ощущая, как замирает сердце в ожидании знакомого голоса.
– Ту-у, – звучит в трубке. – Ту-у.
Она ждет. Нет, она не волнуется. Она знает, что ее любимый сейчас сидит на высоком табурете за рабочим столом, в неизменной белоснежной рубашке с расстегнутым воротом, с крохотным сварочным аппаратом в одной руке и тонким пинцетом в другой. Он сосредоточенно смотрит в укрепленное над столом увеличительное стекло, под которым подрагивает от страшного жара миниатюрная конструкция из платины, и ждет, когда включится автоответчик. Она знает это. Это уже проверено.
– Ту-у, – звучит в трубке. – Ту-у.
2010
ПОЛЕТ ИНДЮКА
Начну с недавнего сообщения в одной из последних, я имею в виду – уцелевших, русских газет Нью-Йорка:
«Лонг-айлендская полиция арестовала 20-летнего Дэвида Терца, сознавшегося в том, что это он на дороге возле Лейк-Ронконкомы бросил замороженного индюка во встречную машину. Индюк, пробив ветровое стекло, попал в голову сидевшей за рулем 56-летней женщины. Пострадавшая находится в коматозном состоянии в университетской больнице Стоуни-Брук. Она поступила туда с переломом челюсти, выбитым глазом и мозговым кровотечением. Операция длилась семь часов. Врачи оценивают состояние пострадавшей как критическое.
Исход инцидента мог быть еще более тяжелым, но рядом с женщиной находился спутник, который успел перехватить руль и надавить на педаль тормоза.
Терца арестовали благодаря тому, что камера видеонаблюдения, установленная в супермаркете “Вальдбаумс”, засняла группу молодых людей, которые среди прочих продуктов приобрели мороженого индюка. При покупке была использована украденная кредитная карточка. Она пропала вместе с другими вещами из машины, запаркованной на стоянке у кинотеатра “Айленд 16” в Хэмпстеде за день до инцидента».
Пострадавшая – Регина Антрепренер. Время проявило к ней просто какую-то патологическую неумолимость, поэтому на людях она постоянно появляется в шляпках и больших солнцезащитных очках. У нее миллион шляпок и миллион очков. Меняя их, она не только скрывает осыпающийся фасад, но и создает видимость артистической натуры. Регина возит в Америку звезд российской эстрады. Это нервная работа, потому что звезды капризны. Им не нравятся постоянные попытки Регины сэкономить на них. Они хотят жить в «Уолдорф-Астории» на Парк-авеню, а Регина селит их в мотеле «Уиндбрэйкер» на южной оконечности Бруклина. Она считает, что российские артисты должны быть счастливы, что их привезли в Америку. А те считают, что сделали Америке большое одолжение своим появлением.
За этим пренебрежением к Америке стоит очевидный комплекс неполноценности. Самая большая звезда российской, как, впрочем, и любой другой этнической, эстрады знает, что ей не сыскать в Новом Свете даже сотой части той славы и, соответственно, денег, на которые может рассчитывать очередная посредственность из Бронкса. Почему? Да потому что аудитория предпочитает слушать бьющую из динамиков ахинею на родном языке. В связи с этим Филиппу Киркорову на этом рынке отведена роль второсортного клоуна. И не ему одному. Поэтому весь упор устроителей гастролей – на «наших». Тем не менее, по возвращении домой артист расскажет журналистам, что Америка лежала у его ног. И в газетах будут писать: «Снова в Чебоксарах после успешного турне по Америке!»
Ах, кто, скажите, лежал, а точнее сидел у этих звездных ног? Ответ читаем в статье популярной в русскоязычном Нью-Йорке журналистки Марины Потемкиной:
«В первом ряду партера сверкала бриллиантами и “ролексами” политическая надежда нашей общины с родными и близкими, уплатившая умопомрачительные 250 долларов за билет, чтобы только быть перед глазами аудитории до и после появления артистов. Последующие пять рядов занимал цвет русско-американской медицины, который является главным спонсором завсегдатаев первого ряда в надежде, что те расплатятся сторицей, как только их планы воплотятся в жизнь. Остаток зала был занят нашими уважаемыми пенсионерами, которые являются главными, чтобы не сказать единственными, гарантами жизненных благ всех своих кардиологов, гинекологов и кандидатов в депутаты. Если бы последние ряды не переживали свою естественную убыль, как бесконечно самодостаточны были бы мы в этой благословенной стране!
На вопрос, была ли в зале молодежь, интересующаяся культурой своей исторической родины, я уверенно отвечаю: была! Чем я вам не молодежь в свои тридцать пять лет?!»
О-о, какая язва желудка эта Потемкина! Представьте себе только реакцию на эту заметку! Но издатель Леон Циклоп хорошо знает, что в негодовании пострадавших – залог читательского интереса и коммерческого успеха.
– Леон, ты слишком много позволяешь своей подруге! – говорит очередная жертва, багровая от полученной порции потемкинского яда.
– Старичок, – Циклоп озабоченно склоняет набок узкую головку, и два огромных глаза за толстыми линзами его очков сливаются в один, совершенно устрашающих размеров. – Во-первых, она не моя подруга. Как ты знаешь, у меня есть жена, и мы с Ниночкой (это жена) в замечательных отношениях (сильный довод!). Во-вторых, я просто не знаю, о чем ты говоришь. Меня, – поросшие черным волосом пальцы с тяжелыми перстнями отрываются от стола и, развернувшись к хозяину, упираются в синий пиджак с золотыми пуговицами, – физически не хватает на то, чтобы читать каждую статью перед публикацией. Но я знаю, что если Марина что-то пишет, значит, у нее на руках материалы прокуратуры. А что, у тебя что-то случилось?
О, как он смакует эти «материалы прокуратуры на руках»! Этому трюку его научила сама Марина. Реакция у всех одинаковая:
– Слушай, что значит – у меня что-то случилось?! – посетитель сбавляет напор. – Все же под Богом ходим!
Но вернемся на дорогу возле городка Лейк-Ронконкома. Тихо меркнет серый октябрьский день. Серые газоны оторочены такими же серыми кустами. В окнах домов – мутный желтый свет. Рядом с Региной в машине сидит Бейдер Хоббит. Грузный мужчина с обвислыми щеками и грустными глазами бульдога владеет домом для престарелых в Бруклине. Правительство выделяет большие деньги на уход за стариками. У человека, который устраивается между правительством и потребителями его благ, нет оснований жаловаться на судьбу. Нужно только правильно подойти к людям, которые помогают получать государственные подряды. Бейдер сумел. Высоко оценившая этот факт Регина собралась с последними жизненными силами и вползла в его теплую постель. Я не знаю, что это было: чудо или черная магия, скорее второе.
Характер этой связи заставляет Регину переживать даже незначительные неудачи своего друга. Вот уже второй день она пилит его за то, что, поехав по делам в Лонг-Айленд, он оставил открытой машину, и какие-то мерзавцы утащили его портфель с бумажником.
– Как можно было уйти и не закрыть дверь! – снова и снова повторяет Регина. – Убей меня, я не знаю, о чем ты думал!
Регина даже не подозревает, что до попытки ее непреднамеренного убийства осталось меньше минуты. Преступник, заливаясь бессмысленным смехом от выкуренного джойнта, высунул руку с замороженным снарядом из окна задней двери машины и вращает им в воздухе. Его рука движется, как стрелка на часах судьбы: 37 секунд, 36, 35, 34…
– Я думал, что если не найду туалет, наделаю в штаны, – отвечает Бейдер, недавно перенесший операцию на простате. Про себя он добавляет: «Как же ты меня задолбала, старая короста! Как я ненавижу твой гадский русский акцент – биц ми, я дон-но вот ю синк эбаут! Синк эбаут, факинг бич!»
17 секунд, 16, 15…
– Лучше бы ты уже наделал в штаны! – не унимается факинг бич.
«Господи, – со смертной тоской думает Бейдер. – Как было бы хорошо заткнуть ей рот!»
5 секунд, 4, 3…
Мольба Бейдера так искренна, что просто не может остаться безответной.
Раздается сухой хлопок. Лобовое стекло покрывается снежной мозаикой, и краем глаза он замечает, как круглый (серо-голубой?) предмет ударяет его подругу в лицо, вминая нос, очки и выворачивая челюсть вбок и вверх с такой силой, что вся голова грозит оторваться от морщинистой, как гофрированная кишка противогаза, шеи.
Машина резко виляет, но Бейдер успевает схватить руль. После нескольких неудачных попыток он сбрасывает с педали газа неподвижную ногу Регины и давит на тормоз.
Машина замирает на обочине. Бейдер осматривает разрушения. В стекле перед ним зияет дыра диаметром с баскетбольный мяч. Регина, с отброшенной набок головой, наконец умолкла и не подает признаков жизни. В сероватосиреневом предмете на заднем сиденье он с изумлением опознает мороженого индюка. Опознание требует так много времени, поскольку птица прикрыта зеленой бархатной шляпкой с рюшами и желтой ленточкой, сорванной с жертвы. Бейдер ощущает, как сиденье под ним становится горячим.У Марины Потемкиной черная копна волос, пронзительные голубые глаза и фигура танцовщицы. Конечно, она могла бы найти себе более достойное применение, чем место репортера в иммигрантской газете. Но темперамент препятствует ей. Ее увлекают интриги. С другой стороны – что ей нужно? Туфли от «Маноло Бланика», джинсы от «Армани», белье «Ла Перла» – вот, пожалуй, и все. Остальное ей с удовольствием предоставят те, кто захочет аккуратно снять с нее вышеперечисленные товары. И поверьте мне, таких много! Может быть, я сам – один из них! Может быть, я даже… Черт, я отвлекаюсь!
Сейчас объектом журналистского интереса Марины Потемкиной является депутат легислатуры, бруклинский демократ Мандэл Гейбелс. Это кудрявый мужчина лет шестидесяти пяти, на добрые полголовы выше лилипута средних лет. Нехватку роста он восполняет резким голосом, быстро срывающимся на крик, когда ему нужно установить контакт с аудиторией больше трех человек.
У народного избранника непыльная и прибыльная работа. Но вокруг него, он это знает, как стая голодных волков, кружит банда проходимцев, готовых всеми правдами и неправдами отобрать у него кормушку. В связи с этим главные депутатские усилия Гейбелса направлены не на защиту интересов избирателей, а на сохранение места, где он может защищать их интересы. Для этого ему нужны добровольные пожертвования на избирательные кампании.
Среди самых щедрых жертвователей – владелец дома для престарелых Бейдер Хоббит. На первом этаже этого дома Гейбелс снимает депутатский офис. Он хочет быть рядом с наименее защищенными членами своей общины. Чуть что, они могут толкнуть дверь его кабинета своим костылем и сказать: «Эй, Гейбелс! Сегодня нам недоложили в манную кашу сливочного масла! Займись этим вопросом, а?»
И Гейбелс, покраснев от негодования, стукнет сердитым кулачком по столу и рявкнет: «Я сейчас разорву их!» Сыто икнув после возвращения с кухни, он доложит, что порядок наведен. Тем не менее он предложит законопроект, обязывающий поваров домов для престарелых пользоваться при раздаче масла не обычной столовой ложкой, а электронными весами. И он будет выбивать на это средства.
За офис Гейбелса платит легислатура. Или, как у нас принято говорить, налогоплательщики. Они платят чуть больше рыночной стоимости офиса, но это та мелочь, которой не стоит забивать голову избирателям, тем более часть платежа домовладелец, в смысле Хоббит, ежемесячно возвращает Гейбелсу в виде тоненькой пачки хрустящих купюр. Возможно, он даже думает, что съемщик возвращает эти деньги в кассу легислатуры. Но это уже его не касается. Раньше Бейдер этого не делал, но Регина сказала ему, что так будет лучше. Эта Регина знала, что она делает. Если в постели Хоббит еще мог поставить под сомнение ее женские достоинства, то в деловых качествах сомневаться не приходилось.
– Слушай меня, Бейдер, – сказала она, только проведя ревизию его владений. – У тебя на первом этаже есть зал, где твои старперы общаются друг с другом. Так вот, они могут общаться друг с другом в своих палатах. А в зале можно принимать тех русских, которым не повезло попасть в твое заведение на постоянное жительство.
– Зачем мне здесь русские? – не понял Бейдер.
– Затем, что у себя дома они чувствуют себя одиноко. Здесь они смогут получить завтрак, русскую газету, русскую телепрограмму, а главное – посетить доктора.
– Это все можно провести по медикейду, – сообразил Бейдер и тут же пошел к депутату Гейбелсу.
Тот закатал рукава и бросился на телефон.
Как только хоббитовское заведение начало устраивать бесплатные завтраки для русских стариков, депутат получил добровольные пожертвования от каждого сотрудника Бейдера Хоббита, начиная, конечно, с него самого. Этот пример был таким вдохновляющим, что к жертвователям тут же подключились владельцы и работники автобусной компании, возившей стариков на завтрак и обратно.
Как говорится, лиха беда начало. За бесплатными завтраками последовали бесплатные обеды и новые поступления на счет Гейбелса. Народ искренне любил своего депутата, и не напрасно – за завтраками и обедами последовали ужины.
Постоянные жильцы с ужасом смотрели на десанты, которые три раза на дню забрасывались в их тихую обитель. Из-под пола доносились звон посуды и буханье музыки. Группа старых ловеласов, надев чистые пижамы, ходила вниз, чтобы склеить свежих подруг. Самые смелые приводили новеньких в палаты. Это стало причиной нескольких скандалов со стороны реанимированных ревностью старых любовниц.Такой всплеск жизни был колоссальным социальным достижением! Демократическая партия, стоящая на страже интересов маленького человека, могла гордиться депутатом Мандэлом Гейбелсом. А тот докладывал легислатуре о тяжелом положении одиноких стариков и требовал новых субсидий на их обслуживание.
– Мы не можем ждать, когда пожилой человек найдет в себе силы и пойдет к врачу, – рубил он воздух своей твердой и сухой как палка ручкой. – У него нет этих сил. Мы тоже не можем прислать врача к каждому на дом. Но мы можем собрать и доставить стариков в центр, где они получат не только тарелку супа, но и всесторонний медицинский сервис.
Коллеги-депутаты согласно кивали и делали пометки карандашами в желтых блокнотах. Каждый из них хотел перенять полезный опыт.
В доме для престарелых Бейдера Хоббита кипела жизнь. Дав старикам легкий перекус, их выстраивали в шеренгу, лицевую часть которой осматривал стоматолог, а тыльную – проктолог. Это и был тот самый всесторонний медицинский сервис, о котором шла речь выше. Медики трудились, как каторжные, но не могли отказать старикам. Те заслужили доброго отношения страны, хотя всю жизнь прожили в другой, где регулярно ходили на демонстрации с лозунгами «Американский империализм – враг мира и прогресса!» Они, конечно, в этом виноваты не были. Им так велели. И их доктора, ходившие на те же самые демонстрации, прекрасно это понимали.
Теперь спросите меня: что возбудило интерес Марины Потемкиной к Мандэлу Гейбелсу? Разве она не знала о нем все то, что я только что изложил читателю? Поверьте мне, она знала больше, просто у нее не доходили до него руки. Причина охватившей ее ярости была в другом.
За несколько месяцев до описываемых мной событий симпатичный молодой человек Алекс Орловский из Южного Бруклина объявил о намерении избираться на место Гейбелса. Его привезли ребенком из Киева, он с отличием окончил бруклинскую школу, потом Хантер-колледж, потом юридический факультет университета криминального права Джон-Джея и открыл свой адвокатский офис. Как многие дети иммигрантов, Орловский объяснялся по-русски с карикатурным еврейским акцентом, зато прекрасно владел английским. В свои двадцать семь лет он не успел расстаться с юношеским идеализмом и хотел участвовать в управлении страной, не согласовав этот вопрос с теми, кто уже был вовлечен в этот процесс. Отразив очевидные достоинства кандидата, Марина сдала очерк ответственному секретарю и уехала на карибский остров Сент-Мартин с другим молодым юристом.
В то время как Потемкина купалась в лазурном океане, загорала нагишом и пила «дайкири», редактор расставил пропущенные ее эмоциональной рукой знаки препинания и отправил очерк в номер. Как назло, в тот момент, когда свежеотпечатанная полоса с портретом молодого кандидата повисла на стенде с готовыми страницами, в редакции появилась похожая на плодово-ягодный торт шляпка.
Она бесшумно приблизилась к стенду, ознакомилась с содержанием статьи и уплыла в офис Циклопа. Сев без приглашения в бархатное кресло перед его столом, она с прямотой истинно деловой женщины сказала:
– Лёня, ты что, охренел?
– Я не понял, Региночка, – Циклоп склонил голову набок и свел два выпуклых глаза в один.
– Объясни мне: зачем ты делаешь из молодых ничтожеств героев нашего времени?
– Региночка, ты не поверишь, – Циклоп развел руки в перстнях в стороны, как маленькие крылья, – но у нас в Америке – свобода печати!
– Лёня, – железным голосом сказала Регина. – У нас в Америке точно такая же свобода размещения рекламы.
Если эта статья пойдет, то реклама предстоящих гастролей Киркорова выйдет в другом издании. Если не ошибаюсь, это десять цветных страничных объявлений.
– Этот вопрос может быть рассмотрен, – сказал Циклоп, возвращая перстни на стол, – если рекламная компания Киркорова будет подкреплена рекламой депутата Мандела Гейбелса.
– Имеешь, – сказала шляпка и выплыла из кабинета.
– Моя девочка! – хлопнул в ладошки Гейбелс, когда Регина вручила ему с соответствующими объяснениями статью об оппоненте, так никогда и не попавшую в типографию. – Что я могу для тебя сделать?
– Мандэл, – сказала Регина. – Люди стареют, но людям нужен кусок хлеба.
Депутат понимающе кивнул.
– В России много старых артистов, а в Америке много их старых поклонников. Я хочу организовать им встречу.
– Но?
– Но пожилым людям нечем платить за билеты.
– В бюджете каждого дома для престарелых заложен расход на культурные мероприятия. По-моему, они платят сто долларов за выступление.
– Мандэл, за сто долларов никакой артист не станет пересекать океан.
– Сколько нужно артисту, чтобы пересечь океан?
– Если артиста оформить как психотерапевта, который в индивидуальном порядке обслужит каждого из сидящих в зале, так мы получим сумму, которая поможет ему пересечь океан, а нам – встретить и проводить его так, чтобы у всех осталась хорошая память о его визите.
– Да, но нам нужен психотерапевт, который примет на себя чек.
– Ты не поверишь, Мандэл, но моя дочь – психотерапевт, – успокоила депутата Регина.Когда загорелая и полная свежих сил Марина вернулась в редакцию, ее ждал удар такой силы, как если бы его нанесли шпалой. Вдобавок к сообщению о снятом очерке об Орловском она нашла статью неизвестного ей автора о Мандэле Гейбелсе. Она начиналась словами: «Небольшого роста, но ладно скроенный Мандэл посвятил свою жизнь отстаиванию интересов русскоязычной общины…»
– И для этого я приехала в Америку?! – спросила сама себя Марина и сама себе ответила: – Нет, я в Америку приехала не для этого!
Наутро Марина позвонила в офис Бейдера Хоббита и сообщила, что хочет взять у депутата интервью о нуждах малоимущих русских стариков. Секретарша попросила подождать и через минуту вернулась к трубке:
– Бейдер должен уехать на Лонг-Айленд. Он будет осматривать место для строительства нового центра для пожилых.
Марина спросила, как туда добраться, и получила детальную инструкцию.Увидев Марину, Бейдер Хоббит потерял привычную бдительность. Она возникла перед ним в обтягивающих черных джинсах, остроносых сапогах и черной кожаной куртке, хорошо подчеркивавшей все достоинства ее сложения. Она начала с комплимента по поводу выбора места, от которого всего пять минут ходьбы до океана, и заметила, что лет через сорок сама бы не отказалась поселиться здесь.
Он скромно поблагодарил ее, осматриваясь, где бы они могли переговорить.
– Здесь прохладно. Хотите, сядем в мою машину?
– С удовольствием.
Бейдер открыл заднюю дверцу, и журналистка легко скользнула на упругую мерседесовскую кожу. Бейдер осторожно устроился рядом. Колено Марины едва касалось его ноги. От запаха ее духов сердце стало биться редко и тяжело. Он бросил взгляд на нее и тут же отвел, встретившись со взглядом ее голубых глаз.
Бейдер начал с того, как он обходит палаты и говорит «доброй ночи» каждому клиенту, потому что встреча может быть последней. Потом он завел речь об одиночестве пожилых. Потом о невыполненном долге общества перед ними. Марина делала записи в блокноте. Когда он закончил, обронила: «Вы просто ангел». Глаза ее при этом стали еще больше и еще пронзительней.
Потом она спросила, сколько стариков он принимает ежедневно. Три смены по семьдесят пять человек. Как часто они встречаются с врачами-специалистами? Раз в неделю. Сколько специалистов? Он пересчитал, вышло шесть.
– Но до того, как попасть к вам, они посещали своих врачей и, я думаю… продолжают посещать их?
– Кто отпустит больного с медикейдом? – заметил Бейдер.
– Но их личные врачи знакомы с ними и с их жалобами годами, – заметила Марина.
– Эти тоже с ними познакомятся, – уклончиво ответил Бейдер.
– Вы не дублируете услуги?
– Что плохого в том, что больной имеет возможность узнать второе мнение?
– А если они не больны?
– Кто не болен в восемьдесят пять лет?
На такой довод контрдовода у журналистки не нашлось. Перевернув несколько листиков блокнота со ссылками на статистику, она тогда поинтересовалась, почему ни в одном другом округе штата нет такого количества стариков, прикрепленных к одному дому для престарелых, как в том округе, где расположен бизнес Бейдера.
– Мы много работали в этом направлении, – сказал Бейдер не без гордости.
– Вам помог в этом депутат Гейбелс?
– Он очень помог. Он искренне озабочен положением малоимущих.
– Как следует из материалов избирательной комиссии, в его политический комитет поступили пожертвования от вас, от каждого врача, сотрудничавшего с вашим заведением, и от каждого сотрудника вашего заведения. Это могло усилить его озабоченность?
– Мы помогаем тем, кто наиболее полезен нашей общине, – сказал Бейдер.
– Из бюджета избирательной кампании Манд ела Гейбелса следует, что его политическим консультантом является Регина Антрепренер. В ходе прошлой кампании она получила за свои консультации… – Марина снова перевернула листик в своем блокноте и, поводив пальцем по записям, нашла нужную цифру, – 46 тысяч долларов.
– Какое отношение я имею к Регине Антрепренер? – промямлил Бейдер.
– Вы меня спрашиваете, какое отношение вы имеете к женщине, которая ночует под крышей вашего дома?
Бейдер поднял взгляд и встретился со взглядом Марины Потемкиной. И то ли его очевидная насмешливость, то ли деланое изумление в тоне произвели на него совершенно непредвиденный эффект. Он ощутил, как сиденье под ним стало горячим. С беспомощным ужасом он смотрел, как его собеседница быстрыми короткими вдохами потянула носом воздух, затем брови ее удивленно поднялись, потом она посмотрела на сиденье, потом, распахнув дверцу, выскочила из машины. Бейдер с изумлением обнаружил, что репортерша, держась обеими руками за живот, хохочет. Сквозь ее смех и стоны он услышал:
– А когда это буду не я, а прокурор?
Бейдер выбрался из машины и, широко расставляя ноги в мокрых брюках, сделал к ней неуклюжий шаг.
– Послушайте, я должен вам объяснить!
– Не смейте подходить ко мне! – пряча блокнот в сумку, Марина уже направлялась к своей машине.
– Я должен объяснить вам, – ковылял за ней Бейдер. – Я перенес операцию.
– Надеюсь, она прошла успешно!
– Наоборот!
Так они дошли до стоявшей в дальнем углу парковки красной «мазды», где журналистка, обернувшись к Бейдеру, крикнула:
– Прекратите идти за мной, вы, старый идиот, вашу машину сейчас угонят!
Это было невозможно, потому что ключи от зажигания находились в руке у Бейдера. На всякий случай он раскрыл ладонь и посмотрел на них – они были на месте. Он, тем не менее, обернулся и увидел как из его «Мерседеса» выбрался худощавый паренек – белый, успел отметить он, – и, подхватив под мышку портфель, оставленный на переднем сиденье, бросился наутек.
Обернувшись снова к тому месту, где только что была Марина, он увидел, как красная «мазда» выезжает с парковки на трассу.Финальную часть этой истории я бы хотел подать в виде театральной шутки. Список действующих лиц выглядит так:
Белла Терц , утомленная ведением домашнего хозяйства дама сорока лет с серым лицом и множеством подбородков.
Майкл Терц, помощник менеджера отдела по ветеранским делам в городском пенсионном управлении. Невыразительный мужчина тридцати шести лет.
Невидимый телефонный собеседник, чья личность должна открыться зрителю неожиданно в самом конце истории.
Действие происходит в просторном доме на Лонг-Айленде. Гостиная обставлена итальянской мебелью белой полировки. Мягкая мебель обита розовой кожей. Над камином висит старинное длинноствольное ружье с красивым затвором.
Белла в спортивном костюме, который подчеркивает ее полноту. Она сидит на диване и курит. Рядом с ней газета с заголовком «Удар индюка». Это статья об их сыне Дэвиде.
Его арестовали вчера вечером. Майкл недавно вернулся. Он уже ослабил галстук, но еще не успел снять его. Оба выглядят подавленно.Б е л л а. В чем я провинилась перед Богом, ты можешь мне сказать? Что я сделала не так?
М а й к л. Откуда я знаю? (Пожимает плечами.) Меня сейчас интересует другое: как быть с адвокатом? Если тебе не подходит тот адвокат, которого нашел я, ты должна позвонить своему папе, и пусть он найдет кого-то лучше!
Б е л л а. Почему, стоит мне только упомянуть моего папу, как ты начинаешь злиться? У папы есть связи!
М а й к л. Чтобы найти хорошего адвоката, не нужны связи – нужны деньги!
Б е л л а (делая затяжку и выпуская в потолок струю табачного дыма). Мои родители мало тебе дали?
М а й к л. При чем здесь я, сейчас речь идет о Дэвиде!
Б е л л а. Ты боишься, что они любят его меньше тебя? (С усилием гасит сигарету о дно пепельницы.) Или они не заботятся о нем?
М а й к. В чем проявилась их забота? В том, что они начали водить восьмилетнего мальчика к психоаналитику?
Б е л л а (с возмущением). Ты же избивал его!
М а й к. О-о, не-е-ет! К большому сожалению, я так ни разу ему и не всыпал. Твоя мама всегда спасала любимого внука! Надо было уметь вызвать полицию в мой дом, после чего судья послал к психотерапевту меня, и тот полгода выяснял истоки моей агрессивности! Истоки моей агрессивности в том (звонко ударяет тыльной стороной одной ладони о раскрытую другую), что у меня нет моего дома!
Б е л л а. А кто тебе купил этот дом?
М а й к. Я помню, кто купил этот дом, но, когда его покупали, мне не сказали, что будут напоминать об этом каждый день моей жизни! (Повышая голос.) И очередное напоминание не снимает вопроса об адвокате!
Б е л л а. Если я скажу папе, что случилось, он получит инфаркт.
М а й к. Тогда давай свяжемся с тем адвокатом, которого предлагаю тебе я!
Б е л л а. А вдруг это плохой адвокат?
М а й к (нарочито спокойно). У любого адвоката бывают удачные дела и неудачные. Этого мне рекомендовали знающие люди.
Б е л л а. Что они знали, твои люди?
М а й к. Поверь мне, они знали большие неприятности.
Б е л л а (обхватывая руками голову и раскачиваясь из стороны в сторону). Если папа узнает, что я взяла адвоката без его совета, – это будет обида до конца дней.
М а й к (снова показывая, какой он терпеливый). Тогда тебе ничего не остается, как позвонить папе.
Б е л л а. У него будет инфаркт.
М а й к. Последний вариант – это позвонить маме. Она сообщит ему об этом в мягкой форме.
Б е л л а. Если мама узнает, она умрет!
М а й к. Твоя мама? Она еще нас переживет!
Б е л л а. Боже, за что ты ее так не любишь?
М а й к. Она меня любит! Они вообще меня за человека считают?! С первого дня нашей совместной жизни они хоть раз поинтересовались моим мнением? Я вообще что-то в этом доме решаю? (Раскинув руки и встряхивая ими.) Папа знает того, папа попросит этого, папа знает лучше! О-о, как бы я хотел разорвать этот порочный круг! Как я хочу иногда взять эту штуковину (делает шаг к камину и снимает со стены ружье) и сделать, как это сделал Хемингуэй!
Б е л л а. Кто это?
М а й к. Ты не знаешь!
Б е л л а. А что он сделал?
М а й к. Он выстрелил и попал.
Б е л л а. Это ружье не стреляет. Оно же декоративное.
М а й к (взяв ружье за ствол, как берут бейсбольную биту, он подходит к жене). Если ты сейчас не позвонишь своему папе, оно стрельнет.
Б е л л а (отталкивая от себя приклад). Ты же псих!
М а й к. Меня сделали психом!
Белла, глядя на него ненавидяще, берет телефонную трубку. Набрав номер, она подносит трубку к уху и ждет ответа. В зале слышны телефонные гудки. Один, два, три, четыре. Потом трубку на другом конце провода снимают, и раздается знакомый голос:
– Мандел Гейбелс слушает!
Зрители видят замерших Беллу и Майка. Свет меркнет. Занавес опускается.
2005ЧЕМОДАНЫ – ЗА БОРТ!
Митя и Паша появились на свет с двенадцатичасовым промежутком – один утром, второй – вечером. Случай был бы достоин описания в медицинской литературе, если бы мамаша у них была одна. Но общими у них были только знак Зодиака, да еще давняя дружба, основанная на таком сходстве характеров, что порой один взглядывал на жизнь другого как в зеркало. Оба были холосты, но время от времени у них появлялись сожительницы. С большим или меньшим успехом они помогали гасить позывы плоти, но не удовлетворяли все более, с годами, неосуществимую мечту о собственном ребенке. Оба, подчиняясь праисторическому инстинкту то ли воинов, то ли землепашцев, в их случае установить это было сложно, хотели наследника. Зачем – непонятно. Кроме фамилии и бродивших по книжным полкам тараканов наследовать у них было нечего. Сами книги после их переселения этажом выше, если вы понимаете, о чем я говорю, должны были быть увязаны в аккуратные пачки и сложены в подвале под красно-белым плакатиком «Перерабатывай!» А что еще с ними делать? Со дня на день вся эта макулатура отправится следом за фотопленкой и виниловыми пластинками.
Первую в своей жизни большую дату – столетие – друзья решили отметить в «Бальтазаре». В качестве подарка Паша приобрел другу двойной виниловый альбом Элтона Джона «Прощай, дорога из желтого кирпича». Он купил его за пятнадцать баксов в «Академии» на Ист 12-й, но тут была важна не цена, а ценность в контексте личного опыта – юношеских забегов с препятствиями от милиции и дружинников, охранявших чистоту советской культуры. Сколько стоил тогда такой двойник на тенистой аллейке приморского парка им. Т. Г. Шевченко, где собирались местные дискоболы? Рублей восемьдесят или что-то в этом роде. Что равнялось без малого месячной зарплате многих. Обложка у найденного в «Академии» альбома была как новая, хотя винил в тихих местах уже потрескивал. А что вы хотите от альбома, выпущенного три с лишним десятка лет назад! Вторым подарком был сюжет, родившийся совершенно неожиданно и обещавший хорошо прозвучать за праздничным ужином. Рассказ должен был не только повеселить слушателей, но и ответить на вопрос, почему Паша пришел один. Что до Мити, то он пригласил молодую редакторшу, работавшую с переводом его статьи для московского журнала по структурной лингвистике («Сравнительный анализ коллоквиализмов в творчестве Исаака Бабеля и Семена Юшкевича») – 23-летнюю Вику Светлову. Викулю. Фамилия необыкновенно шла ей. Светловолосая, с лучистыми глазами девочка из Барнаула окончила на родине филологическое отделение местного университета, приехала в Нью-Йорк по студенческой визе и хотела здесь остаться. Остаться она могла единственным способом.
– A-а ч-чем ты говоришь! – отмахивался Митя от Паши. – Что я буду с ней делать, мне понятно, но что она будет делать со мной? Скажем, еще через пять лет? А через десять?
– Пока она не получит гражданство, а на это уйдет как раз лет десять, решение этого вопроса будет ее заботой, – отвечал Паша. – А когда она его получит, тебя это уже волновать не будет. Я не прав?
– Конечно! – соглашался Митя. – Тогда меня уже будет волновать, как отбиться от ее претензий на квартиру.
У Мити была кооперативная квартира с одной спальней в роскошном доме довоенной постройки, с высокими потолками и окнами, выходящими на Проспект-парк – самый большой в Бруклине – с озерами, ажурными беседками, мостиками над подземными переходами и поэтическими аллеями. Он был спланирован тем же Калвером Во, что и Центральный парк на Манхэттене.
– Слушай, – многозначительно поднимал брови Паша, – телятина – дороже говядины!
– Кто спорит? – соглашался Митя, который, во время работы с Викулей не раз ловил себя на том, что не без волнения рассматривает силуэт груди под легкой блузкой с цветочным узором или нежный глянец розовых губ.
После работы он приглашал ее в кафе, где брал себе бокал белого бордо, а ей – чашку травяного чая с крем-брюле. Она ела с нескрываемым удовольствием, очень по-детски, а он потом долго ворочался в прохладных простынях, пытаясь использовать воспоминание о ее внешности или голосе с еще не изжитой русской интонацией в качестве сладкой снотворной микстуры. Но, как во всякой микстуре, за сладостью скрывалась горечь, а именно мысль о том, что его 23-летняя помощница совсем не должна ночи напролет править чужие рукописи, особенно в Нью-Йорке, который, как известно, никогда не спит.
Пока Митя неторопливо переводил время в обществе юной редакторши, в поле зрения его друга Паши возникла 25-летняя Рокси. За именем, уместным в фильме о дыбоволосых подростках 80-х, неожиданно открывалось поэтичное, как украинская мова, имя Роксолана. Рокси была из Ужгорода. Она тоже окончила университет, выиграла в лотерею гринкарту и прилетела в Америку в поисках той жизни, которую видела в кино – с лазурным океаном, белыми яхтами, сияющими на солнце стеклянными башнями, автомашинами, дискотеками, огнями и страстями, которые для ее тихого Ужгорода были так же нетипичны, как жизнь для Марса. В Нью-Йорке она нашла место диспечтера в компании по установке и эксплуатации систем электронной защиты. Компания, квартировавшая в промышленном квартале Флашинга, рекламировала свои услуги через бюро, где служил Паша. Он выделил Рокси из мутной офисной популяции, только переступив порог заказчиков. У нее были чудесные карие глаза, распущенные по плечам черные волосы и готовность улыбаться широко, не скрывая радости, а радость загоралась в ней поминутно, как электрическая гирлянда на рождественской елке. Он ждал возможности пригласить ее куда-то, а она эту возможность предоставила ему сама. Он набирал воду у автомата, а она, внезапно появившись возле него, спросила:
– Паша, вы же здесь так давно живете, у вас нет знакомого художника?
– Ты хочешь научиться рисовать?
– Да-а! Так у вас есть? Познако-омьте! Я хочу учиться!
У него были знакомые художники.
– Слушай, художники – опасные люди, – сказал он. – С девушек они берут только один вид платы.
– Ну и что?! – воскликнула она. – Если он отдает тебе самое ценное – свое мастерство, то ты тоже должна отдать ему что-то значительное, правильно я говорю?
– Может быть, – уклончиво ответил Паша, чувствуя оживление в брюках.
– Так познакомите?
– Что ты делаешь сегодня вечером?
– А мы идем прямо сегодня?! – просияла она.
По дороге в мастерскую Сени Черновицкого, жившего в артистическом Вильямсбурге, она не переставая рассказывала, что хочет учиться рисовать и играть на гитаре, но больше всего, больше-пребольше всего на свете, она хочет велосипед с ножным тормозом.
– Вы понимаете, как это? – спрашивала она. – Это как в старину! Ты поворачиваешь педали назад, и он тормозит. Это такой класс, вы себе не представляете!
Они шли от остановки сабвея к мастерской Черновицкого по многолюдной Бедфорд-авеню, и она не пропустила ни одного из стоявших у пиццерий велосипедов рассыльных, чтобы не покрутить педали. Отходя от очередного, она говорила с гримаской:
– Нет, это не то!
А он наслаждался теплым весенним вечером, толчеей на тротуарах, публикой в открытых ресторанах, даже едой на столах. Двигаясь мимо них, он отмечал опытным взглядом: мидии в зеленом соусе, бургер с горгонзолой, греческий салат. Трудно сказать, что присутствие Рокси что-либо добавляло к его состоянию. Его переполняло ощущение причастности к месту, где каждый поворачивался к нему с дружелюбным интересом и готовностью вступить в разговор или отношения, пусть хоть на вечер. Таким было свойство города, в котором он растворял себя четверть века.
В мастерской Черновицкого уже были гости – брюнетка с короткой стрижкой и пикантно вздернутым носиком и ее спутник – бритоголовый плечистый парень. Как показалось Паше, он был младше своей подруги. Той было около сорока. Перед ними стояла опустошенная наполовину бутылка «Столичной» и банка с солеными огурцами.
– О, а это еще кто?! – спросил Семен, поднимаясь из-за стола. На нем были красные плавки до колен и зеленая майка с надписью «Я люблю ФКАК».
– Это моя внучка Рокси. Пожалуйста, при ней не выражайтесь, – сказал Паша.
Пара за столом захохотала:
– Да брось, внучка! Мы же видим, что дочка!
Они захохотали еще громче. Паша бросил взгляд на спутницу – та смотрела на подвыпившую компанию без толики смущения. Они сели к столу, хозяин подал им чистые стаканы, разлил водку. Поставив бутылку, он не переставая посматривал на Рокси и, наконец, попросил ее попозировать. Та тут же вскочила с диванчика, вылетела на худых и стройных ногах на середину мастерской, взявшись за края юбки, прокрутилась на месте.
– Вот это класс! – Черновицкий достал из стола фотоаппарат и направился к Рокси.
– Тебя на нее хватает? – доверительно поинтересовалась брюнетка у Паши.
Вопрос был так неожидан, что Паша невольно усмехнулся. Брюнетка же истолковала его реакцию как признание в том, что вопрос не беспочвенен. Теперь они со взаимным интересом смотрели друг на друга, явно думая об одном и том же: им вдвоем было бы куда лучше, чем ему с его девочкой, а ей – с ее молодым качком. Этот мысленный диалог, не лишенный толики волнения, прервал качок:
– Че там хватать? Принял таблеточку – и гуляй, Вася, верно я говорю?
Черновицкий, между тем, кружил вокруг Рокси, щелкая затвором, командуя: откинь голову, прогнись, наклонись вправо, еще, еще…
– Так вы только фотографи-ируете, – в ее голосе Паша слышал разочарование. – А я-то думала вы – худо-ожник!
В ее представлении мастерская должна была быть местом с мольбертами, пейзажами, натюрмортами, портретами, запахом красок и растворителя. У Черновицкого была своя уникальная техника. Он грунтовал холст белой краской, потом черной и «рисовал» по ней шилом, создавая черно-белую графику наоборот. Со стороны его работы были похожи на гигантские рисунки карандашом – проволочные корсеты, пишмашинки со сбитой эмалью, сношенные, с потрескавшейся кожей, туфли. Рокси не была к этому готова.
Когда веселая пара ушла, Черновицкий пригласил их на крышу покурить. За рекой, в подкрашенном розоватым сиянием городской иллюминации тумане, светилась громада Эмпайр-стейт билдинга. Чуть поодаль горела белая елочка Крайслера. Черновицкий сел на шершавый рубероид, пригласив их устраиваться рядом, достал из кармана майки пачку сигарет, вытряхнул на ладонь туго скрученный джойнт. Зажег его, шумно потянул дым, задержал дыхание, передал джойнт Рокси. Та, умело сжав его губами, втянула дым, передала Паше.
– Ты только посмотри на нее, она еще и курит! – делано удивился Черновицкий. – Куда твой папа смотрит, я не понимаю. Тот еще разгильдяй. Я чувствую, что должен взять это дело под свой контроль.
– Зачем?!
– Что значит зачем? Буду заботиться о тебе, давать советы, помогать принимать правильные решения. Вот скажи мне, к чему ты стремишься в жизни?
– Она хочет научиться рисовать, – вспомнил Паша.
– Рисовать?! Так кто тебя научит рисовать лучше меня? Ты вообще можешь себе представить, с каким педагогом тебя свела судьба? Ты даже не знаешь, сколько таких вот девушек ко мне потом приходят и говорят: Семен Евгеньевич, если бы не вы, так даже не знаю, что бы я теперь делала.
Засмеявшись, Черновицкий устроился на боку, подпер голову одной рукой, вторую устроил на бедре.
– Ты вот видела сегодня у нас девушку? Тоже моя ученица.
– Она художница?
– В своем роде. Некоторые вещи выполняет с настоящим артистизмом.
На лице Рокси недоумение мешалось с разочарованием. Невзирая на объявленную недавно готовность расплатиться с художником по самой высокой ставке, она явно оставляла за собой право выбора. Черновицкий, в покрытых пятнами краски шлепанцах, с выкатившимся на крышу животом, темными мешками под глазами и неопрятной щетиной, явно не соответствовал ее представлению об учителе.
– Я подумаю над вашим предложением, – наконец сказала она.
Около десяти Черновицкий закрыл мастерскую, и они пошли на сабвей. На углу Метрополитэн и Бедфорд Рокси увидела очередной велосипед – у него была очень тонкая черная рама с параллельной земле верхней перекладиной и прямой короткий руль. Велосипед стоял, прислоненный к скамейке у входа в китайскую закусочную. Рядом сидел хозяин – смуглокожий мускулистый парень в густой шапке вьющихся рыжих волос.
– У него ножной тормоз? – спросила его Рокси, приближаясь к велосипеду, как сомнамбула.
– Йепс! – ответил тот.
Она легко присела перед велосипедом, с благоговением коснулась педали тонкими пальцами. Мир исчез для нее. Они звали ее – напрасно.
– Да брось ее, зачем она тебе нужна? – злился Черновицкий.
– Я хоть должен объяснить ей, как дойти до сабвея, – отвечал тот.
Когда у Паши задребезжал в кармане пиджака телефон, Черновицкий, махнув рукой, пошел к остановке. Паша присел на край той же скамьи, где сидел счастливый обладатель волшебного велосипеда. Звонил Митя.
– Так ты приведешь завтра свою нимфетку? – поинтересовался он.
– Я надеюсь, – ответил Паша.
– А что тебе может помешать?
– Допустим, преждевременная кончина.
– You mean, premature ejaculation? – поинтересовался на том конце линии структурный лингвист.
Оба хохотнули.
– Как-то нас интересно занесло на малолеток в этот раз, ты не заметил?
– Синдром Дракулы, старина. По мере приближения к кладбищу жажда молодой крови возрастает. Это надо контролировать. Найти кого-то из своей возрастной группы.
Он бросил взгляд на Рокси – та увлеченно говорила с кудрявым парнем.
– Да-а, тут не поспоришь. Новая команда того и гляди выбросит нас за борт с корабля современности. Как старые чемоданы.
– Хоть бы знать, когда, чтобы приготовиться.
– Не волнуйся, тебе скажут.
Прощание растворилось в душераздирающем вздохе остановившегося на светофоре грузовика. Бородатый водитель в бейсбольной кепке рассматривал его с ироническим интересом. Паша спрятал телефон. Грузовик, страшно вздрогнув и выпустив клуб гари, угромыхал, а он снова услышал нежный, подрагивающий от волнения голос:
– А можно я на нем прокачусь?
Глядя на Рокси и ее собеседника, Паша с тоской осознал, что он тут лишний, но намерение пригласить ее в ресторан еще не оставило его, и тогда он поднялся и позвал ее. Она повернулась к нему.
– Ну, пойдем?
Лицо у нее было такое, как если бы она вспоминала, кто он. Потом сказала:
– Папа, идите домой сами. Я приду позже.
И это была та самая история с анекдотическим «папой» в конце, которой он хотел украсить праздничный ужин в «Бальтазаре».
Появление Паши без спутницы, кажется, не расстроило Митю. Все его мысли крутились возле заготовленного им сюрприза. Он достал из сумки завернутую в папиросную бумагу бутылку и протянул Паше. Развернув ее, тот ахнул – это было «Амароне-Бертани» урожая 1986 года.
– Открываем немедленно! – сказал Паша, ставя бутылку на стол.
Сообщение официанта, что за коркидж у них берут тридцать пять баксов, напрягло Митю. В местах попроще за откупорку принесенной с собой бутылки брали пятнадцать, от силы двадцать. Напряжение возросло, когда Паша ощутил запах испорченной грибком пробки. Митя отказался верить в сообщение.
– Я хочу услышать второе мнение, – сказал он и попросил вызвать сомелье. Румянощекий толстяк в бархатном галстуке-бабочке ловко прокрутил рубиновую жидкость по внутренности бокала, провел затем бокалом у носа и подтвердил диагноз – плохая пробка. Потом поинтересовался:
– Хотите посмотреть нашу винную карту?
– Одну минуту, – сказал Митя. – Меня интересует – должны ли мы платить за коркидж, если вино оказалось испорченным?
Паша был раздосадован. Заготовленная им история предварялась не легким обменом застольными шутками, а выяснением стоимости сервиса, который оказался ненужным. Сидевшие за соседними столами люди стали посматривать на них. Викуля испытывала неловкость. Что до Мити, то он так нервничал, что голова у него немного тряслась. Совсем чуть-чуть, но все же заметно. Чтобы отвлечь Викулю, Паша начал свой рассказ для нее одной, на ходу перерабатывая сюжет. Первоначально он придал ему стремительность короткого анекдота, где девушка, которую пытался соблазнить стареющий ловелас, отдавала предпочтение велосипеду. Сейчас он вернул в рассказ женщину с пикантно вздернутым носиком, которая должна была отбросить предложенную им версию связи «внучка – дедушка» и ввести более реалистичную «папа – дочка». Наблюдая краем глаза за Митей и сомелье, он добавил опущенные ранее отвлекающие детали – желание девушки научиться играть на гитаре и рисовать. Они, конечно, утяжеляли сюжет, но у него появлялось дополнительное время, чтобы вовлечь слушательницу в свою историю и подготовить ударный финал.
Викуля слушала его с благодарностью, кивая, улыбаясь и расширяя глаза. Хотя это внимание было отчасти искусственным, оно было лучше никакого. И Паша с облегчением услышал ее звонкий смех, когда добрался до ключевой фразы: «Папа, идите домой сами, я приду позже».
Была, вероятно, в самодельном анекдоте та жизненная правда, которую она смогла оценить – ведь она была ровесницей Роксоланы. Митя между тем, освободив сомелье и утирая лоб салфеткой, доложил:
– Полный порядок. Тридцать пять баксов мы уже сэкономили.
И тогда Викуля подалась к Мите и, коснувшись его руки, сказала:
– Я так рада за вас, папа.
Сначала Паша не поверил своим ушам, потом глазам – закрыв ладошками вспыхнувшее лицо, Викуля затряслась от беззвучного смеха. Глядя на нее, Паша неожиданно ощутил, как невнятная тяжесть потерявших всякий смысл намерений разом оставила его, освободив грудь для нового, большого вдоха. Он перевел взгляд на приятеля, с недоумением смотревшего на девушку, и подумал, что если на пароходе, о котором они говорили вчера вечером, появилась новая команда, выбрав для пересменки их столетний юбилей, то за борт оказался выброшенным не один старый чемодан, а два, и пока волны, океанская соль, ветер и солнце не добьют их окончательно и не пустят ко дну, вдвоем им будет не так скучно и одиноко.
ГАНЬ БАО ИЗ СИ-ГЕЙТА
Джин Бау, еженедельно принимающий у меня порцию рубашек на стирку в прачечной на углу, как-то рассказал, что его предки перебрались из Чайна-тауна в Си-Гейт еще двести лет назад. Это место тогда только получило статус городского района. За этим переездом стоит интересная история.
В то время самым привлекательным местом для любителей экзотики стали опиумные курильни Чайнатауна. Власти смотрели на них сквозь пальцы, хотя газетчики только и писали об ужасах, которые им удалось лично наблюдать за шелковыми занавесками. Когда в одной из таких курилен умер сын известного депутата горсовета, газетчики получили карт-бланш. Город охватила настоящая антикитайская истерия. На любых азиатов смотрели как на «монгольскую орду», нашествие которой следовало решительно пресечь.
В таких ситуациях всегда находятся простые рабочие парни, которые рады вышибить дух из инородца, несущего в данный момент ответственность за все беды нашего почти что непорочного общества.
Мало того что китайцам не стало прохода на улицах от хулиганья, против них ополчились политики. Шакалье из Таммани-холла призвало лишить китайцев права на получение гражданства и даже начать их насильственную репатриацию. Публика поддержала инициативу бурными аплодисментами. Чтобы защищать свои интересы, группа образованных предпринимателей из Чайнатауна создала комитет – Чжонгуа Гон Сю, ставший неофициальным правительством общины. Ведь речь шла буквально о жизни и смерти.
Тут только до отцов города дошло, какая ошибка совершена. Своими руками они создали организованную политическую силу, которая могла мобилизовать на выборы массу народу или финансировать их оппонентов. Но идти на попятную было нельзя, вышло бы, что китайцы откупились. Что угодно, только не это нужно было Таммани-холлу, продажность которого была притчей во языцех! Тогда политики спустили «копам» неофициальный указ – избавить город от Чжонгуа Гон Сю любыми средствами.
Прадед Джина – Гучао Цзян, владевший пекарней на Мотт-стрит, оказался в черном списке. Видя, что его товарищи стали исчезать среди бела дня, а в его пекарне пьяное хулиганье уже дважды разбивало витрину, он собрал семью и перебрался в Си-Гейт, который только что был куплен неким Уильямом Зиглером – иммигрантом из Львова, тогда – Лемберга.
Зиглер владел компанией «Королевская мука для пекарей». В трудолюбивом китайце он видел прежде всего надежного клиента. На остальное ему было наплевать. Понимая, что того могут в один прекрасный день просто прихлопнуть, Зиглер предложил ему приобрести на самых выгодных условиях участок земли в Си-Гейте. За этим стояло еще одно соображение – Зиглеру нужно было развивать свой район. Переехав сюда, Гучао Цзян дложен открыть пекарню.
В Си-Гейте тогда было не более полусотни домов. Все они стояли на берегу залива Грейвзэнд. Дома были большей частью летними дачами. Их строили те, кто хотел избежать шума и суеты гостиниц, купален и аттракционов курортного Кони-Айленда. Но начали появляться и дома посолидней, где люди жили круглый год. Этому было простое объяснение – живописный район гарантировал неслыханную для Нью-Йорка безопасность. Он был отделен от остального мира с трех сторон водой, а с четвертой – высокой кирпичной стеной. При этом охраняла его своя полиция, не подчинявшаяся городской.
Поздней осенью 1897 года во время сильного шторма на берег Си-Гейта выбросило кита. Скорей всего, он заплыл из Монтока. Сейчас бы, наверное, на кита налетела стая защитников окружающей среды и отбуксировала его в открытый океан. Но тогда народ был попроще. Не дожидаясь, когда животное издохнет, его начали разделывать. Передавая фамильную историю, владелец прачечной сообщил мне, что несчастный кит при этом издавал ужасающие звуки. Это никого не остановило.
По словам Джина Бау, его предки были из даосов, которые из поколения в поколение не ели ни мяса, ни рыбы. Поэтому семья не приняла участия ни в разделке кита, ни в дележе его останков.
Когда стемнело, на берегу остался только скелет да груда потрохов. В ту ночь престарелой мамаше Гучао Цзяна во сне явился седобородый старец с трясущейся от бессильной ярости головой и сказал, что кит был его сыном. За то, что жители этого поселка убили его, подвергнув при этом страшным мучениям, он поклялся погубить их. Но поскольку семья Гучао Цзяна не принимала участия в кровавой расправе, она будет спасена.
– Как же? – спросила старушка.
– Когда глаза у бронзовой русалки покраснеют, – сказал старец, – знай, что вам надо отсюда уходить.
С внутренней стороны Си-Гейта какой-то эксцентричный новосел установил огромный валун и усадил на него аляповатого вида бронзовую русалку, типа той, которую, вероятно, видел у входа в копенгагенский порт. Это было абсолютно в духе американских нуворишей – копировать силами местных мастеров европейские красоты. Американская русалка должна была приветствовать гостей района, обещавшего стать самым престижным на бруклинском берегу.
Старуха, которая верила во всех китайских духов, оборотней и драконов, стала каждое утро исправно ходить к русалке и заглядывать ей в глаза. Это заметил один сорванец, который сперва дразнил китаянку издалека, а потом, осмелев, стал допытываться, чего это она изо дня в день ходит смотреть на зеленую девку.
В конце концов он так допек женщину, что та вынуждена была привести с собой одного из своих внуков. Тот, владевший английским, объяснил мелкому хулигану, что бабушка смотрит, когда у русалки покраснеют глаза. А когда это произойдет, от Си-Гейта ничего не останется.
Всласть насмеявшись, неугомонный злодей решил подшутить над ней. На следующий день он не поленился проснуться ни свет ни заря, стащил у мамаши помаду и накрасил ею глаза статуе.
На это никто не обратил внимания, кроме старухи.
Вернувшись с очередного визита к русалке белей королевской муки для пекарей, она заявила сыну, что семье грозит смертельная опасность. Гучао Цзян, который последние годы жил, если так можно выразиться, на военном положении, собрал без лишних слов пожитки, погрузил их на подводу и вернулся на Мотт-стрит, где товарищи по Чжонгуа Гон Сю обещали ему круглосуточную охрану.
Они уехали днем, а вечером на Си-Гейт обрушился шторм неслыханной силы. Шторм этот бушевал три дня. Волны, которые шли стена за стеной, смыли огромный кусок берега. Когда, наконец, распогодилось, несколько десятков домов исчезли, как будто их и не было.
Домик Гучао Цзяна не пострадал, потому что стоял на самом недорогом участке – вдали от воды. Семья, восприняв это как благоприятный знак, вернулась в Си-Гейт. Свое заведение в Чайна-тауне пекарь продал, открыв новое на Кони-Айленде.
Дом в Си-Гейте многократно перестраивали, и сейчас он мало чем отличается от других на тенистой улочке, упирающейся в залив.
У критически настроенного читателя может возникнуть вопрос: как я запомнил столько китайских имен и названий? А я и не запоминал их! Имя Гучао Цзяна я записал на салфетке, слушая рассказ Джина, название китайской организации нашел в книге Берроуза и Уоллеса «Готэм», а фамилию Зиглера – в «Энциклопедии Нью-Йорка» под редакцией Кеннета Джексона. Впрочем, я записал на салфетке не одно имя, а два – второе было настоящим именем Джина Бау. По-китайски оно звучит так – Гань Бао.
2001
АНТОЛОГИЯ ОДНОГО СТИХОТВОРЕНИЯ
Первоначально мне показалось, что фамилия у старика с костистым носом из квартиры 6-F – Макаронов. Выяснилось, что Маркони. Самуил Яковлевич Маркони. Однако! Я вижу его склоненную над пишущей машинкой лысину в окне напротив. До меня долетает неторопливое тюканье клавиш, время от времени прерываемое звяканьем переведенной каретки и ворчаньем валика, когда он выкручивает напечатанную страницу. Стоя перед окном, он перечитывает написанное, кладет страницу на подоконник и уходит в полутемную глубину квартиры. Иногда я слышу, как хлопает дверца холодильника. К тому времени, когда он возвращается, ветерок может сдуть с подоконника лист-другой, но он, кажется, не придает этому ни малейшего значения. Бумага, раскачиваясь из стороны в сторону, опускается на тротуар, где ее подхватывает и уносит волна воздуха, движимая автомобильным потоком. Наш дом стоит у трассы Проспект-экспрессвей, соединяющей Оушен-парквей с Гованусом.
На днях мы разговорились. Я столкнулся с ним в подвале нашего дома, куда он снес перевязанную бечевкой стопку книг. Я спросил, могу ли я взглянуть на них, пока супер не отправил их в мусор. Он пожал плечами.
– Почему нет?
Из дюжины книг о масонах и других тайных обществах я вытащил «Справочник знаков и символов». Видя мой выбор, он усмехнулся и вдруг спросил, не интересуюсь ли я живописью. В данной ситуации вопрос предполагал, что у него еще есть альбомы, которые ему жалко выбрасывать и которым он, вероятно, хотел найти лучшее применение. Это ставило меня в затруднительное положение.
Дело в том, что имена вездесущих Пикассо или Ван Гога ассоциируются у меня не столько с живописью, сколько с капиталовложениями, биржей и таблоидами, упивающимися подробностями жизни богатых и знаменитых. Какой-то голливудский магнат планировал продать картину Пикассо за 92 миллиона, но в подпитии упал и пробил холст локтем. Из-за этого его стоимость упала до 43 миллионов. Как говорила моя мама: мне бы его заботы!
Я ответил соседу, что мне нравились работы нескольких художников, которых я знал в юности.
– Да? Кто же это? – в глазах его засветился интерес.
– Егоров, Межберг, Ройтбурд…
– Хм, мы с вами, оказывается, земляки, – он косо ухмыльнулся, словно всплыла какая-то нелицеприятная тайна. – А у меня есть Ройтбурд. Хотите взглянуть?
На большой работе в зеленовато-коричневых тонах, висевшей над небрежно застланной постелью, была изображена монашка над колодцем. Капюшон бросал глубокую тень на лицо, отражение которого можно было видеть на водной ряби. Раздробленность черт, переданная затейливой вязью мазков, придавала лицу привлекательность, которую каждый мог интерпретировать по-своему. Что заставило мое сердце сделать болезненный сбой, так это острый носок красной туфли, выглядывавший из-под подола рясы. «Та еще монашка!» – сказали бы в моем городе.
Картина была единственным украшением его жилья. На стенах или на комоде у постели – ни одной фотографии, которая связывала бы его с кем-либо за пределами небольшой комнаты, накрытой потрескавшимся и пятнистым, как стариковская кожа, потолком. Радиоприемник с часами. Коричневое кожаное кресло со смятым пледом. Торшер. Допотопная пишущая машинка на столе. Стул. Батарея бутылок у газовой плиты.
– Я бы продал ее недорого, – он кивнул на картину и, словно предвидя отказ, добавил: – У меня у самого никогда не было возможности достать из кармана всю сумму. Я купил ее у автора в рассрочку.
– Мне ее просто негде вешать, – сказал я. – Комната совсем крохотная.
– Сын сказал мне то же самое: негде вешать. Жена купила телевизор. Шестьдесят дюймов по диагонали. Его жена.
– А сколько она стоит?
– Мы бы договорились.
Я не мог отвести взгляда от острого конца туфли монашки. Этот фасон обуви очень точно, на мой взгляд, назывался стилетами.
– Будет забавно, если ее следующим обладателем станет водитель мусороуборочной машины. Желаете стаканчик белого бордо?
За вином он рассказал, что жена скончалась от рака легких и ее болезнь предотвратила их развод. Он узнал о диагнозе как раз в тот день, когда собрался с духом, чтобы сообщить об уходе. Оставить ее в таком состоянии он не смог, а когда она наконец освободила его от мучительного дежурства возле ее усыхающего на глазах тела, уходить уже было не к кому.
– После этого я потерял всякий интерес к поиску новых впечатлений, – заключил он. – Кто захочет пережить два землетрясения подряд?
– А как вы встретили ту, другую? – не сдержался я.
– Это занятная история. Я покупал газету в киоске и вдруг за моей спиной раздался сильный хлопок. Сухой, короткий, оглушительный. У меня просто все оборвалось внутри. Я обернулся и увидел, что с фасада дома упало какое-то украшение. Барельеф, что ли… То, что осталось от него, лежало между нами. Она стояла в трех шагах от меня совершенно белая от испуга. И в этот момент наши взгляды встретились. И она… – он сглотнул. – Она просто вошла в меня. Не знаю, понятно ли я объяснил…
– Вполне, – заверил я его.
Выйдя утром из дому, я увидел среди черных пакетов мусора, сложенных у гидранта, «Монашку». Я оглянулся по сторонам. Утренняя улица была пустынна, только за трепещущей на солнце листвой шумела трасса. Подняв голову, я заметил опустившуюся в окне последнего этажа занавеску. Возможно, ее качнуло дуновением ветерка. Я взял картину и, не поднимая глаз, вернулся в дом. Я устроил ее над изголовьем своей кровати.
С Самуилом Яковлевичем мы больше не виделись. У меня появилась новая привычка: перед выходом из квартиры заглядывать в глазок, чтобы удостовериться в том, что он не возится с ключами у дверей в своем конце коридора. Он напоминал о себе только мерным постукиванием клавиш машинки, который стал доноситься до меня все реже – наступали холода и он закрывал окно.
Как-то поздней осенью, вернувшись с работы, я обнаружил, что дверь квартиры 6-F раскрыта настежь. Я заглянул, обнаружив типичную картину разоренного после выезда жильца дома. Разбросанные по полу бумаги, проволочные вешалки, кастрюля с заплесневевшими остатками еды, оборванная штора на пыльном окне. Супер, стоя на одном колене посреди комнаты, развинчивал раму кровати.
– А где жилец? – спросил я.
– Moved upstairs, – ответил тот, кивнув головой на потолок.
Когда супер отбыл в кабине лифта, заполненной разобранной мебелью и пластиковыми пакетами с вещами Маркони, я вернулся в его квартиру. За дверью стенного шкафа я обнаружил обувную коробку с рукописью. Это была вторая кража в моей жизни. Впрочем, можно ли сказать, что ты совершил кражу, я говорю о первой, если женщина, которой ты завладел, вернулась, в конечном счете, к старому любовнику? Старому, который был моложе тебя, что, может быть, и сыграло решающую роль в ее выборе. Так, не кража, а недоразумение.
Каким же было мое изумление (простите за штамп), когда я обнаружил, что на каждой странице было одно и то же стихотворение! В той же коробке лежало несколько выпусков «People» и «Vogue», посвященных подробностям жизни и смерти Анны Николь Смит. Некоторые страницы сморщились и склеились, словно старик плакал над ними. Ничего удивительного, я не знаю мужчин, которых бы эта женщина оставила равнодушными. Лично мне она нравилась больше всего, когда была жгучей брюнеткой. Я вообще люблю брюнеток. В смысле любил.
Не сомневаюсь, что Смит загнали в могилу родственники ее покойного мужа. Не могли смириться, что безродной стриптизерше достанутся их честно заработанные миллиарды. Должен признать, что они поступили умно, не наняв снайпера, отравителя или группу профессионалов, которые устроили бы ей безукоризненное автомобильное происшествие, а им – пожизненное хождение по судам. Достаточно было держать поблизости от нее драг-дилера, бесперебойно снабжавшего ее наркотиками. Смерть от передозировки была делом времени. Мысль о том, что она была истинной вдохновительницей творчества Маркони, показалась мне смехотворной. Но, согласитесь – смехотворного в жизни столько же, сколько и необъяснимого.
Текст найденного стихотворения, который я перепечатал на компьютере, видимо был единственным сочинением старика, в котором он, как мог, выразил главное переживание своей жизни. У Александра Сергеевича был, говорят, сонм любовниц, отсюда – море впечатлений и такая плодовитость. Если производительность способствует совершенствованию поэтического мастерства, то глупо предъявлять претензии к произведению однолюба.
Меня не перестает удивлять другое – это патологическое стремление облечь дорогое нам чувство в более изысканную, чем простая проза, форму, идет ли речь о любовном стихотворении или застольном поздравлении юбиляра. Вероятно, за этим стоит подспудная уверенность в том, что художественность формы обеспечит долголетие дорогим нам чувствам. Я вас любил, чего же боле? Что я еще могу сказать? Теоретически – что угодно, только бы добиться, чтобы в комбинации слов возникла мелодия. Второе непременное условие – банальность чувства или ситуации, их узнаваемость для аудитории. Я вас любил. Кто не любил, тот не нюхал пороху. Массовая аудитория покрыта темой, как Хиросима ядерной волной. КПД равен или близок 100 %.
Маркони начинал с простой разговорной фразы, соблюдал размер строки на глаз и зарифмовывал только последнее слово либо в каждой следующей строке, либо через строку, даже не делая попыток соблюсти однообразие конструкции. Это был такой вербальный фри-джаз. Смех смехом, но текст моментально засел в голове. Я легко напечатал второй, а затем и третий экземпляр по памяти, ни разу не заглянув в оригинал для проверки.
Аудитория хором кричит, ч
то у них ничего не получится.
Одна дошлая баба твердит:
«Ходить налево – только мучиться».
А ночью весна вплывает в окно,
как запах сдобного теста.
Мой герой не находит себе места.
Во дворе – олеандры в цвету. Лепестки
ловят капли росы, как детские руки.
Читай Набокова, слушай Майлса, умирай со скуки.
Закрыв глаза, он видит: она —
в позе «мама моет пол» у подножия минарета.
Хозяин башни, направленной на звезду, —
мулла со сложеньем атлета.
Как он хочет коснуться губами
изгиба ее бедра!
Гуляй-гуляй, ночная фантазия,
утром в душе не дрогнет его рука.
После встанет у зеркала, ловко побреется,
с плеши воду смахнет.
Терпи, мой дорогой,
до похорон все заживет.
Какую аудиторию имел в виду Маркони в первых четырех строках стихотворения, не имею ни малейшего представления. Поэтому я их вычеркнул. Исключение из текста личного и значимого только для самого автора опыта придало содержанию большую универсальность. В этом, я думаю, свойство нашего времени. Уникальные характеристики контекста, в котором развиваются сюжеты Тристана и Изольды или Даниэля и Эстер, только притупляют наш интерес к ним. В этом отношении литература сродни моде. Ликвидация контекста позволяет простому пекинцу или токийцу чувствовать себя полноценным человеком, когда, направляясь на свидание в соседний «Starbucks», он знает, что джинсы и майка из магазина «GAP» делают его ближе и понятней поджидающей его там студентке Арканзасского университета. Она учится в его стране по студенческому обмену. И участник палестинской интифады привлекает к себе сочувствующий взор европейского телезрителя не столько рвущимся из его рук автоматом Калашникова, сколько облегающими джинсами «Levi’s», кроссовками «Adidas» и ладно скроенной футболкой с логотипом «Dolce & Gabbana». Талибам в их войлочных беретах и халатах невыразительного кроя не помогают ни капри, ни даже трехдневная щетина, которая хорошо бы смотрелась в рекламе электробритв «Braun».
Короче, единственный способ обессмертить содержание – ликвидировать контекст. Я вас любил. Точка. В противном случае личные ассоциации автора, вызванные, может быть, его детским увлечением арабскими сказками или геометрией, превращаются в анекдот с фаллическим минаретом.
Свободная система стихосложения Маркони позволила мне разбить строфы по-новому, что, на мой взгляд, ничуть не нарушило общую картину.
Ночь. Весна вплывает в окно
дурманящим запахом сдобного теста.
Старик Макаронов
не находит себе места.
Разбитый лежит,
как обломок лепнины,
оборвавшейся со старого фасада.
Справа тихо посапывает засада.
Олеандр в розовом цвету. Лепестки
ловят капли росы, как детские руки.
Читай Уэльбека, слушай Эвору,
умирай со скуки.
Закрыв глаза, мой герой снова скользит
По милой ему синусоиде талии и бедра.
Гуляй-гуляй, ночная фантазия,
утром в душе не дрогнет его рука.
Встав у зеркала,
ловко побреется, с плеши воду смахнет.
Терпи, мой дорогой,
после похорон все заживет.
Смешно, но на глазах устаревших Набокова и Майлса я все же решил сменить на что-то посвежее, перечеркнув собственные размышления о моде, контексте и архетипе.
Недавно, разглядывая в бессчетный раз черты лица моей подруги у колодца, я подумал, что постоянная игра с рифмованными строками стала моим новым хобби. Я не испытываю угрызений совести в связи с тем, что присвоил себе чужое произведение или изменил его. Напротив, я увековечил в нем имя автора и не уверен, что поставлю свой автограф под финальным вариантом. Меня невероятно увлекает идея передать небольшой слепок переживаний пока неизвестному мне преемнику. Вероятно, это и есть фольклор. Интересно, что именно в личном опыте может стать общим, сделав интимное стихотворение частушкой? У меня не идет из головы фраза Маркони о том, как она «вошла в него», когда их взгляды встретились. Мой покойный сосед отлично обозначил момент, когда две части стали целым. Как мне это знакомо! По сей день стоит в памяти картина: она (я сейчас о своем) впервые садится в мою машину, и у меня возникает ощущение того, что она садится в мою жизнь. Вот он – судьбоносный момент полного слияния, пережитый задолго до сексуальной близости. С другой стороны, как она села, так потом и встала. Вошла и вышла, но момент действительно стал определяющим.
В квартире 6-F поселилась молодая пара. Они избегают соседей. Меня, во всяком случае. Если мы оказываемся вместе в лифте, то они, как правило, стоят в обнимку и неотрывно глядят друг другу в глаза, улыбаясь чему-то своему. Такая близость возможна лишь при полной слепоте. Любовь слепа. Pardone moi! Иногда я слышу из открытого окна их квартиры смех и другие звуки, характер которых настраивает меня на поэтический лад.




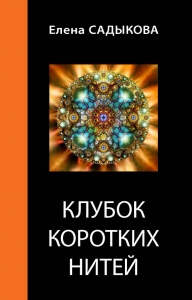





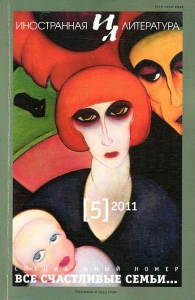

Комментарии к книге «Кроме пейзажа. Американские рассказы (сборник)», Вадим Александрович Ярмолинец
Всего 0 комментариев