Лариса Денисенко Отголосок: от погибшего деда до умершего
Глава первая
Не знаю, для кого как, но для меня ощутима разница между дедом, который погиб во время Второй мировой войны, и дедом, который умер в 2011 году. На первый взгляд – существенной разницы нет, потому что в сухом остатке мы имеем двух умерших дедов.
Но если углубиться в этот вопрос, начинаешь понимать, что тот дед, похороненный в 43-м, был молодым, сметливым, идеалистичным, но недальновидным двадцатипятилетним юношей, который погиб в чужом краю, оставил вдовушкой бабку, умершую в семидесятом году прошлого века. А также сиротами двух ребятишек. Один из которых был моим отцом. А второй – моей теткой. На могилу этого деда меня и моего брата родители однажды возили. Помню, было это весной. И нас слишком тепло одели, думали, что в эту пору там свирепствуют холода. На самом деле там было теплее, чем в Берлине, и мы чуть не упарились в своих пуховиках.
Мы помолились за упокой души деда, потом я начала петь Интернационал, но мать прервала меня. Тогда я слегка пожурила деда за то, что он поверил бредням Гитлера, потому что нельзя верить мужчинам маленького роста с такой ужасной прической и усами; а еще мы с Манфредом (это мой брат) положили на могилу деда бумажный самолетик, который, на самом деле, сделал Манфред. Но подарили мы его от нас двоих. Манфред сначала упирался, он предлагал мне подарить деду – галстук (из тех соображений, что это нормальный подарок для мужчины, пусть даже и умершего) или любимый роман деда (это было коварно со стороны Манфреда, потому что никто из нас двоих не знал, умел ли дед вообще читать, что уж говорить о его любимых книжках или музыке). Я успела возмутиться, но не успела выразить свое возмущение – отец пресек шалости Манфреда одним лишь взглядом.
Наш отец – федеральный судья. А для того чтобы заслужить признание сторон процесса, коллег, политикума и общества, ты должен научиться не только убедительно говорить, но и, что возможно важнее, убедительно смотреть. Благодаря этому умению своего сына дед получил от нас, своих внуков, один единственный подарок.
В отличие от того деда, этот дед, умерший уже теперь, вряд ли был идеалистичным, невозможно себе представить идеалиста, которому исполнилось девяносто четыре года. Хотя – как знать. Проблема заключалась даже не в этом. Проблема заключалась в другом: я не знала, что дед не погиб тогда, в сорок третьем. Я не знала, что это не он оставил вдовушкой свою жену, а детей – сиротами, а как раз она оставила его вдовцом. И меня это поразило. Уши горели, будто крошечные беспризорные детишки развели в них костер, чтобы не замерзнуть, и что-то жарили, чтобы не умереть с голоду.
В тот день я зашла к родителям – полить цветы. Я ненавижу поливать цветы (причина этой ненависти мне так же неизвестна, как и причина моего отвращения к вытиранию пыли), но я очень ответственная. Родители поехали поддержать Манфреда на конкурсе архитектурных проектов, в Баварию. Манфреда это бесило. Но он был не из тех редких людей (я, например, знаю только двух адвокатов), которым удавалось изменить решение, принятое отцом. Итак, они уехали. Ну а я должна была присмотреть за родительскими цветочками, а еще выгуливать Тролля, таксу Манфреда. Если честно, то Тролля должна была выгуливать Бриг, жена Манфреда. Но она, хоть и не поехала поддержать его вместе с родителями, ухитрилась уехать к подруге на свадьбу. С Манфредом они повздорили по поводу того, какое событие является действительно неповторимым: свадьба Амалии или Баварский конкурс проектов коттеджей. Манфред утверждал, что, насколько он знает Амалию – второй свадьбы с ее непосредственным участием нам не миновать, потому что она очень легкомысленная и пялится на мужские задницы даже тогда, когда ест ванильный крем, когда ей делают прививку и даже когда целуется с этим «ее несчастным почти-мужем»! А вот Баварское общество архитекторов не будет его дожидаться, в следующем году конкурсные приоритеты и требования могут быть другими, кроме того, на этот раз у него есть все шансы победить.
Бриг на это отвечала, что в следующем году баварские архитекторы обязательно будут проводить очередной конкурс палаток, собачьих будок, скворечников, коттеджей или еще какого-нибудь хламовника и что Манфред туда опять потащится, и она уверена, что его «идиотский скворечник» обязательно победит, потому что его выберут «идиотские скворцы». А вот Амалия не из тех женщин, которые только то и делают, что вступают в брак. Еще она сказала, что Манфреду должно быть стыдно за такие подлые мысли об Амалии. Еще: если он так думает об Амалии – ясное дело, точно так же он думает и о ней, Бриг, именно поэтому они живут вместе три года, так и не поженившись. Она так и знала, что он специально подставляет свою задницу под нос Амалии всякий раз, когда Амалия целуется со своим женихом. И это отвратительно! А еще она сказала, что бело-голубое платье подружки невесты, по последней моде, ей чрезвычайно к лицу. Я думала, что она еще что-то скажет. Манфред тоже. Но Бриг стала собирать свой чемодан. А Манфред – свой. В итоге, они пришли к согласию, что дело «неповторимость свадьбы Амалии v. неповторимость Баварского архитектурного конкурса» решит следующий год. И поспорили на бутылку рейнского. Я разбила. Если бы им была нужна моя юридическая консультация, я бы сообщила им, что обе ставки сомнительны. Но люди привыкли больше доверять букмекерам, чем нынешним юристам. Иногда я их прекрасно понимаю.
Поэтому на мои плечи свалились обе проблемы – и цветы, и Тролль. Вторую проблему я решила очень быстро, взяла Тролля с собой в родительскую квартиру. Он выгулялся, стащил с подноса мой бутерброд с ветчиной, выплюнул огурец и, похоже, вообще прекрасно себя чувствовал – валялся на ковре и восторженно повизгивал, грызя ножку кресла. А когда она ему надоедала – принимался за бахрому от покрывала, обессиленно свисавшего до самого пола. Утомленное покрывало серого цвета. Я не ругала и не воспитывала Тролля, потому что это была не моя собака. Хотя меня и подмывало дернуть его за хвост. Но – нет. Приучишься ругать братниных собак, потом станешь шпынять его детей.На то, что звонит телефон, я не обратила никакого внимания. В конце концов, поливать цветы я обещала. А отвечать на телефонные звонки – нет. А потом явился герр Олаф Кох. Я сразу его узнала, как только он закашлял в домофон. Олаф Кох никогда не курил (по крайней мере, я этого не видела, и Манфред тоже), но каждую свою фразу (даже приветствие) он начинал, предварительно прочистив горло кашлем. Чем-то это напоминало оперного певца, хотя я понимаю, что это странная ассоциация. Пришлось ему открыть. Это наш семейный Поверенный. В нашей семье не принято держать поверенных на крыльце. Не знаю, кто положил начало этой традиции, но все ее придерживались. Кроме того, он так просто не уйдет. Если уж дотащился до нас. Берлин – город больших расстояний.
Для Олафа Коха (надо сказать, что обычно он предупреждал о том, что зайдет, поэтому его визит был для меня неожиданным) мать готовила большую чашку кофе с обезжиренным молоком и непременные сладости с вишнями на белом блюдце. Отец учился с ним в университете и всегда говорил о нем, что Олаф никогда не жаждал лавров выдающегося юриста и блестящей карьеры. «Всю жизнь он работает поверенным, и мне кажется, что я остаюсь самым важным из его клиентов». Когда я была маленькой, я думала, что в юридической иерархии поверенные занимают места дворников. И удивлялась. А по поводу того, что Олаф Кох не лез из кожи из-за должности федерального судьи (а отец лез, еще и как!), я думала: с такой фамилией трудно быть амбициозным, все равно ты будешь проигрывать печально известной палочке.
Итак, Олаф Кох вошел в родительскую гостиную. Он рассматривал меня с неуверенностью и недоверием. В его файловых документах по поводу нашей семьи было записано следующее: семья фон Вайхен. Йохан фон Вайхен, 1940 г. р., его честь федеральный судья; Агнес фон Вайхен (в девичестве Барт), 1951 г. р., дизайнер. Дети: Манфред (1974 г. р.) и Марта (1976 г. р.) фон Вайхен. В его сознании я как была, так и остаюсь ребенком фон Вайхен. И он поверить не мог в то, что у ребенка могут быть седые волосы (у меня ранняя седина, унаследовала по материнской линии). Свою седину я не закрашиваю, мне нравится иметь вид женщины, за сединой которой угадывается богатое событиями прошлое.
Для Олафа Коха Манфред фон Вайхен не читался как – Манфред фон Вайхен, 1974 г. р., архитектор; Марта фон Вайхен не читалась как – Марта фон Вайхен, 1976 г. р., доктор права, преподаватель. Да, кто-то должен был пойти по стопам отца. Манфреду повезло, в детстве он продемонстрировал (и не уставал демонстрировать постоянно) ярко выраженный талант. Надо сказать, что благодаря своему проявившемуся в детстве таланту Манфред всю жизнь экономит на подарках. У меня дома есть коридор Манфреда, он ведет в столовую. На полках стоят созданные и подаренные им скульптуры и макеты, на стенах – его же картины, около арки, которая служит входом, пристроилась такса-стойка, там я поселила несколько пар тапок, сухой камыш, влажные салфетки и вазочку с орешками: такса-стойка – многоуровневая. Моделью послужил Тролль.Меня же в детстве интересовали взаимоотношения полов, права сексуальных меньшинств, олимпийская символика, Микки-Маус, Вторая мировая война, а также история в целом. Не знаю, что именно из этого перечня убедило родителей в том, что у меня склонность к юриспруденции, лично я ставлю на пройдоху Микки. Я не работаю судьей, я не работаю адвокатом или прокурором. Я преподаю в университете. И моя работа мне нравится. Хотя адвокатская лицензия у меня есть, можно сказать, что это мой подарок отцу.
Своих детей у герра Коха не было. Но он определил для себя, как с ними нужно общаться. Он показывал пальцами «козу-дерезу», а еще делал «бип», нажимая на нос. И улыбался нервной улыбкой, которая перестала вызывать у меня слезы, когда мне исполнилось шесть лет. До этого же, завидев улыбку герра Коха, я начинала отчаянно визжать. А мать вечно извинялась перед ним за меня. Манфред улыбки Коха не боялся, он был занят тем, что рисовал его портрет. За годы детства мой брат создал пятьдесят портретов нашего поверенного. Как-то отец решил подарить «милому Олафу» эти портреты. Но мать запретила. Я, конечно же, понимаю ее мотивацию. На портретах улыбающийся Олаф Кох в своей традиционной широкополой шляпе был похож на киношный образ маньяка. Хотя у меня есть некоторые сомнения по поводу того, что герр Кох узнал бы в них себя. Где эти портреты сейчас – я не знаю. Может быть, мать их хранит, чтобы пугать ими своих будущих внуков.
Жена герра Коха – Агата Райс, осталась на своей британской девичьей фамилии. Она была «серьезным ученым», изучала крыши Стокгольма, вычисляя места, где теоретически и практически мог обитать Карлсон. Крыши столицы Швеции она знала намного лучше, чем тело собственного мужа, о чем неоднократно без тени стеснения упоминала в разговоре с моей матерью, не обращая внимания на Манфреда, который ее рисовал, и на меня. Благодаря Агате Райс Манфред научился замечательно вырисовывать женские ноги под любым углом.
Кроме того, я знаю, что однажды (возможно, были и другие попытки, но наверняка я знаю только об этом случае) Агата предложила моей матери амур де труа. Я не знаю, как отреагировала на это Агнес фон Вайхен, потому что мать заметила мое присутствие и отправила меня в детскую. Теперь мне остается только догадываться: было ли у них что-то или нет. Подслушивать под дверью я не осмелилась. Впрочем, ставлю на последнее, принимая во внимание собственнические инстинкты моей матери. Конечно, это могло потешить самолюбие моего отца. Но для его самолюбия осознание того, что его хочет фрау Райс, было уже достаточным и не нуждалось в практическом подтверждении.
«Марта, Марта. А где господин судья?» – спросил у меня Олаф Кох, безуспешно пытаясь стряхнуть с себя Тролля, который сообразил, что поверенный интереснее, чем ножки кресла и бахрома от покрывала. Кох не заметил, как автоматически сделал в мою сторону «козу-дерезу», я давно на это не реагировала. «Родители в Баварии. Поехали поддержать Манфреда». «Так. Значит, их нет?» «Они как Бог, – заметила я. – Всегда с нами, даже если не рядом». «Как Бог», – повторил господин Кох. Я заметила, что он принес с собой что-то квадратное в большом свертке. Тролль тоже это заметил и принялся обнюхивать. «Сделать вам кофе?» – предложила я. Вид у Коха был беспомощный. «Да, если можно, – ответил он. И добавил как-то совсем уж загадочно: – Уж придется». Как будто более мерзкого кофе, чем тот, что могу сварить я, он никогда не пил.
Когда я вернулась с кофе, Олаф Кох вместе с Троллем расположились в кресле. «Согнать?» – спросила я. Кох смотрел на чашку с кофе. Я поняла, что сейчас он пытается связать глагол «согнать» с напитком. Тогда я поставила чашку на стол, подвинула ее ближе к креслу, а Тролля взяла на руки. Тролль вывернул уши. Не знаю, что это у него значило: он то ли радовался, то ли сердился. Тролль не очень щедр на эмоции, для нормального общения и понимания ему вполне хватает этих двух. Может, и мне стоит попробовать? Кох посмотрел себе на колени так, как будто у него что-то отсекли. «Олаф (года три назад он предложил, чтобы мы с Манфредом обращались к нему по имени), что-то случилось?» Тролль, по-видимому, решил, что где-то рядом озеро, потому что начал болтать лапками в воздухе, как будто собирался сделать заплыв.
«Я не могу с ними связаться со вчерашнего дня». Я пожала плечами, я не настолько тоскую по семье, чтобы звонить им по телефону каждый день. Олаф подумал, что я не поняла, о ком идет речь. «Я имею в виду твоих родителей». «У них очень насыщенные дни. Манфред наверняка отключил телефон. Не думаю, что он хочет, чтобы ему трезвонила Бригитта и сообщала, какое платье на Амалии, с кем танцует она сама и кто пытается ее соблазнить, нормальный ли вид у священника и какими цветами украшен зал. Отец сейчас в отпуске, не удивлюсь, если он не взял с собой мобильный. А мать хотела проведать кузину, раз уж они оказались в Баварии, поэтому ее потребность контролировать и общаться удовлетворяет «малышка Розамунда» и три ее дочери».
«У меня были предчувствия», – сказал Олаф. Сейчас он был похож на детектива из старых американских сериалов, который подозревает в совершении преступления всех, кроме своей сварливой жены. И не потому, что она так уж невинна, а потому, что он никогда не осмелится учинить ей допрос. Троллю тоже так показалось, поэтому он перестал изображать из себя пловца, спрыгнул на пол и принялся громко лаять. Когда я смотрю на Тролля – диву даюсь, как можно быть таким самоуверенным, с такими кривыми и короткими лапами? Хотя, люди такие мне встречались…
Я решила, что могу положить руку на плечо нашего верного поверенного. Лично я не люблю, когда касаются моей спины или плеч, но как еще можно продемонстрировать сочувствие и понимание? «Я могу чем-то помочь, Олаф?» Он посмотрел на мою руку так, будто ему нарастили лишний орган или он обнаружил на своем теле раковую опухоль. Я убрала ее. Руку-опухоль-лишний орган. Я его понимала. «У меня были предчувствия, что это случится именно тогда, когда никого не будет в городе. Йохан… Помочь? Марта, в принципе, да, ты можешь помочь. Мне нужно выполнить кое-какие обязанности. Я должен оставить эти вещи. В свертке. Ну и поставить в известность семью. Кто бы мог подумать, что он… Все права, в конце концов, принадлежат мне. То есть доверены мне. Поэтому я должен распорядиться… Ты не думай, что я этого хотел. Йохан сам мне все отписал». Олаф говорил это так, будто отец лишил меня с Манфредом наследства в пользу Олафа Коха.
«Я и не думаю», – заверила его я. И соврала, потому что я успевала подумать сразу о нескольких вещах. Олаф не обрадовался тому, что я не думаю. Но, поскольку он молчал, я коснулась свертка. «Олаф, а я могу?» «Да», – сказал он. И выпал из кресла, как маленький птенчик из гнездышка. Беспомощно. Сейчас его сожрет злая киска. Вместо этого его облизала сумасбродная собака. «Надо сначала научиться летать», – буркнула я. Но мою руку со свертка он убрал решительно. И собственноручно распотрошил его.
Библия. Широкополая черная шляпа с какими-то прядками по бокам. А, это, наверное, хасидское. Самоучитель иврита. Папка бело-голубого цвета. Я вспомнила, что платье подружки невесты, в которое, по-видимому, сегодня одета Бриг, именно в таких тонах. Эта папка – тоже подружка невесты.
«Это что?» «Вещи твоего деда». «Деда?» «Да». «Моего деда?» «Именно так». «Деда по какой линии?» «Йохана и Эльзе». «И где они были все это время, эти вещи? С сорок третьего?? Больше шестидесяти лет». «У твоего деда». «Что?»
«Марта. Ты можешь сесть? Спасибо. Дело в том, что сегодня в 4:45 утра умер твой дедушка. Вот ты снова вскочила… Садись, очень тебя прошу, мне неудобно с тобой разговаривать, когда я нахожусь в кресле. Это только скворцы весело поют, сидя в скворечнике. Возможно, потому что его крепят к дереву. Кроты не поют, так ведь? Садись. Кроме того, что это – веселое известие, ты еще и вымахала до 178, немного высоковата. Умер твой дед – Отто фон Вайхен, единственный сын барона фон Вайхена. В возрасте девяноста четырех лет. От рака позвоночника». «Олаф, в 1989 году, весной, мы ездили в СССР, и я молилась на могиле деда. Думаете, мне это приснилось? Того самого деда, который, как вы говорите, умер сегодня в 4:45». Мой дед не погиб во время Второй мировой войны. Мой дед умер сегодня. А еще он был евреем-хасидом. Чушь!
Герр Кох простучал пальцами по ручке кресла несколько тактов марша. Я пыталась понять, какого именно марша и почему я решила, что это марш, но сбилась с ритма. Потому что вдруг обратила внимание на то, что у Коха длинные и сильные пальцы. Он был маленького роста, и его руки почти полностью утопали в рукавах рубашек, пиджаков и джемперов. У него не было личного портного, и, в отличие от моего отца, который как раз имел хорошее телосложение, не шил костюмы и рубашки на заказ, поэтому фабричные вещи оказывались всегда пусть хоть немного, но великоваты для него. Сейчас было почти лето, поэтому он был в рубашке с короткими рукавами. Я никогда не видела Олафа Коха летом.
«Марта, такое случается. Ты тогда могла подумать, что СССР не будет? А будет, например, такое государство, как Казахстан? Хотя ты была ребенком, и, по-видимому, это тебя не интересовало. Ты была в стране, которой уже не существует. И молилась на могиле деда, который умер только сейчас. Иногда о важных вещах узнаешь спустя какое-то время. А часто и вообще не узнаешь. И еще неизвестно, что лучше».
«Олаф, это был марш? Вы сейчас отстучали пальцами». «В определенном смысле. Это Хорст Вессель [1] ». «Народничество. Интересно, дед любил этот марш? Тот дед, который умер тогда, скорее всего, любил. А этот, который умер сегодня?» «Не знаю. С ним невозможно было общаться. Именно невозможно, а не трудно». «Он был агрессивным?» «Марта, поговори с Йоханом. На самом деле, я навещал твоего деда в соответствии с контрактом раз в полгода. И воспоминания об этих посещениях не из приятных. Йозефа я информировал о каждом моем визите. Не могу сказать, что меня это тяготило, в конечном счете, такова уж моя работа, но я втайне радовался, что не имею с этим человеком никакой родственной связи. Твой дедушка был больным. Сейчас я не имею в виду рак, который его сломил. Он болел им меньше года. Я говорю о другой болезни. Возможно, это был рак души. Изо рта у него постоянно свисала тонкая и длинная ниточка слюны, как будто неведомый паук плел в его пасти кружевную западню и охотился за его языком или за гландами. Выжидал, пока они отпадут. Твой дед любил разговаривать. Но он говорил на таком языке, что понять его было невозможно. Точно так же он писал. Посмотри на его записи, они в папке».
Я подумала, что до сих пор и не подозревала о поэтичности Олафа Коха, точно так же, как и о длине и силе его пальцев. Может, поэтичность Олафа Коха неразрывно связана с летом? Мое чрезмерное концентрирование на Олафе свидетельствовало о том, что известие о деде было для меня фактически убийственным, я просто не могла в это поверить.
Несколько листочков выпало мне на колени. Среднего объема тетрадь сползла на пол, Тролль мгновенно припал к ней носом. Я легонько топнула ногой, пес глянул на меня с обидой. Но отошел. Еще бы. Тридцать девятый размер ноги выглядит, как небольшая, но мощная собака! «Это иврит?» «Нет. Если бы. Это – непонятно что. Совпадает несколько знаков, вот и все. Но твой дед был убежден в том, что пишет и общается на иврите». «Значит, мой дед был евреем». «Марта, твой дед был немецким бароном. И ты об этом прекрасно знаешь». «Вы хотите сказать, Олаф, что мой дед был немецким бароном, который иногда ходил в хасидской шляпе с прядками и был убежден в том, что общается на иврите? Не думаю, что это расценивалось как забавное чудачество даже то гда, когда он родился. Я уже не говорю о тридцатых и сороковых годах двадцатого века. Или вы хотите сказать, что у немцев-аристократов поощрялись такая одежда и такое поведение?»
«Марта – Йохан! Я думаю, что вам с отцом будет о чем поговорить». «Только с отцом? А как насчет Эльзе?» Ответа не последовало. Младшая сестренка ничего не знает. «А это что?» Рядом с записями на вымышленном языке я увидела глянцевую карточку-прямоугольник с изображенными на ней двумя персиками. Она была похожа на те, что продаются с наборами «Учим ребенка считать!» Или на карточку детского лото. Один плюс один равняется два. Персики были подписаны. Ясное дело, на том же языке, который мой дед (я уже освоилась с тем, чтобы называть его дедом) считал ивритом. Вообще, вся эта картинка была густо испещрена черными чернилами, замордованные плоды, отвратно. Я спрятала ее в папку. Ладони вспотели. Нельзя так пугаться персиков. «Дедовы персики, – сказал Олаф. – Он любил мне это показывать и заставлял читать. Если бы я что-то понимал. Марта, тебе плохо?»
Я и правда чувствовала себя нехорошо. Уши горели, во рту пересохло, ладони взмокли. Олаф вышел и вскоре вернулся с двумя стаканами воды. Перелил из двух маленьких бутылочек, Олаф никогда ничего не пил из бутылок или банок – только кружки или стаканы; всегда тихо, но настойчиво делал замечания Манфреду, который часто встречал поверенного с банкой пива в руке. Тролль сопровождал Коха на расстоянии своего прыжка. «Ты бы убрала с шеи шарфик, он… э-э-э… сдавливает», – сказал господин Кох. Я забыла, что на моей шее уже была готова шелковая удавка. Подарок Дерека. Пунктирные коричневые линии на тускло-белом фоне.«Олаф, и что теперь? Нужно устраивать похороны, нужно сообщить родителям, наверное, нужны объявления в газетах? Составить некролог? У меня путаются мысли, простите. Не могу в себя прийти. Никак». «Марта, осторожнее. Ты облилась водой. Похороны – это моя забота. Честно говоря, даже не моя, этим занимается заведение, где его содержали. Соответствующие распоряжения я отдал. Завтра его доставят в крематорий, ты можешь подойти, хотя это не обязательно, все состоится в крематории этого заведения, очень быстро, не думаю, что это будет напоминать торжественную церемонию. А я потом принесу вам урну. Если пожелает Йохан. В принципе, есть возможность оставить урну на территории местного кладбища. Большинство родственников пациентов поступают именно так».
«Я не думаю, что…» «И никаких газет, Марта. Это закрытое заведение. Я прошу прощения, но в нем не держат обычных людей с простыми историями, понимаешь? Ты все правильно сказала, твой дед погиб еще в сорок третьем, пусть оно так и остается. Огласка и публичность этой смерти ни к чему. Да и вашим жизням тоже. Детка, тут уж ничего не поделаешь. Приедет Йохан, я думаю, что он все тебе объяснит. Я не знал, осведомлена ты или нет относительно этого дела, Йохан никогда не говорил со мной об этом. Никто не мог подумать, что все это случится именно тогда, когда его не будет в городе, и никого не будет, кроме тебя». Я неопределенно кивнула. Я ничего не понимала.
«Марта, ты собираешься пойти туда завтра?» «Я…» «Я спрашиваю, потому что мне нужно заказать пропуск. Так ты пойдешь? Ну, ладно. Обязательно прихвати с собой какой-нибудь документ, хорошо?» «Возьму права». «Замечательно! Права – это замечательно. Тогда распишись в подтверждение того, что я оставил тебе вещи. Здесь опись. Пожалуйста, на каждой странице. И я пошел». Я чувствовала, что ему стало легче от того, что он с этим покончил. «Марта, тебе сейчас лучше побыть с кем-нибудь. К сожалению, не могу составить тебе компанию, нужно это дело довести до конца. Смерть – очень забюрократизированное событие. Особенно, в сравнении с рождением. Странно, ведь заканчивать дело должно быть легче, чем его начинать». «Не всегда. Мне легче начинать. А вот заканчивать не очень хочется».
«Здесь не тот случай. Хочется или нет – все равно… Давай, я позвоню Бригитте». «Она на свадьбе». «О! Может, тогда Ханне?» «Я попрошу Дерека». Олаф поднял левую бровь. Никто в нашем окружении не любит Дерека. Кроме меня. «Дерека. Попросишь Дерека… Что ж. Значит, Дерека. Ну, в конце концов, как хочешь. Агата передавала тебе привет, если Дерек… будет занят, ты можешь подъехать к ней в клуб. Они сегодня празднуют один из дней рождения Карлсона. У них не скучно. Кроме того, ты знаешь, что она всегда тебе рада».Глава вторая
Больше всего мне сейчас хотелось позвонить даже не Дереку. А тете Эльзе. Хотя я знала, что ее нельзя огорчать. Это был семейный постулат: ни при каких условиях не волновать тетю Эльзе, ей досталось и без нас, бедняжке. Но все равно хотелось позвонить, изменить голос и сказать: «Все, крошка, твой папочка умер и вскоре придет за тобой». Но я не могла поступить настолько подло. Тете Эльзе вполне хватало Боно. Бонапарта, моего кузена. Когда моя мать была недовольна каким-то из наших с Манфредом поступков, мы всегда ей напоминали о Боно. Хорошо иметь кузена, из которого «ку-ку» выскакивает и раздается чаще, чем из шварцвальдских старинных часов с кукушкой. Установлено, что эту птичку в часах придумал мастер Кеттерер из Шенвальда. Странно, что фамилия Боно была не Кеттерер, потому что казалось, будто его тоже мог выдумать или смастерить этот господин. То есть я хочу сказать, что Боно выглядел вполне респектабельно, его можно было назвать славным, но все равно наступал момент и из него лезло наружу традиционное «ку-ку». Пока что этот механизм не отказывал.
Боно – единственный из моих родственников, кто имеет каноническую арийскую внешность: он блондин с серо-голубыми глазами. Это вообще-то странно, потому что отцом Боно был турок по имени Хакан Исмаил Демирель. Хотя среди турок блондины встречаются не так уж и редко. Бонапартом сына назвал он, и именно в честь того, о ком вы подумали. Когда Боно вырос, он стал Боно Демирелем, сейчас он жил во Франции, скрывал свое немецко-тюркское происхождение, сочинял психоделическую музыку и работал диджеем в закрытом клубе любителей мерло. Он красил волосы, ресницы и брови в черно-коричневый цвет. И никогда не случалось такого, чтобы волосы его выдали. Он за этим следил. Обычно Боно носил высокие черные сапоги поверх джинсов, черное коротенькое узенькое пальтишко и черный беретик и вел себя, как фам фаталь и Че Гевара одновременно, если вообще можно себе такое представить.
Я не могу назвать собственного кузена извращенцем в классическом понимании этого слова (а наверняка есть и классическое понимание!), но, чтобы было понятно, на мой день рождения в этом году я получила от него открытку такого содержания: «Ква-ква-ква-ква!» По-моему, немного странно получить такое от кузена, а не от лягушки. Но принимая во внимание то, что деда держали в закрытом заведении и он был не в своем уме, теперь я пересмотрела свое отношение к Бонапарту Демирелю и осознала, что, возможно, на некоторые вещи в своем поведении он просто не мог повлиять. Еще неизвестно, какие пертурбации в связи с этими обстоятельствами ожидают меня и Манфреда. Возможно, когда-то мы будем прятаться от Тролля на шкафу, время от времени жмуриться (со мной это уже сейчас началось) и точить коготки о мебель.
Боно был талантливым, у меня есть несколько дисков с его записями. Интересная музыка, и ни одного намека на «ква-ква» или «ку-ку». Во Францию он отправился потому, что его не понимала собственная мать, да и все мы, его родственники, не слишком благосклонно к нему относились. Все привыкли считать его недотыкомкой, потому что можно сколько угодно быть талантливым музыкантом-диджеем, все равно твои родственники с бóльшим уважением будут относиться к пусть и не очень талантливым, но юристам.
Я посмотрела на чашку в своих руках и поняла, что все это время я допивала кофе Олафа Коха. Надеюсь, что поверенные ведут благоразумный образ жизни и я не буду осчастливлена, например, бытовым сифилисом. Раздалась «Ода к радости», это была моя мать. С удивлением я осознала, что вовсе не рада тому, что она дала о себе знать, кроме того, я не знала, что я должна ей сказать. Хорошо, что моя мать никогда не чувствует сложностей в общении. «Ну, и как там цветы?» – услышала я ее уверенный, радостный голос. «Цветы – хорошо», – ответила я. И подумала, как бы она отреагировала, если бы я сказала: «Цветы – хорошо. По крайней мере, они живы. А вот наш дедушка – нет».
«Манфред завтра будет дома. Ближе к пяти. Так ты еще разок выгуляй Тролля утром. Может, даже переночуй у Манфреда, наш маленький капризуля не любит оставаться ночью один. Отец сначала заедет за мной к Роззи, и мы будем в Берлине дня через два-три. Если отцу понравится домашнее пиво Клауса, это муж Розамунды, не поверишь, но он туда добавляет горсточку базилика, то мы еще немного задержимся. Но почему ты меня не поздравляешь?» «С чем?» – спросила я, потому что понятия не имела, что она имеет в виду. «Ты разве до сих пор не проверила в гугле?» Я решила, что лучше промолчать. «Марта, ты меня искренне удивляешь! Фредди занял второе место! И получил один специальный приз! Только не говори мне, что ты забыла, зачем мы все отправились в Баварию». О Господи. Манфреда наградили. Но я и не сомневалась. Манфред никогда бы не поехал на конкурс, если бы не чувствовал уверенности в себе. «О, – сказала я. – Поздравляю! Я посылала смс, наверное, они не дошли. Так что я считала, что уже вас поздравила. Это – здорово!» Я не могу сказать, что боюсь собственную мать или Манфреда, но чаще всего я вру именно им. Из-за того, что мне важно выглядеть в их глазах не такой, какой я есть, забывчивой, а такой же, как они: активной и настойчивой. Хотя перед отцом я тоже актерствую, он не одобрит юриста, который забывает слишком о многих вещах. «Ты превращаешься в разиню. Смотри, студенты будут зубоскальничать. Тренируй память. Как там у тебя?»
Я боялась этого вопроса. Он был таким, на который нужно очень осторожно отвечать, чтобы не взволновать мать известием о деде, пусть это и не ее отец, но и чтобы это не выглядело так, будто я скрываю информацию. «Приходил Олаф, передал мне кое-какие вещи. Нужно было уладить тут… кое-какие непредвиденные формальности, но я справилась. Вроде бы». Вот так: я превращалась в лгунишку. Из-за умершего деда, Боже милостивый. Все же хорошо, что появился кто-то, на кого можно свалить мое злоупотребление ложью. «Формальности? Ты переписала завещание, или решила обручиться? Тебя хотят уволить? Ты соблазнила студента?» «Нет, мама. Когда вернетесь – я с удовольствием с вами обо всем этом поговорю». «Нам точно не о чем волноваться, Марта? Поклянись». «Точно. Потом поговорим. Отцу – привет, еще и какой». «Передам. А ты, уж, будь добра, отправь поздравительную смс Фредди. Хотя бы. И скажи об этом Эльзе. И Ханне! Все».
Я послушно набрала смс Манфреду. И даже получила ответ в виде восклицательного знака. Ну вот зачем так оперативно отвечать родной сестре, если тебе жаль потратить на нее хотя бы одну букву. Ох. Проехали. Семья. Тете Эльзе я не позвонила, пришлось бы потом всем объяснять, почему я не сообщила ей о смерти отца. Как это по-идиотски звучит. Смерть отца Эльзе. Хорошо еще, что этот дед – не отец мамы, я бы умерла от попытки объяснить ей все это.
Ханне я ничего не сообщала. Ханна – моя подруга. Сейчас она отдыхает в Турции, и, даже невзирая на то, что отдых гармонизирует ее мысли, а легкий бриз и мурлыканье турецких мужчин, словно музыка Моцарта, радуют ей слух, я не думаю, что она даже из вежливости порадовалась бы за Манфреда. Потому что в свое время Манфред ее бросил. У нее есть специальный лакированный черный ящик, где она хранит его прощальную записку для того, чтобы никогда не забывать, какие во Вселенной живут мерзавцы. А на кресле-качалке, которое Манфред сконструировал и смастерил специально для нее, она налепила шипы и гвозди. Теперь отдыхать в кресле могут разве что йоги, для Ханны это кресло является символом того, как любые хорошие и комфортные вещь, человек или чувство со временем могут превратиться в пытку. В этом году Ханна хотела отнести кресло на выставку «Разбитые сердца», но потом решила, что не надо сообщать всему свету о том, какой Манфред негодяй, в то же время создавая ему популярность как художнику. Манфреда Ханна называет «мой персональный Гитлер», поэтому было бы странно, если бы она порадовалась тому, что он выиграл приз. На его день рождения Ханна передала через меня антикварный нож. Дорогой и изящный. «Может, он когда-нибудь надумает покончить с собой, так я буду рада, если он это сделает именно моим ножом», – сказала она мне.
Мать же умеет создавать идеализированный мир, в котором никто никого не бросает, все друг друга любят и умеют расставаться со своими обидами, как итальянцы со старой мебелью под Новый год, ради общечеловеческих ценностей. Если бы мать была в раю в тот момент, когда Ева прияблочевала Адама, ей удалось бы все уладить с Богом по-семейному, и неизвестно, кто бы рожал в муках. В мамином мирке Ханна радуется за Манфреда, а Манфред никогда не бросал Ханну и не называет ее похотливой шлюхой, а она его – похотливым мерзавцем. Впрочем, надо отдать маме должное, сама она ведет себя так, будто ее никто и никогда не обижал, не предавал и не подставлял.
Тролль в задумчивости сидел около дедова свертка. Казалось, что он дышит с присвистом. На самом деле это он потихоньку скулил. Посягал на шляпу с прядками. «Троллик, даже не думай, малыш», – предупредила его я. Тролль вывернул уши в мою сторону. И покосился карим глазом. Думать о шляпе с аппетитными прядками он не перестал, но сделал вид, что мое мнение его интересует. У собак это превосходно получается. Надо поучиться. Я взяла сверток и спрятала его в шкафу отца. Тролль продемонстрировал мне, что такого поведения лично он не одобряет, об этом свидетельствовало выражение его длинноносой докторской мордочки. Таксы похожи на врачей, аптекарей и поверенных. Надо было назвать его Олаф. Или просто – Кох.
Опять мобильный. «Марта, ну и где ты?» Агата. «Привет, дома. Присматриваю за кактусами, Троллем и свертком от твоего мужа». «Он тебе что, притащил хомячков или червячков?» «Нет. Шляпу и бумаги». «Так зачем ты за ними присматриваешь? Они же не расползутся. Олаф сказал, что ты придешь к нам в клуб! Мне интересно, почему я до сих пор тебя здесь не вижу». «Мне надо поговорить с Дереком». «Вот оно как… с Дереком. О’кей. Тогда позвоню тебе позже. Отто сказал, что ты не в лучшей форме. Имей в виду, мы здесь еще долго будем».
Пора было позвонить Дереку. Сколько можно тянуть? Это так глупо, звонить по телефону мужчине, для которого ты наверняка ничего не значишь, и рассказывать о том, что твой погибший дед вчера умер в заведении для слабоумных, оставив семье в наследство шляпу с прядками и записки на псевдоиврите.
Так странно измерять проживание с мужчиной с момента знакомства с ним до расставания. Согласно такому измерению, я живу с Дереком Ромбергом три года. Я продолжаю с ним и им жить. В отличие от него. Мы познакомились во время научной конференции в Вене, где он в то время жил. А я тогда жила с Оскаром. В Берлине. С Оскаром я состояла в так называемом гостевом браке и львиную долю своих сил тратила на то, чтобы уговорить его не изменять формат наших отношений, он хотел, чтобы я переехала к нему. У него была крючкообразная психология, он постоянно нуждался в крючках, в наживке для этих крючков и в добыче для этих наживок. Я заметила, что такие мужчины выбирают галстуки с узорами в виде ромбов или в вертикальную полоску. В любом случае, они обязательно отдают предпочтение именно галстукам.
Оскар был блестящим юристом, иначе отец никогда бы не взял его к себе в помощники. Он был ироничным педантом. Большинство людей поначалу считали, что он представитель нетрадиционной сексуальной ориентации или просто высокомерный тип. Правдой было последнее. Первое, что я вижу, вспоминая Оскара, белизна его рубашек. Они были такими белыми, что если бы кто-то сбросил их на пол и прошелся по ним, они бы скрипели, как снег при легком морозце. Ясно, что никому не приходило в голову поступить так с рубашками Оскара. Кроме меня. Мне это приходило в голову, иногда по нескольку раз на день. Я часто фантазировала на эту тему, но никогда не осмеливалась это проделать. Второе – сверхъестественная белизна его зубов. Под языком они не скрипели, а пальцем я, опять-таки, не осмеливалась придавить. Успешный и целеустремленный Оскар.
С Оскаром нас познакомил отец. Я знала, зачем он нас знакомит. Отец – эстет и визуал, он всегда одевался со вкусом и сочетал в одежде только такие вещи, которые не только ему подходили, но и гармонировали друг с другом. Внешне мы с Оскаром чудесно гармонировали. Как две вертикальные параллельные прямые. Как два парковых дерева, корни которых не переплелись под землей. Две колонны. Как две горизонтальные параллельные прямые мы тоже воспринимались и выглядели неплохо. Но любая перпендикуляризация (как говорит Манфред) была для нас болезненной, непривычной, некомфортной и ненужной. Мы оба об этом знали. Я пыталась относиться к этому философски. Он был красивым и образованным, а еще мне нравилось, как он шутил и прибирал у меня в доме. Кроме того, мы познакомились тогда, когда я начала думать, что для моего имиджа (да, я думаю о таких вещах), то есть внешней подачи меня как личности, необходимо постоянное присутствие мужчины в моей жизни. Меня беспокоило то, что два года кряду у меня не было постоянного друга. А все мои связи были нечастыми, фактически одноразовыми и не успевали превращаться в отношения. Собственно, даже не это. Я просто устала от поисков кого-то подходящего. И попробовала ужиться с неподходящим.
Оскар боролся за наши чувства. Он отметал неконструктивные мысли о том, что никаких чувств нет. Он решил, что они есть, доводя меня до бешенства каждодневной борьбой за них. Многие говорили, в том числе и Ханна, что Оскар использует меня ради того, чтобы сделать блестящую карьеру. С этим я не могу согласиться. Не потому, что идеализирую Оскара. И не потому, что о таком думать неприятно. А потому, что хорошо знаю своего отца. Конечно, отец хотел устроить раз и навсегда мою супружескую жизнь. Но именно поэтому он никогда не подложил бы мне в кровать свинью в лице невежды, банального карьериста и сволочи.
Все это я вспоминаю для того, чтобы было понятно, почему я так легко сошлась с Дереком. Когда наши руки соприкоснулись на термосе с кофе и я почувствовала, как меня прошиб пот, Оскар и его эфемерная борьба стали восприниматься мной как кинолента, далекая от моей реальной жизни. А еще я подумала, что никогда в жизни так не сходила с ума от того, что моя рука встретилась с чьей-то рукой. Чужая рука – не такая уж невидаль, чтобы так бросило в дрожь. А меня лихорадило от предчувствий, что-то квакало в желудке, как всегда, когда я возбуждалась. Когда мы вернулись в конференц-зал, я не могла ни о чем думать, кроме него. Мне даже не нужно было на него смотреть, хотя я его плохо запомнила. Его прикосновение словно оживило мое тело, включило его, сменило батарейки. Замершая женщина, как механизм довольно простой, иногда нуждается в ключике. Маленьком или большом ключике, несколько оборотов, и она завелась, она ожила.
Мы не переспали в тот же день не потому, что я пыталась выглядеть неприступной. Мне бы это не удалось, я очень сильно его хотела. Мы не переспали только потому, что Дерек перепутал номер в гостинице. Он постучал в соседний номер, где остановился профессор Хайдельбергского университета. Несмотря на второй час ночи, профессор двери открыл, появлению Дерека искренне обрадовался, раздобыл стаканы, и они шумели всю ночь, перемежая теологические и теоретические споры с короткими тостами. Дерек избавился от профессора около шести утра, пообещав ему, что если у него родится сын, то он эксперимента ради будет растить малыша в бочке.
Мы могли бы не переспать и на следующий день, потому что я стала безумно волноваться. Думать, что не понравлюсь ему как женщина. Начала вспоминать, что мне говорили другие мужчины, домышлять то, о чем они умалчивали, считать, сколько их у меня было, любовников, и достаточное ли это количество для того, чтобы чувствовать себя опытной женщиной и иметь власть над телом мужчины. Дерек о таких вещах никогда не думал. Он или хотел, или нет, все остальное было условностями. Я завидовала этому качеству, пыталась перенять его, но не удавалось.
Год мы встречались наездами. Я всегда буду помнить этот год. Я не знаю, что со мной происходило в течение того года. Я не помню, повышали мне заработную плату или нет, болела я или была здорова, с кем я ссорилась, с кем знакомилась; я не помню, чьи дни рождения я праздновала, были у меня неприятности или приятные события, я просто помню электронное табло «Берлин – Вена», открытки с изображениями Венской оперы с его приписками «арию «Благочестивая Марта» исполняет Дерек Р.». Свою постоянную готовность к овуляции и чувство счастливого волнения. Дерек наведывался в Берлин. Я в Вену. Я дарила ему свитера, футболки, медных медвежат и музыкальные диски. Он мне – шарфики, юбки, которые все были мне маловаты, шоколадных моцартов и керамические чашечки.Я рассказала ему об Оскаре после того, как мы в первый раз занимались любовью. Он на это не отреагировал. Я думала, что он оставил информацию об Оскаре без внимания, но я ошибалась. Потому что именно к Оскару он обратился, когда решил обосноваться в Берлине, искал квартиру, а потом приобрел баржу. Оскар был прекрасным специалистом по договорному праву. И все юридические действия с недвижимым имуществом были его страстью. Я не могу сказать, что очень обрадовалась известию о том, что Дерек переезжает жить в Берлин, если честно, то я была в растерянности. Так как поняла, что он переезжает не ко мне. И не из-за меня. Ему предложили выгодный научный грант. Он стал искать квартиру, нашел ее, и жил там больше года. Он жил там один, в отличие от Оскара, никогда не приглашая меня съехаться. Все это время мы встречались, я считала его своим любимым, он вроде бы не имел ничего против этого. А потом Дерек купил баржу и уединился на ней. От гранта он отказался, так как не хотел больше заниматься юриспруденцией. Собственно, с баржи все и началось. «Баржа и вода изменили мое сознание». Я сохранила эту смс, она до сих пор находится в архиве моего мобильного телефона. Я ничего не понимала. Ни тогда, ни сейчас. Хотя пытаюсь. Своим баржеванием он дал мне понять, что не видит со мной общего настоящего и будущего.
Сначала он исчезал на месяц. Где-то плавал. Рыбачил. Думал. Иногда присылал мне смс и электронные письма. И никогда не отвечал на мои. То есть он говорил и писал только о том, о чем хотел сам. А не о том, что интересовало меня и о чем хотела услышать я. Потом он начал исчезать на более длительные сроки. Дерек не давал о себе знать, и я сходила с ума. Не потому, что я думала, будто с ним что-то случилось, нет. Конечно же, об этом я тоже думала, но чаще я думала о том, что это – всё. Не шутка. Он меня бросает. Я меняла свои маршруты, чтобы обязательно проехать мимо места, где он причаливал. Я теряла килограммы и голову. Каждую неделю я ходила сдавать кровь, думала, чем больше ее отдам, тем быстрее избавлюсь от этого вируса любви. Сдавать кровь мне запретили. И сказали, если еще раз меня там увидят, сообщат в соответствующие психологические и социальные службы.
Может сложиться впечатление, что Дерек устал от размеренной жизни юриста и решил немного пожить природником, то есть человеком, которого кормит только рыба, та, что он вылавливает, жарит или продает. Я очень волновалась. Так как не знала, зачем он так живет. Потом узнала о том, что он живет замечательно, ни в чем привычном себе не отказывая, на проценты от ценных бумаг, а также за счет арендной платы за свою венскую квартиру. Сказала мне об этом его нынешняя девушка, я так долго убеждала себя в том, что она – временное явление, что и сейчас мне трудно поверить в обратное. Ее зовут Наташа Ченски. Она из Кракова. В Берлине живет слишком много иностранцев.
Конечно, вся моя семья была знакома с Дереком. Он никогда этого не жаждал, впрочем, как и я. Но, учитывая характеры матери, отца и Манфреда, не говоря уже о Тролле, избежать этого знакомства было невозможно. Когда я ездила к Дереку в Вену, отец не особенно беспокоился по поводу того, что у меня появилась новая симпатия. Сначала он думал, что я посещаю оперные премьеры, и даже хвастался мною перед приятелями. По мнению отца, это было правильным использованием денег. «Интеллигентным и развивающим». Потом он решил, что я фанатею от творчества Густава Климта. Творчество выдающегося австрийского художника отец, по неизвестным мне причинам, считал лесбийским (возможно, виной тому были названия его картин – «Девушки», «Сафо», «Подруги», их можно было воспринимать не только как косвенное доказательство, но и в определенных случаях – как прямое), но не возражал против того, что Климт – большой и серьезный художник. Вообще к лесбийству мой отец относился снисходительнее, чем к гомосексуализму, поэтому, если бы я оказалась лесбиянкой, он пребывал бы в растерянности несколько дней, но потом пришел бы в себя и даже прижал бы меня к груди, я уверена, а вот если бы вдруг выяснилось, что Манфред – гомосексуалист, тогда отец бы устроил трагический спектакль по всем канонам и, возможно, с чьей-то смертью в финале.
Наконец, когда открытки от Дерека стали приходить каждую неделю, а сам он начал наведываться в Берлин, до отца дошло, что у меня в Вене кто-то есть. Папа вел себя вполне спокойно, хотя я видела, что ему было интересно, кто же он, мой венский избранник. Но я никогда не признавалась в том, что Дерек – юрист. «Экскурсионная, опереточная любовь» – именно так он определил Дерека. Он даже не брюзжал из-за того, что я бросила Оскара. Отец уважал мой выбор.
Его спокойствие куда-то улетучилось, когда Дерек прибыл в Берлин и начал обустраиваться. Хотя, нет, не так. Отец пришел в бешенство, когда узнал, что Дерек – юрист. Если бы Дерек был менеджером, или аналитиком, или даже строителем, садовником, или горничной, отец это воспринял бы гораздо спокойнее. «Это ты его сюда привезла, Марта? Университет и в самом деле намерен оплачивать его прихоти? Да кого в Берлине могут интересовать мысли представителя жульнической венской школы права? Абсурд», – выпалил он. У отца было сложное отношение к венским юристам. Об этом знали все из его ближайшего окружения. Отец любил Вену. Он ценил венский вальс, стулья, кофе, булочки и сосиски. Он любил венские балы и оперу. Он увлекался музыкой Штрауса, Шуберта, Моцарта, Бетховена и Гайдна. Несмотря на лесбийство картин Климта, в конце концов, отец уважал и его. Он, наверное, прыгал бы до потолка, если бы я влюбилась в венского кондитера или певца. Но я влюбилась в венского юриста. Это приравнивалось к катастрофе.
Когда отец слышал, как кто-то заводил речь о венской юридической школе, он начинал тереть большим пальцем об указательный. А делал он так лишь в состоянии крайнего раздражения. «Венская юридическая школа? – переспрашивал он шепотом. – Это вы что имеете в виду?» Конечно, в 90 % случаев ему отвечали, что имеют в виду основателя конституционного судопроизводства Ганса Кельзена. После этого отца невозможно было остановить. Он расправлял плечи, потирание пальцами выглядело уж вовсе неприличным, а отец начинал, будто оперную партию, свою речь. Четко по нотам. Где выше, где ниже, где маленькими и заостренными мелкими словами, где растягивая определенные буквы, когда даже согласная приобретала звучание гласной. Это было ужасно и красиво в одно и то же время. Он сообщал, что Кельзен случайно родился в Вене, и это еще не факт, что он вообще там родился, этого будто бы никто не знает наверняка! Никто не доказал. Всех остальных венских юристов, на идеях которых и основывается «вся их неестественная, абсурдная венская юридическая школа», он представлял как извращенцев и приспешников Зигмунда Фрейда, которые объясняют само наличие права исключительно через секс! «Право они поясняют через сексуальные идеи Фрейда – представьте себе! Через сны, а сны – через секс. Так же они поступают с правом! На большее этих недоумков не хватает!» В этом месте у меня всегда начинали краснеть уши. «Лучше бы подались в оперные певцы, колбасники, булочники или мебельщики! Только тогда от них была бы польза мировому сообществу!» На моей памяти все защитники венской юридической школы тут же начинали приводить многочисленные примеры венских ученых-юристов и их свершений и успехов.
Все, кроме Дерека. Дерек на это сказал: «Вам нравятся зингшпили?» «Что такое? В чем дело?» – растерявшись, сердито крикнул отец. Он умеет, растерявшись, сердито кричать. Это – настоящее искусство! «Зингшпиль. Неужели не знаете? Так немцы и австрийцы называют комические оперы. Мне лично нравятся вещички Карла Диттера фон Диттерсдорфа, [2] самые остроумные и по-детски наивные, на мой взгляд. Будто кто-то щекочет тебе пятки». «Щекочет пятки?» – переспросил отец. «Да-да. Щекочет пятки. Хотите объяснить это с помощью выдающихся идей Фрейда?» – невинно поинтересовался Дерек и нажил себе на всю оставшуюся жизнь врага и зрителя в одном лице.
На Рождество отец получил от Дерека подарок. Это была картина. Настоящая копия «Похищения Европы» Тициана, которую Дерек заказал у настоящих мастеров-копировальщиков Isabella Stewart Gardner Museum, что в Бостоне. Отец имел представление о том, сколько это может стоить, он знал толк в искусстве. Но Дерек не был бы Дереком, если бы не привнес в картину нечто свое. Вместо лица дивы, олицетворяющей собой Европу, мы увидели портрет Кельзена. На преступном Быке была надпись: «Коварные австрийские колбасники». Река, где все это происходило, конечно же, имела название Дунай, что же еще могло быть? Разве что – Рейн. Водный объединитель Австрии и Германии. А у ангелов, которые кружили вокруг Европы-Кельзена и ничего не могли поделать ввиду своего малолетства и сказочности, были лица отца. Я не знаю, что отец сделал с этой картиной, но в том, что он ее не уничтожил – я уверена. Несмотря ни на что: ни на свои недостатки, ни на достоинства, – отец был тщеславен и не лишен чувства юмора. Кроме того, он знал толк в истинной стоимости вещей.Глава третья
Мой телефонный звонок был проглочен автоответчиком Дерека. Автоответчик Дерека общался с теми, кто ему звонил, голосом хозяйки квартиры фрау Катарины Фоль. Она сообщила, что ее нет дома, или она кормит голубей на балконе, или слушает Баха, поэтому вас не слышит, и будет рада, если вы оставите для нее сообщение. «Если вы даже ошиблись номером или адресатом – оставляйте свое сообщение, так как я люблю слушать сообщения живых людей и музыку покойников». Так заканчивала она свою запись. Дерек ее обожал, выглядела она как мошенница аристократического происхождения и сушила свои шелковые носки на ногах кукол Барби, которые были разложены вдоль подоконника этими ногами кверху.
Однажды я спросила, чьи это куклы, ее внучек? Катарина сказала, что не знает, с какого перепуга мне это пришло в голову, но ей приятно, что я думаю, что у нее есть внучки. А потом добавила: «Я никогда не решалась завести себе кошку, дорогуша. Что уж говорить о внучках. И кошки, и внучки вороватые, капризничают, портят мебель и обои, разбрасывают повсюду свои волосы, думают об ухажерах, поедают самое вкусненькое. Но кошки, по крайней мере, не просят, чтобы им заплетали косички, рассказывали байки о мужчинах и других сказочных существах, и не трещат без конца о своих придурковатых подружках. Кроме того, кошки, в отличие от внучек, не будут выжидать, чтобы безраздельно хозяйничать в моей квартире и прибрать к рукам все мои шелковые носки и другие игрушки, когда я отброшу коньки». Катарине Фоль было семьдесят два года, похожа она была на мужчину под пятьдесят, который вырядился, как модель Коко Шанель. На свою прическу она тратила больше, чем на свое месячное пропитание. «Но это будет правдой, если не учитывать ром, мед и кофе, дорогуша!» – комментировала она.
Собственно, Дерек даже не сменил именные медные таблички возле ее двери и на почтовом ящике, вся его корреспонденция и все гости попадали непосредственно к Катарине Фоль, а не к Дереку. Психологически ему так было удобнее. «Иногда мне хочется, чтобы меня звали как-то иначе. Не спорю, что это странное желание, если тебя зовут Катарина Фоль, но и побыть Дереком Ромбергом какое-то время – интересно». У Катарины был домик под Берлином, где она прекрасно проводила время, когда город ее утомлял, «а также городская квартира одного человека, где я могу фантазировать сколько угодно». Она фактически не обременяла Дерека своим присутствием. Справедливее будет сказать – не баловала, так как он по ней скучал.
Тролль требовал общения. Он немного посидел около меня с одной стороны и даже одарил коровьим звуком из своего богатого музыкального арсенала. Потом мрачно уселся с другой. Я не обращала на него внимания, Тролль, как классический эгоцентрик, этого не понимал и долго терпеть не собирался. «Так. Сиди пока что здесь. Охраняй сверток, который лежит в шкафу». Тролль охранять ничего не умел, он умел крушить и доставать что-нибудь из любого тайника. «И сам ничего не трогай». Шкаф я закрыла на ключ, на всякий случай. И специально оставила ему на кресле несколько разных предметов: маленькое одеяло, которым мама грела ноги, один шерстяной носок странного размера и цвета (не знаю, кому он принадлежал) и карандаш. Когда Тролля внаглую, по его мнению, надолго оставляли одного, он развлекал себя тем, что стаскивал все вещи, лежащие в кресле, на кровати, на полках, на пол и укладывался на них.
Посмотрела на себя в зеркало. Ну что ж, если Дерека и в самом деле не будет в квартире, а паче чаяния будет Катарина, за себя мне не будет стыдно. Волосы собраны в низкий хвост, на шее – один из подаренных Дереком шарфиков, неброский кружевной топ с американским выкатом, легкая бежевая парка, бежевые брюки, мягкие туфли без каблуков. Не королева красоты, но вполне пристойная молодая женщина. «Вкусная», – так бы сказала Ханна.
Двери мне открыл венгр, Дерек нас знакомил, но я никак не могла вспомнить, как его зовут. Поэтому молчала. «Привет, – сказал он. – Вы похожи на кофейное пирожное. Не из круглых, а из других, ну, вы меня понимаете, – продолжил он, но зайти не приглашал. – Что-то принесли?» «Привет. Принесла, но не вам». «Катарине?» «Дереку». «А он на барже. Теперь здесь я живу, физически, ну, и Катарина». С того места, где я стояла, хорошо была видна гостиная.
Портретов никто так и не снял. Их было три. Не сразу, но мы расшифровали, кто эти мужи, лица которых были запортретизированы. Катарина Фоль этого не знала. Когда-то в одной бернской лавке она покупала набор старинных открыток и почтовых марок с изображениями голубей, а эти три портрета хозяин лавки уговорил ее забрать в качестве подарка. Катарина ценит подарки. Поэтому она их забрала, привезла в Германию и развесила на стенах своей гостиной.
На мой вопрос, не ее ли это родственники, она ответила: «Нет, это не мои родственники, милочка. Но я подумала вот о чем. Очки, усы и бороды могут превратить человека в универсального родственника для любого. Думаю, что мои родственники вполне могли выглядеть именно так. Иногда мне кажется, что я сама в них превращусь, если регулярно не буду выдергивать волоски над верхней губой и на подбородке». С этим трудно было поспорить. Расшифровать же, кто это, нам помогла Наташа Ченски, когда она впервые оказалась в этой квартире, она сказала, что гостиная очень напоминает ей классную комнату по физике. Это верно указало направление поисков, так мы идентифицировали портреты – это были выдающиеся физики, нобелевские лауреаты, И. Ван дер Ваальс, Г. Липман и Г. Лоренц, похожие друг на друга, как братья.
«Слушай! – Указательный палец венгра работал, как стрелка метронома. – А я тебя знаю! Точно. Ты – бывшая Дерека! Заходи!» Не знаю зачем, но я вошла. «Его, правда, нет, он на барже, вместе с Наташей, ты же в курсе о Наташе?» Конечно. Я была наташеосведомлена. «Дерек уступил мне квартиру. Ну, как уступил. Просто разрешил здесь жить. Я и живу. Хочешь чая с апельсиновым ликером?» Неожиданно для себя я согласилась. Что мне нравится в берлинских иностранцах, так это их гостеприимство. Пусть даже в чужой квартире, не имеет значения.
«У меня умер дед, – сказала я. – Сегодня утром». «Если хочешь, я могу помолиться за него в костеле. Я завтра все равно туда пойду. Ты веришь в Бога?» Вопрос о моей вере в Бога я проигнорировала, я не привыкла обсуждать подобное в таком формате. «Благодарю. Но мне кажется, лучше это делать в синагоге». «Это же церковь для евреев! С какой стати? Тебе виднее, конечно, но это странно. О’кей, не буду молиться. Давай лучше о веселом! Я тебе никого не напоминаю?» Он продемонстрировал мне профиль. Он действительно мне кого-то напоминал.
«Помогу! Вспомни этикетку новой фруктовой колбасы, вспомнила?» Он насвистел мне рекламный мотивчик. И я вспомнила. «Зачем ты уподобился герру Эрнсту Фруктелю? У него мерзкие бакенбарды, да и вообще». «Неправильно делаешь акцент! Это они содрали образ герра Эрнста Фруктеля со вполне реального Штефана Месароша! И они мне за это заплатят. Чуть позже. Потому что пока что я хочу сделать небольшую операцию, изменить разрез глаз». Штефан Месарош. Точно, так его зовут. Фамилия с венгерского переводится как мясник.
«Слушай, спасибо за чай. Мне нужно найти Дерека». «Если не хочешь соленых палочек с тмином и пива – тогда пока!» Вообще-то мне хотелось остаться здесь, поесть соленых палочек и попить пива, а возможно, и заняться любовью с герром Фруктелем, думаю, что это был неплохой план и мне бы удалось его воплотить в жизнь. Кроме того, в этом было что-то мультяшное, заниматься любовью с героем рекламы фруктовой колбасы, было бы о чем рассказать потомкам, но я упрямо следовала заранее составленному плану. Я шла к Дереку. «Чао».
«Эй! – услышала я. – А это не твой брат победил сегодня в Баварии? Конкурс для архитекторов, или что-то в этом роде. Манфред фон Вайхель?» «Мой. Второе место. Специальный приз». «А это правда, что скоро откроется его выставка? Так передавали по радио его голосом». «Наверное, правда. Даже если на этот раз он соврал, то вообще-то у него бывают выставки».
«Эй, подожди еще немного, у меня есть к тебе важное дело». «Какое?» «Мне необходимо получить именное приглашение на его выставку. Это же не трудно будет организовать?» «Ты специалист, журналист, зачем это тебе?» «Вообще-то я – химик. Ты думала, что я только то и делаю, что работаю лицом разных продуктов?» Я так не думала. Я вздохнула. «Слушай, на эти выставки можно приходить без приглашения. Вход – свободный». «Не сомневаюсь, но мне нужно именно приглашение!» «Зачем?» «Чтобы поразить фрау Фоль. Представь. Она открывает свой ящик, а там – белый конверт с тиснением, а лучше – цвета жженого сахара, это более изысканно, на нем указан адрес, мое имя. Она передает мне конверт, но не уходит, а ждет. Ты же знаешь, какая она любопытная. Из конверта к ее ногам выпадает шикарное приглашение на выставку! От интеллигентного человека, победителя конкурсов, знаменитости! И она будет относиться ко мне иначе. Я едва сдерживаюсь, чтобы не броситься на нее, так враждебно она на меня смотрит. Мой отец позволяет себе так смотреть только на русских. Но, согласись, у него ведь на это есть причины, хоть они и кажутся сомнительными, но они есть. А что такого я сделал фрау Фоль, чтобы она так на меня смотрела? И это после того, что я привез ей несколько баночек с печеным перцем». «Хорошо», – пообещала я. Манфред только обрадуется такой просьбе, а иногда мне бывает просто крайне необходимо к нему подлизаться.
Баржу Дерека нельзя было назвать красивой, может, это потому, что мне вообще никогда не нравились баржи. Опять я вру. Мне нравились баржи до тех самых пор, пока именно эта баржа… я думаю, что все понятно без лишних объяснений. На самом деле баржа Дерека похожа на пивную, мне кажется, что ее бывший хозяин был связан с ресторанным бизнесом, она выглядит как пивная, пережившая не лучшие времена.
Возможно, такое впечатление складывается из-за того, что крыша баржи обтянута тентовым покрытием с рекламой пива Berliner Weisse. Окна никогда не сияли, Дерек принципиально их не мыл, когда-то я вызвала специальную службу по мытью окон, он не разговаривал со мной неделю. Объяснять природу принципа «окнонемытия» он категорически отказывался.
На палубе я увидела антикварный стол, за которым Дерек охотился целый год. Два кованых стула, с виду изящные, но не помню ни одного случая, чтобы они не наградили меня синяками. Стулья были коварными, а я неуклюжей. Отстульные синяки выглядели на теле так, будто меня хорошенько отстегала фамильным медальоном безумная аристократка. Все изысканные вещи и люди не так просты в употреблении, как нам того хотелось бы. Хотя думать о том, что они принадлежат тебе, все же приятно.
А еще я увидела Наташу Ченски. Она пила кофе или чай, с того места, где я сейчас стояла, теребя шарфик на шее, было непонятно, что именно она пьет. Я напоминала себе Тролля Манфреда, только он теребит вещи, когда играется, а я – когда нервничаю. Именно в этом и заключается огромная разница между нами, несмотря на одинаковые действия. Еще у меня значительно длиннее ноги, короче нос и уши, и я не умею их так мастерски выворачивать.
Наташа крутила приемник, наверное, надеялась, что найдет подходящую музыку или новости, и чистила серебряный браслет. Это был браслет, подаренный мною Дереку. Без гравировки, не потому, что я считала любую гравировку банальностью, а потому, что просто не могла сообразить, что именно мне хочется увековечить на браслете.
Еще на столе лежал фотоаппарат. Наташа почти никогда с ним не расставалась. Всякий раз она пыталась заснять меня, но я постоянно заслоняла лицо ладонями. Дерек на это говорил, что я веду себя, как жена обвиняемого в коррупции и замешанного в секс-скандале президента; или как хозяйка борделя, выведенного наконец на чистую воду компетентными органами; как серийная убийца или учительница, которая принуждает детей вместо того, чтобы учиться геометрии, изучать женские половые органы на своем примере.
Наташа Ченски. У нее были длинными: волосы, ноги, руки, ресницы. Травянисто-зеленые глаза, такие зеленые, что я порой удивлялась, почему я не чувствую терпкого запаха луговых трав. Если бы мне пришло в голову сделать ей подарок, я бы не сомневалась, подбирая туалетную воду. Только травяной запах. Но я никогда ничего не дарила Наташе, хотя несколько раз подумывала об этом. Сейчас она была одета в зеленый топ в турецком стиле со стразовыми шариками на шелковых нитях, я такого никогда не ношу, и джинсы. Босая.
Я считаю, что мою манеру одеваться можно назвать элегантной, собственно, это достигается благодаря простоте формы и определенным цветам. Вся моя одежда выдержана в прохладных серо-коричневых тонах, еще я позволяю себе беж. Я избегаю чистых и откровенных, вызывающе ярких цветов, даже таких, как белый или черный. Они кажутся мне однозначными. Для человека, которому трудно произнести «да» или «нет», такой выбор цветов вполне естественен, думаю, что мои слова подтвердил бы любой психолог. Редкие и самые яркие цвета в моем гардеробе – грязно-розовый, светло-сиреневый и блекло-зеленый.
В основном, все это аксессуары. Они смотрятся на спокойном фоне большинства моих вещей как красные нитки на запястьях последователей Каббалы. Если бы я была птицей и мною заинтересовался орнитолог, он бы растерялся, постоянно фиксируя на бумаге мой вид. И до скончания века спорил бы с коллегами, к какой же разновидности меня отнести: к воробьям, камышанкам, соловьям или жаворонкам.
Наташа заметила меня и приветливо замахала рукой. Я ей нравилась. Досадно было то, что даже при существующих дереко-обстоятельствах мне очень нравилась Наташа Ченски, если бы я была мужчиной, я бы влюбилась в нее до беспамятства. За меня это сделал Дерек. Лучше бы было, если бы это сделал кто-то другой. Я махнула Наташе в ответ. Скрыться было бы глуповатым поступком. В общем-то, как и этот визит.
Наташа протянула мне руку. «Ты на каблуках? Нет? Хорошо. Я все равно помогу». Она втащила меня на баржу. Очень сильная девушка. Я подумала, что Дереку приятно заниматься с ней любовью, это немного похоже на борьбу, парням нравятся такие вещи. «Привет!» Она улыбнулась. Я завидую людям, которые могут так улыбаться, без вмешательства собственного подсознания. Как собака. Виляет хвостом, потому что действительно тебе рада, а не потому, что надеется получить от тебя лакомство. Я могу так улыбаться только тем, кого люблю. Хотя Дереку я так не улыбаюсь, когда я его вижу, моя улыбка независимо от моих намерений сигнализирует ему: я страдаю без тебя. Жалкое зрелище. Кому нужны такие улыбки? Они не зажгут и не согреют.
«Привет! Как дела? Выглядишь замечательно… Вообще-то, я к Дереку. Мне позарез нужно с ним поговорить, его нет?» «Он в каюте, проверяет электронную почту. Охотится за креслом Гиммлера. Сейчас выйдет, подожди. Кофе?»
«Я не знала, что Гиммлер был почитателем кресел. И не знала, что Дерек почитатель кресел Гиммлера». «Любое домашнее животные любит кресла», – ответила на это Наташа, пожимая плечами. И взгляд ее при этом стал пренебрежительно-надменным. Я называю ее взгляд «чисто польским».
Мне кажется, что она сейчас отождествила Дерека с Гиммлером. А еще мне кажется, что любое домашнее животное приятнее Гиммлера. А Дерек, может, и не приятнее домашнего животного (здесь зависит от того, насколько приятно оно), но, безусловно, приятнее Гиммлера. Но моя проблема в том, что я не умею вести пустопорожние разговоры. Ректор университета, где я преподаю, даже указал это в моей преподавательской характеристике.
«У тебя глаза… я не знаю, как это будет по-немецки, но с тобой все в порядке?» – обращается ко мне Наташа. На самом деле Наташа прекрасно знает немецкий язык и даже редактирует один узкопрофильный журнал. Но каждому из нас необходима защита. Наташа выбирает языковую. Кто я такая, чтобы не уважать ее выбор?
Я не знаю, насколько я могу быть откровенной с Наташей. Нет, я знаю, что с ней я могу быть целиком и полностью откровенной, но меня это бесит. «У меня проблемы с дедом», – говорю я. «Нужна сиделка?» Восточноевропейские девушки очень прагматичные. «Уже, наверное, нет. Вообще-то, он умер», – говорю я. И начинаю выгибать пальцы так, чтобы они коснулись запястья. «Мне очень жаль, – говорит Наташа. – Сколько ему было лет?» Началось. Трудно отвечать на такие вопросы. «Девяносто четыре», – отвечаю я. «О», – говорит Наташа. Я понимаю, что у меня такой вид, будто мой дед умудрился умереть во время своего рождения и я безмерно по нему скорблю.
«Он что-то оставил Дереку в память о себе?» – спрашивает Наташа. «Что?» «Ты сказала, что тебе нужен Дерек, потому что умер твой дед, верно?» У меня нет возражений. «Я подумала, что он оставил что-то антикварное Дереку. Дерек его знал, да?» «Нет, – говорю я. – Даже я его не знала». «Дерека?» На всякий случай проверяет мою и свою адекватность Наташа. «Деда» – отвечаю я. Поскольку она не выглядит очень удивленной, я начинаю объяснять, что считала деда погибшим во время Второй мировой, а о его гражданской смерти узнала одновременно с тем, что он, оказывается, до сегодняшнего дня был жив.
«И где он был все это время?» – интересуется Наташа. Я говорю, что его содержали в специальном заведении и я завтра должна туда поехать. «На кремацию». Наташа смотрит на меня с пониманием. «Он оставил после себя несколько вещей. Библию, хасидскую шляпу, самоучитель иврита, открытку с двумя персиками и записи, которые никто не может расшифровать. Хотя предметно я этим не занималась».
«Это вещи тех, кого он убил?» – спокойно спрашивает Наташа, а я понимаю, что мне это даже в голову не пришло! Господи, но ведь это в самом деле могут быть вещи жертв… «Привет», – услышала я голос Дерека и оглянулась. «Ты уже с креслом Гиммлера?» «Еще нет, но очень скоро оно будет у меня». Дерек тоже босиком, светло-зеленая футболка, наверное, в честь глаз Наташи, джинсы.
Дерек с Наташей действуют слаженно, она привстает, он садится на стул, она присаживается к нему на колени, какие у нее длинные ноги… «У Марты сегодня умер дед», – говорит она ему. «Какой?» «Отец отца», – отвечаю я, я слежу за его рукой, его палец выравнивает изгиб Наташиной талии, тщательно, так турецкие ремонтники готовят к покраске стену…
«А разве он не умер в 43-м?» У Дерека хорошая память. «Он умер сегодня в сумасшедшем доме», – отвечает Наташа. «В 43-м умер кто-то вместо него. А он оставил им вещи евреев, которых он убил», – добавляет она непосредственно. «Зачем?» – удивляется Дерек. «Чтобы помнили», – нервно отвечает Наташа. «Может, он оставил завещание?» – спрашивает Дерек. Наконец-то он обращается ко мне. «Нет, Олаф ничего о завещании не сообщил. А об этом он упомянул бы в первую очередь. Да и какое завещание, если дед действительно был не в своем уме», – говорю я.
«Я хочу с этим разобраться. У меня голова кругом идет», – продолжаю я. «Марта, зачем теперь тебе это нужно? Что это изменит, что это тебе даст? Умер дед – ну и умер. Тема закрыта, свой род он успел продолжить. И титул передать. В конце концов, настолько ли важно, когда и где он умер? На войне или в сумасшедшем доме – на результат это не влияет. Кстати, а что говорит твой отец?»
«Это может влиять на последствия. И могло бы повлиять на результат, если бы я узнала о его жизни, а не о его смерти. Отца сейчас нет, о деде он знал. Я имею в виду, знал о том, что дед жив и сходит с ума на государственных харчах. Так говорит Олаф. Конечно, я как следует допрошу и отца, и тетку, и мать. В этом можешь не сомневаться».
«Я в тебе никогда и не сомневался. Особенно, в твоей фокстерьерской хватке. А зачем тебе с этим возиться? Я уже сам от себя устал. Но послушай, ну, умер дед. Сошел с ума. Оставил несколько вещей, связанных с еврейством, ну и что тебе из этого?»
Он доведет меня до бешенства. «Как ты не понимаешь?! Я была на его могиле в Союзе. Мы долго получали разрешение, чтобы поехать туда. Все просто поверить не могли, что нас туда пустят. Я сказала отцу, что буду голодать у посольства Советского Союза, если они не разрешат нам оплакать деда, и впервые в жизни увидела отца таким испуганным. Манфред добавил перца, когда сказал, что поддержит меня, но есть будет и сделает скульптуру из красного картона, такую, что «красные советские советы позеленеют». Но нам разрешили приехать.
Я помню, как отец стоял рядом со мной, в тихой скорби. Мать – тоже. А оказывается, он, а может, и она тоже, знали, что в это самое время его отец спокойно поглощает больничный завтрак в сумасшедшем доме и играется шляпой убитого еврея?»
«Слушай, может, это шляпа не убитого еврея, может, он этого еврея спас. Это шутка. Ведь это все равно не имеет значения». «Это – имеет значение. А вдруг он боролся с фашизмом? Вдруг он защищал евреев, поэтому его упекли в сумасшедший дом, а родственникам сообщили, что он умер. А над ним всю жизнь ставили эксперименты, отчего у него и поехала крыша. Вот о чем я думаю».
«О, Господи, Марта. Ты думаешь, что твой дед был Оскаром Шиндлером? Романтическая чушь. Слушай, прекрати себя терзать, противно слушать. Меня бесит это немецкое самобичевание. Мало того, что наш народ был разорван пополам, мало того, что каждое правительство брало на себя ответственность за то, что было сделано совсем другими людьми, мало того, что мы открыли границы всей Восточной Европе и выплатили немыслимое количество компенсаций и мертвым, и живым, и не рожденным, а из евреев сделали новый культ нации.
Евреи – современные священные агнцы. Давайте пойдем еще дальше – будем вместо материнского молока вливать в наших немецких младенцев сыворотку пожизненной вины перед Вселенной за безумного Адольфа. Фашизм – наше общее наследие, разве не так? И не нужно от этого отрекаться, и не нужно отрубать себе руки. Я думал, что у тебя хватает здравого смысла это понимать».
«Выходит, что не хватает, Дерек. Но что поделаешь, это наследственное. Я поймала тебя на двудушности. Знаешь, о чем я подумала? Ты у нас, значит, не чувствуешь никакой вины, да? Тебя это не касается. Очень похвально. Но скажи мне, дорогой, может ты влюбился в польку и бросил немецкую баронессу именно потому, что чувствуешь гигантскую персональную вину за фашизм? Ты об этом не думал, нет? Вы разговариваете о концлагерях в Польше?»
Наташа вскочила, чтобы уйти, но Дерек крепко прижал ее к себе, держался за ее стройные бедра, как за руль.
Общаться с Дереком было трудно. У меня болело горло, больно было глотать и дышать, собственная слюна превращалась в яд, который не дарил спасательные паралич, онемение или смерть, а окружал колючим забором мой костер боли.
Дерек был моими гландами, которые мне только что удалили. Может, теперь я буду меньше болеть. Скорее всего, я вообще не буду болеть. Но глотка кровила, слюна была розовой, как перо фламинго, и хотелось плакать, потому что мои «гланды» сидели рядом и пытались влезть в рот другой, очень красивой, девушки. Зачем ей еще одни гланды, зачем ей чужие гланды?
«Наташа, а у тебя гланды есть?» – вырвалось у меня. Наташа помолчала, потом повернулась к Дереку и спросила, что это означает на английском языке, так как она не поняла. Дерек глянул на меня с пылким интересом Фрейда к новому случаю в начале его карьеры, когда клиенты его больше интересовали, чем утомляли.
«Есть», – тем временем вежливо ответила мне Наташа. – Показать? Даже две». Я так и знала. «Я пойду, – сказала я. – Извините». В принципе, я не знала, за что я извинялась, это была привычка, а не искренность. Манфред считал мои постоянные извинения извращением, взращенным хорошим воспитанием. Дерек это знал, поэтому криво улыбнулся. «Давай-давай», – сказал он. «Если тебе нужно будет что-то перевести, я тебе помогу», – сказала Наташа. Поскольку я молчала, она добавила: «Я знаю украинский и русский».
Наташа работала финансовым аналитиком. Кроме того, что она редактировала финансовый альманах на немецком языке, она была ответственным редактором такого же альманаха, который направляли в филиалы компании в Польшу, Украину и Россию.
«Спасибо», – сказала я. Мне вдруг захотелось броситься в воду, но вместо этого я молча сошла на берег.
Позвонила Агата. «Ну что, девчонка? Затянула Дерека в постель?» Я вздохнула, Агата есть Агата. «Ты собираешься к нам, или нет? Мы по тебе соскучились». Я ужаснулась. По мне соскучились люди, которые празднуют день рождения Карлсона. Мне кажется, это не совсем адекватная среда и я не совсем адекватная. «Сейчас переоденусь и отправлюсь к вам», – ответила я.
Вдруг мне пришло в голову, что я не слишком надежно спрятала вещи деда. Я представила себе, как Тролль добрался до них и уже съел шляпу с пейсами. И превратился в черепаху, потому что шляпа не захотела принимать форму желудка Тролля, а захотела, чтобы сам Тролль принял форму шляпы. Несчастный Тролль, превратившийся в черепаху, чувствует, как его щекочут пейсы, но не может почесаться, так как черепахи чесаться не умеют. «Ты ненормальная», – сказала я себе вслух.
Тролль спал в кресле. Судя по его худосочному тельцу, а вернее по тому, что он не старался спрятаться от меня под диван, пес ничего не съел. Хотя его худосочность – вещь обманчивая, она не мешает Троллю быть прожорливым. Большинство подруг матери завидуют способности Тролля сметать все съедобное, что ему дают или до чего он может дотянуться сам, и при этом не толстеть.
Он не очень мне обрадовался. Потому что знал, сейчас я не буду с ним гулять и не дам ничего вкусненького. Был прав. «Я иду на вечеринку. День рождения Карлсона, представь себе», – сообщила я Троллю. Он попробовал представить, вывернул свои уши. «Это ведь нужно надеть какой-нибудь костюм», – подумала я. «Господи, этого мне еще не хватало», – произнесла вслух. Тролль робко тявкнул.
Может, одеться Малышом? С моим ростом это будет выглядеть комично. Или его собакой? Надену шапку-ушанку, накроюсь мохнатым пледом и буду лаять для убедительности образа. Или мумией Мамочкой? Ей просто подражать – для этого нужно несколько полотенец и салфеток, и Мамуля будет то, что надо. Нет, для этого у меня кишка тонка.
«Оденусь-ка я Бетан, это меня не обременит, и вполне в моих силах», – решила я. В конце концов надела на себя юбку-плиссе, бежевый джемпер, светло-карамельные балетки; завязала лошадиный хвост, кажется, именно так выглядела Бетан, по мнению Астрид.
Я ожидала, что в клубе будет полно людей, если не с пропеллерами за спиной, то хотя бы в клетчатых комбинезонах и с двухлитровыми банками варенья в руках. И, мягко говоря, была очень удивлена, оглядывая гламурно одетую публику, некоторых представителей которой я шокировала своим прилизанным видом. «Я вижу, ты пока не в трауре. Но выглядит это печально», – высказалась в адрес моего наряда незнакомая мне костлявая дама в коричневой комбинации. Судя по тому, что она знала о трауре, она знала и меня.
Кто-то повис на моей руке. Я думала, что это Агата, но ошиблась. На меня смотрела девушка с такими круглыми чертами лица, будто кто-то создал их с помощью циркуля. На ней было роскошное кожаное платье. Я немного подождала, не захочет ли она мне что-то сказать, например, поздороваться, но не дождалась. Ей это явно не было нужно.
«Агата-ааа», – жалобно позвала я. Я не способна стряхивать с себя незнакомых людей, которые нахально вешаются мне на шею. Я конфетти с себя собираю только тогда, когда меня не может видеть тот, кто их на меня насыпал. Лучше – в женском туалете. В отдельной кабинке.
«Привет, а что на тебе было до того, когда ты решила переодеться перед тем, как сюда прийти?» Агата уделяла одежде слишком много внимания. На ней было коктейльное платье в сложных васильково-пурпурных волнах. Короткое, пикантное и модное. Агата сунула мне бокал, там притаился явно безумный напиток, потому что не может быть ничего нормального с таким малиновым цветом. Тем временем Агата шикнула на круглолицую девушку, которая в конце концов отвалилась от меня и упала на пол, как клещ, вволю насосавшийся крови.
«Ну, как ты?» – спросила Агата, мы с ней расположились на низеньком диванчике среди удобных подушек с восточными узорами. Мне, как всем высоким людям с длинными ногами, неудобно на таких диванах. Такое впечатление, что собственные колени сейчас заедут в твои собственные уши. У Агаты тоже длинные ноги, хотя она невысокая – у нее короткая спина, намек на талию, узкие бедра и очень длинные ноги для ее роста.
«Думаю о деде и о том, что отец осмелился мне врать». «Олаф сказал, что ты собираешься потащиться на кремацию, зачем это тебе?» «С ним должен проститься кто-то из родных, а больше никого нет». «У тебя сейчас такое выражение лица, будто тебе удалили матку. А это не матка, а – дед. О котором ты и понятия не имела. Деды, девочка моя, не влияют на репродуктивную функцию женщины и на половую жизнь. Особенно – мертвые, – заметила Агата. Она никогда не строила из себя деликатного чело века. – Почему ты позволяешь себе так на это реагировать? Умер старый и больной человек. Аллилуйя. Мне кажется, что лучше умереть от пули на войне, чем от рака позвоночника. Это естественно – умирать на войне, где же еще умирать? Тебе так не кажется?»
«Агата, я в трауре. И не хочу шутить на эту тему». «Хорошо, давай вернемся к теме траура. У тебя есть подходящее черное платье? Ты же не любишь черный цвет». Как хорошо людям, которые сводят состояние траура к вопросу выбора соответствующих платьев, правда? «У меня есть платье-футляр, Манфред когда-то подарил, я его ни разу не надела». «Дед будет польщен. Это ж надо. Новое платье ради него! Наконец-то я поняла, для каких мужчин ты готова иметь относительно привлекательный и сексуальный вид. Для мертвых», – хохотнула неугомонная Агата.
«Слушай, давай сменим тему. Я не хочу обсуждать мою сексуальность. Вернемся от смерти к жизни».
«Хорошо, – быстро согласилась Агата. – Как у тебя с сексом?» Я поперхнулась малиновой гадостью, это был неизвестно чем закрашенный, слегка разбавленный водой спирт. «Какая ты впечатлительная, – хмыкнула Агата. – Ну? Отвечай. Я жду».
«Никак. С сексом у меня никак. Ты же знаешь, что Дерек меня бросил». «Дерек? Это тот, о ком я знаю, или другой Дерек, о котором я не знаю?» «А-га-та-аааа». «Если это тот, о котором я знаю, то он тебя давненько бросил. Ты же не хочешь мне сказать, что с тех пор у тебя не было ни одного сексуального контакта?» Я вздыхаю. «Хватит вздыхать. Меня просто бесит твой инфантильный идеализм. Ищешь идеального мужчину?» Я говорю, что с удовольствием бы с таким познакомилась, но не уверена в том, что такой мужчина существует. «Кроме Дерека», – мысленно добавляю я.«Девочка, послушай меня. Слушай внимательно, глупышка. Не бывает идеальных мужчин, их физически быть не может! Это иллюзия. Никакой мужчина не может понять женщину, кроме разве что гомосексуалистов и онкобольных». «Что ты несешь?» «Нас способны понимать только те из них, кто сознает, что ты ощущаешь, когда кто-то поселяется в тебе, то есть понимают состояние беременности, слабое представление об этом имеют больные раком. Конечно, у них не такое эмоциональное состояние, как у беременных. Не думаю, что они радуются из-за появления опухоли, хотя, согласись, появлению детей они тоже не очень радуются.
Ну, а еще те, кто понимает, каково это, когда кто-то в тебя вторгается, поняла? Такое понимают только геи. Тут важно, что они хорошо знакомы с процессом, место вторжения в данном случае не столь важно. Ты понимаешь, о чем я?» Я закатила глаза. «Долго ты протянешь с геем? Не думаю. А онкобольной вообще не может долго протянуть. С тобой или без тебя».
Агата смутит кого угодно. Уж не говоря обо мне. «Слушай, я пойду домой. Завтра кремация, надо готовиться». «К чему готовиться, девочка? Это ведь не свадьба, а кремация! Кроме того, это же не тебя кремируют!» – возмущенно выкрикивает мне в спину Агата. Я успела поцеловать ее и сбежала домой.
Глава четвертая
Заснуть мне никак не удавалось, и не из-за переизбытка мыслей, а как раз из-за того, что долгое время (хотя, может, и не столь долгое, в тишине и в ночи время легко вводит человека в заблуждение) я не могла уцепиться ни за одну. Ладони становились влажными, влага с их поверхности испарялась в воздух, будто они были не ладонями, а превратились в карпов, которых еще живыми вытащили на берег. Уши горели. Все силы я направила на то, чтобы понять, неужели я действительно ни о чем не думаю?
Мою нервозность чувствовал Тролль, который никогда не упускал возможности пристроиться возле меня в кровати, Манфред и Бриг сгоняли его с диванов. Собаки, в отличие от котов, способны зализать тебе ранку, но лечить твою нервную систему и перенимать твои страхи на себя – это уж нет, на такую благотворительность они не готовы. Поэтому пес сделал круг почета рядом с кроватью и устроился в кресле.
Тролль спал в кресле в позе эмбриона, в темноте казалось, что пузатое кресло беременно собакой и будто само не может поверить в это. Одно дело – родить хотя бы стул, в крайнем случае – табуретку, но рожать нахальную таксу – это слишком для кресла преклонного возраста из порядочной буржуазной семьи.
Я смотрела на большое прямоугольное пятно на стене. Напротив моего лица. Я знала, что это была черно-белая фотография мамы. Ее сфотографировал, а потом подарил ей фото на юбилей известный мюнхенский фотограф. У меня плохая память на имена фотографов, режиссеров и писателей, но он действительно очень известный. Еще я помню, что он был похож на скворца. И руки его выглядели и двигались, как подрезанные птичьи крылья, будто были созданы для того, чтобы он мог летать, а потом кто-то взял и подрезал их.
Когда мама получила эту увеличенную фотографию в подарок, в этой же изящной рамке, с ней случилась истерика. Этого никто не ожидал, мы с отцом вообще впали в транс, понял ее лишь тщеславный Манфред. Мама не хотела видеть себя на стене собственной квартиры, она хотела видеть себя в разных каталогах, на выставках, на открытках. Она жаждала войти в историю, остаться лицом, которое постоянно будет возникать рядом с его именем. Но художник решил иначе. Думаю, он хотел ей польстить. Или просто хотел ее. Но мать никогда не понимала простых мужских желаний. Я это унаследовала. Зато мать четко понимала, чего хотела она. Но эту ее способность я, к сожалению, не переняла.
Матери не везло с тем, чтобы остаться в истории чистой музой творца. Манфред трижды называл ее именем свои коллекции, и трижды заказчики меняли это название на более коммерческое или более подходящее, на их взгляд. Как-то в шутку отец предложил посвятить матери одно из судебных решений, но при условии, что она будет одной из сторон. Мать терпеть не могла адвокатских шуток. Я знаю, что это предложение отца было иллюстрацией того, как маме иногда трудно с ним бывает и что они с отцом люди из разных миров, в то же время подруги матери считали, что ей незаслуженно повезло с мужем.
Я включила ночник. Фотокарточка приобрела желтоватый оттенок. На ней была моя молодая мать, наверное, здесь ей лет тридцать пять. Возможно – чуть меньше, может – больше. Фотографии делают нас призрачными, они воссоздают нас так, как им заблагорассудится.
За спиной у мамы, как мне было известно, находятся три муравейника. Они очень похожи на египетские пирамиды, желтоватый свет ночника вообще превращает мир вокруг мамы в пустыню. Не знаю, что символизируют эти муравейники, если это вообще какой-то символ.
На этой фотографии она улыбается сердцем, хотя Агата считает, что мама улыбается кое-чем, что находится ниже, я в это не верю, потому что вряд ли у мамы такое бы вышло. Попробуйте сами выкинуть нечто подобное, я несколько раз пробовала, ничего не получается, кроме того, что физиономия выглядит сосредоточенной, а это вряд ли является доказательством невыразимого счастья.
Фрау Агнес фон Вайхен касается правой рукой своей пушистой короткой (чуть ниже ушей) прически. Она одета в плащ, я знаю, что он в одном из тех зелено-голубых тонов, которые любят использовать в костелах. Я подумала, что этот плащ в таких тонах очень бы был к лицу Наташе Ченски.
Я не знаю, есть ли что-то на маме под плащом или нет. Это традиционный дискуссионный вопрос, семейный ребус, миф. Мама ничего не отвечает, но когда ее об этом спрашивают, улыбается точь-в-точь так, как на фотографии. Я не знаю, что ее больше развлекает, то, что кто-то осмеливается думать, что под плащом она голая, или то, что она действительно была голой, или то, что она чувствует себя обнаженной именно сейчас.
Вдруг я вспоминаю, что не проверила свой мобильник, неужели мать мне не звонила? Это на нее было не похоже. Звонила и прислала две смс, в одной она спрашивает, поздравила ли я брата, а в другой возмущается, потому что о месте моего нахождения она узнает от «милой Агаты», а родная дочь игнорирует ее звонки. Каждая ее смс заканчивается одинаково: «Поклянись, что у тебя все в порядке. Я люблю тебя». Еще я вижу MMS, которое прислала мне Ханна. На ней – огромная стойка со всяческими сладостями и сияющее лицо повара. А вот и смс от нее же. «Как ты думаешь, что здесь самое сладкое?» Я смеюсь, Тролль поворачивает мордочку в мою сторону. По его мнению, смеяться ночью – преступление. Он громко вздыхает, дескать, это – последнее предупреждение, засыпай, Марта, и снова сворачивается в клубок в кресле. Кресло понимает, что его «детка» живая, так как она шевелится. А я теряю рассудок.
Историю портрета матери я знаю. Историю деда – нет. Деда завтра сожгут. Ему девяносто четыре года, я думаю, что на его совести не десяток и даже не сотня сожженных в концентрационных печах тел невинных людей, которые были здоровее и младше него. Хотя какая разница: жечь здоровых и молодых или больных и старых, виновных или безвинных? У Бога что, есть линейка для измерения этих грехов?
В любом случае завтра нас тал черед моего деда. Он успел умереть до того, как его решили сжечь. У тех несчастных такого счастливого шанса не было. Дед лишил их всякой надежды умереть в своей постели, пусть и в сумасшедшем доме, пусть и от рака. Я где-то читала, что евреи не имеют права на кремацию, это связано с их религией, значит, фашисты им это право предоставили. Интересно, что по этому поводу думал мой дед? Возможно, он считал себя благодетелем и рассказывал об этом друзьям. А возможно, потерял рассудок и начал собирать вещи убитых им евреев.
Настало утро, кто-то первым его объявил: мой организм или будильник в мобилке. Нужно было одеваться. Нет, сначала нужно выгулять Тролля, выгуливать его в траурном платье я не смогу. Я из тех людей, на настроение и род деятельности которых влияет одежда. Джинсы, кроссовки, футболка. Тролль не чувствовал моей скорби и растерянности, он жаждал сучьих благоуханий, хотел пожевать каких-то травок (меня привораживала способность животных разбираться в гомеопатии), чтобы не болел желудок, и еще повозиться с оранжевым пуделем. Я решила: если у меня день начинается, фактически, с кремации, то и Тролль должен воздерживаться от удовольствий, и взяла таксу на короткий поводок.
А еще я подумала, если у тебя есть собака, как бы ты ни планировал свой день и какие бы события на тебя ни сваливались, ты все равно начинаешь день с прогулки и кормежки.
Когда мы вернулись, я накормила Тролля и долго размышляла над тем, стоит ли самой поесть или нет. Мне начинало казаться, что кремация, как и ультразвуковое исследование, не располагает человека к завтраку. Завтрак может повредить результатам. Каким? Не знаю. Я выпила крепкий кофе, надела черное платье. Волосы собрала в тугой низкий узел. Я была похожа на овдовевшую служанку-мексиканку. Не хватало только фартука.
Когда я выезжала с паркинга, вдруг поняла, что понятия не имею, где находится дедов сумасшедший дом, какие там правила пропуска автомобилей и как мне найти крематорий. Еще надо было купить цветы или венок, я еще не решила, о прощальной надписи я не подумала.
Но зря я волновалась, отец никогда не ошибался в выборе поверенных, жены, жилья, присяжных и котов, по этому наш поверенный был безупречным, и он мне позвонил. «Марта, доброе утро. Это Олаф Кох. Как я понимаю, ты едешь на кремацию? Хорошо. Ты на своей машине? Хорошо, я заказал пропуск. Ты в курсе, куда ехать? Сейчас объясню, это просто. Я буду ждать на въезде в заведение. Если ты не купила цветы или не заказала венок, я могу этим заняться или кому-то поручу. Возможно, подойдет букет в цветах флага или вашего фамильного герба?» Но я решила, что цветы я выберу сама. Венок из барвинка и мелких беленьких цветочков-звездочек, названия которых я не знала.
И он действительно ждал. Олаф Кох, поверенный семьи фон Вайхен. Черный льняной костюм, без шляпы, шелковые темно-серые носки, в меру блестящие ботинки. Выражение на лице соответствующее: скорбно-сочувственное. Не знаю, как дед, а я была довольна его видом. «Мы же не опаздываем?» – поинтересовалась я, так как не ношу наручных часов, а доставать мобильный телефон мне показалось неуместным. «Нет, Марта, ты приехала вовремя, здесь недалеко, меньше ста метров». Не удивлюсь, если он преодолевал эту дистанцию с секундомером.
Крематорий действительно находился рядом со входом в заведение. Внутри помещение было облицовано плиткой чернильного цвета, обрамление было серебри стым. Тонкое, едва заметное серебряное кружево, похожее на паутину. Ничего лишнего. Звучала печальная, но энергетически мощная классическая музыка; на специальном месте стоял гроб с моим дедом. По правую сторону от него – серебристый (металлический) стол с несколькими бокалами из светло-зеленого, салатного стекла, несколько бутылок рейнвейна и на блюде в виде подковы – куски рыбы на шпажках. Интересно, каково это – жевать прикопченную рыбу именно тогда, когда будут коптить деда. Извращенная режиссура. Вообще, если бы не покойник, все это напоминало бы прием в филармонии: классическая музыка, безупречно подобранные напитки и закуска, изысканно и подобающе одетые люди, камин. Ничего лишнего. Кроме покойника. Приходить в филармонию с покойником – это уж слишком, хватит того, что глаза давно умерших композиторов наблюдают за вами с офортов на стенах, а кроме того, звучит музыка этих же покойников.
«Вагнер?» – между прочим уточнила я у Олафа, так как подозревала, что музыку выбирал именно он. Я рассматривала людей, которые находились в зале. Никак не могла собраться с духом и приблизиться к деду. Кроме меня, Олафа, ну и деда здесь было несколько человек. Прилизанный мужчина в черном, похожий на конферансье в концертах органной музыки, если бы Моцарт увидел его во сне, он тут же принялся бы писать Реквием. Симпатичный мужчина в сером дорогом костюме, он был похож на представителя государственных органов, лицо его, между тем, показалось мне знакомым. Женщину средних лет, которая внимательно рассматривала меня, как придирчивый член жюри на выставке собак, я раньше никогда не видела. Еще немного, и я бы послушно продемонстрировала ей свои зубы, уши и телосложение.
«Марта, ты совсем не разбираешься в классической музыке?» – услышала я Олафа. Я не ожидала от него таких прямых вопросов. «В похоронной – не очень», – поспешила соврать я, классическую музыку я не знала, впрочем, современную тоже, но мне не хотелось признаваться в этом Олафу, кроме того, врать ему мне нравилось. Олаф был вежливым человеком и по обыкновению воздерживался от выставления напоказ невежества своих клиентов. Впрочем, похоронную музыку я ненавидела, помню, как отказала в месте помощника одному талантливому юристу потому, что во время собеседования его мобильный телефон приобщился к нашему разговору общеизвестной мелодией Шопена.
«Ты ошиблась, это не Вагнер. Это первая часть Пятой симфонии Малера, если вслушаться, сразу поймешь, что это – настоящий военный марш. Мне показалось это уместным, жаль, что я не мог проконсультироваться с твоим отцом». «Может, лучше было бы запустить что-то еврейское? Кстати, вы же всегда в курсе всех дел, кто эти люди, и где раввин?»
«Раввин?» «Да». «Мы решили, что это лишнее. Не нужно потакать сумасбродству, измученная болезнями душа барона, готовящаяся отправиться на небеса, имеет право на отдых и однозначность. Никакого искусственного еврейства, никаких волнений. И конечно, никаких раввинов. В свое время к барону приходил отец Ральф, диалога у них не получилось, но это не из-за отца, а из-за твоего деда, он хотел диалога исключительно на своих условиях, а отец Ральф такое отношение мог стерпеть только от Папы».
Я улыбнулась, Олаф сделал вид, что не заметил этого. «А Папа – только от Бога, и то этот факт не доказан», – не удержалась я от комментария. Но чему-чему, а мастерскому игнорированию неудобных вопросов учат всех юри стов. А герр Кох был отличником.
«Теперь о людях, которые здесь присутствуют. Как ты поняла, это – герр Теодор, он директор этого… ээээ». «Крематория?» – решила помочь ему я. «В определенном смысле. Второй мужчина – из Министерства юстиции, его звать Клаус Рéрихт, ты должна понимать, что его присутствие здесь обусловлено его должностью и ээээ… военным прошлым господина барона. А женщина – лечащая медсестра барона, фрау Тереза, она неотлучно находилась при герре Вайхене в последние месяцы его жизни».
Клаус Рерихт. Он точно мне был знаком. Когда узнаёшь не только лицо, но и имя человека, это свидетельствует о том, что ты уже наверняка его где-то видел. Мне показалось, что и герр Рерихт узнает меня, и я решила поздороваться, но Теодор лишил меня этой возможности. Началась церемония прощания.
Дед оказался очень похожим на папу, я вздрогнула, будто увидела в гробу отца. Похудевшего, старого, измученного болезнями отца. Когда я приблизилась, чтобы поцеловать его (я решила, будь что будет, но я его поцелую в лоб), заметила, что на деде были разные ботинки. Они были совсем разные. Отличались друг от друга не только цветом (правый ботинок был черный, левый – бежевый с выдавленным синусоидным узором, который окутывал носок, будто кто-то старался набросить на него лассо), но и формой, качеством и длиной шнурков. «Что это такое? Вы вообще видели его обувь?» Я собиралась спросить об этом шепотом у Олафа, но меня услышали все.
«Господин барон не любил одинаковых вещей, они усиливали его беспокойство, он очень нервничал, когда видел что-то одинаковое», – объяснила мне медсестра Тереза. Она была права, по крайней мере, отправляться в печь в одинаковых вещах мой дед не собирался. Носки были разными. Пуговицы тоже.
Преимущество кремации заключается в том, что не успеешь ты вцепиться в человека, как его поглощает пламя. И если я видела людей, которых невозможно было оторвать от гроба, уже опускаемого в могилу, то увидеть людей, которые бы вместе с гробом лезли в печь, мне не приходилось. Ты успеваешь только подумать о том, что на нем непарные ботинки, пуговицы и носки. А еще успеваешь узнать о том, что парные вещи его бесили, как пламя уже слизывает черты того, кто все время был для тебя мертвым, незнакомым и далеким.
«Все позади, дорогая», – сказал Олаф и обнял меня, не прикасаясь. Где этому учат? «Мне нехорошо», – честно сказала я ему, заметив, как вроде бы знакомый мне Клаус Рерихт, присутствующий здесь по делам службы, потянулся за салатным бокалом и куском рыбы.
«Я теперь поняла, кого он рисовал», – услышала я кого-то снизу. Это была фрау Тереза. «Извините?» «Ваш дед постоянно рисовал одно и то же лицо». Я молчала, поэтому она продолжила: «Я думала, что он рисует себя в молодости. Правда, эти колечки в ушах меня смущали, не мог он носить колечек, не такие были времена. Но теперь понимаю, что он рисовал вас. С подобранными волосами или короткой прической, не очень понятно, хотя рисовал он неплохо. Во всяком случае, как по мне». «Этого не может быть, – сказала я. – Он никогда меня не видел. И у меня не было коротких причесок». «Возможно, ваш отец показал ему ваше фото. Или герр Кох, – настаивала она. – Так или иначе, но у меня есть три ваших портрета и еще кое-что, что нарисовал ваш дед. Хотите посмотреть?» Я очень хотела посмотреть, поэтому мы договорились, что встретимся послезавтра, когда фрау Тереза будет выходная.
«Рисовал он очень и очень неплохо, хотя мир не ценит понятных рисунков. Это из-за того, что в художественные критики идут извращенцы. Вы видели работы Макса Эрнста?» Я видела. «А я долго их не видела. Я вообще не знала о его существовании, у меня были другие приоритеты. И другие знакомства. Но у меня был поклонник, вот он как раз и работал художественным критиком в журнале. Он сказал, что я – вылитая «Молодая химера» Эрнста, можете себе вообразить, как мне это польстило. Бог мой, я чуть до потолка не прыгала. Я – и на полотне выдающегося художника! Гордилась я собой долго, пока не увидела, что это из себя представляет». Я старалась припомнить, как выглядит химера. «Вижу, вы не можете припомнить. Слава Богу, еще приснится! Эта химера выглядит, как химическая колба или запаянная в нескольких местах стеклянная труба в короткой юбочке». Я силилась представить себе это. Тереза перешла на шепот. «Вы знаете, я не сторонница фашистской идеологии, но в одном я с ними согласна. Это дегенеративное искусство! А тот, кто думает иначе, просто никогда не представлял себе, что его могут изобразить, как колбу в короткой юбочке».
«Вы подобрали очень изысканный букет, фрейлейн Вайхен, бело-голубой», – услышала я тихий-тихий голос. Так говорят тяжелобольные люди, а еще, наверное, директоры крематориев. Потому что я увидела рядом с собой Теодора. «Он очень к лицу барону. Барвинок – голубизна его глаз, гипсофила – его седина, у вас безупречный вкус». Так вот как называется эта беленькая цветущая мелкотня. Гипсофила! Это ж надо: маленькая, белая, нежная, а имеет такое название. Как сексуальный извращенец. Гипсофил – человек, который насилует загипсованных калек. Что только не лезет в голову. Я посмотрела на Теодора и решила, что ему сложно общаться с родственниками тех, кого он сжигает в своем заведении. Действительно, о чем можно говорить? О своих гипсофильных ассоциациях рассказывать не хотелось. «Фрау Тереза не очень вас заговорила? Наши медсестры привыкли постоянно разговаривать, обычно их пациентам не с кем поговорить, кроме них». Он грустно улыбнулся. Я сказала, что мы с фрау Терезой обсудили немецкое авангардное искусство. Конечно, после этих слов он на меня вытаращился настолько, насколько ему позволяли его воспитание, должность и уровень сдержанности.
Отчетливо запахло рыбой, возле нас появился Клаус Рерихт, он предложил мне бокал вина. Механически взяв напиток, я подумала, что никогда не выпивала во время кремационных процедур. «Герр Кох сказал мне, что вы меня якобы узнали», – обратился он ко мне. «Мне кажется, что мы с вами вместе учились». «Вы правы. Только я старше вас на три курса. Вы сейчас преподаете в университете?» «Да». «А я работаю в Министерстве юстиции. Х-ммм. Хорошее вино! Вам принести еще?» Я отказалась.
«Герр Рерихт, я могу попросить вас о встрече на будущей неделе?» «Марта, вы можете звать меня Клаусом, в конце концов, мы учились вместе». «Хорошо, Клаус». «Я вам приглянулся, или вы хотите поговорить о чем-то другом?» Версия относительно того, что он мне мог понравиться, слегка выдернула меня из реальности. Я глотнула вина. И закашлялась.
«Я хотела поговорить о деде. У вас есть его досье? Так уж вышло, что я почти ничего о нем не знаю. И не думаю, что мой отец знает намного больше». «Мы тоже не многое знаем, хотя досье на господина барона у нас есть. Но говорить вам нужно не со мной, а с Дорой Тотер. Она руководитель нашего департамента. Ты помнишь Дору?» Неожиданно он перешел на «ты». Так часто бывает, когда погружаешься в студенческие воспоминания.
Дору Тотер я помнила, потому что всегда во время учебы попадаются такие девушки, не заметить которых не могут даже другие девушки. Что касается мужчин, то они сходят по ним с ума. Дора Тотер была красивая и статичная, как кукла. Она шла так, будто ее несли в праздничной коробке. Ее белокурые локоны были всегда безупречно завиты, она носила розовые, светло-зеленые и голубые платья, а когда уж надевала белое, то ее поздравляли с замужеством и дарили цветы. Дора Тотер не пренебрегала мужским вниманием, но никогда не была распутницей, у нее были принципы. Уж не знаю, какие именно, но точно были, у меня талант отличать принципиальных людей от непринципиальных. Она хорошо училась, но никто не думал, что она увлечена профессией, хорошая учеба Доры вызывала меньшее удивление, чем ее безупречные локоны. Многие хорошо учились, но таких локонов не было ни у кого.
Впрочем, я никогда и предположить не могла, что Дора Тотер будет работать по специальности, а тем более, возглавлять департамент военных преступлений в Министерстве юстиции. Это выпадало из моего мировосприятия и, наверное, приближалось к мировосприятию Макса Эрнста, где химические колбы щеголяют в коротких юбках, вместо лиц у людей появляются зеркальца, совиные головы, пирамиды и печные трубы, а вместо половых органов – сложные механизмы. Иногда мне кажется, что художники-авангардисты на самом деле обычные реалисты, но натуралистичность того, что они изображают, настолько шокирует людей, что они выдумывают им новые амплуа. Все считали, что Дора Тотер непременно выйдет замуж за кого-то выдающегося и будет дома воспитывать своих красивых детей с безупречными кудряшками.
Пока я вспоминала Дору, Клаус очередной раз сбегал за вином. «Сбегал» – преувеличение, он пересек зал меньше, чем за минуту, на месте осушил бокал, взял другой; обратный путь его занял втрое больше времени. Еще немного, и он опьянеет. «Так моим дедом занимается красотка Дора?» «Она пренебрегла мной. Сказала, что не намерена выходить замуж. Но сейчас она замужем». Клаус смотрел на меня с возрастающим подозрением. Будто я была в том виновата. «Не надо так смотреть на меня. Я не ее муж». Я позволила себе хихикнуть. Он не разделял моего веселья. А я не знала, нужно ли мне выражать свое сочувствие. По сценарию сегодня должны были сочувствовать мне.
«Я – привлекательный мужчина!» – услышала я от Клауса. Это утверждение услышали также Отто и Теодор, они смотрели в нашу сторону. «Я – счастливчик! Я всегда мечтал о том, чтобы подчиняться ей, но плохо растолковал Богу, что я имею в виду. Поэтому он сделал ее моей начальницей, а не любовницей». Клаус говорил все громче. Я сказала ему, что Бог вообще не одобряет любовниц. У Клауса началась икота. Мне показалось, что сейчас его вырвет на блестящий пол. Так показалось не только мне, неизвестно откуда материализовался мужчина в черном костюме, который вывел Клауса на воздух. Там его ожидало такси.
«Постойте, мне обязательно нужно взять у него визитку!» – встрепенулась я. «Фрейлейн Вайхен, когда чиновник видит однокашников, он думает, что пора напиваться и поднимать шум. Всем время от времени хочется вернуться в юность, какой бы бестолковой она ни была. Смерть усиливает эти чувства, так же как и встреча с тем, кого знал в юности. А уж если совпадают два фактора… Простите его, у него нервная работа», – мягко сказал мне Теодор, придерживая меня за локоть. «И его не любит Дора Тотер. А она ему очень нужна. Как любовница. Кстати, мне она тоже нужна. Только в другом качестве». «На все воля Божья». «Это правда. Но мне необходима его визитка», – заметила я. «Мы выудим его координаты из нашего компьютера, или вы сможете найти координаты фрау Доры Тотер на правительственном портале, пока что членов правительства не засекречивают».
Глава пятая
«Марта, ты уже собралась домой?» Рядом со мной возник Олаф Кох, я подумала, что он реальный конкурент Копперфильда. «Собираюсь». «Ты пила?» Я задумалась и не могла припомнить пила я или нет. Сделала ладони лодочкой, всунула туда нос и дохнула, чтобы проверить. Пила. «Ты можешь оставить машину здесь, не беспокойся, за ней присмотрят». Это уж вне всяких сомнений. Если они умеют присматривать за обезумевшими нацистами, которые перевоплотились в евреев, с моей законопослушной машиной они легко управятся. «Тебе вызвать такси?» Так странно, но когда меня опекают, мне начинает казаться, что я превратилась в инвалида. «Нет, спасибо, я сама. Пока, Олаф». «Держись, Марта. Пусть отец свяжется со мной, нужно обсудить ряд вопросов». Такси я вызвала по мобилке.
Я приготовилась назвать таксисту свой адрес, но вдруг решила отправиться в Scheunenviertel, а именно – к Новой синагоге. Что я там буду делать, я понятия не имела. Я продолжала чувствовать себя неловко из-за своего траурного одеяния. Черные платья годятся для вечера, незачем расхаживать в них днем. Моя мать всегда надевает черное, когда знает или допускает, что ей придется фотографироваться. Она считает, что только черный позволяет лицу и фигуре выглядеть выразительнее. Может, мне следует отправиться в фотоателье и проверить мамину теорию на себе? Теперь я себе напоминала не овдовевшую служанку-мексиканку, а работника посольства какой-нибудь мусульманской страны, хотелось говорить на арабском, несмотря на то, что я его не знала. Ведь незнание иврита не мешало моему деду общаться на нем и писать.
Манфред рассказывал, что Новая синагога была чуть ли не первым зданием, где использовались железные конструкции. Я смотрела на ее терракотово-кирпичный облик и не видела никаких железок. Хотя в теле у отца тоже есть железки. Остались в сломанной руке, он не хотел оперироваться и вытаскивать их. Если об этом не знаешь, никогда не догадаешься. Я подумала, что у отца и Новой синагоги есть кое-что общее.
На газоне неподалеку Новой синагоги я увидела невидимку, который лежал на травке, одетый лишь в черные брючки. Он лежал, раскинув ноги, и, наверное, смотрел на облака. Захотелось превратиться в нечто подобное и улечься рядом в своем черном платье.
Иногда полезно, чтобы что-то тебя поглотило, синагога поглощает, невинная и компактная снаружи, внутри она огромна. Здесь легко можно потеряться, хотя все упорядочено и понятно. Я не знала, как молятся евреи, и не решалась спросить, хотя уверена, мне бы охотно объяснили. Я просто сидела и думала о деде. Отец всегда считал, что «нормальный человек скорее станет психом, чем психиатром. Лучше уж выдумывать сексуально-извращенную ерунду всякий раз, когда кто-то рядом произносит, например, слово «клематис», чем самому его произносить и при этом хищно наблюдать за реакцией людей на название этого цветка». Выбором деда он должен быть доволен.
Я полезла в сумку за телефоном, чтобы поставить его на беззвучный режим, и тут раздался звонок. Какое-то время я смотрела на этот номер, чтобы в который раз убедиться, что его не забыла. Это был номер Наташи Ченски. Я не запоминала его в телефоне, когда она звонила, на экране не высвечивалось – Наташа Ч., только цифры. Определенная комбинация цифр, и я знала, кому они принадлежат. Точно так же астроном помнит все комбинации звезд, эти цифры были созвездием по имени Наташа Ченски. Я не заносила ее телефон в память мобилки умышленно, потому что считала: в тот день, когда я не вспомню, чей это номер, я смогу получать удовольствие от жизни и без Дерека.
«Привет, как ты?» Я рассказала о кремации. «Ну, по крайней мере, это длилось недолго», – отреагировала Наташа. «Его кремировали в разных ботинках и разных носках. Как клоуна в сценическом костюме, – сообщила я. – Там был мой сокурсник. Он нализался поминальным вином». «Ну, хоть кому-то там было весело». Наташа умеет подбавить оптимизма. «Я, собственно, звоню тебе, потому что вспомнила о Франце. Ты понимаешь, о ком идет речь?» Я вспомнила. Франц был приятелем Дерека. Красивый журналист, который писал патриотические стихи и вел историческую колонку в одном из еженедельников. Он был красив чрезвычайно, большинство людей это безоговорочно признавало. Манфред тоже его знал, и после того, как Франц без надлежащего уважения отозвался о его проекте мемориального комплекса («Фундамент памятника, созданный Манфредом фон Вайхелем, напоминает мне малахитовую шкатулку со странным земноводноподобным орнаментом, когда на это смотришь – начинает казаться, что вот-вот оттуда выпрыгнут веселые ящерицы и забросают всех жертвенными хвостами»), сказал, что не понимает, зачем мужчине, столь красивому, как Франц, выставлять напоказ свое невежество лишь потому, что ему, видите ли, взбрело в голову, что у него есть журналистские способности. «Лучше бы рекламировал трусы, чем разглагольствовать об искусстве».
«Да, я помню Франца. Он как-то зацепил Манфреда. Манфред тогда в нескольких экземплярах того номера еженедельника приписал к его фамилии через дефис какое-то глумливое словцо. Он продолжил бы дописывать, если бы его не побил аптекарь. Еще я помню песню о Дунае, которую написал Франц. «Течет река средь стран – могущественный, благодатный джин». Манфред говорит, что это песня пропойцы». Наташа засмеялась. «Я не читала его стихов. Но колонка мне нравится. Кроме того, у него много связей с людьми, занимающимися военными расследованиями. Он может помочь. Возьмешь его мейл?»
Мейл я записала в блокнот. И подумала, что мне стоит завести отдельный блокнот, посвященный деду. Нелепо помещать деда среди моих преподавательских дел, расписаний занятий, тем и координат центра по пилатесу.
Каждый раз, когда я общалась с Наташей по телефону, ни она, ни я даже не упоминали о Дереке, хотя он был единственным, что нас связывало. «Я знаю, что такое потерять покой из-за деда, – сказала Наташа. – Моего обвиняли в пособничестве немцам. А я решила доказать, что они ошибаются, эти грязные обвинения не касаются моего деда. И доказала». Я ее поблагодарила, Наташа попросила, чтобы я держала ее в курсе дел. Я пообещала.
На часах почти четыре, пора выгуливать Тролля. Я о нем чуть не забыла. Наши считали, что Тролля разбаловала Бриг. Поскольку она не работает, детей у нее нет, к домашним делам она равнодушна, а выставки, спектакли и показы мод чаще всего бывают по вечерам, она приучила Тролля выгуливаться по нескольку раз на день. Он был бы оболтусом, если бы отказывался. А оболтусом Тролль не был. Бриг каждый день гуляла с несколькими молодыми мамочками с колясками и всякий раз радовалась тому, что у нее – собачка, а не ребеночек. «Тролль на меня не срыгивает и не писает, и между ягодицами ему протирать не нужно», – как-то она сообщила нам об этих преимуществах Тролля. «И сиськи твои он не сосет, и на памперсы тратиться не надо», – тихо пробурчал Манфред, так, чтобы она его не услышала. На месте Манфреда, если он действительно хочет наследника, я бы попросила ее меньше с ними общаться.
Я вышла из синагоги, снова зазвонил телефон. Манфред! «Привет, ты вернулся?» «Да! И забрал Тролля. Я так и знал, что ты оставишь его у родителей. Ты где?» «В синагоге». Манфред молчал. «Готовишь курс еврейского права или что-то в этом роде?» – высказал он наконец предположение. «Не совсем. Нам нужно поговорить. Можешь приехать к родителям?» «Не могу. Ты, наверное, забыла, что мы живем в Берлине? Знаешь, сколько пробок сейчас на этом направлении? Давай к нам. Кроме того, ты же тут неподалеку».
Конечно, они на меня вытаращились. Это из-за платья. Невероятный эффект, надо надевать его на свидание. На меня вытаращился даже Тролль. Не понимаю, зачем вообще этому псу лапы, он мог бы передвигаться, как змея. «Господи, Марта, извини, – первым пришел в себя Манфред. – Кто-то умер на кафедре? А я еще подшучивал и Бриг развлекал шутками о тебе и синагоге, извини. Но ты бы могла объяснить!» Манфред не способен долго извиняться, лучше ему удается нападение.
Я молча прошла в гостиную, Тролль держался строго позади меня, как ребенок, несущий шлейф невесты. Мебель в квартире Манфреда авторская. Диван напоминает скалы, гостиная выполнена в голубых тонах, по обоям парят чайки, на стену проецируется старинный испанский корабль, который постоянно перемещается; занавески напоминают океанские волны. Все это должно успокаивать, во всяком случае, тех из нас, кто умеет плавать. Думаю, что гостиная посвящена Бригитте, в какой-то мере, она – бригантина.
Под диваном валялся скомканный архитектурный журнал, последний номер. С обложки мне лыбился неизвестный чернявый мужик, в сериалах такие играют коварных повес, которые метят на чужие денежки и чужих невест, и мамаши у них не менее коварные. «Тьфу», – выдал Манфред. «Ты чего это?» – поинтересовалась я. Бриг куда-то уплыла, пошла, наверное, в кубрик заваривать кофе.
«Узнала?» – Манфред пнул «сериального злодея» ногой в физиономию. «Нет», – сказала я, подняв беднягу с пола. С правой стороны было написано: «Манфред фон Вайхен: жизнь в барельефах». «О, да тут о тебе!» – обрадовалась я. «Тьфу, – Манфред был не в настроении. – Да. Тут о моей победе. Маленькое интервью, мне бы было стыдно такое брать. Складывается впечатление, что они готовятся к общению с попугаями, а не с образованными людьми». Помню, как однажды, когда он поссорился с Бриг из-за ее матери, а вышеупомянутый Франц назвал спроектированный им центр современного искусства «безголовым и сутулым импотентом, который, собственно, находится в гармонии с современным искусством, которое тоже давно не поднимало головку», Манфред заявил (выдал), что одна половина людей, у которых есть потребность портить жизнь другим, идет в тещи, а другая – в журналисты. Лично мне этот диковинное здание напоминало голову павлина с короноподобным хохолком и клювом, но, честно говоря, на фигуру безголового мужчины с опущенным фаллосом это тоже было похоже.
«Это Грюнвальд Штросс. Архитектурное посмешище. И снова я под ним, как это противно». «Ну, это же не буквально», – хмыкнула я. Манфред вздрогнул. «Я не хочу терпеть от тебя такие шутки! Сама подкладывайся под него буквально! Он умудрился испоганить мой триумф. Выиграл я. Он к этому конкурсу не имел никакого отношения. И что я вижу на обложке? Эту наглую рожу».
Бриг принесла кофе. «Показать тебе свадебные фотографии?» – поинтересовалась она. Очевидно, Грюнвальд Штросс ее совсем не волновал. «А внутри они дали огромное интервью с этой бездарью. Кому нужны твои свадебные фотки, Бриг? Они же каждый раз одинаковые!» – никак не мог угомониться Манфред. Бриг едва повела бровями.
«Я бы хотела, чтобы вы присели». Они расположились таким образом, что было заметно – до моего визита они успели поссориться и теперь сидели на расстоянии друг от друга. Бриг в кресле-маяке. А Манфред спикировал ко мне, на скалу. «Даже не знаю, с чего начать. Вчера ко мне пришел Олаф». «Кто-то оставил нам наследство?» Манфред хохотнул. «Представь себе». Тут он мне помог. «Кто?» «Отец отца». «Он сбросил награбленные сокровища русских царей на парашюте, а сейчас кто-то добропорядочный это нашел и хочет отдать нам, чтобы мы это торжественно передали русскому посольству?» «Не совсем. Он позавчера умер в сумасшедшем доме, здесь, в Берлине, и оставил нам хасидскую шляпу, Библию, самоучитель иврита, бело-голубую папку и несколько рисунков». Я понимала, что Манфред не начнет прыгать от радости, да и сознание вряд ли потеряет. Но не ожидала, что он будет спокойно хлебать кофе и смотреть на меня в ожидании продолжения этой увлекательной истории. О, я знала этот взгляд с детства. Отец уже уповал на то, что мы сейчас уснем и не нужно будет нам читать новую сказку, и тут Манфред открывал блестящие глазки и требовал продолжения.
«Сегодня я была на его кремации. Видела его в гробу. Странно одетого В разных ботинках, разных носках и с разными пуговицами!» Возможно, это его расшевелит. «А почему нам никто не сказал?» Манфред потянулся за мафином с изюмом. Это уж слишком. «А почему это ты такой спокойный? Ты что-то знал?» «Прекрати на меня так смотреть! – возмутился мой брат. – Ничего я не знал. О чем я должен был знать?» «О деде». «О деде я ничего не знал. Правда, читал как-то у тетки одно дедово письмо. Из Украины. И все». «Тогда почему ты так спокоен?» «А что мне, плакать? Ты вытаскиваешь откуда-то деда, рассказываешь о его еврейском фетишизме, что мне, по-твоему, нужно делать? Терять рассудок?» «Потерять рассудок ты еще успеешь, дед насчет этого постарался, сколько ни сопротивляйся, все равно гены возьмут свое».
«Тебе надо успокоиться, правда, Бриг?» Бригитта кивнула. Она прижала чашку с кофе к правому глазу, как будто вложила в нее глаз, наверное, грела его. Не стоит в такой позе кивать головой. Горячий кофе попал ей в глаз, она взвыла. «О Господи, Бриг!» – Манфред побежал за платочком. «Мммм… арта, – запиналась Бригитта, – что все это означает?» «Не знаю», – честно сказала я, едва сдерживая Тролля, который бросился на защиту мамы-Бриг от злого кофе, и, чтобы он не добавил ей хлопот, я перехватила его.
«Марта, успокойся. Я думаю, отец нам все объяснит». «Посмотрела бы я на тебя, если бы тебе вывалили все это дедово имущество, особенно шляпу с прядками, а потом бы ты еще должен был идти на кремацию. Я не могу спать. И думать о чем-то другом тоже не могу, понимаешь?» «Мне это тоже не очень нравится». «Представь себе, отец обо всем знал. Но зачем-то устроил фарс, потащил нас, детишек, маму на могилу неизвестно кого, и еще, помнишь, взял горсть земли для тети Эльзе. Выбивал разрешение от СССР, в лепешку разбился, унижался, выстаивал очереди, проходил собеседования. Юриста цинизмом не удивишь, но, как по мне, он перегнул палку».
«Обожгла все-таки, – сообщила Бриг, она терла глаз. – Мне так жаль, Марта. Очень жаль». «Хоть ты не бери в голову! И не скули», – прикрикнул на нее брат. «Ну, как же мне не брать в голову? Это же ваш дедушка. Он умер, а вы даже ничего о нем не знаете, не общались, не помогали». Я почувствовала, что сейчас Манфред врежет Бригитте в другой глаз. Мы с ним переглянулись. «Бриг, мне бы не хотелось с ним общаться. Но хотя бы разок я к нему могла бы съездить, чтобы разобраться, что с ним и как». «Что ты говоришь?! Это же ваш дедушка! Родной!» «Я бы посмотрел на тебя, если бы у тебя был обезумевший дед-нацист, который игрался в еврея или вещами убитых евреев, ты бы наверняка прыгала от радости и таскала бы ему каждый раз открытки с котятами, парочку детективчиков, фильмы Лени Рифеншталь и Файта Харлана и, непременно, яблочные мармеладные пастилки, да?»
Бриг собралась заплакать. «Бриг, не нужно. Это он от волнения чушь несет… И пойми… твой дед, он не воевал, так ведь?» Дед Бриг не умер и умирать не собирался, он был очень активный. Даже хобби имел: разрисовывал на свой вкус зонтики. У меня был зонтик, который он сделал специально для меня. Темно-бежевый фон, а по нему разбросаны мраморные маленькие Фемиды. «Да. На войне он не был. Мой дед был военным инженером. И у меня нет иллюзий по поводу того, чем он занимался. Но это – мой дед! Ты что думаешь, он в те времена пекарни конструировал, а может, детские карусельки, а может, стиральные машины, так что ли?» Ну, уж нет. Не дадим деду Бриг перехватить пальму первенства позорной славы у нашего деда. «А наш дед хорошенько прошелся по Польше, Беларуси и Украине. Тоже не крендели там выпекал. Он мясо запекал. Человеческое». Бриг разрыдалась. Возможно, отец был прав, мне нужно было идти в прокуратуру.
«Что-то мне не нравится наше общение, – заметил Манфред. – Может, в кино пойдем?» «Ага. Точно, кино. «Список Шиндлера», например. Или “Пианист”». Манфред начал хохотать. И извиняться. Так он хохотал и извинялся какое-то время, Тролль устал за ним наблюдать и сбежал в другую комнату. Бригитта притихла. А я сидела и наблюдала за испанским кораблем. Телефон. «Ма, привет». «Ты чего не отвечаешь на звонки?» «Я тут с Манфредом и Бригги. Разговором увлеклась». «А, Фредди рассказывает, как прошла церемония награждения?» «Нет, это я рассказываю, как прошла одна церемония». «Какая же?» «Ну, не очень наградная, если честно. Мама, а когда вы с отцом будете в городе?» «Может, завтра, а может, уже на будущей неделе, ты же в курсе о пиве Клауса?» «Лучше бы – завтра». «Зачем? Что случилось, Марта? Где Манфред?» «Рядом. Мама, слушай, а отец телефон дома оставил?» «Да. Он терпеть не может брать с собой мобильный, когда хочет отдохнуть. Сама понимаешь, стоит отъехать на несколько километров от Берлина, как начинается трезвон. Я и свой бы не включала, если бы не беспокоилась о вас». «Ма, у меня есть одна просьба. Ты не могла бы позвонить господину Коху? Он должен кое о чем проинформировать отца. Я думаю, что и тебе это сообщение покажется интересным. А потом перезвони нам». «Хорошо. Хотя не понимаю, к чему такой таинственный голос. Как в дешевой оперетте, в суде или в костеле. Оставь это, доченька, это – плохой вкус!»
«Ну, что сказала мама?» «Сказала, что позвонит Олафу, а нам посоветовала на выбор – посетить костел, судебное заседание или оперетту». Мне хотелось увидеть реакцию Манфреда на судебное заседание. Но он сказал только: «В суд нас точно уже не пустят». А поскольку мой взгляд был такой же фланирующий, как испанский корабль на стенах его гостиной, он добавил: «Чего зависла, сестра? Кто из нас юрист? Сегодня судят того придурка, которого застукали, когда он совокуплялся с мопедом хозяина пиццерии. В зале полно журналистов, мы с Бриг смотрели два выпуска новостей!» Я молчала. «Не говори, что ты об этом не слышала! Ты вообще что-то читаешь, кроме романов Рота, своих лекций и “какие купальники будут модными в этом году”?» «Я не знаю, какие купальники будут модными в этом году». «Бирюзовые с восточными мотивами!» – откликнулся Манфред. Мы с Бриг внимательно на него посмотрели, и он покраснел. «Хоть кто-то в семье следит за модой кроме мамы. Вот почему ты обзавелся бирюзовыми плавками», – хмыкнула Бригитта. «Пусть теперь твой дедушка нарисует ему на них восточный узор. Все будут без ума от восторга. Наш дед тоже мог бы нарисовать: медсестра сказала, что он рисовал меня. Но он умер. Как ты знаешь».
«Все!» Манфред хлопнул в ладоши. Тролль сразу откуда-то прибежал. Мы не двинулись с места. «Идем на «Марицу»! Я уже заказал нам билеты. Марта, можешь не переодеваться, я никогда не видел тебя такой элегантной». «Конечно, я же не читаю статьи о людях, которые влюбляются в мопеды, и о том, какие платья модно надевать в оперетту в этом сезоне». «Хи-хи, очень остроумно», – ответил он.
«И на оперетту я не пойду. Я в трауре». «Знаешь, сестра, я же не предлагаю тебе идти на какой попало спектакль. Нет! Я предлагаю тебе пойти на «Марицу». Марица тоже в трауре. Она вдова, если тебе изменила память. И это не мешает ей танцевать, водить за нос мужчин и вопить на весь зал». «Ты знаешь, все-таки лучше нам побыть дома». «У меня есть еще один аргумент! Это оперетта Имре Кальмана, а он – еврей по происхождению. Мне показалось, что у тебя сегодня кроме траура по деду еще и траур по евреям. Ну же! Поддержи Имре и его потомков трудовым евро! Очень подходящая для твоего состояния оперетта, лучше и не придумаешь». «У меня тоже есть аргумент, – вмешалась Бригитта. – У меня к твоему замечательному платью есть необычайно красивый шарфик – бордо в черных японских хризантемах», – оживилась Бригитта. Ей важно чувствовать себя нужной.
Я не подозревала, что столько берлинцев посещают оперетту. Зачем им выслушивать проблемы этой Марицы, своих что ли мало? Сама я здесь никогда не была. Я думала, что «Комише опер» давно превратили в гей-клуб. Шучу. На самом деле, я думала, что они показывают здесь такие спектакли, на которые стыдно приходить с родителями, а без родителей приходить неинтересно.
«Ты только посмотри, как подходит интерьер к твоему платью! Жаль, что мы не взяли фотоаппарат, но я могу щелкнуть тебя мобилкой, ты только посмотри – богатый красный цвет и золотистое освещение!» «Бриг, прекрати!» Мы вышли в холл. «Ух ты, это ж надо. Привет!» И я увидела его. Венгра из квартиры Дерека. Который превращает себя в сосисочно-колбасный персонаж. И снова забыла, как его зовут. Наверное, его сюда привела тоска по родине. «Привет», – сказала я. «Какое пафосное платье! Ты в нем похожа на авторский обелиск». Думаю, что это был комплимент. «Не успела переодеться после кремации». «Марта, зачем ты заставляешь человека смущаться, лучше познакомь нас!» Бригитта в своем репертуаре. Зачем ей все эти знакомства? «Это… эээ». Господи, слава Богу, что я хотя бы помню, как звать эту парочку. «Короче, – знакомься, – Бригитта, Манфред, мой брат и его жена».
«Штефан! Очень приятно. Манфред, поздравляю вас с наградой, вчера мы с вашей сестрой как раз говорили о вас. Мне бы очень хотелось посмотреть на ваши работы, я слышал, что была выставка фотографий ваших объектов, если можно так выразиться…» Манфред поплыл. Я хмыкнула. Хмыкающий обелиск. Впечатляет!
«Ты с ним спала? Этот венгр – красавчик, похож на героев комиксов». Неуемная Бригитта. «Что ты мелешь?» «Если ты не помнишь имени мужчины, это значит, что ты с ним переспала. Если бы ты с ним работала, учила его или что-то в этом роде – ты бы помнила, как его звать. У меня всегда так. Если я знаю мужчину, но не могу припомнить, как его зовут, это значит, что я с ним спала». «Вот этого звать Манфред», – услужливо подсказала я, махнув рукой в сторону брата. «Дурында», – хихикнула Бригитта и легонько ткнула меня своим маленьким кулачком. Она никогда не обижалась на мои шутки. Не знаю почему, может, она их не понимала, может, считала, что я не в своем уме и не нужно меня злить, или родители воспитали ее так, что к любым родственникам, пусть даже придурковатым, нужно относиться дружелюбно.
«Девочки, начинается спектакль! Марта, почему ты никогда не знакомишь меня со своими такими симпатичными приятелями? Человек, который разбирается в искусстве, это невероятно, поразительно!» Хорошо, что я не человек от искусства. Постоянно зависеть от мнения посторонних людей – не для моей психики. Боже упаси. Юристом быть лучше, стоит только посмотреть на клиента чуть пристальнее, как у него начинается зуд.
«Это ты жужжишь?» Манфред – мастерский шептун. У него вообще уникальная дикция, лучше, чем у дикторов «Немецкой волны». «Мобилка. Это мать». «Ну напиши ты ей смс, что мы в оперетте». Так я и сделала. Мать не спросила, что мы там делаем и что слушаем. Она написала: «Завтра будьте дома. Приедем с отцом утром. Нужно поговорить. Марта, никаких журналистов, никаких расследований, по крайней мере, до нашего приезда. Отец хочет все объяснить. Целую, мама». Тасилло в этот момент выводил:
«Эй, цыган, эй, цыган, песню мне пой!
Сердце мне песней успокой.
Ну, пой, ну, пой, цыган, пой цыган, песню мне пой!
Чтоб душа рыдала с тобой».
Я его понимала, наверное, как никто другой.
Глава шестая
Первый раунд выиграл отец. Я знала, что в его случае «поговорить и объяснить» всегда превращается в предъявить обвинение, защититься и, обязательно, осудить. Святая процессуальная троица. Иначе он общаться просто не умел и не хотел. Когда я добралась до квартиры родителей, а это было около восьми утра, они уже приехали, распаковались и пили кофе с ароматным печеньем, которое испекла Розамунда Баварская. Манфреда пока не было. Мы с ним не созванивались, я понимала, что это тоже было моей ошибкой, так как отец и мать выступали одним фронтом. Это было понятно даже по тому, как они оделись.
Несмотря на то что отец вершил правосудие, скрываясь под мантией, одежду для каждого процесса он подбирал тщательно. Мне это прекрасно было известно. Сейчас он был одет в кофейный джемпер, из-под которого виднелась рубашка в тонкие розовые и кофейные полоски, коричневые классические брюки, необходимый акцент он сделал на галстуке. Это для того, чтобы что-то стало раздражителем для собеседника. Галстук был цвета, который я звала – голубиный. Сине-серо-зелено-сиреневый. С отливом. Он выполнял функции не только раздражителя, а еще и отвлекал от того, что именно говорит тот, кто его надел. Ты вынужден был смотреть не в глаза собеседнику, а на этот чертов галстук. Не успела я подумать, что со мной такие фокусы не пройдут, как тут же поняла, что уже пропустила мимо ушей его слова, так как таращилась именно на галстук.
«Что? Извини, я тебя не услышала». Отец посмотрел на меня с иронией. Всегда приятно, когда срабатывают твои штучки. Он будто говорил, кроме того, что ты, девчонка, позволила себе опоздать, ты еще имеешь наглость не слушать, что я тебе говорю. Иногда взгляд отца выдержать было невыносимо, с другой стороны, а чего можно ожидать от человека, который каждый день имеет дело с лжецами? Даже когда отец молился перед обедом, создавалось такое впечатление, что он собирается не вымаливать, а судить. Что само по себе выглядело кощунством.
«Я думаю, что нужно подождать Манфреда, он должен вскоре быть». Вот оно как. Они знают, когда должен быть Манфред, то есть они только что ему звонили. «Марта, бери печенье, Роззи оно удалось!» Мать улыбнулась мне, но оставалась по левую сторону от отца. Она так делала всегда в важные моменты, хотела слышать, как бьется его сердце. Знала она о деде или нет? «Спасибо». Печенье я взяла. Не буду отказываться от вкусненького. Мать была в грязно-розовых широких брюках и льняном пиджаке кофейного цвета.
«Марта, я увидел в шкафу вещи отца, но не трогал их. Сейчас я могу на них посмотреть, или подождем Манфреда?» «Смотри. Вообще-то они твои больше, чем мои». «Спасибо». Мы продолжали молчать, меня уже из-за этого ожидания поташнивало и трясло, будто стоишь за дверью операционной и ждешь, когда кто-то оттуда выйдет.
Первым в гостиную вбежал Тролль. Он потыкался носом в мои щиколотки, а потом зашелся от счастья у ног родителей. Запустил нос в штанину матери и захлебнулся от азартного лая, будто загнал в эту штанину лисицу. Смешной. Это он просился на руки. Манфред и Бриг выглядели замечательно. Вот интересно, я до сих пор продолжаю свою сестрину подростковую игру: закрываю один глаз, тогда я не вижу Бриг, и подставляю к брату других его подруг, в том числе и Ханну. Бриг почти всегда выиграет. Сегодня она выиграла точно, ей очень к лицу осенние цвета.
Начались объятия. Я никогда не обнимаюсь с отцом и мамой, хотя вижу их не чаще, чем Манфред, но только он и его жена способны обниматься с родственниками так естественно, гармонично, уместно.
Я так не умею. Обнять человека для меня проблема, я не знаю, какую руку занести первой, как прижимать человека к себе, похлопывать по спине или нет – объятие вызывало у меня множество вопросов. Возможно, когда у меня будет ребенок, я научусь обнимать. А пока я пощекотала Тролля за ухом, он чихнул и начал требовать печенье. Тролль почти никогда не выглядит растерянным и знает, чего он хочет от жизни. Надо сказать, он не капризный и не привередливый, если ему вместо печенья дадут корочку черного хлебушка, он умеет чувствовать себя счастливым и в этом случае. По крайней мере, умеет держать марку и счастливое выражение мордочки.
Объятия закончились, начался тихий обмен впечатлениями и новостями. Я чувствовала себя дурочкой. Отец предложил мне включить кофеварку и заварить чай. «Ты же понимаешь, мать их просто так не отпустит». И это он просчитал.
Пока занималась приготовлением кофе и чая, заметила, как отец рассадил всех по своему плану. Черт. Я допускаю ошибки. Может, перестать испытывать враждебность к нему? Они с мамой сидели рядом, возле матери пристроился Тролль. За ним Манфред и Бриг. Все они будто выступали на одном фланге. Мое кресло стояло на другом. И передвинуть его было невозможно.
«Вроде все в порядке. Марта, так ты позволишь?» – начал отец. Ну уж нет. «Ты знаешь, папа, поскольку вы расселись как почтенная судебная коллегия, а я здесь чувствую себя как обвиняемый, начинать буду я, если ты не против. Без твоего вступительного слова мы обойдемся, ничего страшного». Мать пришла в негодование, конечно. «Доченька, это ты нас обвиняешь!» При этом она махнула рукой в сторону супружеской пары и Тролля, мама – мастерица обрастать связями и партнерами. Отец пожал плечами.
Мне мешало говорить что-то, давящее на меня в животе. Непереваренная ненависть, враждебность, страх, обида, беспомощность. От всего этого нужно было избавиться, но понимать, что нужно что-то сделать, не значит – знать, как это делается. «Так начинай же, доченька». Отец видел, в каком я состоянии, надо признать, что победных интонаций в его голосе я не услышала, он мне сочувствовал, а это было еще хуже. Я заметила, что никакой вины он не чувствует, возможно, ее и нет?
«Два дня я нахожусь в другом измерении». «Ты сама себя туда загнала, сестра». «Манфред!» Отец слушал меня. «Я хочу кое-что выяснить, прежде чем задавать вопросы». «Что именно?» Я сама вела себя, как в суде, готовилась услышать от него: ваш вопрос сформулирован некорректно, чем вы объясните, что он касается дела, ваш протест отклонен! Нужно чуточку сдать назад. «Ма, ты знала о том, что папин отец жив?» «Нет», – просто ответила мать, она сидела рядом с отцом, и было очевидно, что она на его стороне. Я помню, как раньше она всегда забирала нас маленьких, Манфреда и меня, у отца с колен и с рук и, как кошка, перетаскивала нас в «свое» место. Сейчас она с ним.
«Меня удивляет то, как ты на это реагируешь». «Может, ты позволишь отцу объяснить, тогда тебе нечему будет удивляться?» «Марта, на самом деле, мы ведь ждали, чтобы нам все объяснили. А теперь ты становишься в позу!» Брат был прав. Можно было продолжать ершиться, но этим я отца не смогла бы сбить с толку, он еще в детстве прозвал меня ершехвосткой. «Так я могу что-то сказать, да, дорогая?» Я кивнула, пусть говорит. «Я расскажу все то, что считаю нужным, а потом готов ответить на все вопросы». «Ты не на пресс-конференции, папа», – проворковал Манфред.
«В 1989-м пала Берлинская стена… Марта, не нужно смотреть на меня так, будто я изрекаю банальности, я и без того сам себе напоминаю ведущего ток-шоу, но мне с чего-то нужно начинать, и мое право выбирать то, с чего я начну, понятно?» Раскаянием здесь не пахнет. «И начался процесс объединения, который не только приблизил к нам восточных немцев, но и приблизил ко мне моего отца. Да, Марта, когда мы ездили в СССР, я был уверен в том, что отец погиб, и с чего бы мне было думать иначе, кроме того, я не очень люблю маскарады, чтобы устраивать их для собственной семьи. Нам было трудно выехать, но я сделал все, чтобы нас выпустили, мы почтили память отца, и скажу тебе честно, я не чувствовал себя так, будто еще что-то ему должен.
В начале 91-го меня посетили гости. Работники органов безопасности ГДР. Они рассказали мне об отце. Принесли кое-какие документы. Показали, где его содержат, и, наконец, разрешили взять над ним опеку. Решили, что справедливее будет, если отныне платить за нациста будет не государство, а его сын, который неплохо зарабатывает. Отец был неподсудным, так как потерял рассудок еще в 1943-м, четко установили это в 44-м, с того времени состояние его ухудшалось. Меня он не узнал. Даже если бы я нашел мальчика, похожего на меня, того, которого он оставил дома, когда отправлялся на войну, он все равно не узнал бы меня. Он не понимал немецкого языка. Мой отец… образованностью которого гордилась вся семья.
Он не потерял голос, не потерял слух. Он постоянно что-то говорил, писал. Вы все видели, как выглядит его писанина. Он был безумный, агрессивный, неуправляемый. Часто плакал или раскачивался на кровати, наклонялся вперед, потом назад, это могло продолжаться двое суток без перерывов. Пресс у него был на зависть культуристам. Я решил ничего вам не рассказывать.
Моя мать к тому времени уже умерла, возможно, если бы отец увидел ее – к нему вернулся бы рассудок, хотя врачи отметали такие предположения. Эльзе слаба здоровьем, на нее это могло плохо повлиять. Она уже тогда никуда не выходила без своих шляп с вуальками. Не хватало ей еще увидеть отца в хасидской шляпе. Манфреду – семнадцать, в этом возрасте интересуются молодыми женщинами, а не помешанными дедами. Тебе пятнадцать, и ты никогда не просила, чтобы я рассказывал тебе о дедушке, не так ли? Тебя в этом возрасте трудно было чем-то заинтересовать, не думаю, что тебе пришлось бы по сердцу общение с безумным старикашкой, который в любой момент может плюнуть тебе в глаза».
Мы молчали, мать поглаживала отца по руке.
«Знаешь, как отца называли комитетчики? Суг Зайн. Это было его кодовое прозвище, оно значит – седьмой сорт, самый низкий, ущербный, самый мерзкий. Одним словом, дерьмо. Еще так обозначают фаллос в иврите. Веселые комитетские шуточки. Ты была готова все это услышать, жить с этим? Не думаю».
«Ты мог мне дать возможность определиться самой. Пусть не в 1991-м, пусть со временем. Но ты этого не сделал, почему?» «Потому что я сам не хотел держать это в своей памяти, я, доченька, кто угодно, но не мазохист. Именно поэтому в 1993 году я поручил отца Олафу. Он обеспечивал ему уход, навещал его. После 1993-го я наведывался в это заведение трижды. Когда мне сообщали, что он умирает. Но он долго не умирал».
«А от чего у него сорвало крышу?» – спросил Манфред. Спросил будто о том, с какой начинкой досталась отцу конфета. Отец закрыл глаза. «Это все война, сынок. Она ничего никому не объясняет. В документах, которые мне предоставили, не было ни единого слова, версии, намека, которые объясняли бы это состояние. Сумасшествие не такая уже и редкость по тем временам. Не единичный случай».
«А почему ты сам ничего не разузнавал? Ты делал какие-нибудь запросы, пытался найти это в архивах?» «Нет, Марта. Не пытался. Я занимался другим, я делал карьеру, и у меня это получалось. Надо заниматься тем, что у тебя получается, а не гоняться за призраками. Я разрабатывал тесты для того, чтобы проверить квалификацию судей и адвокатов ГДР, не думаю, чтобы ты об этом забыла. По крайней мере, это тебе всегда было интересным, и, мне кажется, этой моей деятельностью ты гордишься и считаешь довольно полезной для общества, не так ли? Молчишь? Правильно. Испорченные нервы, информация о живом отце-нацисте, к тому же безумном, могли мне навредить. Навредить всем вам. Конечно же ТАМ об этом знали, но то, что не приобрело общественной огласки, не является таким уж реально существующим, ведь правда?
И я настоятельно прошу тебя оставить это. История эта была похоронена значительно раньше, чем похоронили деда. Итак, пусть все остается там. В земле. В другом измерении. Где угодно. Я не хочу, чтобы ты тащила это в нашу семью». «Оно уже в нашей семье, как ты не понимаешь? Я поверить не могу, что ты его предал! А вдруг его можно было реабилитировать? Вдруг он понял, что идеи Гитлера были ошибочными, и из него сделали сумасшедшего?»
«Не мели ерунду, Марта. Отец был идейным офицером. Впрочем, офицерство здесь ни при чем, он был идейным человеком. Я читал письма, которые он писал матери. Они сохранились у Эльзе. Надо, чтобы ты их прочитала». «Можешь не сомневаться – прочитаю. А ты и дальше собираешься не говорить о смерти деда сестре?» «Я бы воздержался от этого. Сама подумай, зачем ей это нужно, облегчит ли это ее жизнь?» Отец держал нас всех вместе. На себе, под собой, возле себя. Его судейское прозвище было Подтяжки, это потому, что он был убежден, что только на нем держится правосудие, процесс. Себе он не изменял и в семье.
Тролль устал от наших разговоров, зевнул и начал рассматривать свои коротенькие лапки. Я тоже смотрела на свои колени, мне было интересно, не потолстели ли они, какой у них рельеф, не очень ли торчат, не многовато ли мяса над ними нависает, не загорелее ли на них кожа, чем кожа на ноге. Мои колени всегда выглядят более черными, как нашлепки у игроков в бейсбол.
«Вы можете поступать так, как считаете нужным, – наконец начала я. – Я не хочу давить на вас. Но хочу предупредить, что я буду искать, изучать, собирать всю возможную информацию». «Марта, не нужно вытаскивать это… – начал отец устало. «…из хасидской шляпы! Ты не иллюзионист», – радостно продолжил Манфред. «Конечно, я не иллюзионист, это вы – иллюзионисты, вы не хотите узнать правду, вас устраивают ваши иллюзии».
«Марта, а что плохого в том, что нас устраивает наша жизнь? И мы не хотим никаких перемен?» – начала мать. Ну, конечно. «Если тебе нравится жить с надрывом, это не значит, что такое должно нравиться всем, моя дорогая». «Не надо раскачивать дерево, на ветке которого сидишь», – добавил отец. «А если это не дерево, а виселица?» «Марта!» В два голоса. Манфред криво улыбнулся. Бриг испуганно заморгала. «Я так понимаю, что с нами ты не собираешься считаться», – обратился ко мне отец с укором. Спина его уже не выглядела такой неестественно прямой, как в начале разговора, она выглядела, как резиновый матрас после того, как на нем полежал толстяк. «Я, по крайней мере, открыта к общению. Даже могу объявить вам план моих дальнейших действий». «Ах, какое великодушие, сестричка», – заметил Манфред.
«Доченька, я хочу тебе сказать, что ты очень огорчаешь этим меня и отца. Неоправданная жестокость, неоправданное упрямство. Когда я наблюдаю подобное поведение, мне очень хочется, чтобы ты как можно скорее нашла себе мужчину и растворилась в нем». Мать не смогла сдержаться. Я бросила на нее недобрый взгляд. Не часто родители желают тебе раствориться, особенно те из них, которые не являются химиками. Я посмотрела на их пару. Они сейчас напоминали одно фото, которое было сделано в те времена, когда Агнес и Йохан только начали встречаться. Мать тогда называла его Ханни, а он ее – Найси. Думаю, что это было влияние моды на все английское. Сейчас они так друг друга не называют. Ее рука на одном его плече, ее подбородок – на другом. И глаза прищурены, несмотря на то, что удовольствия от этого разговора и от меня она не получает. Но она получает удовольствие от того, что касается своего мужа.
Я вспомнила, как они познакомились. Это случилось в кофейне, отец обычно назначал там свидания девушкам и женщинам, потому что когда-то был любовником жены хозяина этого заведения и она до сих пор готовила для него смесь молока с корицей и еще его любимый ванильный крем. В тот день он тоже спешил на свидание, но у Лизы, его беременной замужней подружки, целый день кружилась голова, поэтому на свидание она не пришла. Мать же встречалась в кофейне со своим женатым любовником Гельмутом. У него тоже что-то кружилось, а может, у его жены, а может, его жену и звали Лиза и она была беременна – этого никто уже не узнает. Манфред не зря называл наших родителей бесстыдниками. Агнес сидела в одиночестве, вздыхала и попивала третью чашку кофе. Йохан смаковал специально для него приготовленное молоко и листал страницы книжки.
Вообще-то отцовская Лиза была мамашей двух упитанных близнецов и сейчас размышляла над тем, рожать им родственника или нет. До Лизы отец встречался с разведенной красавицей Марией, у которой был сын. Сын называл отца: «У-гугу-ууу» и махал руками, из чего тот сделал вывод, что Мария рассказала малышу о Йохане как о летчике или как о птице. А до Марии у него была Аника-Антония, которая одна воспитывала дочь. Бывшим мужем Аники был известный порноактер, а сама она занималась классической музыкой. Отец шутил: «Он любил классические позы, а она – классическую музыку, поэтому они и не сошлись характерами». Еще отец любил рассказывать, что самым большим эстетическим удовольствием тех времен было для него наблюдать, как Аника-Антония подсовывала дочурке сиську и распевала кантаты Дитриха Букстехуде. Мне казалось, что после этого ритуала дочурка Аники-Антонии и до сих пор обязательно начинает напевать классическую музыку, как только видит молоко или сиськи. «Глупышка! Нет ничего прекраснее обнаженных женщин, которые кормят грудных детей, в сочетании с северонемецким музыкальным барокко!»
Поскольку с самого детства меня интересовали отношения между полами, я часто спрашивала отца, почему он встречался с женщинами, которые имели детей, не потому ли, что ему нравились женщины старше него? Или же он очень любил детей? Он в ответ отшучивался, а как-то сказал, что эти женщины были младше него, просто у них были дети. И только тогда, когда он заставил себя смотреть на меня не как на его маленькую девочку, а как на чью-то взрослую женщину, он сказал мне, что встречался с женщинами, которые имеют детей, потому что с ними ему было приятнее заниматься любовью. «Физиология женщины, которая рожала, позволяла мне заходить в нее глубже. Понимаешь, у меня с малых лет был тугой и большой пенис. Это счастье, что в результате он подошел твоей маме».
На отце в тот день были модные вельветовые брюки, а мама красовалась в вельветовом сарафане того же цвета жженой карамели. Еще на них были одинаковые белые водолазки, на самом деле они выглядели, как заговорщики или ученики одной школы. Отец читал «Живой пример» Зигфрида Ленца, верней – перечитывал уже в третий раз. Эта книжка привлекала почти всех его однокурсников, юристы любят копаться в чужих примерах, живых или мертвых.
Зигфрид Ленц однажды написал, что писатель должен быть моральной инстанцией, священники это как-то проглотили, в конце концов в Восточной Германии они смирились с правилами быта и нравами тех дней, а вот юристов это возмутило. Отец придерживался той мысли, что каждый человек может быть и есть живым примером, но никто не может быть универсальным живым примером, даже Иисус. Здесь на него накинулись те из его приятелей, которые были религиозными, их приводило в негодование недоверие отца к Иисусу как к живому примеру, а также те из его приятелей, которые были атеистами. Их приводило в негодование то, что отец признает существование Иисуса. Отец рассказывал, что это были едва ли не первые тренинги для него как для будущего судьи. На мой взгляд, быть судьей очень легко, следует просто плевать на мнение других, но безоговорочно верить себе.
Внешне писатель Ленц не очень напоминал моральный авторитет, гораздо больше он был похож на комедийного актера, который играет детектива-неудачника. Многие люди им увлекались, многие терпеть не могли. Даже Иисус испытал такое полярное отношение, что уж говорить о писателях?
Моя мать никогда не была заядлой читательницей, но всегда любила быть в курсе. Отец посмеивался над тем, что у мамы не развито читательское либидо, книжки ее не возбуждают, но теоретически она сознает их пользу. Для того чтобы быть в курсе, она слушала радиопрограммы, читала газеты, а еще внимательно слушала людей, которые были заядлыми читателями. Поэтому она знала, что «Живой пример» Ленца сейчас как никогда кстати.
Парень с книжкой маме понравился, поэтому она его гипнотизировала. Но первой этот гипноз ощутила жена владельца кофейни, которая и указала отцу на девушку в вельветовом сарафане, когда принесла ему очередную порцию молока. Отец предложил матери присоединиться к нему, что она и сделала. Мать никогда не нужно было долго уговаривать (склонять) к близости, даже если речь шла о том, чтобы составить компанию за соседним столиком. Ханна называла это «правилом первой сиськи»: та, что первой сунет сиську младенцу, и есть его мама, так и с мужчинами.
Они немного поговорили о «Живом примере», в результате чего у отца не возникло ни малейших сомнений относительно того, что мать роман не читала. Я думаю, это из-за того, что отец ее сразу же захотел. Живой пример всегда сдаст позиции живой женщине, особенно когда она такая соблазнительная, влажная и сиськоустремленная. А она хотела ему дать. Любовники, которые не приходят на свидание, особенно состоящие в браке, являются неплохими афродизиаками. У меня такое впечатление, что в тот же день они впервые занялись любовью, несколько раз это закрепили, а на второй день почувствовали себя парой. Конечно, свою роль сыграло и изумление отца: впервые его член подошел женщине, которая еще не рожала. Все мы готовы верить в чудеса.
«Марта, я могу надеяться, что ты не разболтаешь об этом всяким бездарям?» Бездарями Манфред считал журналистов, которым не нравилось его творчество. И он подозревал, что к одному из таких я обращусь.
«У меня есть предварительный план. Его нужно подкорректировать, но для начала он вполне приемлем». Они смолчали. «Сначала я пойду к тете Эльзе, нравится вам это или нет. Не знаю, стоит ли рассказывать ей о деде, но мне нужно забрать у нее его письма к бабушке. Папа, ты сам учил меня сначала изучить все, что написано, правда?» Против этого вроде бы никто не возражал. «Потом я встречусь с Дорой Тотер». «Эта та самая фрау Тотер из Министерства юстиции? Красивая блондинка?» Отец знал почти всех. «Да, кроме того, она моя однокурсница, и дело деда вела именно она. Бывают же такие совпадения». Это они тоже проглотили. Письма, тетка и Дора беспокоили их немного, но не больше, чем зонд, который нужно проглотить во время гастроскопии. Неотвратимая и неприятная необходимость, но вполне понятная. Надо просто расслабиться, и все быстро закончится. Но сейчас я готовилась назвать имя, которое едва ли их порадует. Под скальпель почти никто добровольно не ложится.
«Артур». Папина чашка поскользнулась, но вслух первой отреагировала мать, так как Артур был ее братом – парией. «Что такое, Марта?» – выдавила из себя мать. Манфред был похож на горький огурец. Снаружи такой, как обычные, но внутри уже накапливалась горечь, она будто стекалась в две рельсы его межбровных складок.
«Хотите дополнительных объяснений? О’кей. Мне нужен человек со связями в Украине. Артур – прекрасная кандидатура, не правда ли? Он все и всех знает». Молчание в семейном склепе. Итак, погрузимся в семейную историю! Отец сначала относился к Артуру спокойно, даже дружелюбно, пока не осознал, что тот доводит до бешенства мать и Манфреда. Младший брат матери, сколько же она с ним панькалась в детстве! А стоило ей на минутку отвлечься, и ее любимый пупсик снял сшитую для него одежду и вырядился в шмотки, подобранные ему другой девочкой. В сущности, вина Артура была лишь в том, что он стал успешным коммерсантом. Ему помогла собственная жена. Манфред и мама за глаза ее называли не иначе, как Зубатка.
Мать захлестывали эмоции из-за того, что Артур нагло зарыл в землю свой талант. Не знаю, что она имела в виду под словом «нагло». Манфред бесился из-за того, что Артур, уже без таланта, зарытого им в землю, зарабатывал очень большие деньги. Большие деньги часто вызывают негодование, особенно если они не твои. «Он был рожден Художником, а стал фабрикантом», – пафосно изрекала мать. Манфреда больше смущало даже не то, что Артур был рожден талантливым Художником, а то, что ему удалось стать успешным бизнесменом.
У Артура была своя текстильная фабрика, фабрика по изготовлению обоев и еще несколько производных бизнесов. Это он был автором футболки с надписью «Счастливый листик клевера». Тайна заключалась в том, что на десяти футболках из тысячи он вырисовывал один-единственный счастливый листик среди других, «несчастливых». Молодежь от этого была в восторге, футболки покупали в подарок, все выискивали счастливый листик! Артур гарантировал счастливцам призы. Это же касалось и обоев: «Счастливая сирень», «Счастливый папоротник», любое небольшое отклонение от общего правила, которое Артур талантливо шифровал, давало миллионные прибыли. Лично у меня была футболка «Счастливый барвинок», они об этом не знали. Каждая лиричная девушка должна иметь свою тайну, пусть даже в виде футболки.
«Я не хочу, чтобы Артуру об этом стало известно. А тем более Зубатке. Эта история их не касается». «Ма, ты думаешь, Зубатке важно знать, был ли отец твоего мужа нацистом или был сумасшедшим, живым или мертвым?» Мать ничего не ответила, но по выражению ее лица, тем не менее, было понятно, что Зубатке интересно решительно все, что связано с мамой. «На мой взгляд, чем меньше мы будем делать из этого тайну, тем меньше оно будет казаться тайной другим, разве нет?» Я демонстрировала здравый смысл и надеялась на поддержку отца. Но он составлял грязные чашки на поднос. У меня сложилось впечатление, что мне объявлен бойкот. Даже Тролль молча наблюдал за каким-то насекомым, а когда я почесала ему за ушком, уклонился. Манфредовское отродье.
«А поскольку сейчас вы все очень внимательны ко мне, поболтаю с вами с удовольствием! Такая молчаливая, притихшая аудитория – редкость. Так вот, еще я собираюсь встретиться с несколькими журналистами, психологом, чтобы показать дедовы записи и рисунки. Кстати! Еще с медсестрой из его заведения. Она сообщила, что дед рисовал мои стриженые портреты». «Какие портреты?» – дернулся было Манфред, но быстро овладел собой. «Стриженые».
«Ты не имеешь никакого права обращаться к Артуру. Он – предатель». Мать быстро покинула столовую. Вот так-так. Жена федерального судьи.
Я решила, что больше не буду разглагольствовать по поводу Артура, свою мысль я до них донесла. «Портретов я не видела, но медсестра сказала, что охотно передаст их мне. Она говорит, что дед рисовал меня». «Он не мог рисовать тебя, что ты мелешь? Совсем с ума сошла». «Я тебе не говорю, что он рисовал меня, Манфред. Так думает медсестра. Помнишь, как твоя одноклассница Вике рисовала циклопа? И учительница очень обеспокоилась тем, что с девочкой не все обстоит благополучно, она упорно рисует это одноглазое чудовище. Тогда она еще вызвала родителей на откровенный разговор, помнишь?» Манфред это помнил, судя по его кривой ухмылке. «Тогда оказалось, что Вике рисует своего обожаемого деда, которому выбили глаз во время потасовки на танцах». «Ключевое слово этой истории Дед, да?» «Думай, что хочешь. Всему есть объяснение, и я, в конце концов, хочу найти объяснение тому, почему дед рисовал мои портреты». «Но к журналистам ты обращаться не посмеешь! – в запале Манфред почти сорвался на крик. – И к Артуру». Вспомнил материнские установки. Маменькин сынок.
«Посмотришь», – пообещала ему я. «Марта, обращаться к журналистам неуместно, да и неосторожно. Они ничем тебе не помогут, вместо этого напишут кучу мерзкого бреда». Грязная посуда у отца закончилась, и он покинул совещательную комнату. «Вполне возможно, что мне будет достаточно прочитать дедовы письма, пообщаться с Дорой, еще раз съездить на его «могилу», поискать очевидцев событий». Отец жалел, что организовал это семейное собрание в своей квартире, у него не было наработанных привычек выгонять своих детей в три шеи, распорядителя судебного заседания тоже рядом не было, поэтому он чувствовал себя слегка растерянным. Отец взглянул на Манфреда, но мой брат бывает толстокожим, сейчас он целовал ранку от заусеницы на пальчике жены. Тролль сначала заинтересовался этим процессом, так как лучше знал толк в зализывании ранок, поэтому вмешался, но легенько получил по носу, обиделся и спрятался под столом.
«Мне пора, – сообщила я. – Папа, с твоего позволения я потом возьму еще раз посмотреть дедовы вещи». «К Эльзе ты их не понесешь?» Раунд за мной, он смирился с тем, что к Эльзе я потащусь. «Посмотрим, сначала я с ней поговорю». Манфред решил, что недостаточно поинтересовался моей жизнью, поэтому спросил, не очень четко – у него во рту был пальчик Бриг: «А как там Ханна?» Бриг дернулась, заусеница закровила. Манфреда вполне можно бы было наречь Гиппопотамом, но родители редко бывают пророками.
«Она отдыхает в Турции. Я передам, что ты спрашивал о ней, думаю, она будет прыгать до потолка от радости, что ты о ней вспомнил». «В Турции? Что, изучает животных в их естественной среде, чтобы потом было легче справиться? Если она не женит на себе турка – она умрет старой девой». Мой брат расист. В нашей семье такие разговоры не приветствуются, но время от времени происходят, порой я сама провоцирую Манфреда на гнусные высказывания, чтобы позлить отца. На отца часто нападает икота, но не в этот раз, на этот раз он замер у рукомойника. «Она не станет прыгать до потолка, а то сможет оторвать зверьку член, сладострастная сучка».
Манфред гадкий. На самом деле, Манфредом движет неравнодушие к Ханне, банальное неравнодушие, в какой-то мере – сексуальная зависимость, но таков он есть. Если поиграть в литературные ассоциации, то бывают люди – вступления, прологи, эпилоги, бывают люди – гиперболы, рефрены, ссылки, а Ханна – кульминация. По крайней мере, для моего брата. Ханна – вечный и неугасимый оргазм Манфреда. Он часто доводит Бригитту до слез своими вульгарными выражениями, и сейчас она едва сдерживалась. Отец ничего не сказал, его указательный палец был направлен на дверь, безжалостный взгляд – на Манфреда. Брат встал, схватил Бригитту за руку, видимо, причинил боль ее пальцу, так как она снова дернулась, и пошел прочь. Тролль нервно тявкнул в сторону отца. И я воспользовалась этим возмущением, чтобы исчезнуть за дверью. Все наши семейные беседы заканчиваются одинаково: согласно первому варианту – Бриг и Манфред обцеловывают мать и никак не могут уйти. Я тем временем парюсь в верхней одежде. Этот вариант я называю: «All inclusive + бесплатная сауна». Второй вариант Манфред с отцом только что продемонстрировали. У него короткое название – «Вон!».
Глава седьмая
Моя тетка Эльзе, как вы, наверное, уже догадались, человек специфический. Часто таких, как она, называют людьми с тонкой душевной организацией. Следует сказать, что люди с тонкой душевной организацией способны достать намного сильнее, чем толстокожие невежи. Именно они своим поведением провоцируют нервные срывы. На толстокожего невежу можно гаркнуть, а тут действовать столь прямолинейно ни в коем случае нельзя.
Моя тетка вышла замуж за турка задолго до того, как они заполонили Берлин, можно сказать, что она завела эту моду, тогда ее брак считался экзотическим мезальянсом. Хакан Исмаил Демирель был невысоким худым мужчиной, он служил в Интерполе. Интересно, что отец, слуга Закона, терпеть не мог Демиреля не потому, что тот был турком, а потому, что тот был полицейским. Отец ненавидел полицию, и неважно, международную или местную. Хотя от того факта, что муж его сестры турок, он тоже не был в восторге. Никто из нас не называл Хакана дядей. Не знаю, нравилось ему это или нет, Хакан не любил общаться.
Тетя Эльзе небольшого роста, тоненькая, белокожая, она не карлица, но, если на нее надеть шляпку, пышное платье и дать в руки кружевной зонтик, то ее можно посадить на полку рядом с фарфоровыми куклами, она там будет выглядеть более естественно, чем на улицах города. Когда Тролль подходит к ней, кажется, что это вытянутый в пространстве курцхаар, наверно, ему это льстит. Рядом с теткой я чувствую себя складным стулом, потому что складываюсь пополам, чтобы находиться на одном уровне с ней. Боно когда-то сказал: «Когда ты наклоняешься к маме, ты похожа на детскую разобранную пирамидку или на штопор». Манфред высказывается конкретнее: «Ты похожа на испуганного страуса!»
«Эльзе, привет! Это Марта. Ты еще часок будешь дома?» «Привет! Буду. Принеси мне бутылку лимонной воды». Небольшая бутылка воды в руках тетки выглядит как эрегированный член, а большая – как огнетушитель или дайверский баллон с кислородом. «Принесу, если не забуду. Слушай, мне вообще кое-что от тебя нужно. Дедовы письма с фронта. Помнишь, где они у тебя лежат?» «В маминой шкатулке. Сейчас достану. Не забудь о воде!»
Эльзе была счастливой женщиной, муж ее любил, это признавали даже те, кто терпеть его не мог. Хакан слишком рано умер, слабое сердце. Возможно, если бы он меньше любил тетку, его жизнь была бы длиннее, но не судилось. «У того, кто умеет любить, быстро снашивается сердце», – поэтично говорил Манфред. Кульминационная Ханна всегда реагировала так: «Да ты что? Ну, тогда твое после кончины будет таким нетронутым, хоть на органы отдавай. Сердце, которое не проехало даже метра любви».
После смерти мужа тетка не выходила из дому без черной сетчатой вуали. Отец считал, что это просто сдвиг на трауре, пока Манфред прямо не спросил тетку, зачем она это делает, ведь уже столько времени прошло. Тетка ответила: «Понимаешь, когда я надеваю вуаль и сквозь нее смотрю на других людей, мне приятно сознавать, что они – заключенные, а я, свободная, смотрю на них через решетку». Оказывается, она нас все время держала в заключении! Даже членов семьи, хорошо, что нам она время от времени носила передачи и ходила на свидания, открывая лицо.
Она никогда не работала, ни до замужества, ни после. «Работа отнимает мечты», – говорила она. После смерти Хакана Эльзе занималась тем, что постоянно переустанавливала памятники на его могиле. Отец это называл «Эльзины надгробульки». Сначала памятник Хакану был стандартным – композиция из Католического Креста и Полумесяца. Манфред на это заметил, что, судя по памятнику, Хакан был бирелигиозным. Если бы кто-то поинтересовался моим мнением по поводу памятника, я бы выбрала логотип Интерпола, потому что это было единственное, кроме любви, во что верил господин Димерель. Как-то я поделилась своими соображениями с Манфредом, он немного подумал и сказал, что логотип Интерпола выдумали маньяки. Потому что ни одному нормальному человеку не придет в голову пронзить земной шар мечом, да еще навесить с обеих сторон две плошки (весы Фемиды) для того, чтобы туда стекала земная кровь. Художники или спасут этот мир, или изнасилуют его.
На дружбе Креста и Полумесяца тетка не остановилась. Обелиски были разные. Имя Хакан, выгравированное на турецком; кованая роза; ветвь оливкового дерева; два разноцветных сердца; ятаган; конь… Конь меня потряс. В голову полезли вульгарные ассоциации, спросить у тетки, что все это значит, я не решилась. Но конь долго не простоял, так как на него любили залезать и фотографироваться дети. Тетке это не понравилось. Коня сменил ангел с лицом совы. Не знаю, кто его делал, но Манфред фотографировал его со всех сторон, ангел-сова его явно возбуждал. Что или кто охраняет покой Хакана сейчас, я не знала, так как я очень редкий гость на кладбищах.
Тетя Эльзе была в коралловом. Она схватила воду и исчезла. На столике стояла бабушкина шкатулка. Дедовы письма были скреплены двумя офисными скрепками, почерк у деда был каллиграфический, я никогда не умела писать так аккуратно. Могу себе представить, какими бы были мои письма с фронта, их бы никто не смог прочитать, разве что спецслужбы или аптекари.
«Их было четыре, а сейчас три. Не знаю, где еще одно, буду искать. Может, читала, куда-то положила, забыла… Хотя не помню, чтобы я это читала. Ладно. Ты как?» Тетка присела рядом со мной на диван. Я решила рассказать ей о смерти деда. В конце концов, если человек помешан на смерти любимого, вряд ли он будет убиваться из-за смерти отца, которого никогда не видел. «Я – это очень странно, позавчера была на кремации твоего отца». «Это новая антифашистская игра молодежи? Еще раз убивать преданных орлов Рейха? Интересно… Ничего не читала об этом в прессе». «Нет. Дед был жив. Как оказалось. Был жив и был сумасшедшим. Его содержали в одном из специальных заведений. После себя оставил несколько записей на псевдоиврите, жуткие рисунки, Библию и хасидскую шляпу. Пока что все эти вещи у отца. Можешь посмотреть». «Зачем? Я и так знаю, что мне не подойдет хасидская шляпа. Хасидская шляпа с вуалью, бррррр». «Бррр. Да. Кроме того, она великовата для тебя».
«От чего он умер? Вряд ли от угрызений совести, ему сколько исполнилось?» «Девяносто четыре. Рак позвоночника». «Говоришь, он был сумасшедшим?» «Думаю, да. По крайней мере, все об этом говорят, даже Олаф, а ты знаешь, что он очень осторожен в оценках. Деда отправили в печь в разноцветных носках и ботинках, он не любил одинаковых вещей». «Я так и знала, что ничего хорошего мы от него не унаследуем. Сумасшествие и онкоболезни. Как будто одного сумасшествия мало», – пробурчала Эльзе. Трудно не согласиться.
«Я пойду, тебе очень идет этот цвет. Ты в нем, как маленький симпатичный риф». «Как ты думаешь, мне нужно надеть что-то траурное?» Я пожала плечами. «Отец не надевает». Тетка рассматривала меня. Я ничего не могла с собой поделать. Да, я никогда не одеваюсь ярко, но сегодня я была в темно-серой рубашке с черным кантом и черной юбке.
«Ты выглядишь, как некролог», – заметила Эльзе. «Я очень прониклась этой смертью, не могу объяснить почему, думаю, ты меня понимаешь». «Не очень, если честно. Ты намекаешь на мою скорбь о Хакане? Но я ведь его любила, мы перетекали друг в друга, мы даже обменялись смехом. Ты заметила? Я сейчас смеюсь так же, как смеялся при жизни он. А он там… где-то он есть. Он смеется, как я». «Ты смеешься басом?» «Марта, Марта. Вы – молодые и такие невнимательные, при чем здесь тембр?» Я силилась припомнить, как смеялся Хакан, мне казалось, что он если и смеялся, то беззвучно. «Хакан смеялся беззвучно». И тут я заметила, что тетка смеется. Лучики морщинок вокруг ее глаз превращали их в хвостатых птиц. Она смеялась беззвучно. Я превратилась в складной стул, поцеловала ее, положила письма в сумку и пошла прочь. Люблю ли я Дерека так же, смогу ли присвоить его смех? Я попробовала сымитировать. Ужас. То, что у других выглядит естественно и даже трогательно, в моем случае всегда превращается в фарс.
Незаметно время поглотило полдня. Стоило проверить электронную почту, я не преминула это сделать и не зря. В ящике было сообщение от секретарши госпожи Доры Тотер-Габор, через час я должна быть в министерстве. Я отправилась туда.
Я чувствовала себя неловко. Я не знала, как следует себя вести с бывшими однокурсницами, бросаться им на шею, визжать, целоваться и рассказывать о детишках? Не могу сказать, что во время учебы мы с Дорой были близкими подругами, но мы вместе ходили в кино, у нас была общая компания, даже один влюбленный в нее юноша бросил ее и стал цепляться ко мне со словами: «Я больше не доверяю красивым женщинам». Я его понимала, я тоже не очень-то доверяла красивым женщинам, например собственной матери. Дору можно было фотографировать, делать из фотографий открытки и смело отправлять на фронт всем солдатам Рейха, они бы были в восторге. Деду, наверное, тоже понравилось бы, если бы он мог знать, что его делом занимается именно она. Белокурая, сероглазая, красивая.
Мудрая Дора быстро решила мою проблему стиля поведения. Секретарша, похожая на серую цаплю благодаря своим тоненьким ножкам в странных чулках сизого цвета, длинному носу и серому костюму, любезно проводила меня в ее кабинет. Дора встала и протянула мне руку. «Добрый день, фрейлейн Вайхен. Рада видеть тебя, Марта». Отвечая на ее пожатие, я не могла не вытаращиться на нее. Дора похудела, состригла свои кудри, вызывающие девичью зависть, и стала очень похожей на актрису Шэрон Стоун. До такой степени, что на кончике моего языка уже выделывал акробатические этюды вопрос: «А ты носишь трусики?» Неожиданный вопрос к руководителю департамента. Дора была одета в платье из тяжелого шелка теплого желтоватого цвета, на ее шее висели бусы из необработанного янтаря. Мать говорила о таких женщинах, что они безошибочно чувствуют свое превосходство. «Проходите. Вам удобнее на «вы» или на «ты»?» «Извините, но я пока не решила». «Я вас слушаю».
На столе у Доры лежала папка, у меня не очень хорошее зрение, но я разглядела, что это были материалы, связанные с дедом. «Недавно умер мой дед, Отто фон Вайхен, он был, эээ…»
«Марта, я знаю, кем был ваш дед, но практически ни кто не понял, кем он стал . У нас очень мало свидетельских показаний. Мало материалов. Я дам вам эту папку, чтобы вы имели возможность со всем ознакомиться, а некоторые бумаги даже скопировать». Я поблагодарила. «Но вряд ли вам это что-то даст. Нам это не дало ничего. Кроме понимания того факта, что ваш дед сошел с ума, когда находился на территории Украины, в предместье Житомира, в 1943 году. Причины его сумасшествия нам неизвестны. Сам он, как вы понимаете, ничего объяснить не мог. Врачи, руководство – тоже. Стандартные отписки: реакция на стрессовую ситуацию, причем никто не знает, что это был за стресс. Вероятно, более сильный, чем сама война. Никто ничего не понял. Очевидным и доказанным есть только одно: его безумие. В папке не так уж мало бумажек, но, несмотря на то, что каждая сплошь испещрена буквами, печатями, подписями, на самом деле они бессодержательные. В нашей работе такое постоянно случается.
Мы не знаем, чувствовал ли он свою вину, это ли именно чувство вызвало его состояние. Пока он самостоятельно передвигался и мог координировать хотя бы свое тело, а не мозг, он собирал вещи, связанные с еврейской культурой, религией, языком и бытом. Кстати, никто не знает, где он это доставал. Или кто ему это приносил. Как у него оказалась эта шляпа? Где он взял самоучитель, которым не мог пользоваться? Никакой информации. Он неплохо рисовал. Рисовал собственные портреты в реалистической манере, но немного странные».
Я не стала делиться с Дорой версией медсестры, кого ей напоминали эти портреты.
«Марта, я понимаю, зачем вам это нужно. Многие наши соотечественники хотели бы верить в то, что их родители, деды и прадеды раскаялись, что они не совершали преступлений, что они встали на сторону Сопротивления. Мы детально изучаем каждый случай. Мы никогда не закрываем дело, потому что свидетельства могут поступить из любого источника в любое время. Кого-то они касаются непосредственно, кого-то косвенно, мы все собираем, проверяем, накапливаем и используем. Ни смерть, ни вынесенный приговор не закрывают эти дела, эти дела живут и выступают свидетелями».
Почему все чиновники так быстро теряют свое «я» (ведь у нее оно было!) и начинают «мыкать» где надо и где не надо. «Я могу посмотреть материалы?» «Прошу». Действительно, ничего интересного, такое впечатление, что и тогда никто ничего не понимал. Дед раздражал руководство, раздражал врачей, он был досадным, непонятным и обременительным случаем. Разрушитель стройных статистических показателей. Это отмечалось дважды.
Я увидела копии трех писем деда, две фотокарточки, на одной была изображена моя бабушка, большой портрет: молодая женщина с такими невероятными глазами, о которых часто говорят: «За них можно и Родину продать». Дед вместо этого решил уничтожить несколько чужих родин. На другой фотокарточке – молодой дед, видимо, с приятелем, оба в военной форме. «А… это?» «Барон Ганс Ленц. Лучший друг вашего деда. Воевал на территории Великобритании. До сих пор находится в международном розыске, хотя дважды поступали свидетельства о том, что он умер.
В первом случае это была ошибка спецслужб, во втором – ловкая инсценировка. Собственно, благодаря этому спектаклю органы Объединенного Королевства окончательно убедились в том, что господин Ленц жив, здоров и, кроме того, позволяет себе время от времени издеваться над всеми нами, будто играет в слепого и звонаря». Итак, лучший друг деда оказался нацистским преступником и шутником, а чего еще можно было ожидать? Что дед дружил с бойцами французского Сопротивления? На фотокарточке Ганс Ленц был красавцем из тех, в которых дамочки с богатым воображением влюбляются даже тогда, когда видят, как те склоняются с топором в руках над окровавленным телом. Мне захотелось разыскать его, и немедленно.
«А где четвертое письмо?» «Что? Не знаю, о каком четвертом письме идет речь. Эти материалы, согласно нашему официальному запросу, передал поверенный вашей семьи, господин Олаф Кох. Мы контактировали исключительно с ним. Если вы что-то знаете о четвертом письме, вы должны об этом рассказать». «Я ничего не знаю. Думала, что их должно быть четыре. Хотя я сама отдаю предпочтение нечетным числам, но тут уж ничего не поделаешь». Дора внимательно посмотрела на меня, но ничего не ответила. Я едва не произнесла за нее: «Вы имеете право хранить молчание, имеете право на один телефонный звонок…» И лишь только я успела об этом подумать, как зазвонил мобильный. «Пожалуйста», – сказала вежливая Дора и деликатно отошла к окну.
«Привет. Как ты?» Это была Наташа. С телефона Дерека. Лифт, в котором поднималось мое сердце, упал в шахту. Наташа присвоила его телефон, как тетя Эльзе смех своего мужа. Если бы я знала, что дед настолько ее активизирует, я бы предпочла, чтобы он не оживал. Я сказала, что чувствую себя неплохо, но сейчас мне неудобно говорить, так как я в Министерстве юстиции на официальной встрече. «Я просто хотела тебе сказать, что я нашла одного человека. Он сможет сделать тебе приглашение в Украину и поможет со всеми вопросами, если хочешь. Позвони мне. Пока». От финансовых аналитиков еще никому не удавалось сбежать, даже деньгам.
Я вздохнула и стала переписывать координаты военной части деда, другие географические детали. «Можно скопировать фотокарточки?» «Зачем? Оригиналы остались в вашей семье». Я подумала, что фотокарточки, скорее всего, находятся между письмами. Но проверять это под пристальным взглядом Доры не хотелось. «Поищу». «Что-то еще?» Я покачала головой, вроде бы, нет. «До свидания. Если вы получите информацию относительно этого дела, вы должны нас проинформировать. Прежде чем уйти, подпишите два стандартных заявления, вас с ними ознакомит моя секретарша». Хорошо, что я не сжала ее в объятиях и не начала рассказывать о своих очаровательных малышах. Думаю, она бы попросила секретаршу вызвать мне «скорую» или завела бы на меня отдельный файл. Хотя, вне всяких сомнений, он уже и так есть.
Кофейня, где мы договорились встретиться с пусть медицинской, но все-таки сестрой, Терезой, находилась неподалеку. Я поймала себя на мысли, что моя жизнь превратилась в шпионскую киноленту: старые письма, незнакомые люди, встречи в непонятных заведениях. Порой, когда я выходила на улицу утром и было тихо, но звучала музыка из открытого окна, мне казалось, что я – героиня блокбастера, хотелось раскинуть руки и полететь спасать Вселенную или любимого. Сейчас мне хотелось надеть темные очки.
Тереза в широких джинсах и ярком джемпере с глубоким вырезом уже сидела за столиком и наслаждалась чаем со сливочным печеньем. Благодаря вырезу была видна не ее грудь, а ослепительно белая футболка, будто Тереза, как иллюзионист, спрятала под свитером почтового голубя мира. Она была похожа на туристку, которая ничем не озабочена и наслаждается отдыхом и познаванием новой страны. Когда работаешь в закрытом заведении, наверное, хочется открывать все остальное снова и снова. Она приветливо махнула мне рукой.
Пока я заказывала чай, Тереза поглощала печенье и рассматривала меня. «Когда я была молоденькой красоткой, парни ухаживали за мной и говорили, что мои глаза – чертовы омуты, в которых можно утонуть. Мне никогда не нравилось это сравнение, я была набожная и не хотела, чтобы черти что-то мутили на моем лице, будто им других дел мало. А тонут пусть и подавно в других местах, если им этого хочется. И вот смотрю на тебя, на твой наряд, ты в нем сама, как чертов омут. Это ж надо так вырядиться!» «Тетка сказала, что я похожа на некролог». «Некролог можно повеселее написать, чем эта блузка, по крайней мере, я бы для себя такого некролога не хотела. Такие некрологи близкие не напишут, такое только в Интернете скачать можно». «Все равно сейчас не во что переодеться». Лучше говорить о погоде.
«Ты не похожа на женщину, которую били мужчины». Тереза не испытывала недостатка в новых темах, погоду она игнорировала, а рисунки деда пока не достала из своего сумочного тайника. Интересно, существуют ли они вообще? «Меня и не били». «Я знаю. Я сразу вижу, били женщину или нет. Потому что в ее зрачках, что бы к ней ни приближалось – чашка кофе, улыбка, головка малыша, цветок, – в любом случае отражается его кулак». Я не знала, как реагировать на это замечание. «Тебя не били, но что-то с тобой не так. Ты не похожа на нытика, которому каждый день нужны чьи-то похороны, лишь бы нюни распустить. Кто бы ни умер – у нее истерика, а если близкие и знаменитые покойники закончатся, она сама кого-то убьет. Вопрос: так что с тобой не так?» «У меня отражен его кулак, только не в зрачках, а на сердце». «Это тяжело, знаю», – заметила Тереза. «Тяжело, потому что кажется, что сердце у тебя всюду. Просыпаешься – болит позвонок, как у деда, а там – сердце, оно перемещается, прячется от боли, думает, что там боль его не найдет: в локте, паху, ноздрях, позвонке…»
«Смотри, вот его рисунки, правда, похоже на тебя?» Лицо на рисунках было больше похоже на лицо Дэвида Боуи, чем на мое, но, в принципе, если не придираться, сходство было. Хорошо, что в юности мне не говорили, насколько я боуиподобная, тогда бы к моим комплексам прибавилось еще и это. Худое лицо, выступающие скулы, синяки под глазами, сережки в виде колец в ушах. Не знаю, что хотел этим сказать дед, но если бы мне показали этот рисунок и я не знала бы ни его автора, ни истории, с ним связанной, я бы подумала, что это рок-певец, наркоман или гей. После таких своих выводов я окончательно поняла, что безнадежно застряла в двадцатом веке, современная девушка скорее отреагировала бы на такой портрет так: о, похоже на моего приятеля (брата, фейсбуковца, коллегу…).
«А это что?» «Нашим психологам тоже интересно, что это». Картинка напоминала мне пустыню. Несколько черточек, непонятные пометки, несколько точек и очень выразительный крест. В пустыне может быть крест? Или это кладбище? Но для кладбища одного креста, кажется, маловато. Непонятно. Надо показать это Манфреду или маме. В конце концов, кто у нас в семье имеет художественные наклонности?
«Я вот о чем думаю. Тебе надо переключиться на глобальную проблему, нужно заставить сердце болеть из-за чего-то большего, чем человеческое сердце». «У него сердце больше, чем у меня. У моего возлюбленного. Но это не помогает, мое сердце засасывает его сердце. Может, я все неправильно воспринимаю. Ну а как это, на что переключиться?» «Например, на тех, кто голодает». «И отнять эту боль у Анджелины Джоли? Сирот тоже не надо предлагать». «А как тебе глобализация?» «О, это боль моего брата Манфреда». «Нельзя возлагать все на одного человека. Я сейчас читаю книжку какой-то китаянки, их имена я запоминаю хуже названий пирожных в этой кофейне. Если не знать, что это написала китаянка, больше ничего на это не укажет. Даже азиаты теряют самобытность, разве это не пугает?» «Меня – нет. Если они делают одежду для всей планеты, тем самым объединяют или унифицируют всех нас, китаизируют, как говорит мой брат, соответственно, и планета что-то впускает им в кровь. Это справедливо».
«Может, это и справедливо, но я знаю азиатов. Они обязательно отомстят». «Вы никогда не понимали, о чем говорил мой дед?» «Нет. Я не уверена, что он сам себя понимал. Ему было больно. Но это была не физическая боль, когда в него впился рак, его будто отпустило. Взгляд стал спокойнее, даже когда боль стала невыносимой, я понимала, что рак был своего рода спасением для него. Рак пожирал не только его кости, хрящи, тело, он пожирал его воспоминания, боль и еще что-то, что сидело в нем».
«Вам не страшно там работать? Среди конченых психов?» Я не могла удержаться от вопроса. «Хм. Мой приятель-любовничек работает учителем в школе. Судя по тому, что он мне рассказывает о своей работе, мы с ним работаем в одном и том же заведении». Я засмеялась. «А ты где работаешь?» «Преподаю право в университете». «Лучше бы ты его не преподавала, а укладывала кому-то в головы! Преподавателей нужно бы переименовать в укладчиков». Теперь мы смеялись вместе.
Я решила отправиться домой, не заезжая к Манфреду, отправлю ему рисунки по электронке. В письме я написала: «Это рисунки деда, как тебе?» В ожидании ответа я разложила на столе письма деда – первое, второе, третье. Как билеты на экзаменах. Фотокарточки: очаровательная красавица бабушка и обольстительный шутник Ганс Ленц.
Манфред позвонил. «Ну что тебе сказать, сестренка. Для меня очевидно одно». «Что?» «Тебе категорически нельзя стричься коротко и никогда не зачесывай гладко волосы, зрелище не из приятных». «Хи-хи. Больше ничего не хочешь добавить?» «А что тут еще скажешь? Хотя… я не прочь поболтать. Дед неплохо рисовал, странно, что он не отец нашей мамы, а отец нашего папы, который рисует так, будто редактирует Кодекс. Очевидно, что это – автопортреты. Возможно, дед видел себя в образе «летучего голландца» Вагнера – Гейне. Кстати, ты не думала, что это гейская доктрина? Нет верных женщин – мужчина превращается в «летучего голландца», мир корабельной палубы – мужской мир. А чтобы доказать свою чи стоту и верность – она должна броситься со скалы, вот это я понимаю!
Жаль, что дед не видел и не слышал, как исполняет Сенту [3] Виорика Урсуляк: льняные волосы, соболиные брови, карминовые губы, а голос? Богиня. Происхождение, правда, сомнительное, но кто не без изъяна? Чтобы не сойти с ума на войне, лучше поместить себя в поэму или в оперу, я где-то о таком читал, но трудно ухитриться перенести себя прямиком в зал оперного театра Франкфурта».
«У Воннегута ты это вычитал. Дед все равно умудрился сойти с ума». «Ницше тоже, помнишь «Веселую науку»? «Бог умер! Мы его убили – вы и я!» Если бы он неосмотрительно не вложил эту фразу в уста безумца, можно было бы сказать, что Ницше был антифашистом, потому что все остальные считают, что Бога убили евреи. Но Адольфик сразу учуял в Ницше своего, понял, как его можно использовать! Ведь о таком можно только мечтать, чтобы какой-нибудь всемирно известный философ наработал подоснову для твоих идей – все по-другому воспринимается, более серьезно! Сверхчеловек! Это ж надо, как повезло.
Впрочем, Манн быстро отмазал Ницше, ну еще бы, как не понять дядюшку Томаса? Если сын не отвечает за отца, то ученик вынужден отвечать за учителя, хотя бы стереть ему ластиком рога. Иначе за все придется отвечать самому».
Манфред себе нравился, сеанс самолюбования! Интересно, что он пытается стибрить-одолжить у сценографов франкфуртской оперы времен владычества Урсуляк, ему заказали новые декорации к «Летучему…»? До сегодняшнего дня он представление о ней не имел, я уверена.
«А рисунок с крестом?» «Не знаю. Но рисовал это тоже он. Еще вопросы есть?» «Очень много, но нужно их разложить по полочкам». «Раскладывай, сестра, раскладывай! Ты играешься в своей песочнице. Пока».
Письма деда и я. Страшно, за какое ни возьмись. Иллюзорно хрупкие, прочные бумажные спинки, похожие на высушенную кожу. Некрописьмофилия, а я – некрописьмофил. Мне захотело чего-то живого, немедленно, даже не Дерека, для Дерека я была покойником. Я написала смс Ханне, она тут же откликнулась: «Послезавтра буду у тебя. И не одна!»
Письмо первое
...
«Дорогая моя Труди, бесценный подарок судьбы, твое лицо и твой смех – два мои выхода отсюда в другое измерение. Сегодня я видел тебя во сне, ты то ли смеялась, то ли радовалась чему-то. Но ведь не всегда же эти два ощущения совпадают, правда? Ты смотрела в окно, не знаю, что ты там видела, может – наших детей, как они играют, они же играют, или еще малы, чтобы играть на улице?? На войне иногда кажется, что все занимаются не тем, чем занимались в той жизни. Даже дети. Хотя все это иллюзии, я понимаю, что дети все равно остаются детьми. Я хочу в это верить. Мне больно, что никак не могу ощутить их возраста, даже снятся они мне с разными лицами, а порой без лиц. Не пугайся, родная.
Я старался попасть в твой сон, но не смог, так как ощутил смрад крови, такой – немного сладкий, немного липкий, я никак не могу вырваться и перенести себя куда-нибудь без крови. Своей, чужой. Это говорит о том, что мое место именно здесь. Одно время я грешил на свой нательный крест – будто постоянно ощущал кровь Иисуса, но это прошло. Ты, конечно, скажешь, что я впал в ипохондрию, и будешь права, ипохондрия не лучшее убежище во время войны. Я помню об этом, моя дорогая, и обещаю вернуться живым.
Сейчас мы находимся в городе с очень мирным названием, можно назвать его Kornfrieden. [4] Город – пьянящий или питающий, как знать? Не знаю, сколько мы здесь будем оставаться, я всегда думал, что война дисциплинирует, но все чаще ощущаю неопределенность событий, странную текучесть времени, непредсказуемость людей. Раньше всех военных я подозревал в паранойе, помнишь, как я ораторствовал на одной вечеринке после прочтения мемуаров Людендорфа? Ганс шутил тогда, что самые упрямые и самые агрессивные военные – это те, кто изучал войны по мемуарам и картам, отдавал преимущество книгам, а не солдатикам; смешные пассивные милитаристы, которые считают, что оружие такое же легкое и элегантное, каким оно изображено на картинах художников. Я был одним из них! Впрочем, теперь я точно знаю, кто из художников никогда не применял оружия, не брал его в руки и не пробовал им убивать.
Да, параноиком я считал и нашего генерала-квартирмейстера Эриха Фридриха Вильгельма Людендорфа, и только теперь я сознаю, что ошибался. На войне действительно нельзя никому доверять, я имею в виду не только врагов. Бок о бок с тобой идет столько невежд, болванов, безумных детей, клинических идиотов и восторженных романтиков (не знаю, кто из них хуже), что все твои теории тотальной войны, выстроенные до мелочей, разбиваются, как волны, о буйки человеческих пороков, предрассудков, тупости и необразованности.
На войне героем может стать каждый, это предусмотрено в любой военной пьесе, кто бы ее ни написал. Порой я думаю: а что будет с теми героями там, в другой жизни? Статус героя изменяет людей, их поведение, самооценку, характер. У меня за плечами, во мне и со мной всегда было мое происхождение, гены, образование, семья. Это не гарантировало, но формировало самоуважение, вызывало достойное отношение ко мне остальных; укрепляло за мной самоуважение и почтение – надежнее, чем знак отличия на мундире. Все эти погремушки могут слететь, потускнеть, чествование героев надоедает быстрее, чем рассказы об их подвигах. И я останусь бароном и юристом, а уборщик может перестать быть героем, но уже никогда не сможет быть уборщиком.
Сегодня в который раз вспоминал Рильке с «Часословом»: «Ты, Господи, послал из всех часов, тот час, когда и чуждо мне и странно». Для меня всегда мой католический нательный крест будет важнее Железного креста. И я убежден, что мой Фюрер разделяет эту мою мысль.
Прижимаю тебя и целую, мой нательный крестик, мое пристанище, моя девочка».
Письмо второе
...
«Я вглядываюсь в твое фото, Гертруда. Сколько раз я вглядывался в это фото, сколько времени я на тебя смотрел – если бы знал, точно мог бы сказать, сколько минут я был счастлив.
Мысленно губами я провожу по очертанию твоего лица, и замираю на той родинке, выпуклой родинке, которая на левом виске, на моем пике любви к тебе.
Твой пробор в волосах, это – мой путь. Тонкий, волнистый, он то теряется, то снова возникает, но он такой чистый и родной. Только на этом пути мне уютно, только здесь мне понятно, что я делаю и почему я именно здесь.
На днях меня забросило в одну местность, где я увидел этот костел. Он имел вид обнищавшей аристократки, каких немало было на просторах военной и послевоенной Европы. Худые до остроты барышни, с несогбенными спинами, в поношенных платьях нежных пастельных тонов, в которые въелась пыль, превратив их в побитый молью кроличий мех (этот оттенок тоскливого серого цвета повсюду). В поношенных платьях с оборками цвета старушечьего белья. С серебряными крестами на жилистых шеях. Серебряные кресты, тусклые от старости и неухоженности, не натертые, так как ослабли руки, не привычные к натиранию, ну, и чтобы никто не заметил и не отобрал последнее, что осталось.
На такую аристократку и был похож этот костел, я подумал, что он очень девичий. Нечасто костелы производят такое впечатление. Здесь венчался Оноре де Бальзак с местной дворянкой Эвелиной Ганской. Я бы хотел подарить этот костел тебе. Не земли, которые нам постоянно обещают, а именно этот костел.
Не думал, что на этой земле случайно обнаружу следы одного из любимых писателей. Помнишь его слова «Благородство чувств не всегда сопровождается благородством манер»? Я сегодня думал о зеркальном отражении этой фразы: благородство манер не всегда сопровождается благородством чувств. Мне пора сознаться тебе кое в чем.
Этот поступок не украшает меня, но ты так пышно украшаешь меня, что часто я чувствую себя рождественской елкой. Пора снять несколько шариков (или, может быть, все? Я пишу это, и меня знобит, боюсь, что ты отречешься от меня, если ты отречешься от меня – я превращусь в тлен, как в страшной сказке).
Я тебе рассказывал о Монике. Даже называл ее имя. Моника – нежная брюнетка с бровями, похожими на орла в полете. Из-за этой особенности ее бровей, казалось, что она тоже умеет летать. Она принадлежала к известному словацкому роду, я часто наведывался в Пресбург, я так страстно ее любил. Вечные тонкие блинчики, похожие на кружевные манжеты, которые подавала ее кормилица. С тягучим ванильным кремом, таким же густым, как мои мечты о ее поцелуях.
Мать была не в восторге от моего увлечения. Отец всегда изменял ей с сопранистками, он был неравнодушен к певичкам, она говорила: «Он снова поскользнулся на очередной сопранистке», – по поводу меня она изрекала: «А этот споткнулся на альтистке». На высоких голосах можно поскользнуться, спотыкаешься исключительно на низких.
Отец меня поддерживал, тогда он впервые заговорил со мной о плотском, заметил, что для женщины важно иметь развитые легкие и глотку, и шепотом объяснил почему. Я не буду тебе пересказывать его слова, но он тогда привел меня в изумление, так как я давно списал его поколение в половые невежды. Я ошибался, дорогая.
Наверное, ты думаешь, зачем я все это рассказываю? Я оставил Монику не потому, что разлюбил ее, не потому, что прислушался к аргументам матери, и не потому, что протестовал против замечаний отца. Я испугался того, что начало происходить. Оттолкнул ее, знаешь, так по-детски глупо, как если одна гувернантка говорит, что кто-то украл плюшевого мишку у ее воспитанника, ты выбрасываешь в кусты своего собственного мишку, так как считаешь, что все равно подумают на тебя. А сейчас я думаю, а так ли уж я был не прав? Когда я уже решил, что оставлю ее, на прощание я так же галантно поцеловал ее пальцы, руку ее матери и поблагодарил кормилицу за вкусные блинчики. Больше они обо мне ничего не слышали, и я о них тоже не слышал. Одинаковый результат, хотя они прилагали усилия, чтобы меня услышать, а я, в свою очередь, старался не услышать их никогда. Я выиграл.
Гертруда, нет ничего сильнее, чем моя любовь к тебе, это единственная правда, и очень прошу верить в это, потому что нет правды без веры. Без веры ничего нет. Я хотел тебе сознаться в том, что предал любовь, испугавшись. Интуитивно предал, разве можно такое вообразить? Но я полюбил тебя и только этим себя оправдываю, нашей любовью и нашими детьми. Не знаю, что сталось с Моникой и ее семьей, наверняка ничего хорошего, та же история, что с тонкими кружевными блинчиками, стоит отвлечься, и они превращаются в клейкую зловонную массу. Стоит лишь перестать быть начеку…
Я шел наугад, во время войны редко отклоняешься от заданных координат и траектории, но на этот раз я шел наугад.
Представь, дорогая, будто ты идешь по полю, наступая на соломинки и колоски, которые выстреливают в тебя короткими проклятиями, над головой небо – ясное, как взгляд юродивого, вдруг видишь крест, деревянный, ростом со взрослого мужчины, и бежишь к нему, так как тебе кажется, что сейчас он возьмет тебя в свои спасительные объятия, но когда до него остается несколько шагов, ты понимаешь, что не будет объятий, крест стоит с разведенными руками, как растерянный человек, который утратил все: чувство реальности, семью, ориентиры.
Твой пробор в волосах – единственный мой ориентир, моя реальность, моя вера. Прижимаю тебя к груди и целую, попробуй простить и понять меня, Труди».
Письмо третье
...
«Труди, Труди. Ты спрашиваешься, убивал ли я врагов? Я так и вижу твое личико, сгорающее от любопытства, в предвкушении, как ты будешь пересказывать все это подружкам. Когда я в первый раз убил солдата, я одновременно закрыл глаза себе и ему. Себе левой ладонью, наверное, для того, чтобы контролировать сердце, оно будто отстреливало гильзы, не болело, не переживало, просто отстреливало гильзы: одну за другой.
Потом я научился об этом не думать, война способствует постижению этой науки. Ты знаешь, что я склонен все драматизировать, копаться в своей и чужой душе. Я отличался этим дома, я отличаюсь этим и здесь. Мой отец всегда одобрял мое увлечение ботаникой. Он считал, что это полезные знания для мальчика; если бы мы голодали, собственно, такого еще с нами не случалось, здесь плодородные земли, и я бы не голодал, так как я знаю, какие растения могли бы подкрепить мой организм. Я изучаю местные растения, даже веду несколько ботанических дневников.
Вчера я думал о них, о второсортных, о врагах. О жидах, цыганах, украинцах, коммунистах.
Коммунисты – не нация, они – механические куклы, в венах которых по чистой случайности течет кровь. Коммунизм искусственное явление, он выдохнется, когда кончится горючее. Я бы даже не тратил силы на борьбу с ним.
Жиды, украинцы и цыгане – живые. И нужно решать их вопрос.
Жиды похожи на Rumex confertus , щавель конский. Веками их пытаются выкорчевать, но ничего не выходит. Изводят целые семьи, они пережили столько погромов, но все равно их много, они повсюду.
Надо убедиться, что выкорчеваны все корни, и уничтожить корень и все отростки. Вытащить корень конского щавеля трудно, он плотный, будто когтистой лапой вцепляется в землю, если тебе кажется, что наконец-то ты его извлек, скорее всего, ты ошибаешься, многочисленные ответвления остались там, под землей, и в скором времени появится новое растение, и не одно, многолетнее, выносливое, неприхотливое. Следует подкапывать землю, вытаскивать все до наименьшей, вроде бы гнилой или мертвой частички, и уничтожать, неустанно уничтожать.
Цыгане – это Taraxacum , одуванчики. Плодятся, как плодовая мушка, разлетаются по свету, надо бежать за каждым зонтиком и уничтожать, не знаю, возможно ли это, как отследить все эти пушистые зонтики? Поэтому надежнее уничтожать их молодыми, очень молодыми, так как плодиться они начинают едва ли не с десяти лет. До десяти лет – истребить всех, это не дети, потом будет слишком поздно.
Украинцы – удивительные растения. Вероятно, Sálix. Больше всего они мне напоминают ветки вербы. Они сгибаются до земли, гибкость – их единственная защита от ломкости. Гнутся, стелются, могут и погладить, и высечь.
Их уничтожить легче, чем жидов и цыган, но мало кто знает о том, что любую вербовую лозинку можно выдернуть из корзины, воткнуть в землю, полить хорошенько водой, и весной этот мертвый прутик вдруг пустит корешки и со временем разрастется густыми кустами. В этом их большая опасность.
Они одновременно беззащитны и жизнелюбивы, ранимы и стойки, если сплетаются и держатся друг за дружку. Впрочем, их легко обмануть, они доверчивы по отношению к чужеземцам, боятся больше своих, чем чужих. Удивительно, но, наверное, они имеют на это основания. Не надо забывать, что верба считается обрядовым деревом, это что-то… возможно, сильнее Бога, а возможно, это и есть местный Бог. Весной они выпускают свои свечки-котики, то ли поминальные, то ли праздничные, мне не понять, да и кто может их различить?
Дорогая, ты, конечно, думаешь, что я жестокий, много философствую, непонятно зачем. Иногда я сам себя не понимаю, война не ответила на мой вопрос: какой я? Злой, ответственный, суровый, чуткий или равнодушный. Смолчала. Здесь все воспринимается чуть иначе, когда смотришь на свое отражение в неспокойной воде, ты тоже не можешь уловить, какой ты. Мы здесь постоянно – будто отражение в неспокойной воде. Только когда пьян, об этом забываешь.
Мои коллеги развлекаются с местным населением, заказывают varenyky (это мучные изделия, пресные и сытные, из муки и воды) с вишневой начинкой. И если наткнутся на вишневую косточку, убивают кого-то из семьи. А если на две – двоих. Говорят, что это в отмест ку за то, что крестьяне стали специально подкладывать невычищенные вишни, о косточки ломаются зубы, боль невыносимая, поэтому наши затеяли такую игру в кости. Я в этом никогда не участвовал. Неинтересно.
Я не хочу играть с врагами, дорогая, даже в жестокие игры, играть нужно только с родными. С детьми, с тобой… Как я тоскую по тем временам, когда мы запускали музыкальную шкатулку, чтобы твоя сестра не слышала, как мы целуемся. Хотя она всегда была более чуткой к поцелуям, чем к музыке, поэтому знала, чем мы занимаемся, но не выдавала нас. Моя любимая игра, с тобой, в поцелуи и нежность. Не забывай этого никогда, Труди, не забывай».
Глава восьмая
У меня вовсе не дрожали пальцы, ладони не стали влажными, вроде бы я была спокойна и не волновалась, только вот пульс можно было увидеть на запястье, будто кто-то под кожей играл в пинг-понг. Это так дико – видеть свой пульс как подвижную, но скрытую под кожей, часть тела. Меня чуть не стошнило. Я чувствовала нечто такое, что, видимо, чувствовали великие писатели. Когда хочешь либо сжечь все, что написал, либо немедленно взяться за новый том. Мне захотелось написать письмо от имени деда. Вдруг я ощутила запах несвежего стариковского исподнего, так несет от стариков, которые не хотят подмываться и не делают этого: моча, затхлость, болезни. Не сразу, но довольно быстро я поняла, что этот запах идет от нарциссов, которые манерно застыли в подаренной Манфредом вазе. Похожи на позирующих девочек-балерин, с одинаковым поворотом головы и наклоном корпуса. Я вскочила и побежала на кухню, нашла пакет для мусора, сунула туда цветы вместе с вазой и выставила все это на балкон. Больше я никогда не буду покупать нарциссов.
Нужно было связаться с Боно. И только сейчас я сообразила, что не знаю, как до него добраться. Его скайпа у меня не было, он никогда не присылал мне электронных писем, только иногда бумажные открытки странного вида и содержания. Я была уверена, что у Манфреда есть координаты нашего безумного кузена, но звонить брату не хотелось. В ящике я нашла несколько дисков Бонапарта, там был указан какой-то номер телефона, я набрала его. И услышала хриплое девичье «Аллё». Я поздоровалась и спросила, говорит ли девушка по-немецки.
«На фига еще мне это? Ты из немецкой церкви?» Я не знала о существовании немецких церквей во Франции и не знала, чем они могут отличаться от французских, разве что кресты выкрашены в наши национальные цвета. Французский я знала очень плохо, с трудом понимала, что она говорит. «А по-английски?» – не унималась я. «Блин. Тебе чего?» Она перешла на английский! «Я сестра Боно. Вы знаете Боно?» Она хмыкнула. «Мы живем вместе. Он никогда не говорил, что у него есть сестра. Ты кто такая, девка?» Я растерялась. Боно, который выглядел как фам фаталь и Че Гевара и носил эти слишком узкие черные наряды, оказывается, не был геем.
Шок заключается не в том, что кто-то из твоих родственников имеет другую ориентацию, настоящий шок заключается в том, когда твой родственник выходит за пределы твоего восприятия. «Я его сестра, двоюродная. Зачем мне врать?» «Ты себя так каждый раз успокаиваешь, когда врешь? «Зачем мне врать?» «Откуда я знаю? Может, ты от этого кончаешь. И прекрати этот бред, хочешь, чтобы верили твоему вранью – тренируй фантазию. У меня сейчас хорошее настроение, а ну, попробуй что-то еще». «Эльзе, Манфред, Марта, Агнес, вам о чем-то говорят эти имена?» «Шифруешь имя Эмма? Уже намного интереснее!» «Блин, нет». Она меня достала, я перешла на сленг. «Ты вообще в курсе, что Боно – немец?» «Это его биологическое происхождение, а не настоящее». «В смысле?» «Ну, в смысле не тот отец, кто трахал мать, а тот, кто воспитал ребенка. Боно воспитали французы, ясно?»
Неизвестно, кому повезло больше: Боно или Маугли – хотелось пошутить мне, – тогда бы он писал «ввуууууу», а не «ква-ква» на открытках – но я же не Манфред, чтобы шутить на тему наций и религий. Вслух. «Мне нужно поговорить с Боно, он дома?» «Нет, лисичка-сестричка, он в клубешнике». «У него вечеринка?» «У нас каждый день вечеринка, это наш клуб, мы его неделю назад приобрели. Самый крутой! Хороши родственнички, ничего не знают о его жизни. Я же говорю, биологический хлам». Собственно, на этом следовало бы покончить с этим странным разговором, но мне был нужен чертов Боно. «Если тебя подмывает обругать меня – давай, не стесняйся». «Сто лет ты мне снилась, аж пока на землю не спустилась. Что ты из себя корчишь? Слушай, вот мы уже год живем, и никто из вас никогда не звонил, не писал, не приезжал в гости. Вы дали мне повод думать о вас как о любящей Боно семье, а?» Такого повода мы ей не дали. «Ну, знаешь, зато тебе не надо нас любить». «А может я этого жажду?» Я не люблю экзистенциальных бесед даже с отцом, не говоря уже о незнакомых людях. В конце концов, я не Иисус Христос выносить такую жажду любви.
«Дело в том, что мне нужно письмо от нашего с Боно деда. Мне кажется, что Боно его прихватил с собой. Потому что все письма были у его матери, а сейчас одно исчезло». «Блин, я так и знала. Если кто-то из вас и позвонит, то в полицейских целях. Что, больше не на кого свалить вину? Нет у Боно никаких писем. С чего бы ему писал этот дед, если больше никто из вашего логова не писал?» «Дед писал нашей бабке, это – старое письмо, из прошлого века». «Мы с Боно – люди будущего, нам неинтересно жить прошлым. Нет у него никаких писем». Я решила, что пора прощаться. «Ладно. Пока. Передай, пожалуйста, Боно, что я звонила, пусть мне перезвонит, нужно выяснить, где может быть это письмо». «Блин. А тебе даже не интересно, как меня зовут?» «Интересно, я как раз хотела подобрать имя для одного выродка, черт с ним, пусть будет женское, говори!»
«О! А у тебя есть зубки. Я уж подумала, что ты только деснами и только ангельское мыло жуешь, смотри-ка!» Я рассмеялась. Она тоже. «Я Кармела. Ромка, кстати, могу превратить тебя во что-нибудь гадкое». «Для этого ты должна знать, что для меня является гадким. Я Марта». «Пока, Марта. Я все ему передам. Но реально, у него никогда ничего не задерживается, даже если это письмо было у Боно, оно уже точно не у него. Он ничего не может удержать в руках, даже музыку, она выскальзывает из его пальцев, чтобы гулять, цепляться к другим, а к нему никогда не возвращается». «Не может ничего удержать в руках, а ты не боишься, что он выпустит тебя?» «Не боюсь. Потому что это я его держу. А я никогда ничего не теряю. Даже сажать цветы не люблю, потому что это – отдавать, лучше чужие украду. И воробьев не кормлю, они сами украдут. Мы же настоящие ромы!» Она снова рассмеялась.
И я положила трубку. Я не знала, было ли письмо у Боно или его у кузена не было, но он меня удивил. Интересно, Манфред в курсе о Кармеле? Звонок заверещал, как младенец, которому не дают есть. Так давить на него мог только один человек – Ханна. Это была она, длинноногая сиськоносица, загорелая и красивая. Она набросилась на меня, как саговая вампирша. «Привет!»
Когда Ханна обнималась, я всегда думала о том, что такие чувства как я сейчас мог бы испытывать Дон Кихот, если бы ветряные мельницы вдруг принялись его ощупывать. В Ханне не было ничего мягкого, я всякий раз волновалась, что она наставит мне синяков своими пылкими объятиями. «Какая же ты загорелая!» «Какая ты бледная. Ты вообще выползаешь наружу? Ну вот что ты делаешь дома?» «Если бы меня не было дома, кто бы тебе открыл? Кстати, ты что, с вещами?» «Ага». «В ванну хочешь?» «Больше хочу печенья или пива, у тебя есть?» «Вода и хлеб. Может, немного вина». «У тебя всегда чувствуешь себя или как в КПЗ, или как в гостях у Христа».
Как всегда, я закатила глаза. Как я люблю Ханну, она моя личная озвучка! Все, что у меня варится в котелке, и все, о чем я думаю, Ханна вываливает из всех котлов и произносит вслух. «Я пойду что-то тебе приготовлю, а ты лучше прими душ». «Ты такая напористая, если бы я знала тебя хуже, могла бы подумать, что ты хочешь меня соблазнить, но, к сожалению, это не так, ты просто помешалась на чистоте. О’кей, пойду. О, а это что?»
Ханна никогда не дожидалась ответа, если можно было подбежать и схватить вещь, ее интересовавшую. На этот раз это были дедовы вещи, рисунки и письма. «Дай сюда!» Я так и знала, что единственным человеком, который напялит хасидскую шляпу себе на голову, будет Ханна. У нас так всегда было, я хотела сделать, но останавливалась, а Ханна хотела – и делала, а потом извинялась – в лучшем случае. Манфред говорил, что у Ханны запараллелены действия и мысли, как у животных. Козел.
«Где ты это взяла?» Я поняла, что должна срочно ей кое-что объяснить, поэтому рассказала о деде, сухо и кратко. «И что ты думаешь?» – спросила я после паузы. «Я еще больше хочу есть, если ты не против. И выпить. Бог мой, ну почему это случилось не со мной? Впрочем, мне сейчас нельзя испытывать стрессы». «Это почему?» «Я тебе писала, что приеду не одна?» «Ты меня проинформировала. Я подумала, что у тебя кто-то появился». «Собственно, так оно и есть. Только не у меня, а во мне».
Ханна смотрела на меня своими сумеречными глазами и больше ничего не говорила. А я тормозила. Нет, я сразу поняла, что она может иметь в виду, но просто не могла вот так просто взять и поверить в это. «Ты беременная?» «Да! Ты за меня рада? Слушай, принеси хотя бы яблочко. Хотя лучше что-то посущественней, от яблок у меня квакает в животе». Я присела. «Слушай, я что-то не понимаю, когда же ты успела?» «В Турции, где ж еще?» «То есть он у тебя от турка?» «Ну, я не вполне уверена. Или от турка, или от англичанина. Но знаешь, тетка, которая меня осматривала, сказала, если от турка, то у малыша что-то будет синенькое, я вот только не помню, что именно: синяки, анус или пуп». «Синий анус? Что ты несешь?» «Ну, наверное, не анус, может, ямка на попочке, я не помню, но что-то должно быть синее, она сама турчанка, замужем за шведом, ей лучше знать, что и где бывает синим у малыша с азиатской кровью при рождении. Может, надо на что-то нажать, и оно синеет». «Ханна, это ребенок, а не покойник! Что у него должно синеть от прикосновения?»
Я ошеломленно молчала. Ханна предложила потрогать ее живот. Я очень не любила тактильности. И она об этом прекрасно знала, возможно, думала, что ребенок должен все изменить. «Я не хочу. Он еще инфузорный, я его не почувствую». «А тебе было бы лучше, если бы он тебя пнул или куснул? Хотя нет, чтобы куснул, тебе надо трогать не живот, надеюсь у него хватит ума прокладывать свой путь на волю головой, а не попкой. Ну вот ты спрашивала маму, как шел Манфред? Потому что как отсюда пойдешь, так и будешь идти. Слушай, чего ты так боишься тела? И своего, и чужого. У меня всегда был к тебе один вопрос, а в девичестве ты вообще мас…» «Стоп! Хватит. Слушай, я пошла тебе за хавчиком. Так будет лучше». «И не забудь о пойле!»
Я принесла ей все, что нашла в своем холодильнике, в общем-то, угощение не из лучших. Полбокала белого рейнского, три сливы, обветренный, как физиономия моряка, кусок палтуса, но для рыбы это нормально; черствый хлебец и вареное яйцо. Ханна вдохновенно щелкала моим ноутом. Отвечала на письма, ее рука нащупала сливу, потом бокал, на лице мелькнула счастливая улыбка, подруга сделала два глотка. «Слушай, я тут читаю письмо Манфреда. Он ведет себя нагло». «Постой, какое письмо?» Ханна энергично жевала хлебец и палтус. «Смотри». Она развернула ко мне монитор. Письмо Манфреда украшали хлебные крошки и палтусовая кость, этот натюрморт напоминал бешеную птицу с вытаращенными глазами и коротюсенькими крылышками.
«Марта, я тут подумал, лучше бы ты искала себе любовника, чем копалась в жизни деда. Я вчера услышал меткую фразу: люди, у которых есть дети, всегда живут будущим, а люди, у которых нет детей или любовников, всегда живут прошлым. Тебе необходимо перерасти в другой тип, перейти на другой уровень. Я очень этого тебе желаю. Фредди-Манни». «Ставлю на синий анус – он это не слышал, а часами искал в Интернете что-то вроде этого, что бы подходило к ситуации. Апломб какой! Будто он многодетный папашка, живущий в космическом яйце. Чего он к тебе пристал? Ему это все не нравится? Он в детстве не читал Жюля Верна?»
«Не читал. Не нравится. Он думает, что эту тему нужно закрыть и все. Чтобы не испортить репутацию». «Чью? Слушай, даже если закрыть откупоренную бутылку вина или шампанского, напиток не будет таким, как раньше. Лучше сразу выпить. У тебя еще есть?» Ханна покрутила перед моим носом пустым бокалом. «А тебе не вредно?» «А тебе жалко?» Капризная Ханна, вино у меня еще было, и я покорно пошла откупоривать новую бутылку.
«Слушай, я тут подумала. Мне Ширин, докторша-турчанка, прислала фотку моего малыша, вот посмотри!» «Ханна, ну на что там смотреть? О’кей». Собственно, это было очень похоже на современное искусство. В этой фотке тоже скрывался намек на нечто более глубокое, иное, большее. «Манфред говорит, что тебе поскорее нужно стать мамой, а как ему понравится, если он станет отцом?» «В смысле?» «А я вот возьму, напишу ему письмо с темой «поздравляю, папочка!», вложу эту фотку, и посмотрим, как он будет жить будущим». «Постой, ты с ним давно не спишь!» «Ну и что? А вдруг я сохранила его сперму на трудные времена». «Ты это сделала???» «Нет, но он поверит так же легко, как ты в это сейчас поверила!» Мы расхохотались. Я могу себе представить состояние Манфреда, он стопроцентно поверил бы, он из тех мужчин, которые отдают должное собственной сперме; персональное землетрясение в парочку баллов ему было бы гарантировано. Но нужно жалеть своих братьев. Слово «жалость» всегда напоминало мне цветущий куст, что-то похожее на жимолость или жасмин. Тревожное скопление соцветий с навязчивым запахом, склоняющее куст к земле.
«Слушай, а как ты собираешься жить?» «Исключительно будущим, как указал святой Манфред». «Я серьезно. Ты собираешься выяснять, кто его отец, ты собираешься создавать семью?» «Знаешь, семья как-то сама образовалась без моего собирания». Ханна пожала плечами. «Я думаю, что все будет хорошо, у меня есть сбережения, я могу работать дома, чувствую себя я хорошо». «А ты говорила потенциальным папашам о ребенке?» «Нет. Многое пришлось бы объяснять, а я этого не люблю. Они друг с другом знакомы, но не в таком статусе. Я переписываюсь с обоими. Кто-то обязательно отпадет, не у каждого достаточно крепкие челюсти, чтобы постоянно держаться за ветку. Или я отпаду, как грушка, которая налилась и упала на землю».
«Ты их любишь?» – наивно-растерянно спросила я. «Похоже, что да, по крайней мере, я влюблена, такое состояние, когда все слова хочешь проверять осязанием, даже то, как он учился на медицинском. Это, наверное, потому, что я очень плохо их знаю. Что тебе еще сказать? Рон прекрасно играет в ватерполо, Бора так улыбается, что сразу начинаешь думать о том, как он целуется». «А когда Рон плывет – сразу начинаешь думать, как он обнимается?» «Размах его ручищ поражает!» Я улыбнулась. «А я трусиха. Я не могу так быстро влюбляться, я никогда не вижу в улыбке поцелуя. Никогда». «Да нет. Ты очень смелая в мыслях, тебе стоит однажды их отпустить, вот и все. Но ты держишь их на подтяжках. В конце концов, ты дочь своего отца». «И внучка своего деда. Ты знаешь, они против того, чтобы мне помог дядя Артур». «Конечно, они против. Таким людям, как дядя Артур, успешность прощают лишь тогда, когда они, например, становятся импотентами и об этом узнают поголовно все. В таком случае отношения к нему изменилось бы быстро. Они бы ринулись к нему в гости со штруделями, пластинками с его любимой музыкой, с собственными бедами и даже с деньгами. Люди – не фрукты. В красивых наливных, ярких и здоровых людях всегда приятно находить червячка. Это тебе не абрикос, который выбрасываешь. Людей прижимаешь к сердцу. Ты же сама это знаешь».
Зазвонил телефон, я вздрогнула, Ханна посмотрела, кто звонит. Брови ее поднялись на целый сантиметр выше, как два месяца в ночном небе. Так темнеет у Ханны на душе. «Наташа?» Я утвердительно кивнула и приняла звонок. «Привет. Да. Прочитала его письма. Жутко. Даже нарциссы начали вонять стариковским бельем, пришлось вынести их вместе с вазой на балкон, иначе бы меня вытошнило».
«Итак, ты общаешься с Наташей?» «Как-то так вышло, хотела, чтобы меня поддержал Дерек, а поддержала Наташа. Она действительно старается мне помочь, ну… это естественно, наверное, помощь человека в венце жертвы человеку в венце палача». «Дерек не может никого поддерживать, он протестный элемент. А с какой такой стати Наташа – жертва? Ты наклюкалась жалостина?» «Я имею в виду то, что она из Польши, поэтому ее деда вполне мог убить мой дед». «Правда? Интересная логика, жаль, что я не применила ее, когда меня ограбил парнишка из России. Надо было ему все отдать, потому что мой дед мог убить его деда , а не вызывать полицию. Может, ты тогда простишь ей то, что она у тебя отбила Дерека, а? Ничего, что это хуже, чем отбить почки. По крайней мере, у тебя были такие глубокие темные круги под глазами, выразительнее, чем у любого пиелонефритчика. Ты уже не помнишь, как ты чувствовала себя тогда, попустило? Ты простила эту сучку, играешь в цивилизованные отношения?»
«Ханна, я знаю, что это выглядит дико». «Нет, не дико. Иначе бы это меня завораживало. Это выглядит нездорово, я этого боюсь. Что ей от тебя нужно?» «Она хочет помочь. Вот завтра пойду в суд. Там будет слушаться одно дело в отношении поляков, Наташа хочет познакомить меня с человеком из Украины, у него здесь гостиничный бизнес, и он может помочь с визами и информацией». «Сейчас нет проблем с визами. Берешь билет и отправляешься, если тебе так уж приспичило туда ехать. «Железный занавес» оказался марлей с очень редким плетением». Я вздохнула. «А еще она договорилась с Францем, что я к нему наведаюсь – поговорить на историческую тематику». «Это тот самый Франц, который написал, что у Манфреда член, как хвост жертвенной ящерицы? Классный чувак, я бы с удовольствием с ним познакомилась». Если бы я не пила вино, я бы захлебнулась слюной, но вино высушило гортань, поэтому я смешно забухыкала туберкулезным кашлем. «Он не писал такого!» «Что-то похожее писал. А что, он языкастый, как все геи, вполне в его стиле».
«Слушай, а я могу своим сказать, что ты беременная?» «Можешь, я не собираюсь это скрывать. Слушай, я, наверное, пойду, я опять проголодалась. Ничего, если я оставлю у тебя свой чемодан?» «Ничего. Свертку умершего деда будет веселее. Поболтает с чемоданом беременной подруги. Символизм!» Ханна исчезла.
Только я взялась за ее чемодан, как раздался звонок. «Ага! Дома нет свежих трусов?» – прокричала я и открыла дверь. На меня с легким удивлением смотрел мой отец. «Вообще есть, и к тому же разной степени свежести». «Привет. Я думала, что это Ханна вернулась, она приехала с отдыха, съела все харчи, которые завалялись в моем холодильнике, и побежала домой». «А это твой старый отец. В отличие от твоих подруг, он принес вино, крекеры и сыр». «Мне повезло, я верю в законы физики. Если в одном месте убудет, тогда в другом обязательно прибудет». Отец вошел. «Слушай, мне нравится, что ты вспомнила о своей физической сущности». «В смысле?» «Будем разливать?» «А как же».
Отец неторопливо направился на кухню, он приучил себя не спешить, верней, переучил, потому что по природе своей был неугомонным и порывистым. «Когда человек в мантии или в сутане суетится, это выглядит как в саркастическом мультике или так, будто мальчишки обмениваются тумаками в палатке». «Я хочу, чтобы ты была счастлива. А вот физики как раз любят счастье больше, чем гуманитарии. Гуманитарии смакуют несчастье, граничные состояния, потому что эти состояния никогда не похожи друг на друга, их интересно рассматривать под разными углами. Физики отдают предпочтение счастью. Оно понятно и логично».
Я взяла бокал. «Что-то мне подсказывает, что эта речь касается моего отношения к деду и прошлому, верно?» «Принимается». Отец улыбнулся и пригубил вино. Он всегда щурил глаза, когда пробовал новый сорт вина. С таким же прищуром он, наверное, смотрит и на новую женщину. «Ты меня должен понять, если не как отец, то как адвокат». Отец развернулся ко мне чуть сильнее, так он концентрировал внимание. «Я хочу чувствовать наш род у себя за спиной. Настоящий род, такой, как он есть. Чтобы было на что опереться, когда покачнешься». Отец покачал в воздухе бокалом. «Лучше не покачиваться. А для этого нужно сохранять внутреннее равновесие и верить в законность счастья». «Ты знаешь, я не могу не покачиваться. Я не могу не колебаться. У меня никогда нет внутреннего равновесия». «Марта, доченька, не преувеличивай. Ты не метроном, не церковные колокола и не хромоножка». Я закрыла ладонями глаза, когда он так настроен – не о чем говорить, лучше сменить тему, хотя он, как искусная балерина, крутнулся – и спустя миг уже в исходной позиции.
«Ханна беременна». «Кхм. Ты Манфреду еще не говорила?» «Зачем это знать Манфреду? Разве он давал обет быть крестным отцом у детей Ханны? Думаю, на этот раз у него ничего не выйдет, малыш Ханны – мусульманин». У меня есть одна ужасная черта, от которой я никак не могу избавиться: когда мне нечем бросить вызов отцу, я использую для этого своих друзей.
«Ты хочешь, чтобы я вышел из себя. Тренируйся на китайских фейерверках, они не всякий раз срабатывают». «А тебе это нравится?» «Меня это не касается. Ты прекрасно знаешь, что я не люблю теологических дискуссий. Но если тебе хочется знать, что я думаю по этому поводу, могу тебе сказать, что правоверные от католиков, на мой взгляд, отличаются тем, что правоверного в Эдеме ждут десять девственниц, готовых для него на все, а католика – десять распутниц. Но есть и то, что их объединяет: эти девицы должны быть несовершеннолетними. Видишь, большинство жаждет попасть в Рай и распутно поджидает возможности нарушить уголовный кодекс. Разве не смешно?» «Все это касается только мужчин». Отец подмигнул мне. «Но ведь Ханна ждет мальчика? Мы же о нем? Вообще-то, я очень рад за Ханну. А вот за тебя – нет». «Ты тоже считаешь, что мне лучше найти кого-то, кто затрахал бы меня до упаду?» «Ты сама сказала, что тебе нужно на что-то опереться. Может, попробуешь?» «На костыли, например? Для этого нужно сломать ноги. Займусь этим с утреца». Отец вздохнул. Поцеловал мне руку. «Просто подумай не о том, как защитить спину, а о том, как сделать свое внутреннее наполнение таким прочным, чтобы ничего не могло покачнуться. Просто подумай».
Отец ушел. А я вернулась к чемодану Ханны. Я положила в стиралку несколько ее белых вещей. Потому что знаю: она долго их не будет стирать, большая часть ее вещей – яркие, и белые одежки, как измученные, но привыкшие к процедурам пациенты, терпеливо будут ждать своей очереди. Кое-кто не дождется и умрет. Когда стираешь белые вещи, иногда кажется, будто это чайки заглядывают в иллюминатор самолета. Как говорил маленький Манфред, когда его ругали за грязные руки: «Но ведь внутри ж я чистый! Разве не это главное?» Сейчас у него чистые руки. Часто даже стерильные. В какой-то момент мы теряем главное, то, что безошибочно узнаем в детстве, оно выскальзывает из рук, как жертвенный хвост ящерицы. Надо готовиться к встрече с Францем.
Глава девятая
Суды я не люблю. Мне кажется, что стены там превращаются в человеческие поры, будто приближенная объективом фотографа кожа, чаще всего проблемная. Ближе к носу – кожа, кожа, поры, поры, прыщи, фурункулы, лопнувшие капилляры. Я чувствую этот смрад пропотелости, и мне это очень неприятно. Это как чувствовать испуг человека, который делает все, чтобы ты этот испуг не почувствовал. И ты врешь, что не чувствуешь, и он – врет.
Суды любит мой отец. Оно и не удивительно. Он умеет упиваться пафосом. Когда человек упивается пафосом, ему не нужно присматриваться к реальности, видеть эту кожу, эти поры. Нужно сказать, отец умеет это делать элегантно, в этом даже есть нечто гурманское. В суде у него такой вид, будто он пришел слушать органную музыку. В общем-то, почти все судьи и адвокаты очень не любят шума и не повышают голос в компаниях, еще бы, они привыкли к тому, что говорят в относительной (а часто и полнейшей) тишине, никто не прерывает их речи и все вынуждены слушать. Отец всегда говорит ровным и спокойным тоном, который можно сравнить с морским штилем. Поэтому любая ирония или насмешки из его уст звучат еще обиднее. И он об этом знает.
Мне же всегда было неловко смотреть на судейские мантии, все-таки суд – светское заведение, к чему эта игра в церковь, зачем приближать себя к Вечному Суду, это опасные игры, и судьи часто забываются. А если суд не церковь (хотя, если у государственного органа могут быть собственные устремления и амбиции, то суд к этому очень стремится, жаждет), тогда это театр.
Да, да, суд – это действительно театр, где у каждого есть своя роль. Помощники судей – суфлеры. Первый состав, второй состав. Режиссер, осветитель, стенограф-сценограф, конферанс ведет секретарь или судебный распорядитель. Классический репертуар, почти без каких-либо экспериментов. Первая инстанция – репетиционная база для апелляции, апелляция – для кассации, ну, а дальше уже Бог застыл в ожидании с дирижерской палочкой, перебирая старые партитуры… У участников суда тоже были свои композиторы, но уже никто не пишет ничего нового. Конечно, адвокаты на меня накинутся (судей в этом смысле не пробьешь), кому же приятно слышать, что ты формальная фигурка. Наверное, и отец возмутился бы такому ходу моих мыслей. «Каждое дело неповторимо, каждый человек – уникален». Скорее всего ведущие актеры Королевского театра ответили бы мне приблизительно так же. «Гамлет – уникальная роль!» А чем слабее роль Обвиняемого? Трагизм? Еще какой! Или Потерпевшего? Или Защитника, который взял на себя роль Иисуса? «Накажи меня, я уже наказан, и отстрадал за все, и не трогай моих агнцев».
Мой бывший, Оскар, боготворил свои адвокатские речи. Он часто записывал себя на диктофон, чтобы слышать голос. Чтобы работать над интонациями, разве это не актерство? Разве это не борьба за лучшую роль? Например, сменить на посту моего отца. Когда-нибудь, не сейчас. Как в свое время Шона Коннери. Именно здесь записываются на Джеймсов Бондов.
По немецким традициям, суд проходил под липами, городской, поселковый Gerichtslinde. Под липами же устраивались народные гулянья. Я ведь говорю – театр! Когда мне очень уж хочется досадить отцу, я напоминаю ему об этом. ЛИПОВЫЙ СУД! Тогда он так назывался. Но, смею вас уверить, он был справедливее. Нынешний суд липовей, чем тогдашний.
Суд, в который меня притащила Наташа, был не таким, как тот, где работал мой отец. Намного проще. Напоминал скорее школьные кабинеты. Наташа в сером деловом костюме выглядела непривычно. Она протянула мне свою узкую ладонь, на внешней стороне которой сквозь загар то ли соль проступила, то ли кожа начала лущиться, из-за этого ладонь Наташи напомнила мне засоленную рыбу. И я боялась пожать протянутую мне руку, чтобы не сдавить ей жабры. Она ведь дышит ладонями. Я теряю рассудок. Наташа меня обняла. Прижала мои жабры на лопатках. Задыхаешься не тогда, когда тебя крепко обнимают, а тогда, когда перекрывают тебе дыхание даже нежным прикосновением.
«Я рада, что ты пришла, посидишь на рассмотрении дела? Это не очень долго, потом я тебя познакомлю с одним человеком, пока что его нет, он придет позже». Я соглашаюсь. Показываю свою преподавательскую карточку секретарю. Он похож на учителя Гарри Поттера. И смотрит на меня так, будто сейчас превратит во что-то необычное. Но вместо этого он говорит, что очень рад тому, что представители юридического образования интересуются буднями судейской жизни. Он произносит это так серьезно, что я теряюсь и вместо адекватного ответа качаю головой, как детская игрушка, будто сама себя одобряю.
В зал вводят какого-то вонючего брюнета на длинных тонких ножках. Небольшого роста, патлатый, с головы до ног запакован в черную кожу. Выясняется, что он на вокзале третировал стареньких поляков, супружескую пару. Теперь я понимаю, что здесь делает Наташа. Она внимательно за всем наблюдает, руки ее спокойны, она держит себя в руках при помощи губ, сжала их так, чтобы ничего в организме не шевелилось. Я часто делаю так же.
Вонючий брюнет поведал полякам о том, что Берлин – это его город, и посоветовал им поскорее отсюда ушиваться, а чтобы было понятнее, ведь они иностранцы, ударил мужа и жену пару раз резиновой дубинкой. Когда рассказывают о его поведении, он что-то напевает, озирается, ищет благодарного зрителя. Если подобные твари пытаются встретиться со мной взглядом, я никогда им этого не позволяю, а потом начинаю сама на них смотреть – безразлично, сонно, главное – не выказывать никаких эмоций. Они ими подпитываются. Его спрашивают, как он может прокомментировать свои действия. Он отвечает, что его там вообще не было, все это выдумки. А если бы он встретил поляков – удрал бы. Он боится их, они же из лагеря победителей. Держится эта тварь очень нагло. Ну, может, и был, у него столько дел, всего и не припомнишь, но точно – не трогал. Так, размахивал руками, возможно, кого-то зацепил, песенку пел о Берлине, а что, разве нельзя? Он берлинец.
Приглашают потерпевшего, он неплохо говорит по-немецки, рассказывает о том, что они с женой живут в доме, за которым присматривает этот господин, и отношения всегда были ужасными, хотя они за все своевременно платят и ведут себя подобающим образом. Но вот случая на вокзале старичок не помнит, отводит глаза – красные, запуганные собственным плачем. То же самое рассказывает его жена, изможденная, уставшая женщина. Протокол составлен неудачно, побои зафиксированы не в тот же день, Кожаная тварь остается безнаказанной. Улыбается, напевает что-то, поглядывает по сторонам.
Обвинительница, шикарная длинноногая женщина, своей манерой произносить речь похожая на разрывную пулю, предупреждает его, что будет наблюдать за ним и когда-нибудь ему наверняка не поздоровится. Он подмигивает ей и говорит – ему льстит, что такая шикарная барышня будет наблюдать за ним. Суд заканчивается. Я говорю, что мне хочется вымыть руки. Такое со мной постоянно. Наташа протягивает влажную салфетку. Мы идем в судовую кофейню, Наташа говорит по-польски что-то утешительное супружеской паре. Я ничего не понимаю, но голос у нее ласковый и в то же время убедительный.
В кофейне к нам подходит приземистый господин. Обнимается с Наташей, здоровается со мной и супругами. «Это Орест, я хотела, чтобы ты с ним познакомилась». Я еще раз здороваюсь. «Знаешь, сеть отельчиков “fOR REST”?» Я действительно недавно видела такой отельчик. «Это отели Ореста, он украинец, вот устроит теперь Радмилу и Збигнева пожить у себя». Орест говорит, что приглашение мне в Украину действительно не нужно, но он может позвонить своим друзьям, чтобы они просчитали и упростили мой маршрут, помогли найти машину, встретили – если нужно. Я благодарю, потому что мне нужна поддержка в этом путешествии. Мы обмениваемся с Орестом координатами, он говорит, что все будет присылать мне по почте. Орест еще раз обнимается с Наташей, забирает польскую пару и исчезает.
«Ты давно с ним знакома?» «Когда-то я писала статью о его бизнесе. Знаешь, не так уж много иммигрантов добивается финансовых успехов. У него это вышло. Но он очень упрямый. Бывший украинский инженер стал собственником успешной сети отелей в Германии. Впечатляет?» «Впечатляет. Я бы не стала успешным собственником. Даже не знала бы, с чего начинать. Внешне он похож на баварца, наверно, это ему здесь играет на руку. Хотя не каждый подпустит к сердцу и кошельку баварца». Наташа смеется. «Да, вид у него хитрющий, он говорит, что человек, как кирпич, прежде чем ставить на него знак каче ства, он должен ощупать его со всех сторон, потому что он несет ответственность за свои штампы». «А ты?» «Иногда ставлю, но мои штампы – на польском, не каждый может их прочитать». «А что стоит на Дереке?» «Ничего. Я его просто люблю. И еще – очень хочу изменить его жизнь». «А что не так с его жизнью?» «Знаешь, я очень хочу, чтобы он отдавал что-то обществу». Я никогда бы не отважилась предлагать Дереку перемены, возможно, именно поэтому он сейчас не со мной. «Насколько я знаю, это не его жизненная позиция». «Вот именно. Я пыталась затащить его на эти процессы. Склонить к тому, чтобы он помогал людям, которым не от кого ждать помощи. Бескорыстно. От всего сердца. Но его сердце занято». «Тобой». «Нет. Больше собой. И ложным ощущением свободы. Хотя мне удалось немного втиснуться, мизинчиком». Она потягивается.
«Марта, ты сейчас говоришь со мной, как автомат, который сообщает тебе, сколько ты весишь. Безжизненный, равнодушный голос, пропущенный через несколько фильтров. Я не спрашиваю тебя, почему ты так себя ведешь, я ведь знаю почему. Я просто хочу, чтобы ты знала, ты мне нравишься, и, так или иначе, я на твоей стороне». За такие слова следует благодарить. А я не могла, чтобы поблагодарить, мне нужно было проглотить одну сложную эмоцию – стыд, смешанный со злобой, впечатлительность, смешанную с любовью, и что-то еще, более жесткое. В таких случаях благодарность часто выливается со слезами. Но я сдержалась. Наташа взяла мою ладонь в свои руки и, несомненно, услышала благодарность, высказанную моим бушующим и неосмотрительным пульсом. «Держись. Франц тебя ждет, он сказал, что не будет постоянно находиться дома, но открыть тебе дверь есть кому. Пока». Наташа резко встала и ушла.
На мой звонок долго никто не реагировал, я уже подумывала, не прогуляться ли мне где-нибудь, как дверь отворилась. И я оказалась в радужном мире. Весь коридор Франца – пол, стены, потолок – все было покрыто радугами. Очарованная радужными вспышками счастья, я не сразу обратила внимание на то, что дверь мне открыла полуобнаженная женщина. Она стояла и рассматривала меня. Стройная, с растрепанными седыми волосами, в прозрачной мужской рубашке.
Вообще-то, это был удар. Первый мне нанесла подруга Боно, ведь я была убеждена, что мой кузен гей или что-то совсем иначе сексуальное. Теперь Франц. «Что вы на меня так смотрите? Как будто я домашнее растение, которое отважилось открыть вам дверь». «Я просто думала, что Франц… предпочитает мужчин». Она повела бедром, переместила основной вес тела. «Я тоже предпочитаю блондинов, а вот сплю с Францем. А он шатен. Парадокс?» Трудно было возразить. Я поздоровалась, представилась и спросила, могу ли я пройти? «Какой выбираете цвет?» «Простите?» «Франц так тестирует людей, очень часто люди идут по одному или двум цветам радуги. Так какой выбираете вы?» Как я не люблю тестов. Даже шуточные тесты, которыми меня время от времени атакует Ханна. Я всегда вру. Вот и на этот раз я выбрала красный. Женщина посмотрела на меня, хмыкнула и сказала: «Если бы вам пришлось идти долгое время и при этом никого не встретить на своем пути, вы бы сбились на синий». Черт ее побери. Она была права, эта прозорливая любительница блондинов.
Она расположилась на кровати. Не застеленной, такой же растрепанной, сексуальной и удлиненной, как она. «Меня звать Ора. Я вижу, что вас не нужно развлекать, вы будете из-за этого чувствовать себя неловко. Хотите что-нибудь выпить?» Я сидела в кресле, в котором вполне могла бы сидеть бедняжка Джейн Эйр. Никогда в моем доме не будет подобных кресел. В таком кресле нельзя ничего пить, так как жидкость застрянет где-то на уровне грудины. «А у вас здесь нет другого кресла?» «Есть, но на нем сидит Пиа Нера». Я осмотрелась и увидела маленькое кукольное креслице, где сидела кукла-цыганка. «Я бы на вашем месте не трогала ее, она очень мстительная». Сумасшедший дом. Я не знала, следует ли продолжать разговор, и о чем с ней говорить. Ору это не смущало, она накрылась одеялом и, похоже, уснула. Хотя это вряд ли можно было назвать развлечением, но мне действительно стало неловко. Я боялась встать, потому что кресло скрипело и я могла ее разбудить, а сидеть здесь и хранить ее сон – это меня тоже не прельщало.
Честно говоря, так со мной вели себя впервые, не знаю, прикидывалась она или нет, возможно, хотела убедиться в том, что как только она уснет, я тут же начну рыскать по квартире. Или сброшу Пиа Неру и отберу у нее кресло. Еще я думала о Франце. Конечно, он был злобным. А еще он терпеть не мог моего брата. Ханна была убеждена в том, что когда-то Франц предложил Манфреду отношения, брат послал его ко всем чертям, и теперь Франц бесится. Я считала все это очень мелким, но кто сказал, что Франц проявляет себя только в крупных формах? Я сомневалась, сознаваться мне в том, что я сестра Манфреда или нет. Он обязательно этим поинтересуется. Не такая уж у нас распространенная фамилия. Раньше я никогда не отрекалась от брата. Но именно сейчас была близка к тому, чтобы отрезать эту родственную связь и спрятать ее под пестрой юбкой Пиа Неры.
«О», – вдруг услышала я, и склонилась к Оре, мне показалось, что ей плохо. «Не туда». Я обернулась на голос. В двери стоял Франц. Он был похож на метиса от черного кота и лебедя, и хотя вряд ли это можно было бы назвать привлекательным сочетанием, но он был очень красив. «Поздравляю вас, Марта. Вижу, вы поладили с Орой». Это звучало как-то двусмысленно, и я не знала, как на это реагировать, поэтому просто встала с кресла. У меня было такое впечатление, что моя спина, бедра и грудь уменьшились на треть. «Знаю, понимаю. Ужасное кресло. Но оно дарит мне приятные воспоминания. Знаете, я когда-то подумывал избавиться от него, а потом решил: кресло всегда дарит мне приятные воспоминания, а люди, которые в нем скрючиваются, – не всегда. Значит, кресло выигрывает по основному показателю. Ора, Ора!» Женщина не шевелилась. Мне стало жутко, я точно знала, что я не убивала ее, но она казалась мне способной на любую подставу. «Вы действительно с ней поладили, она никогда не засыпает так крепко в присутствии человека, которому не доверяет. Кстати, кем вы приходитесь Манфреду фон Вайхену?»
Вот оно, началось. «Я его сестра». «Вы внешне совсем не похожи, даже пластика разная. Хотя ваши аверсы похожи». «Правда? Я думала, что номинал у нас разный, вы не перепутали с реверсами?» Он расхохотался. «Я всегда это путаю!» Он хохотал так смачно, что если бы я кормилась смехом, этот его смех я бы проглотила очень быстро, и мне долго бы не хотелось есть. «Я читала некоторые ваши статьи о Манфреде». Глаза его сузились. «Некоторые? И я уверен, что он истерично настаивал, чтобы вы прочитали все. Хорошо, что вы сказали – статьи о Манфреде, а не о творчестве Манфреда, так как это что угодно, но уж точно не творчество». Я была не расположена теоретизировать на темы искусства, но не простила бы себе, если бы проглотила обиды в адрес Манфреда и еще бы поблагодарила очаровательную хозяйку за угощение. «Я считаю, что вы не всегда правы. Манфред – прекрасный художник». «Прекрасный? Не старайтесь меня убедить в том, что вы лишены вкуса. Ваше тело и голос свидетельствуют о другом. Слова без интонации, без голосовых нюансов ничего не стоят, поверьте». Я подумала, интересно, как бы он отреагировал, если бы я ему сказала, как одному из своих студентов, это у нас, преподавателей, называется деликатное затыкание рта ближнему. «Благодарю, Франц, мы услышали вашу точку зрения, а сейчас пора послушать других». Вместе этого я спросила, нет ли в квартире помещения с более покладистыми креслами или стульями. Франц, который все еще стоял возле двери, кивнул головой и жестом указал мне дорогу. Это была столовая, с красивым столиком, диванчиками, без всяких кроватей с Орами и креслиц с Пиа Нерами.
Я думала, что надо бы спросить Франца о его связях с журналистскими и исследовательскими кругами в Украине, но вместе этого брякнула: «Какие у вас претензии к Манфреду?» Франц делал чай, очень элегантно, будто птица, кисти его напоминали крылья, они были легкими и слишком большими. Густые и тоненькие волоски, покрывающие его пальцы, золотились на солнце, и когда он жестикулировал, казалось, что его кисти вот-вот должны взлететь. Но как он будет жить бескрылым?
«Манфред поведен даже не на своем творческом, а на личностном «я». Понимаете, критик должен быть недозревшим в плане творчества, это злит, а злость стимулирует мысли. А вот художник должен вызревать и в конце концов вызреть. Манфред подкармливает свое «я» искусственно. Искусственными смесями, которые ему подсовывают, которые он сам выбирает для себя, поэтому он набирает вес, но это вредный вес. Все эти призы, обожание, приглашения на ТВ-шоу, муниципальные заказы – все ему вредит. Он – малыш-карапуз с гормональными сбоями. Он неестественный, понимаете? Он как художник растет не в том климате и не в тех условиях, ему стоит заняться другим. И это постоянное самолюбование, будто он все время цветет. Не бывает такого. Никто и ничто не цветет все время».
Нужно было включить диктофон, такую тираду я не запомню, хотя память у меня и неплохая. Птица примостилась на миг возле меня и упорхнула, оставив после себя след в виде чайной чашки. «Спасибо». «В его творчестве не хватает смелости и размаха». «Да. Я давно это поняла, еще когда смотрела, как он играет в пляжный волейбол, он все время прячет голову и бережет пальцы», – хмыкнула я. Франц захохотал, откинув голову так порывисто, что я бы не удивилась, если бы она отлетела, как мяч во время пляжного волейбола. «Знаете, каждый человек, как мотылек: мечтает достичь солнца, но выбирает более простой путь, более легкую смерть и более близкий источник света – лампу». «И вы?» Он немного помолчал, а потом произнес, сильно растягивая слова: «Да. И я». И тут я заподозрила, что он сейчас тоже может выкинуть трюк с засыпанием, как Ора, это у них семейное, сейчас бухнется на пол и заснет. Поэтому я громко ойкнула пару раз.
«Что-то укусило?» «Нет, мне показалось, что вы сейчас заснете». «Марта, а вот мне кажется, что вы как раз и могли бы чего-то достичь в искусстве, у вас нестандартное видение, по крайней мере, мало кому бы пришло в голову, что человек, глотая горячий чай, заснет, скорее уж околеет». Это был не очень удачный волейбольный пас, но я должна была принять эту подачу. «У меня умер дед». Франц сделал участливое лицо. «Деды умирают, да. Доказано не одним дедом. Вы хотите заказать мне поэтический некролог?» «Нет, спасибо. Не знаю, согласится ли моя семья на некролог, тем более поэтический. По крайней мере, Манфред точно не будет в восторге. Дело в том, что деда считали погибшим долгое время. А он жил, теряя разум и здоровье».
Франц внимательно слушал, поэтому я рассказала ему немного о деде. «Мне нужно найти кого-то, кто мог бы помочь мне в Украине, я не знаю языка, не уверена, что сама сумею добраться до тех мест, где дед якобы был похоронен. Вы можете помочь?» «Да. Я постоянно на связи с бывшими республиками СССР, мы готовили совместные материалы в честь падения Берлинской стены. Находить очевидцев – интересная была работа. Марта, сделаем так. Я поспрашиваю у всех и потом подберу вам подходящего человека. Но вы уверены, что вам стоит копаться в этой истории?» Я кивнула. «Понимаете, история выглядит привлекательно только в скульптуре, архитектурных памятниках, но не в жизни…» Я молчала. «Конечно, если эти памятники и скульптуры не созданы манфредами». И он снова расхохотался. Я хотела его поблагодарить за помощь, но после очередного выпада в адрес моего брата это выглядело бы очень… неестественным, я подбирала какие-то слова, но старалась напрасно, впрочем, я все равно не услышала бы собственных слов, они потонули бы в музыке, которая раздалась будто отовсюду. Руки-крылья Франца мигом взлетели. «Полет валькирий» Вагнера. «Проснулась Ора!» – торжественно произнес он, голосом прорываясь сквозь стаи вагнеров ских валькирий. Я съежилась, Манфред, когда слышал эту музыку, расправлял плечи, возможно, Франц ошибается и Манфред достигнет солнца, когда этого никто не будет видеть, а вот я всегда съеживалась, как цыпленок в когтях ястреба. Мне казалось, что сейчас меня подхватит ураган и куда-то унесет. И мне было жутко, но в то же время очень хотелось, чтобы это в конце концов произошло. Но этого не произошло и на этот раз. Впрочем, и теперь я не расправила плечи.
Свет исчез, в столовую что-то вплыло. Я догадалась, что это была Ора. Она поставила перед нами стаканы с абсентом, сама осушила два залпом и продолжила кружить под музыку Вагнера. Я плохо помню, что происходило потом, надеюсь, что до группового секса у нас не дошло. Едва живая я добралась до дома. Ключ не хотел даже прикасаться к скважине, как манерный и ветреный любовник, но мне удалось его убедить и вставить. Не успела я, покачиваясь, одолеть порог, как что-то холодное уткнулось мне в икру. «Сейчас на меня нападет убийца-карлик, вполне возможно это Пиа Нера», – пришло мне в голову. Я неожиданно для себя завизжала, будто выпустила свой испуг, включился свет, я увидела растерянного Манфреда и Тролля, который нежно терся о мою ногу прохладным носом. «Уфф», – выдохнула я.
«Ты что, набралась?» – возмутился Манфред. «Что ты делаешь у меня дома в такое время?» «Зашел кое о чем спросить». «А позвонить по телефону ты пробовал?» «Пытался, но ты ничего не отвечала, включала на полную громкость Вагнера и хихикала». Я сняла туфли и протиснулась мимо Манфреда в комнату, Тролль семенил за мной. «Ну и что ты хотел?» Я рискнула упасть в кресло, хотя не была уверена, что впишусь. У меня нормальное кресло, мы с Троллем можем чувствовать себя в нем свободно и комфортно. «Мне вот интересно, ты умышленно ничего не сказала мне о беременности Ханны?» «Я думала, тебя это не касается. Разве это тебя касается?» «Касается». «Тогда это ты не сказал мне, что роман с Ханной у тебя продолжается». «Не неси чушь. Мы давно не вместе, тебе об этом прекрасно известно». «Так почему мне нужно докладывать тебе о том, что Ханна решила размножиться? Она ведь не будет множиться манфредами». «Как ты не понимаешь, мы постоянно пересекаемся в компаниях, вот и сегодня, я вижу, она располнела, шучу, а в ответ на меня смотрят, как на последнюю сволочь». «Наконец-то это произошло. Тебя поставили на место». «Слушай, ведь такие сцены не прибавляют баллов ни мне, ни Ханне. Это выглядело мерзко».
Манфред из породы собственников. В чашку чая он всегда высыпает ложку сахара, который потом не размешивает, потому что не любит сладкий чай; и оставляет ложку в чашке. Даже когда не собирается пить, чтобы все знали: это его. И не лезли. Не пили, не выливали. «И кто отец? Ты же должна знать». «Само собой. Один священник. Очень порядочный парень. Американский баптист». «Ханна вышла замуж за американского священника?» Удивление Манфреда было неподдельным, если бы он мне такое сказал о Ханне, я бы тоже пришла в изумление. «Угу. Ты больше ничего не хочешь? Я спать хочу». Манфред схватил на руки Тролля и ушел.
Я открыла шкаф, вещи деда были на месте. Мне показалась, что Манфред похитил их. Стало стыдно, будто на меня повлиял не только абсент, но и манфредоненавистничество Франца. Хотя при дальнейшем изучении две пропажи обнаружились: исчезли сэндвичи и пиво из холодильника. А когда я включила телевизор, меня поглотил гул стадиона, Манфред сожрал все мои сэндвичи, выдул пиво и превратил мою квартиру в стадион. Главное, чтобы это не вошло в привычку.
Я включила скайп, Ханна была на месте. «Уела ты сегодня Манфреда, он устроил засаду у меня дома, чтоб выспросить, с кем ты спуталась. Бледный и несчастный. Имей в виду, для Манфреда ты – жена американского баптиста. Где вы с ним встретились, я думала, ваши пути давно не пересекаются?» «Кхм, баптист – неплохо. Теперь я буду лучезарно ему улыбаться, звать братом, и благословлять крестом. Чтобы демонстрировать влияние мужа, представляю, как это будет его бесить. Прикинь, прихожу я на вечеринку, и вот вроде и людей немного, но случаются такие расклады в компании, что чувствуешь себя шлюхой. Был Манфред, Крис, с которым я встречалась в студенческие годы, и еще один болван, брат Юкки, с которым у меня тоже несколько раз было. И все на меня так смотрят, будто думают: о Господи, сейчас она запишет нас в отцы». «А они знали друг о друге? Ну, в смысле, что ты с ними спала?» «Понимаешь, не представилось случая у них об этом спросить. Но всегда в ситуации, когда в компании встречаются три твоих бывших, чувствуешь, что каждый думает, бифштексом какой степени поджаренности ты попадала в их руки. Ощущения не из приятных. А что у тебя с лицом, ты как будто пьяная?»
«Баба Франца накачала меня Вагнером и абсентом, уж не знаю, что подействовало на меня больше». «Баба Франца?» «Да. Ее звать Ора. Она укладывается спать сразу же, как только ты усаживаешься в кресло, и бродит по дому полуголая». «А я вообще думала, что он гей. И какая она, красивая? Может, похожа на мальчика? Какие у нее сиськи? Бедра узкие?» «Сиськи у нее точно есть. Бедра узкие, она вообще, как седая камышина. А по поводу красоты – трудно сказать. Это не то слово, которое ее характеризует, понимаешь, она очень характерная, можно сказать, незабываемая и своеобразная, выглядит, как покойница, в любом случае назвать ее красивой или очаровательной нельзя».
«Но перед тем как накачаться, ты поговорила с Францем о деде?» «Обещал помочь. Ну, ладно. Пойду укладываться, сил уже нет. Па-па». «Слушай, я тут подумала, если хочешь, я могу малыша назвать именем деда. Ну, хорошо, пока!» Сентиментальная Ханна. Я уже собралась улечься спать, слишком много событий, как по мне. Мертвый дед, войдя в мою жизнь, вдвое ее удлинил. Но потом решила написать письмо Боно. Вдруг его страстная ромка ничего не расскажет о моем звонке. Я написала несколько строк по поводу письма деда, сохранила письмо в черновиках, потому что в тексте не хватало сестринской заботы, а как ее проявить, чтобы это было уместно и не выглядело запоздалым, я не знала (с днем рождения Боно поздравлять было рановато, спрашивать, как он провел этот месяц, когда ты спокойно обходилась без информации о том, как он провел 10 последних месяцев, было бы свинством), итак, я решила, что завтра мысли мои будут яснее.
Глава десятая
Утро выдалось квёлым. Так бывает с природой, воздух как бы замирает, будто Бог играет в свои игры, суть которых понимают только философы, да и то неверно. А искренне верующие просто радуются каждому дню. Кофе тоже медленно заваривался, раскрывался, как цветок на кадрах замедленной съемки. Я зашла в свою почту, чтобы дописать письмо Боно. Странно, но в черновиках письма не было, в папке не чернела единичка, которая должна была чернеть со вчерашнего дня. Но письмо там было. Обозначенное уже как прочитанное. Кто сюда мог залезть, Манфред, отец? Я бы не смогла спросить у Манфреда, просматривает ли он мою переписку. Отец одним взглядом выказал бы презрение к моему вопросу и никогда не сказал бы правды. Судья ведь не обязан говорить правду, он требует это от других.
Поэтому я дописала в письме Боно, что рада знакомству с его девушкой и что рада за них, хотела написать, что мы с Манфредом обязательно их навестим, потом решила не приплетать брата, и отправила письмо.
Телефон высветил имя Катарины Фоль, хозяйки квартиры Дерека. Я улыбнулась, есть люди, которых ты не очень хорошо знаешь, но которые, как смешные истории и счастливые воспоминания, превращают твою жизнь во что-то хорошее.
«Привет, уже не спишь?» Я заверила старушку, что давно не сплю и даже выпила уже кофе. «Слушай, мне тут Наташа рассказала о твоем деде». Наташа, как Рождественский Дух, вездесущая. «А я тебе рассказывала о моей подружке Розке?» «Это та, что умерла в прошлом году?» «Да, умерла она в прошлом году, но до этого долго жила. У нее осталась внучка, Лиля, она сейчас беременная и записывает звуковые рассказы о своих бабушках». Я не понимала, к чему Катарина клонит, поэтому не перебивала и не останавливала ее. «У нее три бабушки, Лилия сейчас в хосписе, Роза и Маргрете умерли, я же тебе рассказывала их историю, они не родные сестры, а жили, как родные, под одной фамилией. И фамилия это – Лилина, и родом она из Украины. Хочешь – приходи ко мне, я тебе дам послушать рассказ. У меня есть аудиозапись».
Перед Катариной нельзя было появиться небрежно одетой. И тут я впервые осознала, каким универсальным является траурный наряд. Во-первых, мало кто отважится его подвергать критике (хотя с Ханны и Катарины вполне могло статься), во-вторых, он к лицу почти всем. И я не была исключением.
Катарина долго на меня смотрела и сказала, что мне к лицу черное, потому что я похудела. «Черное стильно выглядит только на худых, тебе в этом сейчас очень хорошо». Я поблагодарила и прошла в гостиную.
«Значит, тебя опекает Наташа? И как тебе это?» Я пожала плечами, на самом деле у меня были странные ощущения, я обычно дергалась при мыслях о Наташе, потому что сразу вспоминала Дерека, и неизвестно, кто из них больше вызывал во мне эти подергивания. Но мне нравилось то, что она проникается моими проблемами. Катарина тем временем продолжала: «Мне кажется, что Наташа из тех людей, которые подходят почти что всем, независимо от пола. Не обижайся. Она универсальная и может быть хорошей подругой». «Да, но я не могу с ней дружить, это будет фальшиво. Я еще о нем думаю. И не хочу ей врать, она открытый человек, все чувствует, все тебе изливает. Я не готова даже воспринимать ее излияния. Не то чтобы изливать что-то ей. В сравнении с ней я – ракушка». «Ты вообще ракушка. Но ведь впустила в себя рака-отшельника? Ты первая призналась ему в любви?» «Да». Я вспоминала, как это произошло. Я никогда никому не говорила: «Я люблю тебя», разве что отцу, но даже для этого я созревала, росла, взрослела и вспоминаю этот момент как самый сентиментальный в наших отношениях. С Дереком это вышло на выдохе, я выдохнула эти слова из своих легких, они были там, и если бы я их не выдохнула – задохнулась бы…
«Знаешь, а я из тех людей, которых можно определить как “я тоже”». Я уже почти поняла ее, но Катарина расшифровала. «Никогда не произносила этих слов. Я тебя люблю. Возможно, я никогда так не думала. Вместе этого всегда отвечала «Я тебя тоже», потому что понимала, насколько это трудно произнести. Впрочем… некоторые люди бросаются этими словами всю свою жизнь. И ничего». Я задумалась. «Когда я отвечала «я тоже», на самом деле я не любила, но мне стыдно было в этом сознаться». «Притворство якобы воспитанных людей, которое обоих делает несчастными». «Это месть счастливому – от несчастливого из зависти и непонимания. Как так? Он любит. А ты – нет. Разве ты не способна?» «Да. Какое-то бабское высокомерие. Ненавижу в себе это. Дерек все плавает?» «Ходит. Наташа хочет сделать из него альтруистичного адвоката». «Ого. Да неужели! Наверное, получит за это Нобелевскую премию». Мы расхохотались.
«Сейчас будем пить чай с имбирем и слушать запись. Договорились?» Мы расположились удобнее, я взяла в руки большую чашку, а Катарина едва притронулась к крошечной чашечке, как нас заворожил голос незнакомой женщины.
Аудиорассказ Лили Манюк о своих старушках
...
«Я думала, какой день выбрать для этого праздника. В календаре так много праздников. Каждый святой, каждая профессия, каждая страна, каждый идиотизм имеет свою персональную дату для празднования. Моя дата должна принадлежать простым женщинам. От которых мне остались воспоминания и этот гербарий с засохшими цветами – роза, маргаритка, лилия.
Лилия постоянно пела. Невеселые песни она пела, печальные. Но женщины всегда просили ее: «Лилька, спой нам!» И она мигом оживала, тянула головку, как цветок к солнцу, улыбалась, солнечные лучики у ямочек на щечках, зазывая, поднимала и руки, ладони открывала Богу, будто и не просила у него ничего, а просто показывала свои линии судьбы. Соседи говорили: чудо, а не пение. Вроде и силы в голосе нет, а сердце немеет, руки немеют, по спине мурашки бегут так, будто привидение или мавку почуяли. И такое впечатление, что эта малышка выдувает у тебя на глазах стеклянную игрушку: ангелочка, цветок, рыбку, птичку.
Счастливой Лилька была, когда пела свои печальные песни. В вагоне пела, когда ехала в незнакомую страну, не из-за того, что грустила по Родине, а из-за того, что отца убили, мать схватила сестричку младшую и подалась в края дынь медовых, брат отправился правду искать, дед с голода умер. Умерла-разбежалась ее Родина. А когда некому пожаловаться, некому спеть колыбельную, некому ленты и цветы вплести у косы, не к кому подбежать, прижаться к ногам, вдохнуть благоухание и понять, с какой начинкой пекла пироги мать, с чем возился на огороде отец, то и Родины у тебя нет. Закончилась. Только бы коснуться карими глазами похожих глаз, чтобы слились они в единый оберегающий жизненный туннель, вот чего очень хотелось. Чтобы превратились взгляды в единый мостик, пусть не самой по нему карабкаться, пусть кто-то пробежит, спасется, дотянется до родной души. Или ангел усталый присядет. Хочется воды горячей, буханки запыленной, чтобы запах земли ощутить. Земли под ногами тоже хочется, пусть чужой, но твердой. А пока этого не было, грела она в ладонях две чьи-то ручки, поправляла платок на голове, немытая голова зудела, волосы, как колоски пшеницы, всю голову искололи; и пела свои песни.
Если ты сам не услышишь, песня твоя почувствует, кто подхватит ее, чуть уставшую, кто поднимет снова ближе к небу. Лежит такое малюсенькое. Мешок, а не человек, в другом вагоне. Вагонам давали немного отдохнуть, бывают времена, когда важнее они, чем люди, а возможно, и во все времена оно так и есть. Пинают этот мешок, а он поет, изо всех сил тянется к Лильке, не ручонками, музыкой тянется. «Это ж сестра моя!» – кричит Лилька. И понимает ее одна серая фигура. И что-то говорит другой серой фигуре. Вытягивают из вагона Лильку и мешок этот. Рассматривают, вертят, платки срывают, кофточки. Глаза карие, щечки запавшие, темно-русые волосы. «Это ж сестра моя», – тихо говорит Лилька и прижимает к себе мешок. Вот и создали мостик карие глаза, вот и создали туннель, примостился ангел, отдыхает, дует на ручки и не может понять, чей он, так сильно Лилька сестру к себе прижимает, как мать, впервые ощутившая дитя внутри себя. «Так, может, эта и правда не жидовка? Это что, сестра твоя?» «Сестра, сестра», – шепчет Лилька. И сама она верит, что это сестра ее Леся, которую мамка забрала в края медовых дынь. Вера разных господ имеет, разных Богов и хозяев, но настоящая вера она такова, что откликается в разных сердцах, вливается в кровь, овладевает речью и не можешь ты ее отречься, какой бы чужой она ни была. Особенно вера детская. «Да черт с ними, берите к себе, мне хлопот меньше!» – говорит одна серая фигура другой. Та пожимает плечами, поезд фыркает, как голодный застоявшийся конь, забрасывают Лильку с мешком ее кареглазым в Лилькин вагон. Отправляются они дальше, не разговаривают, все песни поют. Да и весь вагон такой: шепот похож на молитву, молитва – на песню, песня – на стон. Так и доехали.
Розка умела разговаривать, но плохо. Картавила она. Себя звала «Йоська». Мать запретила имя произносить, ведь если скажешь так, и не посмотрят, что носик у тебя маленький, а волосы мягкие, гойские, заберут, разбираться не станут. Розка молчала, но все равно забрали. Нашли на улице, маленькая, молчит, темноглазая, на всякий случай сдали в комендатуру, как утерянную вещь. Может, кому-то понадобится, а не понадобилось – мусор значит. Все равно с улицы нужно прибрать. Настали времена таких вот аккуратистов.
Розка не плакала никогда. Увидела как-то раз, как Лилька плачет, утерла сестринские слезы, сунула палец в рот, понравились слезы. Вкусные. «Посоли мне йотик, сестйичка», – просила потом. Потом уже, когда Йоська стала Розамундой Веттель, говорила, что есть единственный чистый вкус соли, настоящий, который помнит она с детства – это слезы ее старшей сестры. Но в пищу никогда соль не добавляла. Потому что начинала плакать. С годами тонкослезой стала, как береза весной.
Лилька тоже долго к этой ее манере говорить привыкала, спрашивала Розку, чего она хочет больше всего на свете, а Розка отвечала: «скйибку». Ох, и прожорливым ребенком считала ее Лилька, старалась всюду найти эту «скибку» [5] , от своего ломтя отламывала. И только позже выяснилось, что скрипку ребенок хочет. Когда Розка увидела эту скрипку у Маргарете и сказала «скйибка», глаза блестели, как две вымытые и вытертые насухо сливы-угорки.
Маргарете – девчушка из дома, куда их привезли работать. Робкая, как куропатка. Ресницы, как крылышки подраненные, поднимает их Маргарете, а взлететь они не дают, хромает душа ее, израненная, босоногая. Лильку и Розку в доме баловали иногда. Леденцы давали. Молока. Салатные фартучки подарили, яркие, красивые. Выглядели сестры как двойняшки.
Марго же никто не ласкал и не баловал. Кормили досыта, наряжали, как покойницу или невесту – в белое, украшали бусами и цветочками. Но никто не прижимал ее к себе, не гладил русых волос, не говорил, что она красавица, не пел песен.
Суровая тучная фрау, которая вроде бы матерью Марго была, склонялась к клетке, где жила маленькая желтая птичка, и перепевалась с ней, так тепло смотрела на это крылатое создание, что цвет глаз ее изменялся, как у чая, если положить в него сахар. Лилька тогда спросила Суровую Фрау, а почему она не ласкает дочурку, почему не перепевается с ней? Любознательная Лилька была, язык чужой за три месяца освоила. Поэтому к ней Суровая Фрау относилась благосклонно. И ответила, что ласкать следует только тех, кто зависим от тебя – меньших, худших, пленных. А своих, и равных тебе нужно держать в тонусе, в уважении и серьезном отношении. Так вот.
А когда в доме были только сестры и Марго, Лилька ей пела, потому что жаль ей было девочку:
«В саду Наталка вінки в’є.
До неї Микола письма шле.
– Ввійди, Наталко, з саду до хати,
Час косу розплітати.
Нехай музики заграють,
Нехай дружечки заспівають.
Поблагословіть, отець і мати,
Тоді піду до хати.
Уже музики заграли,
Уже дружечки заспівали.
Поблагословив отець і мати,
Час косу розплітати».
...
Марго уже и подпевать стала, мелодию сразу ухватила, чувствует девичье сердце такие мелодии, а потом уж и слова выучила, произносит-выводит лучше многих Лилькиных односельчан. Это и понятно. На скрипке играет, в хоре поет, но лишь с Лилькой не только голос, а и душу к небу выпускает размять крылышки да и вернуться.
А Розка все хотела маргаритки белые нарисовать, но не знала как, молоком, может? Но кто же его даст на детские выдумки. Впрочем, попробовала однажды – наказали. Заперли в подвале. Плохо там, страшно, солнышка не видать, пения сестры не слыхать и голоса «скйибки» – вот и не веришь, что живой.
«Тебя мать любит?» – спрашивала Лилька у Марго. «А что это такое – любовь?» – спрашивала в ответ малышка. «Не знаю, – отзывалась первая. – Когда я слышу, как ты на скрипке играешь, или вижу, как Розка улыбается, мне тепло в животе становится, как будто запеченной в горшочке каши поела». Вот такая она любовь у Лильки. «А мать твоя ходит, как будто вечно голодная, и смотрит на тебя, как на корову, которая молока не дает, потому что усохла».
А однажды прибиралась Лилька в гостиной, язык уже очень хорошо понимала, но не демонстрировала этого. Да и никому эти демонстрации не нужны были. Можешь понять, где убраться, что купить. Отвечаешь «да, фрау» или «нет, фрау», «хорошо, фрау» и «будет сделано, фрау» – вполне достаточно для прислуги. К Суровой Фрау пришла в гости родственница ее, ванильным кремом лакомились, говорили о Марго. Так и узнала Лилька, что нагулял ее отец, муж Суровой Фрау. Не Суровая Фрау ее рожала, а другая женщина. Бедняжка та пыталась отравиться и дитя в животе отравить, сама умерла, а Марго выжила. «А помнишь, дорогая, как бабушка рассказывала, что в 18-м веке в наших краях выводили эти маргаритки ядовитые, а они – выжили. Цветут пышным цветом и до сих пор. Потому что колдовское зелье. Лепестки, как колода игральных карт, гадают на этом цветке на любовь. Так мать ее звали. Так и детеныш этот ведьмовский цепляется корешками за жизнь, метко мы ее назвали».
Лилька не заметила, как начала Марго Риткою называть и сестрой.
И вот однажды Суровая Фрау собрала чемоданы и исчезла. Дымом запахло, как там, на Родине, которая умерла и разбежалась, и появились три серо-зеленых существа. Ворвались в дом. Обратились к Лильке как к старшей. Она речь никак не могла понять, пока не сообразила: родная это. И именно та родная, что лишь в песнях осталась, что к Богу возносятся. Одно из существ спрашивает: кто вы такие? Розка сразу голос потеряла, упала и затаилась на ковре. «Сестры мы», – говорит Лилька, а голоса своего узнать не может. Отвык голос от родных слов, петь их хочется, произносить – нет. «Батрачки. Рита, Роза, Лиля Манюки. Сироты мы». Недоверчиво те на девочек посмотрели, особенно на нарядную Ритку. Подняла тогда Лилька Розку, поставила, привлекла к себе ближе Риту. И завела:
«В саду Наталка вінки в’є…»
...
А девушки подхватили. Ритка ручки сложила – как ангел небесный.
«До неї Микола письма шле.
– Ввійди, Наталко, з саду до хати,
Час косу розплітати…»
...
Мужики – в слезы. Взрослые, грязные, коренастые, говорят басом – будто бухыкают или ворчат, а что-то чистое внутри осталось, что-то росами умытое. Душа, может? Не обидели детей. Злобу выплакали.
Война не так страшна для детишек. Не успели они к мирной жизни привыкнуть, кости сломанные быстрее срастаются и душа срастется. Никто не знает, как в будущем это все отзовется-отразится, но пока играть можно мячом, венки плести и фарфоровых кукол часами рассматривать. Оставили их в покое, продуктовые карточки выдали. Никому и в голову не пришло, что среди сестер – одна немка, одна еврейка и еще украинка. «Бедные сиротки из Советчины».
Так и подрастали. У Лильки всегда забот полон рот. Взрослая сызмальства. Дом на ней, сестры на ней. Все на ней держится. Мужчин к себе не подпускали. Не видели они защитников в мужчинах, только источник опасности. Лильке времени не было ухаживания замечать. Рита держались за старшую сестру, как за жердочку на болоте. Шага без нее ступить не могла, даже спали часто в одной кровати, так как могло Рите присниться, что она падает куда-то, летит в пропасть. А еще вбила себе в голову, что проклятие у нее на роду лежит по женской линии, как рожать будет – умрет. Розка деловая стала – кто бы мог подумать? Кондитерская у нее своя, парикмахерская своя. Уже не Роза Манюк она, а Розамунда Манн. Ох, как увидела визитки Лилька, разъярилась как бешеная, по дому круги наматывала. Да ведь Розка такая – улыбнется, крутнется, ладненькая, хорошенькая, все ей и простишь.
А тут явилась как-то с мужчиной. Не из офицеров, ученый, врач. Зовут Дитер Веттель. Лилька руки в боки. «Прокляну!» Ритка побледнела, когда это слово от сестры услышала. «И как ты можешь такое говорить, мы же сестры, ты ведь жизнь моя, моя подруга, ты разве счастья мне не желаешь?» «Выйдешь замуж – ты для меня умерла». «И что, общаться со мной не будешь?» «С покойниками не общаются. Цветы носить буду. Розы. Раз в год». Все равно Розка победила. И замуж вышла, и держалась за сестер, как в хороводе, вся жизнь. Простила Лилька.
Я ее внучка. Лилия Манюк. Сижу, держу в руках гербарий и пою про «Наталчину косу». Выбираю дату для сестер. И жду близнят. Говорят, что будут девочки. С именами я уже определилась».
Я сидела вся в слезах. Я пробовала напевать мелодию этой песни, слова мне не давались, да и музыка билась выловленной рыбой в моих ладонях. Музыке или мне не хватало кислорода. Катарина молчала. «Я не умею плакать. Надо больше пить воды, как советуют врачи. У меня внутреннее устройство не земное. Ты помнишь, сколько на Земле воды и суши?» Катарина хотела меня отвлечь, я это понимала. Мозг независимо от меня сам начал поиск нужных файлов, даже в эпоху, когда уникальность энциклопедических знаний полностью вытеснена универсальностью поисковых систем, мы еще на что-то способны. Мы помним. «Больше семидесяти процентов воды». «Значит, я Венера. Венера без мужика. Высохшая». Мы помолчали.
Потом Катарина исчезла в кухне, чтобы принести еще чаю. На этот раз в двух больших чашках. «Лилька тебе может дать адреса тех, с кем переписывалась ее бабушка». Я поблагодарила, у меня скоро скопится Бог знает сколько адресов незнакомых мне людей. Так странно, это не моя жизнь.
«А как тебе письма деда? Наташа кое-что рассказала мне о письмах. Я не осмеливаюсь просить у тебя почитать их, но не могу скрыть свое любопытство. Если я буду его постоянно скрывать, то все остальное придется к нему допрятывать, а это не всем моим недостаткам по душе». Я улыбнулась. «Письма. Даже не знаю, что сказать. Будто просматриваешь киноленту и всякий раз, когда чувствуешь нежность к герою-негодяю, тут же объясняешь это только тем, что он твой любимый актер. Мне трудно было это принять, Катарина». «Ты что-то узнала о нем? Он наверняка был мальчишкой». «Если бы я не знала о его возрасте, я никогда бы не подумала, что это письма от мальчишки. Знаешь, чем он до бешенства меня довел? Образованностью. Начитанностью. Тонким и внимательным отношением к словам. И поэтому я не могу понять, как… при всем этом можно было совершать то, что он совершал. Я не хочу оправдывать его, я просто хочу понять, как было на самом деле. Что я ношу в себе». «Ты носишь?» «Да. Вместо ребенка. Забеременела моя самая близкая подруга. Ханна. И я осознала, что пока не разберусь с дедом, не смогу забеременеть. Он занимает место моего малыша. Меня часто тошнит, я постоянно плачу, меня начинают удивлять банальные вещи, и куда-то испаряется чувство юмора, я уже не говорю о здоровом цинизме. Реакции затормаживаются, и в голове только мое состояние и мой дед. Я похожа на идиотку?» «Угу. И к тому же очень впечатлительную. Меньше пей жидкости, Марта. Меньше пей жидкости». Я пообещала.
«А что еще ты о нем узнала?» «Что он любил бабушку. Так, как меня наверняка никто не любил. Как в романе. Банально. Но так уж воспринимается». «Удивительно, что эта любовь не спасла его от идеи». «Но ведь любовь часто подпитывает идеи, правда ведь?» «Да. А мне уже пора уходить». «Тебе вызвать такси?» «Нет, я пройдусь пешком». «Конечно. Беременным нужно больше гулять». Мы снова рассмеялись.
Я задержалась возле своего почтового ящика, нужно было выгрести оттуда все счета и рекламные проспекты. Среди прочего хлама и оказалось это письмо. Я как раз думала о том, что все это время мать мне не звонила. То есть она для себя все решила. Отец играет основную партию, значит, ей следует превратиться в нотный стан. Чтобы ему легче музицировалось. Она легла под него. Письмо было запечатано в новый конверт без обратного адреса, но старое, как любая история, всегда проступает. Привнося оттенки, таинственность и еще нечто.
Я открыла конверт только дома. Это было письмо деда. Не знаю, как Боно удалось так быстро отреагировать. Я была поражена. Покрутила конверт в руках. Обратного адреса нет, есть только штамп Франции. Боно по своей привычке ничего для меня не приписал. Собственно, а почему я на это рассчитывала?
Письмо четвертое
...
«Труди, Труди. Я вспоминал, как ты говорила по-английски. Как тебе удавался th… Твой зуб со щербинкой (я даже помню, как она появилась у тебя, тебе попался лесной орех в рождественском прянике, и тебе сказали, что в следующем году ты родишь ребенка – по поверью, пряник заманивал тебя в орешник, склонял к радостному греху; а мы только что познакомились с тобой, и я все не решался признаться тебе в любви, но ты поверила в эту примету; ты сохранила этот пряник, любимая, надеюсь, что и в этом году он украшал рождественский венок…), и ты царапала им язык, когда произносила этот звук.
Твоя сестра говорила, что я израню твое сердце, вырву зуб, причиню боль. Так и вышло, я оставил тебя и детей. Вырвал тебе зуб, я – твой зуб, и долго кровили твои десны… Хуже всего расставаться с человеком, когда он на вершине счастья, а ты была такой счастливой, моя дорогая. Мое сердце превращается в Сатурн с кольцами боли, боль ходит по кругу, сжимает сердце, надрезает его, но не до конца, всегда отпускает, чтобы потом приблизиться, прижать, резануть. И ничего не поделаешь. Ничего не поделаешь.
Здесь почти никто не владеет иностранными языками, лучше всего запоминают звучание цифр, мы их оцифровываем, присваиваем номера; и они это запоминают, возможно, мы должны больше говорить с ними? Впрочем, здесь почти никто не владеет иностранными языками. Или делают вид, не знаю, в чем кроется правда, во что она обернулась? В старую газету, в древесную труху, а может, в рыбью требуху или женские волосы? Никто не собирается подарить мне правду. Чистую воду сейчас легче найти, чем чистую совесть.
Ее нигде нет, правда, может, и есть. Наша, их. А совести нет ни у нас, ни у них, ни у кого-нибудь еще. Мне кажется, что она никогда не вернется. Исчезнет и правда. Целым нациям придется восстанавливать ее, как прелюдию по затертым нотам; как рыбу по костям и требухе; как дерево из трухи; как женщину из волос; как правду из старой газеты…
Найти переводчика тоже трудно, хотя в школах преподают немецкий. Завтра я буду знакомиться с очередной переводчицей. Говорят, она наполовину жидовка. Они все впоследствии оказываются наполовину жидовками и наполовину партизанками. Об этом свидетельствуют протоколы расстрела, их готовят те, кто щеголяет своим почерком; или любит смерть превращать в цифры; или просто хочет что-то писать. Буквы способны успокаивать, я этим тоже пользуюсь. Большинство не ведет никаких протоколов.
Полицай сказал, что от жидов в этой местности избавиться невозможно, они, «как сахар, которым пересыпают ягоды, – есть в каждой банке, иначе не получится варенья, и они этим пользуются». Поэтическая фраза, не так ли? Этот человек убил больше людей, чем я. Он убивал не врагов, Труди. Конкурентов. Они ему мешали больше, чем мне. Иногда я представляю себе, как бы обрадовался Гундорф, если бы увидел и услышал этого человека. «Слепая чернь метит в глаза всем остальным, но в сердце попадает каждый миг, и сердец останавливается больше, ведь зрения нет и у убитых…» Эти строки его бы тоже порадовали, возможно, из меня тоже мог получиться поэт?
Очень надеюсь, что новая переводчица знает язык. Большое неудобство в том, что переводчиков невозможно проверить, приходится их убивать, смерть ставит точку после двоеточия, избавляет от сомнений на перепутье: врут они или нет?
Ты мне можешь поставить в упрек то, что и я не знаю русского, украинского, чешского. Да, я не очень способен к языкам. Английский дался мне с трудом, я признателен Фридриху Боденштедту за его переводы Шекспира, хотя если бы я знал, как сложится моя жизнь, я бы разбирал по слогам его переводы украинских народных песен и повестей Тургенева. Он будто знал, с кем мы вступим в схватку.
Что ни говори, Ганс – предусмотрительный счастливчик, именно он отправился к другим нашим неприятелям, культуру которых мы оба прекрасно знаем. Мне же так не повезло.
Но, музыка… Кроме языка, еще есть музыка. В местной церкви я нашел сонату № 1 Op. 13 для фортепиано Бориса Лятошинского, пересылаю ноты тебе, не думаю, что они могут заинтересовать наших цензоров, разве что они подумают, что это советская шифровка. Впрочем, туда берут людей с техническим образованием (у них есть образование!), так что они не болваны. Попробуй сыграть это, я воображаю, как дрожат твои пальцы, будто стая охотничьих собак, которые уже увидели оленя. Это очень сложная музыка. Я сыграл ее на старом немецком рояле, у местных жидов еще есть инструменты, не все пошло на растопку, чтобы обогреть дома. Это музыка разорванной души, той души, которая разрывается, пока ты играешь, и когда ты закончишь – она уже наблюдает за тобой, пытаясь собраться воедино и остаться целой где-то ближе к небу.
О Лятошинском мне рассказал еще один полицай. Он отказывается расстреливать людей, но его за это пока не прикончили. Он говорит, что брезгает убийством не менее, чем жизнью. Не расстреляли его, несомненно, потому, что он знает немецкий, прекрасно ориентируется на местности и в речах Гитлера. Он с презрением относится к советской власти, Сталина считает «грязным и вонючим шпанюком», который «установил шашечные правила для шахмат». «На краску для советских знамен не нужно тратиться, можно макать полотнища в кровь, здесь все залито кровью. Поэтому на Украине плодородная земля, где плодороднее земли, там больше умерло/убито/уничтожено людей…» Одно из его заявлений. Его никто не любит. И не потому, что он чужой, дешевый предатель, просто он слишком умный и свободный, таких не будут терпеть даже философы, таких любят юродивые, потому что они ничего не понимают и не боятся чужих и своих мыслей.
Этот полицай рассказал мне о Лятошинском, когда я показал ему найденные ноты. Ему нравится эта музыка. «Музыка растерзанных собаками ангелов». Так он ее называет. «Боли человеческой, что не может высвободиться, бродит по всем желудочкам сердца, блуждает в крови». Он просил меня спасти Рихтера. Это музыкант или тоже композитор, я не совсем понял, он родился здесь, на этой земле, по национальности немец, полицай считает его гением и считает, что Сталин его убьет.
Помнишь, как я любил смотреть на огонь? Теперь это прошло, он всюду, прежде всего внутри меня, и я, незаметно для себя, стал принюхиваться к его запаху, надеясь ощутить сладковатый привкус в воздухе. Таково дыхание войны, оно не горькое, не кислое, не зловонное, оно – сладковатое.
Я могу писать тебе неустанно, не отрываясь от тебя, но возможность выпадает все реже и реже. Помни, что я люблю тебя, и что бы тебе ни рассказывали о любви, не забывай, как ощущали ее наши два мизинца, которые так не хотели разъединяться на вокзальной площади…»
Глава одиннадцатая
Просыпаться с тяжелой головой очень трудно, труднее, разве что просыпаться совсем без головы или, например, с чужой головой. Мой сегодняшний день был совершенно не распланированным, я хотела посидеть в Интернете, побродить по украинским сайтам, но позвонил дядя Артур.
«Привет, проснулась? Слушай, можно к тебе зайти?» Это было неожиданно. Я очень хотела с ним поговорить, особенно после того, как против этого разговора стеной встала вся моя семья, но, поскольку от дяди мне нужны были только украинские деловые связи, я решила, что буду говорить с ним, когда уже куплю билеты на самолет. Прежде всего, чтобы его не отвлекать и не загружать. И вот он сам объявился.
«Я целый день буду дома, заходи!» «Целый день мне не понадобится», – хмыкнул дядя. За это хмыканье его еще больше не любил Манфред, который считал, что каждым таким хмыканьем дядя усиливал впечатление от того, какой он крутой и занятой бизнесмен. Я относилась к этому проще.
Дядя Артур времени не терял, наверняка стоял уже под моими окнами, спустя мгновение он был здесь, в моей гостиной, сдержанный, элегантный и очень красивый. Я давно его не видела, за это время у него появилась бородка. Хорошо, что у нас не было принято целоваться, у меня неверное представление о бородках; я знаю, что она вряд ли колется, но я не доверяю этому знанию. Вот интересно, если человек решает завести себе не собачку, любовницу или еще кого-то, а бородку, это что-то означает? «Тебе идет бородка», – сказала я. «Это вынужденная мера. Меня оцарапал Цезарь». Если бы кто-то со стороны услышал этот разговор, мог бы предположить, что дядя работал укротителем хищников, или оцарапался сухариком из салата, или сбежал из сумасшедшего дома.
Цезарем звали дядиного попугая. Как по мне, это было существо с невыносимым характером, представитель породы с романтическим названием Розелла. Так зовут женщин в опереттах и итальянские яхты. Дядя его спас, увидел зимой на дереве рядом с шумными воробьями, забрался на дерево, приманил, принес к себе домой. Потом долго размещал объявления о том, что найден попугай, пусть отзовется хозяин. Хозяин не отозвался до сих пор. Уже спустя неделю после того, как Цезарь поселился у дяди, дяде стало понятно, что хозяин никогда не найдется, разве что для того, чтобы осчастливить дядю благодарственным письмом за то, что это существо отныне живет не у него.
Цезарь вырвал ноготь Зубатке, загадил дядину фирменную футболку, он размачивал корм и плевался им, и вообще вел себя, как несносные дети в американских тупых комедиях: гадил, портил воздух, подбрасывал в чай разную гадость, швырялся дерьмом, истерически хохотал, устраивал засады, короче – ни в чем себе не отказывал. Дядя его обожал, он уважал людей, существ и предметы с цельным характером. Пусть даже паскудным. Я тоже любила этого попугая, ведь он всегда мной интересовался. Его взгляд можно было охарактеризовать как угодно, но равнодушным назвать было нельзя.
Артур устроился в кресле, схватил журнальчик, начал листать и еще раз хмыкнул. В журнальчике он увидел Манфреда, это был как раз тот номер, в котором сообщалось о его победе. «Марта, а ты меня чаем не угостишь?» Я вскочила. Дядя в очередной раз хмыкнул. «Знаешь, моя секретарша как только увидит, что кто-то в приемной или в кабинете листает журнал, сразу готовит напитки, мне кажется, что она весьма профессиональна». Он ждал, что я отвечу: «Я не твоя секретарша». Такие фразы напоминали мне первые такты маршей. Очень немецкие. Манфред ответил бы именно так, разве что добавил бы крещендо. Но я сказала, что Артур всегда отличался умением подбирать персонал, вот если бы еще ему доверили выбирать родственников, он, несомненно, и тут бы не ошибся. Артур рассмеялся. «Ты права. Слушай, ты как будто не собираешься меня угощать, хотя все равно придется. Но вот что мне действительно интересно, как давно ты захотела меня увидеть и как давно об этом твоем желании знает моя сестра?»
Вот почему она молчала, мама. Не звонила, не дергала меня. Она занималась тем, что контролировала своего брата, а меня оставила в покое. Собственно, это было верной тактикой, я действую из духа противоречия, а Артур – ее младший брат, она старалась его убедить, что я буду грузить его всякой ерундой. Но самоуверенная старшая сестричка Агнес забыла о том, что маленький братишка Артур даже в детстве не считался с тем, что кто-то был старше него, в его системе координат Бог тоже имел право на ошибки, только потому и не создал его первым. И это не повод пренебрегать Библией, но это повод толковать ее в свою пользу.
«Мне понадобятся твои контакты в Украине. Собственно, все это связано с тем, что недавно умер папин отец, скончался от рака, был не в своем уме и, как выяснилось, не погиб во время Второй мировой. От него осталось несколько писем и других вещей, мне очень захотелось узнать о нем больше». «Понятно. Агнес начала меня окучивать, а это выглядело странно, до зимы еще далеко и я – не яблонька в ее саду, поэтому я потерпел, сколько смог, и приехал к тебе, чтобы разобраться, в чем дело. Агнес никак не может уяснить для себя, что я всегда имею дело с первоисточниками».
С помощью выражения лица дяди Артура можно тестировать уровень неуверенности человека в себе. У него такая линия губ и такие глаза, что всегда кажется: он вот-вот рассмеется. Неуверенные в себе люди расценивают это не как признак веселого нрава дяди, а как его откровенную насмешливость, сразу же начиная выискивать в себе нечто такое, над чем он насмехается. Я сама долго к этому привыкала, но так и не привыкла.
«Хочешь почитать письма деда?» Мне казалось, что прагматический взгляд Артура на вещи поможет мне разобраться в личности деда. «Нет, спасибо, я не испытываю потребности», – Артур слегка приподнялся в кресле, чтобы достать кое-что из кармана. Он вынул несколько карточек, одну протянул мне. «Это карточка украинского банка, можешь там ею воспользоваться, тебе так будет проще». «Спасибо». Я держала скользкий прямоугольник и понимала, что мне очень хочется спросить о сумме, но я знала, что не сделаю этого. Бывает, что степень неловкости зависит от степени признательности и от размера благодеяния. Меня эта степень может пришибить. Мне захотелось спросить у Артура, как поживает его жена, но я забыла, как ее звать. Ну не спрашивать же у него, как чувствует себя Зубатка.
«Ты не обиделась, что мне это не интересно? – опередил меня Артур. Я ответила на это распространенным плечевым маневром. – Понимаешь, вы все приложились к тому, чтобы я отстранился от семейных дел. Агнес понимает свою роль сестры исключительно как старшинство. Меня это не интересовало и в детстве, что уж говорить о сегодняшнем дне. О делах Манфреда я иногда читаю в печати. – Артур кивнул в сторону журнала. – Что касается Йохана, то достаточно знать, что он есть. Йохан, как Конституция. Конечно, если меня припрет, я вспомню в первую очередь о нем, если успею. Потому что он больше меня печется о репутации, а я, условно говоря, принадлежу к его семье. Я не успею рта открыть, как он уже обложится всеми необходимыми файлами. Ты мне самый близкий человек, но не настолько, пойми меня правильно, чтобы вникать в твою жизнь. Не говоря уже о жизни и смерти твоего деда по отцу».
Мне нравилась откровенность Артура. Я заверила его в том, что не обижаюсь. Он легко поднялся, вышел в коридор, это было неожиданно, и я замешкалась и не бросилась его провожать, но он тут же вернулся. С пакетом в руках. «Это тебе». Мятно-зеленый шарфик в маленьких черных саламандрах. Все со скрученными хвостами, наверняка счастливым считается тот, где у одной из ящериц хвост скручен в другую сторону. Артур улыбался. Я поспешно осматривала шарф, как ребенок распаковывает киндер-сюрприз, чтобы узнать, какая игрушка в нем спрятана. Счастливый или нет? «Счастливый? – Дядя хмыкнул. – Докопайся сама. Я вынул его из новой партии. Нравится?» Я одобрительно кивнула, шикарный шарфик. «Пока, сообщи, когда соберешься ехать, я маякну своим, чтобы тебя встретили». Я пообещала. Артур ушел.
Я влезла в свою почту и поняла, что давненько не реагировала на письма студентов. Открыла первое, второе, но отвечать не хотелось. Создала новую папку и перенесла письма туда, как-нибудь я уделю им внимание.
Я открыла страницу с картой Украины, черт возьми, ведь я ничего не знаю! Неужели ни одной ассоциации? Я закрыла глаза. Итак, Чернобыль – ядерная катастрофа. Красивые и дешевые женщины. Даже в моем почтовом ящике я находила рекламные листовки, в которых меня уговаривали отправиться в Украину в поисках невесты или девушки для сексуальных развлечений. Ну и братья Кличко. Я стала делать закладки. Проблема была в том, что ни украинского, ни русского я не знала, страниц на английском было маловато, на немецком – почти ничего не было. Даже концерн BMW – не знаю, почему я вообще о нем вспомнила – общался со мной, похоже, на русском. С другой стороны, зачем мне тащиться в Украину и покупать немецкую машину? А украинцам не нужны знания немецкого, чтобы ездить на автомобиле. Я задумалась, вот если бы покупка машин принуждала учить язык, что бы это было? Английский, японский и немецкий господствовали бы в мире. Например, Манфред щебетал бы на японском или никогда в жизни не купил бы свою хваленую «тойоту».
Вдруг мне захотелось выпить. И выпить хорошенько. В баре как раз было несколько бутылок испанского вина, заботливо подаренных мне мамой на случай, если мне встретится интересный мужчина. Видимо, поборник трезвой жизни, по мнению моей мамы, мне не светил.
И тут он позвонил, поборник трезвой жизни. Мой бывший, Оскар. «Я могу к тебе зайти в ближайшее время?» Мама работала на Артуровом фронте, а отец, оказывается, занимался Оскаром. Впрочем, отец не очень энергетически потратился: Оскар, если бы ему это позволили, с удовольствием кормился бы папочкиными микробами. Дело в том, что я не могла отказать Оскару в визите. Потому что для него это было доктринально-важно. Он, будто в латы, одевался в папины постулаты. Я начала говорить стихами.
У Оскара был такой вид, будто он собрался на фотосессию. Его костюм словно взывал ко мне: представляешь, сколько он приложил усилий? Собственно, лучше всего для костюма и Оскара было бы запаковать их в портплед или подвесить на вешалку, чтобы не измять, не заляпать. Я видела, что Оскар не знает, как начать разговор, но помогать ему не собиралась. Это вам не суд, господин адвокат, где судья всегда бросает реплики. Он уселся в кресло, в котором до него сидел Артур и стал листать тот же журнал, если бы рядом была секретарша Артура, Оскар непременно получил бы чай или кофе, но на меня это перелистывание не действовало. Я продолжала сидеть на диване с ноутом на коленах. Оскар молчал, он прекрасно знал, что его приобретенное и натренированное упрямство победит мое природное.
Поэтому я решила, что вполне можно поговорить о Ли. Его девушке. Они вместе работали. О ней несколько раз заводил речь мой отец, наверняка для того, чтобы я опомнилась и поняла, какое сокровище я откопала и отдала неизвестно кому, не оставив себе даже процентов. Вообще-то я думала, что Ли китаянка, поэтому мой вопрос был таким: «Слушай, отец рассказывал мне о твоей девушке. Ли. А чем ее пытали в детстве – гимнастическими снарядами или пианино?» Победители архитектурного конкурса шлепнулись на пол. «Извини?» Я повторила вопрос. Оскар смотрел на меня взглядом, в котором смешалось удивление и недоверие. Наверное, заподозрил, что я что-то знаю о Ли. А он – нет.
«Ты совсем не интересуешься европейской документалистикой по правам человека, – начала я. – А то знал бы, что в Китае детей сызмальства готовят к блестящему спортивному или музыкальному будущему, чтобы вырваться из нищеты». «А какое отношение Ли имеет к Китаю?» «Непосредственное, я думаю». «С какой стати ты так думаешь?» Оскар так и не научился не реагировать на шпильки. А отец столько сил приложил. И напрасно. Оскар встал. «А. Дошло. Ты так решила из-за имени, да?» Я подтвердила его догадку. «Знаешь, а хорошо, что ты не пошла по судейской стезе, очень хорошо. Общество от этого только выиграло. Потому что Ли на самом деле Лисель». И тут я начала хохотать. Даже не потому, что ошиблась, а потому, что знала значение этого имени. Лисель. О, Оскар все продумал, он даже девушку выбрал с судейским именем «Моя присяга». Это должно стать супружеской шуткой, они ведь обязательно выбьются в судьи. Его честь, по имени – Копье Бога, и Ее честь, по имени – Моя Присяга, прелестно.
Оскар сложил руки на груди. Сдерживает праведный гнев. Можно было бы предложить ему винца, но он воспримет это однозначно: что я решила его соблазнить, вернуть, прижать к груди. Конечно, можно бы было в это поиграть. Но вина жалко. Тут я вспомнила, что мне нужно послушать музыку Лятошинского, ноты были вложены в письмо деда, которое прислал мне Боно. На пианино играла мама, но просить ее сыграть было бы напрасным трудом. «Я не буду играть прошлым, хватит того, что в него заигралась ты», – отрезала бы она. Я будто слышала ее голос; когда мама старалась быть серьезной и хотела, чтобы именно так ее воспринимали, ее голос становился таким сухим: чуть придави – и он жесткими крошками расцарапает ей гортань.
«Оскар, а ты играешь на пианино?» «Что ты вцепилась в это пианино? Нет, Ли не играет, я не играю, что еще?» «Собственно, это ты ко мне пришел, а не я к тебе. Видимо, с вопросом, если не потерял его по дороге. Только вот извини, мне пора уходить». Я стала сновать по квартире, собирать вещи. Оскар молча бесился, но поделать ничего не мог, скажет отцу, что я окончательно утратила здравый рассудок, узнала, что он не играет на пианино, и выперла его из дома. Странно, но Оскар все еще не исчез, стоял и наблюдал за мной.
Я же натянула на себя черные джинсы, а сейчас искала черный бюстгальтер и свитер. Вообще все это выглядело так, будто я была не у себя дома, а у Оскара и вот-вот к нам должна была нагрянуть Ли, поэтому я собиралась, как в лихорадке. «Ты в трауре?» – донеслись до меня его слова. «Нет, мне доверили роль Багиры в школьной постановке. Ты, часом, не видел мой хвост?» Оскар наконец-то убрался. Если он теперь будет чувствовать себя счастливым из-за того, что мы с ним не вместе, я за него буду рада. Если бы не влияние отца, он давно бы уже и не вспоминал обо мне, но влияние отца было сильнее всех любовных увлечений Оскара.
Спустя некоторое время, прихватив ноты, выбралась из дому и я. Когда вышла на улицу, поняла, что представления не имею, кто из моих знакомых играет на пианино и куда мне податься. Может, Наташа. Не удивлюсь. В последнее время создается впечатление, что она умеет все и способна на все.
Впрочем, на всякий случай я позвонила по телефону Агате Райс. «Привет, слушай, кто-нибудь из твоих знакомых умеет играть на пианино?» «Шопена? – скептично поинтересовалась Агата. – Или еще что-нибудь, что играют на траурных вечерах?» «На траурных вечерах играют?» «Конечно». «Собственно, мне нужно, чтобы кто-то сыграл мне по нотам, которые у меня есть. Это ноты, которые достались мне от деда». «Зайди в консерваторию, наверняка там таких много. Хотя и там больше ждут свежих булочек и кофе, чем очередную партитуру. Опять твой дед. Беседа про деда. Даже я уже не могу всего этого слышать, ты вообще понимаешь, как переживает из-за тебя Агнес? Эгоистичные деточки. Вот почему у меня вас нет. Это единственные создания, опережающие меня в эгоизме. Марта, чего тебе неймется?»
«Агата, я серьезно. Мне очень нужно услышать эту музыку». «Хорошо, записывай адресок. Его звать Берц. Я сейчас предупрежу его, что ты зайдешь». «Спасибо тебе!»
Ступеньки, ведущие к квартире Берца, напоминали жирафов. Выгнутые и длинношеие со щербинами, похожими на темные пятнышки.
Берц открыл мне дверь и тут же отступил в глубь комнаты, будто что-то его втянуло. И что-то мощное, потому что с виду он был крепким мужиком. На самом деле, если бы мне показали его фотокарточку среди других и попросили выбрать пианиста, его бы я не выбрала. Пальцы Берца больше всего напоминали стручки бобов, под кожурой уже сформировались крупные зернышки. «Я Марта, от Агаты», – представилась я, Берц пожал мне руку, будто завернул в свою, бобово-пальцевую, его кожа оказалась бархатной, я пришла в изумление, потому что почувствовала возбуждение. «Заходите».
В этой комнате не было пианино. Ковер, круглый стол, посреди которого жмурился толстый черепаховый кот. Два стула и кресло, похожее на гинекологическое. Конечно, Манфред мог бы выдумать и такой инструмент, лишь бы был заказ. «Располагайтесь», – кивнул Берц в сторону кресла. Ума не приложу, с какого перепуга я его послушалась. «Сначала стоило бы раздеться. Не волнуйся, холодно тебе не будет. Разве что в первый момент». «Вы – пианист?» Зачем я об этом спросила – кто знает? «Берц – Пианист. Да. Меня часто так называют. Вообще-то я – Джеркоф [6] ». Он выставил мне навстречу два средних пальца, чем напомнил мне «козу» нашего семейного поверенного Олафа.
Я кашлянула. «Какое-то недоразумение, я пришла, чтобы послушать вот это». Я вынула из папки ноты, протянула Берцу. Какое-то время он их изучал. «В этом ритме? Без проблем, но я не знаю, как быстро ты кончишь, хотя это тоже не проблема, если у тебя есть время. У меня времени полно. Выглядит это интересно». Он кивнул головой в сторону партитуры. «Ты сама это придумала?» «Это Лятошинский», – растерялась я. «Славяне гораздо больше знают толк в сексе, чем принято считать. Наверное, именно этот метод – результат влияния классики. У них балет, да? Опера, да? Ты славянка?» «Нет. Это музыка Лятошинского». «Я о другом. Ты давно придумала, чтобы тебя удовлетворяли в музыкальных ритмах? Кто был первым? Бах, да?»
В последнее время почти все мои разговоры выглядели слегка фантасмагорическими, но этот переплюнул все остальные. Продолжать разговор стоило бы, если бы я была меньше женщиной, а больше – философом или пост модернистом, но я была женщиной, поэтому разделась.
Я даже подумать не могла, что прослушаю сонату № 1 Op. 13 для фортепиано Бориса Лятошинского именно так, как я прослушала ее сегодня. Два оргазма, могло бы быть больше, если бы поначалу я не была такой сконцентрированной, собственно, на технике.
Поскольку я не знала, целуют ли на прощание джеркофов, я пожала ему пальцы. Невероятные ощущения. Кроме того, это выглядело уместным. Спустившись по жирафовым ступенькам, я написала смс Агате: «Спасибо за пианиста. Исполнение безупречное. Получила удовольствие. Дважды». Агата прислала в ответ два восклицательных знака и один вопросительный. «Не смогла поначалу расслабиться». Я утолила ее любопытство. Не знаю, насколько Агата разбиралась в Карлсоне, но в женщинах она разбиралась превосходно. «Эта женщина себя любит превыше всего», – подумала я, вспоминая пальцы-бобы Берца.
Когда я вернулась домой, состояние у меня был странное. Снова захотелось выпить. Интересно, что обычно секс следовал после алкоголя, а сейчас произошло все наоборот. Я в зазеркалье.
После того как первая бутылка опустела, я решила, что мне срочно нужно лететь в Украину. Деньги Артур принес. Я знала, куда мне нужно ехать. Конечно, можно было продолжать искать информацию и тут, но я уже дошла до точки. До точки G. Поэтому я заказала билеты в Украину на завтра, написала письма Оресту, дяде Артуру, Наташе, Франку и людям, координаты которых мне дала Катарина, чтобы меня встретили.
Наташа позвонила в тот момент, когда я уже в третий раз набирала текст письма отцу, два написанных ранее были уничтожены. Это ужасно – относиться к собственному отцу в большей степени как к судье, чем как к родственнику, тщательно подбирая слова. С другой стороны, возможно, как раз наши родственники и заслуживают нашего более тщательного подбора слов, чем судьи.
«Привет, так ты завтра летишь?» «Да. Слушай, хотела у тебя спросить, ментально поляки и украинцы схожи? Потому что мне как-то страшновато». «Тебя попустит, если я скажу, что схожи, или наоборот?» Я откупоривала вторую бутылку, поэтому проигнорировала ее слова. «Марта, Марта! Ты здесь?» «Эй. Не хочешь со мной выпить?» «Ты пьяная?» «Да. Я сегодня была в гостях у одного пианиста. Должна тебе сказать, что так мне еще никто не играл. Даже Дерек». Я услышала, как Наташа спрашивает Дерека, умеет ли он играть на пианино, и расхохоталась.
«Марта?» Мне показалось, что я давно не слышала его голоса. Ему не нужно уметь играть, ему достаточно было говорить со мной. «Привет». Выдохнула я так же, как когда-то на одном выдохе «я люблю тебя». «Привет. Так ты завтра отправляешься в Украину?» «Да». «Наташа говорит, что ты под хмельком, это так?» «Так. Сегодня ко мне заходил Оскар». «В связи с чем?» «Наверняка выполнял распоряжение отца. Но вышло так, что мы говорили о его девушке. Она тоже не играет на пианино. Ее звать Лисель». «Лисель? Так называется дополнительный парус, который помогает прямым парусам увеличить их площадь, когда дует попутный. Они бывают разными». «Да? И какими же?» «Брам-лисели, которые со стороны брамселей. Марса-лисели, которые со стороны марселей. И ундер-лисели, которые…» «Очень познавательно. Почти как Кама Сутра. Зависимость прямого паруса от лиселей. Значит, лисель увеличивает прямой парус? Звучит даже как-то эротично. Правильно, что он ее выбрал. Правда? Он всегда стремился к увеличению. Основного паруса». «Ого. К тебе приехать?» «Нет, я буду собираться, а вы будете меня отвлекать». Телефон я отключила.
Как я собиралась, я помню плохо, потому что принялась за третью бутылку. Я никогда так не напивалась. Успела только подумать, хорошо, что самолет не утром, потому что могла бы проспать. Чемодан напоминал мешок с собранной осенней листвой и ветками – со всех сторон что-то выпирало. «Значит полный», – сделала вывод я. Потом улеглась спать. Проснулась около двух часов ночи, невыносимо хотелось пить и в туалет. В моем состоянии трудно было выбрать, поэтому я отправилась в туалет с бутылкой воды.
Ноут будто включился сам. Я создала новое письмо, выбрала в качестве адресата Оскара и написала все, что Дерек мне сообщил о лиселях. Приписала, что это письмо Оскар должен отправить моему отцу с маленькой припиской, что с завтрашнего дня я буду находиться в Украине. И мы с ноутом отключились.
В самолете я вспомнила, как Манфред принялся безумно напиваться в автобусе, который вез нас в Испанию на отдых. Тогда пили чуть ли не все в автобусе и никто не смотрел на нас с осуждением, кроме испанцев, которые нас встречали. Я была умнее, я не стала позориться на весь самолет перед незнакомыми людьми, я все успела сделать заранее, наделав глупостей здесь, дома. Благочестивая Марта. Я заказала уже третий пластиковый стакан воды.
Глава двенадцатая
В самолете я открывала и читала все полученные утром инструкции, в голове ужасно гудело, я подумала, что примерно так должен чувствовать себя улей, но для него это естественное состояние, а для меня – нет. Писем было много: от Артура, от Ореста, от Наташи, от Лили Манюк, от Франца. В почтовый ящик мне кто-то положил пакет украинской мобильной связи с подробной инструкцией, как им пользоваться. На симку уже было внесено несколько нужных мне номеров. Мне даже не хватало сил и времени до конца произнести самой себе: «Что я собственно делаю?» Я останавливалась на слове «я», а потом снова возвращалась к слову «что», производя впечатление ребенка, которому задали проигрывать гаммы, а он не может решиться зайти дальше ноты «ре». Доредо. Чтоячто.
Рядом со мной сидел седой мужчина, сначала я решила, что он фотограф, потом – что заказчик рекламы, и только позже я догадалась, что он – жених. Он просматривал альбом с девушками. Я была ему признательна за то, что он не пытался со мной советоваться.
Как-то непривычно было приземлиться так быстро. Удивительно, иногда в другой конец Берлина добираться дольше. А тут – другая страна. Работало только одно окошко с пограничниками, которые должны были проштамповать мне паспорт. Не знаю почему, но я их боялась. Я стояла даже не в очереди, в толпе, люди прибывали, но другие окна не открывались, хотя пограничники у всех на виду общались, отвлекали того, кто работал в этом единственном окне, хихикали и о чем-то переговаривались по рациям.
Я долго ждала получения багажа. По багажной ленте ползали чьи-то сумки, чемоданы, полосатые мешки и нечто похожее на запакованные кальяны. Своего чемоданчика я не видела. На табло светился номер моего рейса. Я подошла к кофейному автомату, вспомнив, что могу использовать пять гривен, которые, к счастью, дал мне Орест. Автомат медленно выплюнул купюру, презрительно вылупился на меня огоньками-глазенками, так же делал Тролль, когда старался проглотить какую-то несъедобную гадость. Ко мне подошел тот самый немец-жених и сказал, что у автомата или закончился кофе, или стаканы. Я поблагодарила и спросила, не знает ли он, что с нашим багажом. Он сказал, что сейчас багаж запустят по ленте, нужно немного подождать.
«Должны ведь были раньше запустить». – Я кивнула головой в сторону табло, где все еще был указан наш рейс. «Да нет. Пока выгружается чартер из Турции. Вы разве не заметили засилье кальянов?» Я сказала, что заметила, но не сопоставила факты. «Вы здесь впервые? Тут не стоит читать надписи, кроме того, вы же не знаете языка? Тут нужно следить за событиями, людьми и вещами. Никогда не верьте тому, что написано. Когда-то Ленин выступал с лозунгами «Землям – крестьянам», и что, видели они эту землю? Другие вопили: «Земля и воля!» И где они, у кого? А еще кое-кто визжал «бандитам – тюрьмы!» И что, видели этих бандитов эти тюрьмы? Я уже не говорю о «лучшее – детям» и «я выполню все свои обещания» – на каждом политическом плакате».
Поскольку я была не готова к таким дискуссиям после выпитого, да и вообще, я ограничилась дежурной благодарностью. Но мы стояли и ждали багаж, поэтому я спросила, не работал ли он в Штази. «Если восточник, так обязательно работал в Штази? Вот как раз из-за такого отношения мы никак не можем почувствовать себя объединенными. Это все равно, что укладываться в одну постель и всякий раз спрашивать, а ты, часом, не больна СПИДом?» Еще никогда в жизни я так не радовалась своему чемодану. Хорошо, что вещи нас не поучают, хотя иногда прячутся, наверное, когда мы их допекаем. Я сразу выхватила чемоданчик, простилась с обидчивым восточником и шагнула в зеленый коридор. Таможенников я не заинтересовала.
Меня встретил адский шум. Площадь была маленькой, сплошь плотно забита людьми. Я впервые почувствовала себя человеком, на наследство которого явно претендовала куча народа. Меня встречали пятеро. Все мои советчики побеспокоились обо мне и устроили так, чтобы меня встретили. Я не знала, кого выбрать, и, пока здоровалась со всеми, выбор за меня сделал коренастый усатый мужик. Он сказал, что он – кум, то бишь, родственник Ореста, звать его пан Грыць и что мне ни о чем не нужно особо волноваться. Собственно, убедила меня не его уверенность, и не вера в Ореста, и даже не то, что он схватил мой чемодан, а то, что произнес он все это на вполне уверенном немецком.
Мы подошли к «фольксвагену» пана Грыця, возле которого спокойно стоял и наблюдал за людьми, вещами и событиями восточник. «Это – пан Шольц», – весело сказал мне пан Грыць. «Адам», – добавил восточник. «Мммм», – ответила я, чувствуя себя при этом фермерской коровой. Адам Шольц уселся рядом с паном Грыцем, я устроилась на заднем сиденье. «Сейчас мы подбросим Шольца до отеля, он будет готовиться к ужину, а я тем временем домчу вас до Житомира. Вот такие наши планы», – подмигнул мне пан Грыць, прогревая мотор. «А можно приобщиться к вашему планированию?» – спросила я вкрадчиво. «Западники. Противники прямохождения, все окольными путями, кругами, как лисий хвост. Это хорошо в сексе, (они знают толк в любовных прелюдиях и фугах, это доказал еще Бах), но с трудом воспринимается в жизни. Чем вам не нравятся наши планы, Марта?»
Пан Грыць весело расхохотался, я молчала, а Адам спросил, что так развеселило нашего сопровождающего. «Да разделение это. У нас то же самое: восточные, западные. Но мы же все – люди. Мужикам нужны бабы, бабам – мужики. Разве нет?» Мы с Адамом дружно «дакнули», продемонстрировав на мгновение момент языкового и ментального единения, как тогда, когда рушилась Берлинская стена. Я подумала, что Адам Шольц очень напоминает мне моего отца. «Вы не судья?» «Вас клинит на юридической тематике? То агент Штази, то судья. Я восточник». Мы засмеялись. Он продолжил: «Преподаю политическую экономию в странах Восточной Европы». «А сюда он приехал искать себе подружку! – подключился к нашему разговору пан Грыць. – А у меня специальное агентство, вам Орест не говорил?» Нет, Орест мне об этом не говорил. Пан Грыць достал из бардачка несколько цветных проспектов. Я развернула: девушки, женщины, толстушки и худышки, красивые и не очень, побитые жизнью и те, что разбивают эту жизнь сами. «Зачем мне это?» «У женщины всегда есть мужчины, на которых она не претендует. Отцы. Отчимы. Дядья. Братья. Кузены. Всякие нахалы, от которых хочется избавиться. Ведь правда?» Мне, обладательнице полного комплекта, за исключением разве что нахалов, нечего было возразить.
«И как же вы хотели скорректировать наши планы, Марта?» «Я хотела, чтобы сначала меня отвезли в Бабий Яр. Вы со мной? Или у восточников индульгенция?» Адам сказал, что не впервые в Украине, поэтому особого желания еще раз пройтись по Яру он не испытывает. «Мы подождем вас в машине». «Извините за такой странный вопрос, но как там нужно себя вести, чтобы это нормально воспринималось другими?» «Вы же не собираетесь устраивать там пивной фестиваль?» – скептически заметил Адам. Пан Грыць повернулся ко мне и тихо сказал: «Вы не переживайте, есть такие места, которые вполне могут подсказать нам, людям, как нужно себя вести, следует только прислушаться к ним. Уверен, вы из тех, кто прислушается».
Я шла по парку, под ногами шуршала осенняя листва, похоже на затихающие аплодисменты. «Здесь не место даже таким аплодисментам», – подумалось мне. Деревья не царапали мне лицо, бурлила жизнь, ребята играли в футбол, какие-то люди пили водку, присев возле расстеленной на траве клеенки. Между деревьями время от времени появлялась маленькая черная собачка, напоминающая своими торчащими ушками карикатурного чертика. Она каждый раз озиралась, звала хозяина или приглашала кого-то присоединиться к ней. Возле Меноры стоял мужчина с цветами, белые лилии, долговязые цветы, как венценосные журавли. Сначала меня трясло, как в лихорадке, но внезапно все прекратилось, как ничего и не бывало, я ощутила легкость, поклонилась Меноре, положила небольшой букетик цветов, который передала мне Лилия Манюк, немного молча постояла и пошла дальше. Мужчина с лилиями не обратил на меня внимания, у него были свои собеседники.
Не знаю, почему я подошла к этому кресту. Вроде бы и не собиралась, странно было едва ли не впервые довериться своим ногам. Возле креста застыли молодые люди: парень и девушка с калиновыми ветками держались за руки так, будто передавали информацию. Горечь калиновых ягод витала в воздухе, не растворяясь, а доминируя. В отличие от молчаливого дяденьки с охапкой лилий, молодые люди повернулись ко мне и пригласили подойти поближе. Я поздоровалась по-немецки, потом по-английски. Они ответили. «Здесь погибли ваши близкие?» «Здесь были убиты украинские повстанцы, известная поэтесса Елена Телига. Вы немка или из Австрии?» «Немка». «Любопытно, что у вас романтические и лирические поэты тоже имели гражданскую позицию. В частности, Гейне». Я не представляю себе, что могла бы встретить где-то на кладбище немецкого парня, который начал бы рассказывать мне о Гейне, я уж не говорю об иностранном поэте, поэтому я смотрела на собеседника, как на чудо света. «Только у нас героями и поэтами чаще были женщины», – добавила девушка. Парень легонько толкнул ее, и они стали спорить, видимо, на украинском. Я подумала, что мне хочется что-то положить к кресту, у меня был еще один букетик с лилиями, маргаритками и розами от Лили Манюк, я его бережно прислонила к букетам, калиновым и рябиновым веткам. Девушка с парнем уже помирились, обнялись, и читали вслух стихотворение. Я записала эти голоса на диктофон:
«Зловіщий брязкіт днів, що б’ються на кавалки,
І жах ночей, що затискають плач.
Ти, зраджений життям, яке любив так палко,
Відчуй найглибше, але все пробач.
Здається, падав сніг? Здається, буде свято?
Розквітли квіти? Зараз, чи давно?
О, як байдуже все, коли душа зім’ята,
Сліпа, безкрила – сунеться на дно.
А ти її лови, тримай, тягни нагору!
Греби скоріше і пливи, пливи!
Повір: незнане щось у невідому пору
Тебе зустріне радісним – живи!
Тоді заблисне сніг, зашепотіють квіти
І підповзуть, мов нитка провідна.
Ти приймеш знов життя і так захочеш жити,
Його пізнавши глибоко, до дна».
Уходя, я оглянулась, они приветливо махнули калиновым букетом, до меня донеслась его горечь.
Машина тут же заполнилась моим тихим дыханием и молчанием. Пан Грыць ничего не спрашивал, мы тронулись. Выходя из машины у своего отеля, Адам приветливо помахал мне: «Удачи!» Я тоже пожелала ему удачи, а потом спросила пана Грыця, трудно ли в современных условиях содержать бордель. Он весело хохотнул. «Ну, вы такое скажете, Марта. Какой же это бордель? Это агентство знакомств. Мои девочки не все хотят замуж. Кто-то хочет внимания и подарков. Кто-то Европу увидеть, попутешествовать. Кому-то заграничный жених нужен для престижа. Разные есть случаи. Да и немчикам наши девушки в любой ипостаси годятся, потому что умеют все, неприхотливые, красивые, что еще нужно?» И ведь правда.
Села Киевщины и Житомирщины протянулись вдоль основной трассы. Удивительно, но лишь редкие поселки прорастали вглубь, как будто боялись, что там их поглотит земля. Пан Грыць был внимательным спутником, он комментировал только то, что меня интересовало, иногда обращая мое внимание на то, что я оставила без своего внимания.
До Житомира мы доехали быстро, хотя основная трасса, по словам пана Грыця, ремонтировалась к Евро-2012. Рабочих я не видела, зато какие-то люди жгли ветки вдоль дороги, которую должны были ремонтировать. Когда я указала на это пану Грыцю, он привычно хохотнул и сказал, что людям нужно отдыхать и греться. Впереди меня ждал сюрприз, мой отель находился на площади Победы. На это пан Грыць сказал, что он поселил меня здесь умышленно, потому что это очень удобное место с социальной инфраструктурой и объяснять, куда тебе нужно, если заблудишься, легко. Мы как раз проезжали мимо танка, я почувствовала, как поджались мои губы. «Здесь стоит танк», – вырвалось у меня. «Этот не стреляет и даже не наползает», – ответил мне пан Грыць.
За стойкой стояла ламинированная блондинка. Лицо у нее было тоже будто ламинированное, прямо блестело. Она взяла мой паспорт и что-то сказала. «Что?» – спросила я у пана Грыця. «Спрашивает, как твоя фамилия по-украински». «Но я немка». «Она это видит, но прочитать не может. Марта, ты пока что давай – выбирай себе завтрак». Пан Грыць пододвинул ко мне непонятную конструкцию, в которой были пристроены листы с бледными надписями и печатями, все это было на украинском или на русском, я ровным счетом ничего не понимала. Пан Грыць бодро заполнял какие-то бланки. «Сколько ты здесь будешь находиться?» «Трое суток», – ответила я. «Ладненько. Определилась с едой?» «Я ничего не понимаю». «Ох, грехи мои тяжкие. Какое там Евро-2012, – заворчал пан Грыць. – Смотри, вариант номер один: оладушки из кабачков, салат с капустой и колбасой. Вариант номер два: овсяная каша и сырники». Я постеснялась спросить, что это такое, наугад выбрала второй. «Вообще я тебе советую выйти из отеля и позавтракать или в пиццерии, или в кондитерской».
Номер был маленьким и неуютным, кровать своими размерами напоминала полку в поезде. С моим ростом будет трудновато. Пан Грыць ушел, сказал, что я могу ему звонить по телефону в любое время, а сейчас он на «колбасы к родичам», поэтому дергать его было неудобно. Коврик под кроватью был такого размера, что вместиться на нем могли либо только ноги, либо только туловище. «Ты же не лежать на нем собралась», – мне будто послышался голос восточника Адама. Лежать я на нем точно не собиралась, он был в розах. Только теперь я поняла, что такое чайная роза, эти ковровые розы были цвета спитой заварки. Бррр.
Я разобрала чемодан, обнаружила шкаф, развесила вещи. Полезла в душ, повернула кран и взвизгнула от холода. Потом, вспомнив, что сталкивалась с таким в Восточной Германии, попробовала открыть кран не с красной меткой, а с синей (сантехники-восточники были еще теми шутниками), вдруг оттуда будет течь горячая вода. Дудки. Я закрутила оба крана, а потом снова открыла тот, что с красной меткой. Вдруг случится чудо. Спустя минут пять чудо и правда случилось, вода стала теплее. Я приняла душ и вымыла голову, шампунь из пакета, который плюнул и попал мне в глаз, оказался неплохим, мои волосы всегда дают знать о таком.
Пульт от телевизора выглядел так, будто перенес несколько ножевых ранений. Как ни странно, он работал, но возбуждал желание каждый раз помыть после него руки. Я подошла к рукомойнику и увидела в нем волосы. Как это было гадко. Волосы был темнее, чем мои, значит, это были чужие волосы. Я попыталась их смыть, но они не смывались, потом до меня дошло, что это трещинки. В окно я старалась не смотреть, помня о танке, но шторы раздвинула, так как они были психоделических цветов.
На телеэкране появилась Ангела Меркель и другие наши официальные лица, я от неожиданности поздоровалась с ними, хотя создавалось впечатление, что все они говорили на другом языке, поэтому казались ненастоящими. Я решила, что пора ложиться спать. Одеяло было теплым, я пыталась устроиться удобнее и тут услышала голос бачка от унитаза. Я спустила воду, он вроде не протекал, но сейчас в него с шумом набиралась вода. Я подумала, что это невыносимая пытка для тех, кто пережил наводнение. Вспомнились поляки и Наташа.
Утром я поняла, что накаркала себе поляков, они заполнили холл отеля, я не видела столько поляков даже в варшавском аэропорту. Захотелось предупредить их о коварности местных бачков, но как это сделать, я не знала. Интересно, что все они здесь забыли? Завтракать я пошла в разрекламированную паном Грыцем пиццерию. Блинчики с творогом и маком гарантировали простое вкусовое удовольствие.
Окна выходили на бледно-серый храм, похожий на затертый пальцем эскиз художника. Из-за этого он выглядел величественным и таинственным. Храм своими купольными крестами будто перечеркивал или же отрицал небо.
Хотя я планировала прогуляться к польскому костелу (неужели все эти поляки собрались навестить его?), сначала я попала на территорию православного Воздвиженского храма. Было тихо, почти безлюдно, только какой-то мужчина метался между тремя кострами, подбрасывая ветки и мусор. Складывалось впечатление, что здесь сжигают последних ведьм. Черные вороны кружили в небе, подбадривая, а может, проклиная, несчастных.
Я поклонилась и пошла дальше. Возле католического костела, забившись в уголок между двумя стенами, сидела бабушка и торговала мелкими пороками, на первом плане красовались сигареты. На остановке дожидались трамвая или троллейбуса поглощенные заботами люди. Я зашла на территорию и сфотографировала костел во всех возможных ракурсах, почему-то показалось, что это будет хорошим подарком Наташе. Телефон пана Грыця не отвечал, колбасный праздник затягивал и затягивался. Я не знала, как добраться до музыкальной школы Лятошинского, чтобы подарить оставленные дедом ноты.
Какой-то мужчина отреагировал на мой растерянный взгляд, на английском языке поинтересовался, что мне нужно. Я сказала, что мне нужна музыкальная школа. Он поинтересовался, не немка ли я, я это подтвердила, тогда он нашел мне такси и дал инструкции шоферу. Я не поняла этих инструкций, кроме того, что мне нужно заплатить 15 гривен, но была счастлива выскочить возле нужного мне здания.
Радовалась я рано, так как это была не музыкальная школа имени Лятошинского, а музыкальная школа имени Рихтера. Это мне на неплохом английском разъяснил человек со скрипкой. Я спросила, как мне найти музыкальную школу Лятошинского, так как мне нужна именно она. «А чем вам не подходит Рихтера? Мы бы провели вам экскурсию». Я поблагодарила и сказала, что в следующий раз точно воспользуюсь его любезным предложением, но сейчас мне нужна другая музыкальная школа. Скрипач оторвал полоску от свернутой газеты, торчавшей из кармана, написал мне адрес: «Михайловская, 5». И велел показать этот клочок бумаги таксисту.
Что я и сделала, и в скором времени была на месте. Таксист буркнул что-то непонятное, я рассчиталась, вышла из машины и оказалась на маленькой улочке. Вскоре я изучила все, что здесь находилось. Все казалось мне таким родным, но дома номер пять нигде не было. Был седьмой. Одиннадцатый и девятый. Был третий и все остальные, но пятого не было. Люди шарахались от моих вопросов, и я чувствовала себя фанатом какого-то вымышленного книжного персонажа, который упрямо разыскивает вымышленный писателем адрес, где на протяжении семисот страниц жил любимый герой.
Смеркалось, а я все никак не могла найти этот дом. Уставшая, я собралась с силами и вернулась к отелю, даже поняла, что он находится не так далеко от таинственной улицы Михайловской, которая припрятала дом № 5 в своих недрах.
Я рано улеглась спать, так как делать было ничего, и я не знала, кто бы мог составить мне компанию; засыпая, подумала, нашел ли Адам невесту или девушку, которая разделяет его точку зрения на прелюдии к сексу? Меня разбудила смс пана Грыця, в которой он сообщал мне, что мы встретимся завтра вечером и тогда он весь мой, а сейчас он поехал в Киев, разбираться с проблемами Адама. «Еще не нашел», – констатировала я и снова уснула.
Следующим утром я самостоятельно, пешком, добралась до улицы Михайловской. Уличные художники выставляли свои картины, выражения лиц у людей были совершенно другими. Одновременно разомлевшими и заинтересованными. Выходной. На этот раз, припоминая советы Адама, я решила никого ни о чем не спрашивать, а слушать. Музыку. Музыка меня не подвела, неуверенные фортепьянные пассажи, без конца повторяющиеся, вывели меня на задворки, а потом и к зданию, где находилась музыкальная школа, вокруг царил ремонт. Я сфотографировала трогательную табличку, которая выглядела так, будто долгое время лежала под ногами, затертая и несчастная, с сиротско-нищенским взглядом: кверху. Я подумала, что эта табличка связана с Лятошинским, захотелось показать это Ханне.
Я вошла. В небольшой комнате сидела дамочка. Как я поняла, она увлекалась выращиванием цветов, которые были расставлены всюду и во всех возможных для этого емкостях. На меня она глянула сурово, будто оценивала, подхожу я растениям или нет. Вне всяких сомнений, я не подходила, так как дамочка потеряла ко мне интерес. Я попробовала с ней заговорить, она не испугалась и не пришла в смущение, вообще создавалось впечатление, что она прекрасно меня понимает, но у нее нет желания со мной говорить. Она непрерывно будто жевала что-то. Ее прическа напоминала мне гнездышко какой-то речной птички, свитое самцом. В прическе тоже обитал цветок, нахально-пунцовая роза.
Я уж не знала, чем могла бы ее заинтересовать, и тут к нам вышла девочка с папкой для нот на веревочных ручках, будто пожеванных не одной собачкой, она внимательно прислушалась и присмотрелась ко мне и конкретно, грубовато спросила: «Ну и что тебе нужно?» на английском. Я объяснила, вынула ноты. Я объясняла, старательно выделяя каждое слово. «Ты говоришь как глухая. Тебе нужно было пригласить телевидение. Я это сделаю! Только завтра, сегодня мне нужно готовить уроки на вторник и погулять с Маричкой. Я ей обещала. Ты живешь в отеле? Как мы можем тебя найти?» Я представила себе, как они с Маричкой придут ко мне в гости. Но все же назвала свой отель и оставила свой номер телефона. «У тебя немодная мобилка», – заметила девочка, тут же достала розовато-пепельный смартфон и сказала: «Купи себе такой. Он почти не глючит». Я порадовалась за уровень знаний иностранного языка местных девочек и их познания в технике. «Пока», – сказала она мне, осторожно вкладывая ноты Лятошинского в свою потрепанную папку. «Я не потеряю!» Для дамочки с растениями мы были телевизионной программой, которую она давно переключила на что-то другое, она не ответила на мое вежливое прощание.
Я вышла из школы с чувством выполненного долга. Не знаю, одобрил бы меня дед, или даже Манфред. Относительно Манфреда – очень сомневаюсь. Не знаю почему, но я подошла к художникам. На одной из картин было изображено персиковое дерево, на котором одновременно были цветки и плоды. Я присела, чтобы рассмотреть технику, и вдруг услышала какие-то слова, ощутила руки на своих бедрах, резко повернулась и оттолкнула вора, который кричал что-то типа: «Майка, это ты, зараза?»
Молодой мужчина валялся на земле. В его руках, будто черноротые птенцы, раскрыли на меня свои клювы карманы моего же пиджака. «Какого черта?» – спросила я на немецком, прекрасно сознавая, что меня не поймут. Но вдруг услышала: «Вы немка? Это ж надо, какой хороший знак!»
«Какой еще знак?» «Явно хороший. Представьте, я вернулся в этот город, чтобы доказать, что моя мать еврейка и носит еврейскую фамилию, чтобы в свою очередь доказать свое еврейство и потом податься по еврейской линии в Германию, где к этому времени уже успеют оценить мой научный проект, и вот – встречаю настоящую немку. А значит, у меня все сложится, вопреки всем проблемам и бюрократическому абсурду». «Проект также еврейский?» «Да нет. Универсальный».
Он восторженно смотрел на меня. Я сделала попытку помочь ему встать. «Да ну что вы. Я и сам в состоянии. Господи, но что я сделал с вашим пиджаком. Слушайте, вы очень спешите?» «Нет». «В этом театре, кукольном, работает подруга моей тетки, давайте я занесу туда ваш пиджак, она из него куколку сделает!» «Что сделает?» «Это метафорически. Пришьет вам карманы, пиджак будет как новенький». «Было бы неплохо. Только пусть не вшивает туда неведомых мне зверушек, которые будут вгрызаться в мои пальцы всякий раз, когда им не понравится то, что я кладу в карманы, о’кей?» Он засмеялся. «Не присягнусь, но – попрошу. Можете подождать меня в той кофейне?» Он кивнул в сторону заведения, где я вчера выпила три чашки кофе. «Могу».
Он вернулся с персиковой картиной, которую всучил мне, несмотря на мои возражения. «Ведь вам это понравилось». И сообщил, что пиджак будет готов через час. «Извините, что я на вас так уставился и вообще вел себя как болван. В профиль вы напомнили мне мою сестру Майку, которая давно умотала в Израиль, думаю, что сейчас она и оттуда умотала, она ведь всегда так говорила: «Хоть бы страну не обрезали. Чтобы было, где разместиться». «А вы всегда хватаете сестру за карманы?» «Нет. Но бывает. Парадокс в том, что, когда вы встали, я себя чувствовал, как кролик в Стране чудес, помните, когда Алиса резко набрала в росте? Так же и мне показалось, что Майка выросла на две головы, и хотя я верю во все израильские святыни, не думаю, чтобы они такое проделали с Майкой».
Нам принесли кофе. «Так вы планируете ехать в Германию?» «Да. Дело в том, что моя мама жила в этом городе. Она дитя войны, сами понимаете, в стране была неразбериха. Собственно, не бóльшая, чем сейчас. Но матери изменили фамилию, тогда казалось, что это промысел Божий. А сейчас у меня из-за этого проблемы. Потому что мама была Гетман, стала Гетьман, а у меня фамилия отца – Шевченко, нужно доказать свою принадлежность к «гетманству». Мне ведь нужно выезжать по еврейской линии, так проще. Это ж надо дожить до таких времен, когда евреи получают самый зеленый свет для въезда в Германию. Гитлер удивился бы. А с такой фамилией, как у меня сейчас, все тамошняя еврейская община будет кричать мне не «ой-вей» а «оле-оле-оле-оле». Он меня рассмешил.
«Слушайте, а откуда у вас такой хороший немецкий?» «Вы в самом деле считаете, что он хороший? А моя жена говорит, что мои языковые навыки напоминают ей зонт-полуавтомат, вроде бы все неплохо работает, но кое-что приходится дожимать вручную». «Знаете, я просто счастлива, что у вас такие языковые навыки. Иногда мне кажется, что из всего, что я говорю, ваши понимают только цифры». Не успела я произнести эту фразу до конца, как вспомнила письма деда и тут же смутилась. Но парень засмеялся: «На цифрах вы долго не продержитесь. Ну, разве что будете общаться с нашими чиновниками по поводу открытия бизнеса». У меня отлегло от сердца, а он продолжал свой рассказ.
«На самом деле это вышло случайно. Я с первого класса учился в специализированной немецкой школе. Она была рядом с домом моей тетки, я у нее каждый день обедал, поэтому пошел именно туда. Почему-то вспомнил сейчас, у меня был учитель физики, он тоже эмигрировал, только в Австралию, оттуда он распространяет сплетни, которые порочат кенгуру. Так вот, он учил нас составлять логические ребусы и задачи. Я тогда задал ему такой вопрос: где живет собака, которую кормят, выгуливают, чешут и гладят в одном месте, а ругают и приказывают спать в другом». Я молчала, так как не была уверена в том, что правильно все поняла. «Это о моем детстве. Ругала меня мать, спал я дома. А все остальное я делал у маминой сестры, у тети Доры». «Подруга которой чинит мне пиджак». «Угу. У вас хорошая память, и теперь я начал верить в то, что у меня неплохой немецкий».
«А что за гениальный научный проект?» «А вы кто по профессии? Я прошу прощения за свое любопытство, но я должен это знать для того, чтобы лучше объяснить». «Я преподаватель права. Работаю в университете». «Ага. Ну, это звучит более обнадеживающе, чем филолог, продавщица или журналист». Мы рассмеялись. «Я физик. Собственно, этот проект – воплощение моей детской мечты. Научить человека слышать свой организм. Его голос». «Как это?» «Условно говоря, я изобрел такое устройство, с помощью которого человек будет лучше чувствовать все происходящее в его организме. Кроме того, мы разработали расшифровки сигналов, которые подает организм. Так, человек, только прислушавшись к себе, поймет, что у него ларингит, гайморит, воспаление поджелудочной, онкология – и т. д.». «Это звучит как аннотация к фантастическому роману. Вы это серьезно?» «Вполне. Я думал об этом с детства. Вы замечали, что небо и те, кто живут в небе, заранее знают, что произойдет. Некое стихийное бедствие или некое явление. И уже потом подают или не подают сигналы тем, кто живет на земле. Небо заранее чувствует, будет ли дождь, собирается ли выпасть снег, усилится ли ветер, ожидается ли засуха. Земля тоже о многом знает. И только мы этого почему-то не умеем. Я в силах это исправить». «Круто. Вам никто не помогал?»
«У меня есть лаборант Костя. Он помогал проводить испытания. А еще друг и партнер Аркадий. Он в меня верит и побуждает к действиям. Условно говоря, он первый слышит журчание воды и пинает меня, камень». «Я правильно поняла, он вроде вашего менеджера, импресарио или нечто большее?» «У Аркадия есть разные знакомые. Иногда мне кажется, что если они соберутся вместе, они поймут, что могут править Вселенной. У меня таких знакомых нет и никогда не было. Впрочем, у меня есть Аркадий. И я ценю его усилия и его отношение ко мне. Знаете, мы дружим более тридцати лет, и Украина моложе нашей дружбы». «Понятно».
«Слушайте, а вы что здесь делаете, бизнес?» «Мой дед тут воевал, я приехала, чтобы…» Я не знала, как я должна это сформулировать. «Он погиб здесь?» «Дело в том, что погиб он здесь в прошлом веке, и здесь похоронен. Но умер он в Берлине в этом веке, и там кремирован». «Все гда мечтал прожить две жизни, хотя лучше бы избавиться от ошибок в этой, единственной». «Это длинная история, но я могу вам рассказать». И я рассказала. «Слушай, а давай на «ты»? Как-то неудобно обращаться к тебе на «вы», когда столько знаешь о твоей семье, как ваш биограф или лучший друг». «Давай. Итак – Марта фон Вайхен». «Очень приятно! Итак – Марат Шевченко, в мамином девичестве Гетман». Мы обменялись рукопожатием. Вдруг он резко дернул головой, странным образом повернув ее под необычным углом. «Тебе плохо?» «Нет, тут у тебя бракованная ящерица. На шарфике. У нее хвост завернут не туда, куда у всех остальных». «Вау! Это – саламандры, и это – счастливый шарфик, слушай, я теперь должна тебе его подарить, я сколько ни высматривала, не смогла отыскать счастливую саламандру. Мой дядя придумал такой коммерческий ход, единственное отличие среди штампованных рисунков. Развлекается и зарабатывает деньги». Я сняла шарф с шеи и протянула Марату. «Спасибо. Неожиданно. Хм… а приятно быть фартовым!» «Тебе идет». «Ага, чувствую себя визуальной рекламой под девизом: “Благодаря унисексу я могу носить одежду своей подружки”». Когда находишься рядом с таким человеком – невозможно не смеяться.
«Ты сюда надолго?» «Одну миссию выполнила, передала ноты Лятошинского в музыкальную школу. Кстати, можешь посмотреть, что написано на этой трогательной табличке при входе. Я ничего не понимаю…» «Хм… «Вытирайте ноги». И правда, очень трогательно». Я рассмеялась. «Спасибо. Никогда бы не подумала. Хочется верить, что это написал сам Лятошинский. Еще побуду немного в городе, а потом поеду в ту деревню, возле которой похоронен дед. Может, кто-то что-нибудь помнит». «Слушай, у меня к тебе предложение, раз уж у нас так все складывается. Моя мать родом из этого села, у меня там осталась бабкина хата, там никто не живет, но за ней присматривает тетя Оля, а если тетя Оля за чем-то или кем-то присматривает, это о многом говорит. Можем туда съездить сегодня, походишь, порасспрашиваешь, а я тоже улажу кое-какие свои дела. К тому же, я послужу тебе бесплатным гидом и водителем. У меня машина. Твой пан Грыць может погрязнуть в своих, то есть наших, бабах и семейной колбасе. Клянусь. Иначе я плохо знаю наших девушек и нашу колбасу!»
Я согласилась, мы рассчитались, Марат принес мне пиджак, мы уселись в его машину и отправились в отель. Я укладывала свои вещи, а Марат решал проблемы с моим отъездом. Когда я подошла к стойке, он огорошил меня: «У тебя умерла тетя, и тебе нужно срочно ехать на похороны». «Моя тетя?» «Да, мнимая. Ты хочешь вернуть назад свои деньги, которые оплатила за сутки?» «Хочу». «Вот и выбирай: или ты предаешь земле мнимую тетку, или они не отдают тебе деньги» «Как это не отдают?» «Запросто. Ты должна писать объяснительную, почему тебе приспичило выезжать раньше запланированного срока. А еще заявление в бухгалтерию. Я все это за тебя напишу, потому что ты зашьешься, как карманы на твоем пиджаке. Но это сожрет, по моим предположениям, около двух часов нашего времени». «Я имею право на свободное перемещение!» «Правда? Посмотри на нее». Марат кивнул на ламинированную тетку, которая регистрировала меня при поселении. «Ты думаешь, ее колышет то, что ты имеешь какие-то там права?» «Или врать, или платить за непредоставленную услугу?» «Именно так. Видно, что ты юрист, замечательная формулировка». И я согласилась.
Марат не ошибся, они промурыжили нас около двух часов, после чего чуть ли не в лицо швырнули мне деньги. «Бинго!» – воскликнул Марат, я сдала ключ, и мы пошли к машине. Там из своего припаркованного «фольксвагена» как раз выходил пан Грыць. «Привет, вот и я, как и обещал. А что у вас тут происходит?» «Я еду в деревню, где похоронен мой дед. Здесь все дела закончила. Большое спасибо». «С ним?» – кивнул в сторону Марата пан Грыць. Марат улыбнулся. Я подтвердила, что именно с ним. Пан Грыць впился в меня взглядом, объяснить который было трудно. Наверное, так смотрят родители или сутенеры на подвластную им женщину, уходящую за горизонт неизвестно с кем. «Звони, если что. Я здесь еще двое суток», – сухо бросил мне пан Грыць и направился в сторону кондитерской.
Я перевела дыхание, села в машину. Мои вещи были уже там. «Слушай, а это близко?» – спросила я Марата, который поглаживал руль, словно любимую зверушку. «Если измерять километрами – очень близко, а если измерять дорогами – нет». «Это как?» «Сейчас почувствуешь». И я почувствовала. Когда мы заезжали во двор дома, каждая косточка моего организма не то что говорила со мной, она меня крыла матом на нескольких языках.
Глава тринадцатая
Марат сказал, что будет переводить для меня все дословно, потому что другого подходящего случая наслушаться такого колорита у меня не будет, я сразу же согласилась, но несколькоминутные оханья тети Оли, так же как и ее хоровод вокруг Марата, были понятны и без перевода. «Как хорошо, что подгадали так, что попадете на праздник! Хорошо, что с дороги позвонил, чтобы мне было чем стол накрыть-заставить. У тебя чистое исподнее есть, девочка?» Я кивнула. «Хорошо». Тетя Оля развернулась и исчезла, при этом непостижимым образом она успела дать указания Марату, уменьшить огонь на плите, поставить на стол крынку.
«Какой завтра праздник?» «Завтра праздничная троица». «У вас это не летом?» «Не в том смысле. Завтра – День украинского казачества, день Украинской повстанческой армии и Покрова Пресвятой Богородицы. Не представляю, о чем из всего этого ты могла бы знать». «О казаках очень условно. Хотя у нас так иногда называют украинцев. О Пресвятой Богородице еще меньше, я не очень религиозна. А об Украинской повстанческой армии – я видела крест убитым в Бабьем Яру, что-то меня к нему привело, ни тогда, ни теперь не могу объяснить. Видимо, энергетика». Я рассказала Марату о встрече у Креста, дала прослушать стихотворение, он сказал, что стихотворение посвящено жизни, возможно, именно так и называется, Марат точно не помнил этого.
Появилась тетя Оля, красивая и нарядная, с белоснежной вышитой цветами, ромбами, мелкими узорами красного и черного цвета сорочкой, которую она бережно несла перед собой на плечиках. Я не успела спросить, что это за красота такая, как тетя Оля приложила эту красоту ко мне. «Как на тебя шита!» «Это мне?» Сорочка была восхитительная. Пышные рукава сверху были расшиты сложными ромбами, потом шли сочные, яркие красные лилии, чуть ниже – мелкие цветочки с четырьмя лепестками, распустившиеся, пышные розы спереди, подчеркивающие грудь, такие же на манжетах. Не знаю почему, но пришла на ум Лиля Манюк. «Конечно, тебе, ты должна приодеться для церкви».
«Мы идем в церковь?» «Конечно. Завтра большой праздник. Несколько праздников. Маратик рассказал тебе?» «Немного». «Завтра больше будет, и петь будем, и угощаться». «Но мне бы хотелось к могиле деда сходить и еще поговорить с теми… кто выжил тогда. Здесь». «Не переживай так, дитятко, все успеешь. У нас здесь не город, молоко скисает на четвертые сутки, если на солнце не выставить, никто умирать не спешит, даже пьяницы». Тетя Оля хихикнула. «А с кем тебе говорить – еще подумать надо. Мало кто дожил. Иван Коцаруба, он воевал в составе Степного фронта, не было его здесь, Арина Козорезиха еще жива, но немного не в себе. Она и девкой была кукукнутая, а сейчас мы сравнялись, все немного того, уже лучше ее понимаем. И еще Валя Кукуруза, так она работает круглые сутки, хозяйство большое, но я за тебя словечко замолвлю завтра в церкви. Ну, чего столбом стоите? К столу!»
Я впервые в жизни ела вареники, о которых читала в письме деда… И очень вкусные пирожки с луком. Марат сказал, что он тоже впервые попробовал вареники с калиновым желе, тетя Оля горделиво призналась, что на прошлой неделе экспериментировала и всем понравилось. «Так ты приехала, чтобы разузнать о деде, который умер там, но вроде как здесь погиб. А зачем?» «Хочу разобраться в этой истории». Тетя Оля опять заохала, но не так, как тогда, когда встречала Марата. Я и не знала, что оханье имеет разную интонацию. «У нас о таком говорят – за дурною головою и ногам нет покоя». Марат переводил. Он предупредил меня, чтобы я ни на что резко не реагировала, в пребывании в селе есть своя специфика, которую, как тайну далеких планет, не каждому дано познать. «Моя мать целиком и полностью с вами согласна. А я считаю, что мозг только тогда работает, когда ты его разминаешь, иначе заплывет жиром и сам ты заплывешь». «И тело лучше работает, если ты его разминаешь», – заметил Марат. «И пирожки выходят хорошие из того теста, которое не меньше двух часов разминаешь», – добавила тетя Оля. Пирожки у нее были знатные.
После вкусного ужина тетя Оля устроилась возле трюмо, украшенного полотенцами с кружевными краями, подкрашивала ресницы и румянилась. «Ты куда это собралась?» «К Семеновичу, его жена в город подалась, так нужно покушать занести». «Так уж и нужно?» «А кто еще присмотрит лучше меня?» Тетя Оля подмигнула. «А вы что, имеете виды на женатого?» – поинтересовалась я. «Да какое там. Пока нет, но нужно быть начеку. Видишь ли, жена у него оглашенная. Кот у нее заболел, наш ветеринар в свиньях и коровах больше разбирается, хотя ее кот еще та свинья! Так она в город подалась, Аргуса своего спасать. А мужа здесь на произвол судьбы бросила». «Ну так он же мужчина, справится, взрослый, здоровый». «Дочка, ты замужем?» «Нет». «Была бы замужем – не болтала бы глупостей. Это кот справится, вот уже сколько веков они справляются и плодятся. А эти? Ты посмотри на них, больное через одного, пьянючее через одного, слабенькое через одного, а сколько этих через одного совпадает? О Матерь Божья. Пусть тебе что-то путное попадется на пути. Марат, дочка, тоже при жене, разве не говорил тебе?» «Тетя Оля! Да мы случайно познакомились и ничего такого здесь нет». «А когда случайно, так это вот, как ты говоришь, ничего такого здесь нет – быстро нарисовывается». Марат рассмеялся. Я его поддержала, потому что спорить с тетей Олей – себе дороже. «Тетя Оля феминистка?» – шепотом спросила я у Марата. «Нет, трезвая украинская женщина», – подмигнул мне Марат. «Вы бы ложились спать, завтра рано в церковь». Распорядившись, тетя Оля ушла из дома, даже походку сменила!
«Чтоб ты знала, у Семеновича есть не только болезненный кот и впечатлительная жена, но еще и собственная философия». «Сложная?» «Не очень. Во всем уродливом и отвратительном он обвиняет Чернобыль, а за все прекрасное благодарит природу. Теперь ты познакомилась с украинскими языческими богами добра и зла». «Тогда я со спокойной душой укладываюсь спать! Спокойной ночи».
Лишь только начало светать, как меня разбудила тетя Оля. Она склонилась надо мной. Голова ее была обмотана чем-то белым. Рядом стоял Марат с пергаментно-бледным, словно фаюмским лицом. «Что-то стряслось?» – спросила я. «Сейчас я тебе все переведу», – сказал Марат. Мне показалось, что он застонал. «Уже пора в церковь?» «Молчи! Вставай, умой лицо, пошли на двор». «Да как-то темно еще». «Молчи!» Умели они управлять, неудивительно, что выиграли войну. Я встала, умылась, вышла во двор, тетя Оля намотала мне на голову какое-то полотенце. «Что это?» «Рушник! Молчи, слушай. Как услышишь церковный звон, глаза возведи к небу и проси: “Праздник Покровонька, покрой мою головушку”». «Что?» «Марат! Переведи этой недоверчивой и бестолковой». Марат мне перевел дословно. «Для чего это?» «Чтобы удачно выйти замуж». «Зачем это мне?» «Вот глупая девчонка. И ребенка попроси – здорового и счастливого». Ослушаться я не смела, как автомат, произнесла все это к небу, вдыхая насыщенный осенними специями воздух.
В церкви все было торжественно, многие стояли с букетами: желтые, красные, оранжевые цветочки, калина, рябина, осенние листья, сухая трава, сухие маковки, камыш. Люди здоровались, разглядывали друг друга как будто впервые видели. Я спросила Марата, что это за феномен? Ну, ясно, когда смотрят на меня, иностранка, немка в вышиванке (она мне действительно очень была к лицу, тетя Оля еще и монисто подарила), они что, своих не видят каждый день? «Такими нарядными – нет. Знаешь, вот у меня такое впечатление, что наши люди выборы воспринимают как религиозный праздник. Особенно те, у которых есть деревенская культура, к церкви приученные. Выборы у нас такие же регулярные, как церковные праздники. Назначаются на выходные дни. Проснулся рано, умылся, нарядно оделся, чистый, как на исповедь, пришел, проучаствовал в ритуале, вышел, поднял лицо вверх – к небу или к кресту, перекрестился, попросил себе легкой доли и чтобы наш победил, а дальше – пить».
«Дальше пить?» «Можешь не сомневаться. Даже напиваться». У меня заработала мобилка, пришла смс, я думала, что меня прибьют, но только несколько человек бросили на меня недоброжелательные взгляды, а в целом никто не обратил внимания. Я видела, что мобильные телефоны есть у всех, у батюшки даже две трубки, одна, видимо, для прямой связи с Богом, но в церковь, наверное, их никто не брал.
«К чужим у нас относятся лучше, пользуйся этим, но не злоупотребляй», – подмигнул Марат. Смс была от детей из музыкальной школы Лятошинского, они сообщали, что через час там будет телевидение, и спрашивали, смогу ли я прийти, потому что в отеле сказали, что меня нет.
Я растерянно посмотрела на Марата. Он взял телефон, выключил его и сказал, что сейчас помолчим, будем повторять все за батюшкой, чтобы не оскандалиться. А потом он что-то придумает. «А мне что делать, я ничего не понимаю». «Помолись за своего деда. Она – мать, доносит до Него обо всех сыновьях. Хорошие они или плохие. Помолись за мир, за спокойствие. Мне кажется, неспроста ты сейчас в этой церкви, в этой сорочке, в этой стране, с этими людьми. И я за твоего деда помолюсь. И за свою бабушку, неизвестно где умершую и неизвестно где похороненную, где-то рядом они сейчас. Общаются или нет – мы сейчас не узнаем, но они рядом – это уж точно. И ты за нее помолись, за Майю Гетман, как я за Отто фон Вайхена». И я помолилась, как умела.
На улицу народ выходил шумно, в приподнятом настроении. Доносился женский смех, кто-то выдавал замуж дочь. Не знаю как, но я это поняла, наверное, потому что девушку поздравляли, целовали, она смущенно хихикала, а женщину постарше, державшую ее за руку, поздравляли еще завзятее и слегка подталкивали. «Ну и что они хотели?», – спросила я у Марата, который только что закончил общаться с детьми и «отмазал» меня от телевидения. «Хотели, чтобы ты расписалась в Книге почетных гостей, а еще получила звание почетного преподавателя музыкальной школы». «Слушай, как такое возможно? Я занималась музыкой не больше двух лет, потом бросила, потому что это не настолько меня заинтересовало, как мне казалось вначале». «Подожди, но ведь ты разбираешься в нотах, можешь что-то сыграть?» «В нотах разбираюсь. И именно «что-то» могу сыграть, несколько тактов какого-нибудь примитивного марша или начало этюда, вот и все». «Этого вполне достаточно для почетного преподавания. У нас в академики берут людей, у которых вообще нет высшего образования, в лучшем случае есть купленный диплом. И ты знаешь, мало кого это так удивляет, как тебя сейчас».
Я развела руками, не зная, как на это реагировать, надо воспринимать это как абстракционизм с национальным колоритом. Вдруг Марат расхохотался, на него обернулись несколько человек. «С чего тебя так разобрало?» «А я представил себе твое резюме. Ты у нас кто – LL.M? [7] »«Нет, бери выше, я – Ph.D [8] ». «Еще лучше, вижу как ты описываешь свое образование, места работы, указываешь свои научные разработки, возможно, авторство или соавторство книг. И отдельной строкой под графой «другое» не без тщеславия отмечаешь, что ты – почетный преподаватель Первой музыкальной школы имени Лятошинского (г. Житомир)». Он умел рассмешить. Когда мы отсмеялись, я заметила, как от толпы людей отделился мужчина, вспомнилось, что и в церкви он держался в сторонке. «Кто это?»
«Где?» Я показала. «А, вижу. Это Финка». «Странное имя». «Это не имя, это прозвище. Зовут его Сергей, а Финка он потому, что отсидел семь лет за поножовщину, теперь вот вернулся в родные места». «Понятно. Все его боятся». «Еще чего. Здесь, как минимум, в пяти семьях такие отсидевшие есть. С Финкой другой феномен. Он, понимаешь ли, после отсидки не стал пить, девок портить, резню и драки устраивать, на второй срок не подписался, он начал работать. У него большое хозяйство. Куры, индейки, кролики, свиньи, гуси. Так он их режет, а не людей. Целыми днями пашет, спину не разгибает, в другой поселок в магазин выпивать не ездит, пропащий человек». «Почему же пропащий? Гордиться надо, он – победитель, разве нет?» «Не все так просто. Вот у Петра сын над родителями издевается, все деньги забирает. У Елены муж забивает ее до полусмерти раз в месяц, Петричихин уже третий раз сидит, и это нормально». Я изумленно молчала. «Нормально, потому что это логично, естественно, понятно. А Финка ведет себя неестественно. Его же приезжим можно как образцовый пример приводить. Односельчане бесятся. Как же это? Оно ж сидело, оно ж бандит. Вот такие кружева, как любит говорить тетя Оля».
Кто-то коснулся моего рукава. Тетя Оля. «Пойдем к Орыське угощаться, поговоришь с ней, если получится». По дороге тетя Оля рассказала об Орыське. В войну та осталась сиротой, было ей семнадцать. И ходили к ней все, потому что она не понимала, как это можно отказать. Даже шлюхой ее никто не называл, потому что она все так делала, будто бы лечила. Орысечка-сестричка. Ребят из УПА она называла «свои», советских солдат – «наши», немецких – «другие». Все ей жаловались, она всем стелила и под всеми стелилась, но греха на совести у нее не было. Кормила всех, все отдавала. Бывало, и били Орысю, но побои ее характер не изменили. Чирикает что-то, как насекомое или птичка, голоса не повышает, стонет потихоньку, вот и не стеснялись ее ни свои, ни наши, ни другие. Кто хотел – издевался, кто хотел – жалел.
Разговора с Орысей не вышло, плакала она, то ли от того, что вспоминала что-то, то ли от того, что вспомнить не могла. Деда по фотографии вроде бы не узнала. Зато тетя Оля сказала, что дед очень «видный мужчина и выглядит лет на тридцать». Домой шли притихшие, я заметила кусты у забора тети Оли, неровные, неухоженные. «У вас секатор есть?» «Все у нас есть. Зачем тебе?» «Кусты подстригу». «Сегодня – грех, а завтра и нужды не будет, их или Федорович, или Васильевич подравняют, завалятся в них, когда хаты свои искать будут. Нельзя кусты трогать, а то поранятся эти черти старые». Я засмеялась. «Все равно обрежу, и цветы ваши тоже». «Делать тебе нечего. Проведай лучше могилу деда, тут никто не дает рушить, когда-никогда матюк напишут, так все уберут быстро, чтобы было чистесенько. Сама увидишь. А теперь я вас оставлю». Тетя Оля остановилась у какой-то хаты. «К Семеновичу?» – проявила смекалку я. «Все что нужно, она и без тебя понимает», – кивнула в сторону Марата тетя Оля.
Вернулись домой, хата на меня не давила. Хотя я впервые видела столько икон. От такого количества святости мне должно было бы стать нехорошо, мы когда-то говорили об этом воздействии с Манфредом, но здесь все воспринималось уместно. «Удалось помолиться в церкви?» – спросил Марат. «Да. Я не знаю, как правильно. Но я и прощения просила у твоей бабушки, у моего деда неприкаянного, я ведь совсем его не знала. У твоего народа. У твоих народов, то есть…»
«Я тоже просил прощения. И для немцев тоже, потому что нельзя вас вечно упрекать, не по-людски это. Знаешь, вы – уникальная нация. Вы все раскапываете о себе. Вот как ты». «Моя семья не в восторге. А я, возможно, цепляюсь за надежду, что дед понял, исправился, успел умереть другим, понимаешь?» «Да нет. Я видел, сколько вы фильмов снимаете о Гитлере, сколько фотовыставок проводите, книги, мысли, документалистика. Вы хотите все прояснить, вытащить на свет Божий. Вы вытаскиваете на поверхность – клады, трупы, грязь, кости. Мы все закапываем еще глубже. Клады еще можно извлечь, за них деньги обещаны, а все остальное – спрятать, забыть, вычеркнуть. Это происходило не с нами, поэтому мы в этом не виноваты. А вы научились жить со страшным грузом». Я не знала, что ответить на это.
«Но, черт возьми, что я за хозяин, если у меня гостья голодная?» «Ну, вы и едите, что ж ты такой худой?» «Генетика. И я здесь не частый гость, иначе меня бы разнесло. Как я могу оставить тебя без тетиолиного борща?» Я смотрела на красное и густое, ароматное и пьянящее варево. «Что это такое?» «Это нельзя объяснить, это как музыка, начинаешь есть и либо понимаешь, либо нет». «По цвету похоже на георгины, те, что у забора». Борщ действительно был похож именно на борщ, я не смогла найти вкусового аналога. Ночь накрыла нас внезапно, как будто Бог устроил темную, укладываясь спать, я поблагодарила Богородицу за этот день.
Крест над могилой деда, где деда не было (а похоронен ли тут кто-нибудь вообще?) напомнил мне крест воинам УПА. Я не знала, что нужно говорить над пустой могилой, поэтому включила диктофонную запись. Парень и девушка читали стихи о жизни Елены Телиги. Я прислушивалась к сердцу, оно затихло, видимо, тоже к чему-то прислушивалось.
Когда я выходила на центральную, хорошо утоптанную дорожку, что-то блеснуло в пожухлой траве. Я подошла ближе, наклонилась. Это были новехонькие большие ножницы. Я вспомнила обещание по поводу кустов. На них действительно кто-то вчера ближе к ночи бухался, я слышала шум. Кусты смялись, поломались. Вообще эти кусты теперь и сами были похожи на пьянчуг, которые пытаются взять себя в руки и даже побриться, но результат ужасный, что-то убралось, что-то добавилось, ободранные, неопрятные. Ножницы сами пришли в руки! Займусь куста ми, а потом пойду к норовистой Вале Кукурузе, покажу фотографию деда.
Я медленно проходила, даже проплывала мимо добротной хаты, заметила, что иначе стала двигаться, как вдруг до меня донесся жуткий женский вой. Это был вой такой силы, что вынимал из тебя все внутренности. Густой и красный, он напомнил мне варево борща; вязкий и поглощающий борщ-стон, сильнее того, кто его ест, сильнее той, кто так кричит. Когда он стих, я услышала быструю речь, к сожалению, я не понимала, о чем говорят, и эта неопределенность еще больше пугала. Возле хаты собрались женщины, но никто не заходил внутрь, женщины переговаривались, склоняли друг к другу головы, заглядывали в окно, словно стайка птиц.
Я заметила Марата. «Что происходит? Тут какое-то горе?» «Да. Петр повесился». «Тот, у которого сын сидел?» «У тебя профессорская память. Да». «Ночью? Это его жена кричит?» «Нет, только что Маруся возилась в огороде, а он на их кровати повесился». «Как это?» «Лучше тебе не видеть и не знать». «Она так плачет, сейчас всю себя выкричит, так нельзя». «Нельзя, у нее гипертония, стенокардия, на прошлой неделе из больницы выписали». «Так нужно пойти туда, успокоить ее», – предложила я. «Нельзя. Я уже спрашивал у тети Оли. Нельзя ее успокаивать. Никто этого не поймет, она должна кричать. Женщина, у которой повесился муж, должна кричать. Пусть хоть сама умрет, но откричать его смерть она должна. Перед всем миром. Не откричит – непутевая это женщина, значит, и муж ее был так себе, не любила, не заслужил». «Но это маразм, она себя убьет. Это что, никого не волнует? – В мою гортань забился ее крик. – Как же она убивается, он был хорошим человеком? Почему он так поступил?»
«Мужчина был работящий. На все руки мастер. У них двое детей, каждому он этими вот руками построил квартиры в городе». «Он строитель?» «Нет. Крестьянин. Выращивал овощи – продавал, лошадей выращивал – продавал, рыбу ловил – продавал в рестораны. Вся семья на нем держалась». «Так чего ж он повесился?» Марат странно на меня посмотрел. «Из-за сына. Тот его достал. И она знала, что сын его допекает, но была на стороне сына. И все об этом знают. Поэтому и кричать она будет, пока голос не сорвет или сама не умрет. Понимаешь?» Я силилась понять, но не могла, мне всех было жалко. И Петра, укоротившего себе век. И его жену Марусю, которая криком выталкивала свое слабое больное сердце, где уж сердцу справиться с таким криком? И сына их, злодея, который довел до петли своего отца. Всех.
«Можно я пойду?» «А что это у тебя?» «Ножницы». «Ты лучше не трогай сейчас кусты, не поймут. Я сейчас вернусь, к Валентине пойдем».
Возле кустов никого не было, поэтому я их немного подравняла. Нервы успокоила. Видимо, британцы потому такие спокойные, что веками занимаются своими газонами, прекрасно успокаивает нервы. Ножницы я положила на видном месте, чтобы тетя Оля убрала инструмент, куда положено.
Вытащила свой чемодан, решила переодеться, как вдруг из чемодана показалась голова без глаз, на лице крест, я вздрогнула. Что это? Настолько было страшно, что я еще раз обратилась к Богородице (забыла всех остальных), чтобы поскорее вернулся Марат. Он вернулся. «Что это?» «Орыся передала тебе куклу-мотанку. Это украинская традиционная кукла, оберег. Будет тебя оберегать». Мне пришло в голову, что эти куклы-мотанки с крестом вместо глаз похожи на защищенные окна военного времени, которые я видела в кино. С крестами вместо глаз: чтобы стекла не разлетелись от взрыва. Я прижала куклу к себе.
Валентина Кукуруза деда не узнала. «Фактурный мужчина твой дед. Такому глазами в баб стрелять, а не в мужиков пулями. Ох, судьба, завистливая ты баба». Мне было не очень удобно об этом говорить, но все же я спросила: «Война. Он – враг. Может, и в баб он тут метил…» «Э нет, доченька. Зря ты так о нем. В глазах его лицо единственной женщины, как отражение. Я такие глаза сразу отличаю, это у меня профессиональное, больше двадцати лет браки заключаю, всяких перевидела».
Еще Валентина сказала, что их здесь было много, и солдатиков, и господ офицеров. А что их запоминать, враг он и есть враг, безымянный, поэтому еще более страшный. Угостила нас с Маратом булочками со смородиной, ужасно вкусно. «Валентина, а может, кто-то из немцев защищал местных, заступался за них, спасал?» «Дочка, мне бы соврать, чтобы тебя успокоить, но не было такого. Кто-то вел себя как человек, кто-то как скотина. Ведь все мы люди. Свои или чужие. Но чтобы защищать? Не было такого. Здесь свои не защищали, с чего бы вашим за это браться?»
Когда мы вернулись домой, нас встретила злющая тетя Оля с ножницами. «Это что такое?» «Ножницы». «Это ты принесла?» «Я». «Где взяла?» «У дороги». И тут Марат остановил перевод, потому что тетя Оля кружилась и кричала, как взбесившаяся ветряная мельница. Единственное, что я поняла, что мне немедленно нужно вернуть эти ножницы туда, где я их взяла. Было темно, Марат сказал, что пойдет со мной, но я отказалась, потому что никуда идти я не собиралась. Я положила ножницы в сарай, он еще был открыт. И прогулялась по тропинке к дому Петра и Маруси. Она уже не кричала, но крик будто висел в воздухе, воздух был сиплый, обессиленный, вдыхаешь его в себя, и где-то там, внутри, вдруг откликается Марусин страшный крик. Я постояла немного и пошла домой.
Марат сидел за ноутбуком над какими-то документами. Видимо, занимался своим проектом. «Дорабатываешь?» «Да понимаешь, тут куча карточек и форм, анкет, которые нужно заполнить. Аркадий заполнил касающиеся общих вопросов, а я сейчас заполняю те, что касаются профессиональных. Боюсь, что не успею все сделать. Нет, сделать-то успею, но не доверяю почте, даже самой лучшей, однажды одна международная компания доставила рентгеновский снимок дочери Аркадия не в Германию, а в США, и он потом так и не нашелся, еще раз ребенка облучали». «Слушай, а когда тебе нужно это сдать?» «На следующей неделе, до среды». «Как закончишь – давай мне, я передам, это же Берлин, и отчитаюсь тебе». «А это удобно?» «Зависит от того, как далеко этот университет находится от моего дома. Я шучу. Все сделаю, не переживай». Марат просиял: «Класс!»
Я вздрогнула от гуда своей мобилки, отвыкла от того, что мне здесь звонят. Это был пан Грыць. Он спросил, как мои дела, кормят ли меня и как я себя чувствую, я ответила, что все прекрасно. Тогда он сообщил, что Адам нашел себе невесту, красивую, как весна. Я сказала, что даже не представляю себе такой красоты. Пан Грыць сказал, что мне это и не нужно, заверил в том, что я всегда могу на него рассчитывать, и спросил, когда я планирую вылетать в Германию. Я ответила, что послезавтра, на этом мы любезно распрощались.
Это приключилось утром. Я вышла из дома, потянулась и упала на руку. Вскрикнула. Не так как Маруся, но и этого было достаточно, чтобы выбежал Марат в незастегнутых джинсах. Он попытался меня поднять, но я вскрикнула еще громче. «Ты сломала руку!» «Нет, не сломала». «Значит, она всегда у тебя такая толстая и синяя?» Во двор вышла тетя Оля. Злобно взглянула на меня, на мою руку и снова начала что-то кричать. «Чего она так кричит? Я не виновата в том, что ушиблась и сломала руку». «Она спрашивает, положила ли ты ножницы на место?» «Дались ей эти ножницы. Нет, не положила, они в сарае». Тетя Оля молнией метнулась к сараю, потом выскочила оттуда, заскочила в дом, выскочила из дома с полотенцем, заскочила в сарай, выскочила из сарая, обернув ножницы полотенцем, и выскочила на улицу.
«Что происходит?» «Так, сейчас нельзя давать тебе обезболивающее, потому что мы поедем в больницу, что-то с этим нужно делать». Марат все-таки сообразил, как лучше меня подхватить, поднял, отряхнул и завел в дом. «Это твое?» – показал на сложенные на стуле вещи. «Да. Еще в ванной». «Хорошо».
«Так что с этими ножницами и тетей Олей?» «Есть такая народная примета: нельзя подбирать ножницы и заносить их в дом, не то быть беде. А если уж занес, то скорее неси обратно, тогда беда будет невелика». «Какой бред». «Правда? И что, нам твоя рука пригрезилась? Давай я тебя за нее ущипну?»
Тетя Оля вернулась такая же гневная, как и выскочила. «Вот что ты такая упрямая? Разве трудно было отнести это дерьмо туда, где взяла, если старые люди тебя об этом просят?» «Да зачем же выбрасывать новые ножницы? У вас таких нет, я смотрела в сарае». «Бедное дитя. Сидишь тут теперича со сломанной рукой. А все потому, что притащила сюда ножницы. Хорошо еще, что дом не сожгла». «Как вы можете? Я бы не сожгла». «Да не ты это все, а ножницы. Запомни на будущее: нельзя домой таскать ножницы, пуговицы, расчески, ножи, кресты, которые нашла, не то быть беде. И без всяких почему, деточка! А то получишь по губам. Ты знаешь, кого я там встретила?» – обратилась тетя Оля к Марату. «Кого?» «Желину Жоли».
Если раньше мне казалось, еще в придачу из-за усиливающейся боли, что я нахожусь в абсурдном кино типа Эдварда-руки-ножницы, то сейчас я застонала. «Кого вы видели?» «Желину Жоли. Цыганку нашу». «Анджелина Джоли – ваша цыганка?» «Прозвище у нее такое. Потому что худая, как щепка, губы, как вареники, и семеро детей, только двое своих, а откуда остальные – одному Господу известно, и то – он не уверен. Она ножницами тебе эту беду и подстроила».
Я ничего не спрашивала, с меня было довольно. Марат поцеловал тетю Олю, она заохала вокруг него снова, я смотрела будто прокрученный в обратном порядке сюжет их встречи. Потом она упаковала мне вышиванку, полотенце и рукавицу-прихватку, перекрестила нас, каждого в отдельности, потом вместе, потом машину, и мы поехали. «Послушай, физик, ты веришь в ножницы?» – спросила я. Марат глянул на меня и хмыкнул. «Хуже то, что они разуверились в нас, как видишь, иначе такого бы не сотворили. Сиди тихо, нужно поскорее доехать. Не хватало, чтобы я тебя искалечил или подбавил еще что-то».
«Слушай, я тут подумала, что у меня очень странная страховка. Мне ее оформляли, видимо, она должна покрывать подобные расходы, но я этого точно не знаю. Мне кажется, что никто не будет мной заниматься». «Марта, у нас уникальная страна, ваши недовольны, если нет страховки, у нас недовольны, когда страховка есть, потому что она ни от чего не страхует, зато всем прибавляет проблем. У тебя есть деньги на карточке?» «Да». «Сейчас снимем немного. Извини, я бы сам заплатил, но не ожидал, что кто-то из моих близких сломает себе руку. Хорошо, что одну». Я вздохнула.
Хирург житомирской больницы, где мне сделали рентген, вышел ко мне с огромным игрушечным шимпанзе в руках. Я застыла от неожиданности. «Мне гипс будет накладывать детский врач?» – зашипела я на Марата. «Марта, перестань. Это очень хороший врач, просто иностранцев он приравнивает к детям. Сейчас на модели человека, я имею в виду шимпанзе, он покажет, что будет тебе делать». И врач действительно показал. Я его лучше поняла, чем за все случаи перелетов стюардов разных авиалиний, поскольку до сих пор не могу для себя уяснить, как пользоваться кислородной маской и где находятся эти чертовы запасные выходы.
Марат встретил меня с улыбкой на лице и шприцем в руках. «О, какой у тебя чистейший гипс, девственный. Болит?» «Нет. Слушай, а зачем тебе шприц?» «Это сыворотка правды. Врач подумал, что ты шпионка, и нужно воспользоваться моментом и все у тебя выпытать». Я затормозила. «Марта, черт возьми, но не сейчас. Это обезболивающее, сейчас заморозка отойдет, и ты начнешь выть. Мне это ни к чему. Нам пора ехать, у тебя завтра самолет, если ты не забыла». Зазвонила мобилка Марата. Он что-то эмоционально восклицал, потом бросил взгляд на меня. «Кто это был?» «Тетя Оля, спрашивала, как ты себя чувствуешь и все ли нормально тебе сделали. И еще сказала, что у нее сдохла индейка». Марат сделал многозначительную паузу. «Ты хочешь сказать, что это тоже – ножницы?» «А ты как думала? Конечно. Правда, на этот раз они превратились в кота Аргуса, которого подлечил городской ветеринар».
Глава четырнадцатая
В Киев мы ехали молча. Никакого дискомфорта я не ощущала, потому что организм чувствовал себя перенасыщенным. Легкие получили слишком много чистого воздуха; душа – впечатлений и чувств, мозг – информации и знаний. Я чувствовала себя слегка растерянной и переполненной. Так бывает, когда глотаешь маленькую таблетку и чувствуешь, что она застряла на определенном уровне. Чего, вроде бы, и быть не может, но вот есть, случилось, вскоре это состояние пройдет, а сейчас из тебя может исходить только пот, на другое твой организм не способен.
«Глотни таблетку», – вдруг послышался голос Марата. Я вздрогнула. Таблетка нуждалась в реабилитации. «Рука разболелась?» Как только он это сказал, я почувствовала боль. «Спасибо». Я подержала таблетку на ладони, потом зажмурилась и проглотила ее. Интересно, куда в моем организме она сначала направится, чтобы совладать с этой болью?
«Молчишь? Я тебя понимаю, после визитов сюда я тоже чувствую себя, как мертвец, присыпанный родной землей. Потому что я живу в отрыве, это не мой мир. Хотя и с твоим он совпадает только вскользь». «Я все думаю о ножницах. Почему все-таки нельзя трогать эти ножницы?»
«Надо тебя переключать. В общем, я должен тебя предупредить, что у меня дома ты очутишься в одной из сказок братьев Гримм». «О Господи, – вырвалось у меня. – Слушай, а можно к другим авторам? У меня с детства психологическая травма от этих сказок. Может, именно поэтому я пошла в юристы, чтобы чувствовать себя защищенной». «Можно, – весело ответил Марат. – Например, в сказку о мертвой царевне. Пушкина». Поскольку я напряженно молчала, Марат спохватился. Начал объяснять, что имел в виду, потому что вспомнил о роли перевода и о том, что я могла не читать того, что читал в детстве он, впрочем, слово «мертвая» я поняла в точности.
«Сначала я имел в виду сказку «Белоснежка и семь гномов». В сказке о мертвой царевне схожий сюжет, но вместо гномов там фигурируют семь богатырей. А ко мне в гости, ну и чтобы с тобой познакомиться, придут мои друзья. Их шестеро, а я седьмой. Мне кажется, сравнение с Белоснежкой романтичнее, чем с Козой». «Козой?» «Ты знаешь сказку про Козу и семерых козлят?» «Это опять братья Гримм, не знала, что ты их горячий поклонник». «В моем детстве эту сказку считали русской народной. СССР – колыбель пиратов». Я прыснула. «Мне просто кажется, что ты больше сестра, чем мама. Я вижу в тебе сестринство. И мне это очень нравится. Потому что я давно такого не видел и не чувствовал». Мы улыбнулись друг другу. Странно, но я чувствовала к Марату сестринство сильнее, чем к Манфреду. Наверное, потому, что это был уже вполне взрослый брат, который не портил мне жизнь в детстве.
«Но! Должен тебя предупредить, что среди гномов будет один, который попытается тебя соблазнить. И не потому, что ты привлекательная…» Я вздохнула. «Погоди! Пойми меня правильно, ты очень привлекательная. Просто для Сергея привлекательность женщины значения не имеет, для него имеет значение собственная привлекательность. И всякий раз он проверяет свои чары – действуют или нет. Улыбнись ему пару раз, авось, его попустит». «А если нет? Если он будет продолжать свои ухаживания?» «Ухаживания? Нет, никаких ухаживаний, он тупо цепляется. Ну, сама увидишь. Например, он может говорить, что у него никогда не было немок, и ты его последний шанс, и поскольку о девственности речи быть не может, он не видит никаких причин, которые могли бы тебе помешать дать ему. Ибо только он может заниматься любовью так, как с тобой еще никто не занимался. Будет сильно доставать – накажем!»
«Ты их собрал специально, чтобы они на меня поглазели?» Марат категорически покачал головой. «Ха, они не «Лего», чтобы их собирать. Нет, можно сказать, что все так совпало. Моя жена, Дана, сейчас в больнице с Даринкой». «Что-то случилось?» «Случилось, но давно. У Дарины сахарный диабет. С восьми лет. Сейчас она на диспансеризации, проверяют уровень сахара, проводят все необходимые лечебно-профилактические процедуры. Дана решила побыть с ней». «Понимаю». У меня не укладывалось в голове, как в такую маленькую девочку вселилась эта болезнь.
«Знаешь, Дарина больше зависит от инсулина, чем от нас, родителей. И эта зависимость, как ни странно, делает ее более самостоятельной. Просто в этом году ушло из жизни двое из ее соседей по палате. Они виделись когда два, когда один раз в год, профилактику вместе проходили. Их не стало. Мы решили, что лучше Дане побыть с малышкой, чтобы эти потери были не такими заметными». Я молчала, просто не знала, что такого сказать, чтобы это не прозвучало формально.
«Собственно, мои женщины выбрались из дома, а для моих друзей это является сигналом, что мы можем собираться у меня. Это – наш день. Кроме того, я возвращаюсь с малой родины, еще и тебя привожу. Конечно, этим мордам интересно. Аркадий уже немного о тебе рассказал». «А что с языком, как все это будет выглядеть, ты будешь переводить?» «Не так все печально. Немецкий прекрасно знает Аркадий, мой партнер по проекту, я немного тебе о нем рассказывал. Влад также неплохо говорит, учился в немецкой спецшколе. Сергей знает английский. Иван английский понимает, но не говорит. Правда, с украинским у него то же самое. Он знает и говорит только на чиновничьем языке. Это я тебе потом объясню. Валерка не знает иностранных языков, но он такой веселый, что ты не заметишь его незнания, ни ты, ни он неудобств не испытаете. Слава тоже не знает языков, но он обычно помалкивает, откликается фактически только на одну тему, поэтому ты можешь не заметить его языкового отсутствия, оно вполне совпадает с тематическим».
«Ну, хорошо. И что, все они физики? Я понятия не имею, о чем говорить с физиками». Марат подмигнул мне. «Со мной же как-то получается?» «Да, но ты один! А когда вас будет семеро, как говорят у вас, у физиков, эффект и влияние усилятся». «Эта история не о нас. Знаешь, иногда мне кажется, вот если война – и фронт нужно было бы делать только из нас – черта лысого из этого что-то вышло бы. Мы разучились объединяться даже против врага». «Результат индивидуализации общества?» «Не знаю. Говорят, что это результат нашей привязанности к земле. То есть к частной собственности. Обособленность и оборона. Но если прибалты в состоянии понять, что если силой отбирают добро у одного, следующим будешь ты, потому что вы с ним схожи, поэтому необходимо защищать его добро, иначе, в конце концов, накроют всех. У нас думают: хорошо, что забирают добро у этого, он козел, а вот у меня никогда не отберут, у меня-то за что? А если кто-то рыпнется что-то забрать, то они – козлы. Так-то вот. Ты не бери в голову, мне это трудно самому себе объяснить». «Тебе можно на радио работать, я бы тебя с удовольствием слушала». «Это я разве что у вас смогу устроиться, если проект провалится, у нас такое радио почти никому не интересно».
«Так все твои друзья физики?» «Ну, это очень сложный вопрос, Марта. По образованию – да. Все физики. Но физикой в чистом виде занимаюсь только я, если можно так выразиться». «А остальные?» «Аркадий занимает высокий пост в одной инвестиционной компании. Он поддерживает все мои начинания, даже финансово, но он формальный партнер. Ему нравятся мои идеи, он в меня верит, но сам занимается расчетами. Ищет, чем можно привлечь потенциальных инвесторов. И находит». «Знаешь, я тебе не задавала вопросов, когда ты рассказывал о проекте, но мне показалось, что Аркадий не изобретатель, я не ошиблась, проект держится на тебе?»
«Ты не ошиблась в том, что это не изобретение Аркадия. Но он мне очень помогает». «Как?» «Он находит то, чего я не могу найти, потому что просто не понимаю, что это нужно искать и отбрасываю даже в том случае, если нахожу. Он по-другому мыслит и видит. Понимаешь, я с детства что-то выдумываю, пытаюсь описать, но только Аркадию удается меня услышать и описать все так, чтобы мои идеи были понятны большинству». «А это не использование? Он тебя разве не использует?»
«Я расскажу тебе одну историю. Подростками мы отдыхали на море. Однажды на берегу я увидел чайку. У нее было повреждено крыло, она не могла летать. Она кричала от боли и беспомощности, но ее сородичи не обращали на нее внимания. Чем злили меня чрезвычайно. Я каждое утро бросал ей хлеб, чтобы она немного поела, и не знал, чем еще могу ей помочь. Я очень боялся, что ее сожрут кошки или кто-то обидит. С замиранием сердца, как только просыпался, бежал к ней: на месте, жива. Она держалась вторые сутки. Еще я очень злился на Аркадия, который говорил мне, чтобы я оставил чайку в покое, ей не нужен этот хлеб, она просто не может дотянуться, даже если бы захотела, хлеб сжирают другие чайки и голуби, а раненой чайке я этим не помогу. Природа сама регулирует.
Я обвинял Аркадия в жестокости, плакал, брал хлеб и шел кормить свою чайку. Спасал ее. На следующее утро со мной пошел Аркадий. Он не растрогался при виде чайки. Он бросил ей маленькую рыбку. Чайка ее сожрала. А через десять минут попробовала встать на крыло и взлетела. Аркадий положил в кильку таблетку обезболивающего. То есть понимаешь, он не отключал рацио, в отличие от меня. Он реально думал, как помочь. И когда придумал – начал действовать. В этом он весь, считает, что эмоции разрушают и размывают человека».
Я улыбнулась. «Неземное происхождение». «Что?» «Лишен тех самых земных семидесяти процентов воды». «Скажи ему об этом, ему понравится». «Лучше ты сам». «Ладно. Он, тем не менее, всегда говорит, что логика проигрывает интуиции. Поэтому он беспрекословно слушается меня и выстраивает свои логические цепочки на основании моих ощущений. Только так. Нас не подводят инстинкты и интуиция, нужно им довериться, а это очень сложно, потому что разум не позволяет сделать это». «Наверное, это мозговая ревность. Она может возникать чуть ли не везде и всегда, когда речь идет о выборе». «Наверное».
«А потом, знаешь, ничто так не сближает, как идиотские детские истории и поступки, о которых знаете только вы: ты и он. Например, у Аркадия каждый месяц шла носом кровь. Он очень этого боялся, терял сознание, дрожал так, что зубы стучали. И наш школьный врач пошутил, что у Аркадия там находится матка, поэтому пугаться не нужно, это естественное явление, что у него из носа каждый месяц идет кровь. У девочек кровоточит из другого места, а у Аркадия – из носа. Аркадий признался в этом только мне. Мы об этом долго думали, решили, что это патология. И думали так до восьмого класса. Потом уже до слез хохотали над этим диагнозом. Но кровь Аркадия не пугала и чувствовал он себя уверенно. До такой степени уверенно, что собирался идти учиться на хирурга, но все равно подался в физики. Со мной вместе». У меня слезы на глазах выступили от смеха.
«А остальные? Бабник Сергей?» «Вижу, ты заинтригована. Он это умеет – интриговать, если бы не умел – спился бы, – хмыкнул Марат. – Сергей – уникальный человек, он всю жизнь находил себя в самодеятельности. Собственно говоря, самодеятельность помогла ему поступить на физический факультет. Потому что такого актера еще поискать нужно. Он вживается в любую роль. Сейчас Сергей находит себя в кастингах». «То есть он подался в актеры?» «Нет, он профессиональный кастингист. Видимо, это запишут в его резюме. У вас идут какие-то талант-шоу?» «Конечно». «Сергей участвует в кастингах на всех возможных талант-шоу, где можно петь, танцевать, а еще лучше – выставляться». «И как, удачно?» «Всяко бывает, я скину тебе несколько ссылок на него в Ютубе, те, над которыми мы особенно ржем».
«А он красивый?» «Трудно сказать, понимаешь, подростком он серьезно относился к своему имиджу. Серьезнее, чем к внешности. Решил, что похож на Джона Леннона, с таким лицом он теперь и живет». «Он и правда на него похож?» «Сейчас – да. Без всяких пластических операций, благодаря внутреннему убеждению, что так оно и есть. Кстати, женат он на узбечке. Не потому, что влюбился без памяти, а потому что она – Йоко Оно». «Маразм какой-то».
«Да, но нашему телевидению нравится. Интересно то, что Серега вычислил, что будет нравиться нашему телевидению еще в те времена, когда нашему телевидению нравились программы о селе, балете и выверенные новости. А высшей степенью раскованности считался белый кружевной воротничок, выложенный на жакете ведущей новостей, и еще – бесстыдные блестки балета телевидения ГДР. Кстати, кто бы мог подумать, что мы будем воспринимать вас как кабарешну нацию? Хотя мы и не воспринимали, ведь этот балет считался западным, никто не думал о том, что это немцы сверкают голыми икрами».
Я рассмеялась, с Маратом было удивительно легко, даже рука не так беспокоила. «Рассказывай о других! Видимо, мне стоит подготовиться морально».
«Хорошо. Иван работает в министерстве. Даже не буду говорить в каком именно, потому что это не суть важно, он уже третье сменил. Говорит штампами. Прикрывается ширмами. Он давно уже не специалист, поэтому сейчас непринципиально, чему и где он учился. Он – классический чиновник. Крест на груди, грудь на пузе, пузо на коленях, колени на ковре того, у кого больше крест, больше грудь, больше пузо». «Но вы же с ним дружите?» «Сначала мы думали, что он отпадет. Как корочка с зажившей ранки. Так нет же – остается. Зачем-то мы ему нужны. Разве справедливо отнимать кислородную маску у того, кто все время ее на себя тянет?» «Возможно, кому-то она нужна больше?» «А ты готова решать такие вопросы? Откуда я знаю, что кому-то она нужна больше, чем Ивану?» «Нет, не готова. Поэтому никогда не мечтала о том, чтобы быть судьей».
Марат приумолк, видимо, думал о чем-то своем. «Слушай, мы тоже не в восторге от наших чиновников, но мне кажется, что такой ненависти, как вы к своим, мы никогда не испытывали. Я имею в виду, после сороковых прошлого века». «Понимаешь, те, кто сейчас при власти, не ощущают Украину Родиной. И даже землей, по которой они ходят. И даже территорией. Леса для них – сырье, земля – собственность, водоемы – ресурсы, женщины – товар, все остальное – движимое и недвижимое имущество. Как грибы-паразиты, которые живут за счет деревьев. Думают ли они о том, каково дереву? Вряд ли. Ты видела трутовики?» «Ну конечно».
«Наши правители напоминают мне эти грибы. Заражение деревьев трутовиками происходит из-за трещин от морозов, ожогов, механических повреждений дерева. Поэтому нельзя ломать ветки, бросать в стволы деревьев ножи, топоры, обозначать дорогу, делая зарубки или отрубая сучки. А наша земля, как и эти деревья, пережила много разрушений и бед. И всегда будут люди, бросающие в стволы ножи и обламывающие ветки. Поэтому будут появляться эти трутовики». «А что с ними происходит, когда умирает дерево?» «Ты знаешь, они перестают расти, обрастают слоем бесплодной ткани. Внешне они мало изменяются, только специалист поймет, в чем перемены. Они меняются изнутри. Но если и внешние изменения не сразу заметны, что уж говорить о внутренних».
Марат продолжал. «Трутовики живут скрыто от всех. Основная масса гриба – мицелий, спрятан глубоко в теле дерева. Наружу вынесены только органы размножения, это известные всем плодовые тела. Видела, они же будто рады всяким сексуальным коллизиям, и это понятно, если предположить, что они – трутовики. Они этого никогда не скрывали. Жрут мертвое дерево, частично его умерщвляют и жрут. Важно, чтобы оно разложилось. Грибы – падальщики, подумать только».
«А польза от них может быть?» «Внутренняя ткань трутовика используется в народной медицине. Ее применяют как кровоостанавливающее средство. Поэтому у нас случаются революции, отдирать их и останавливать свое кровотечение, понимаешь?» Холодок пробежал по моему телу, и снова разболелась рука. «Не знала, что ты такой кровожадный». «Марта, слушай, а ты думаешь, я хочу оставить мою страну? Я никогда не уехал бы отсюда, если бы из меня не делали мертвеца и не пожирали. Никогда бы». Я молчала. «Нет у этих уродов родства с деревьями, землей, воздухом, водой, горами. Нет. Это обычные трутовики».
Я прикоснулась к нему. «Видишь, я стал темнеть раньше, чем день». «Это трудная тема. Когда твоя жизнь состоит из оплаты лекарств, еды, квартиры, одежды – и все. Легко при таком раскладе ценить жизнь?» «Нет. Нелегко». Я притихла.
«Слушай дальше. Валерка – тоже учился на физика. Но стал торгашом. У него жены и дети появились раньше, чем профессия и работа, поэтому пришлось крутиться. Наука больше верит в перспективного ученого, чем женщина, и умеет дольше ждать и терпеть. Сначала он продавал аквариумных рыбок, у каждого из нас, его друзей, какое-то время жили стаи гуппи и неонов. Чуть ли не в каждом кармане сухой вонючий рыбий корм. Он научился делать аквариумы из выброшенных окон, а некоторые он приворовывал из заброшенных хат в деревнях и из опустевших НИИ. Аквариумы были нужнее и популярнее, чем хаты в деревнях и НИИ некогда всесоюзного значения. Потом он стал торговать очками, а сейчас продает дорогую стеклянную посуду. Аркадий говорит, что у него стеклозависимость и она прогрессирует».
«Можно мне еще одну таблетку?» «Терпи. Вторая таблетка дома, нам уже не так долго осталось». «Ноет все сильнее». «Это я тебе расшатываю нервы. Но осталось представить только двух персонажей. Чернобылец Славка, он сейчас пенсионер и льготник. Он старше всех нас. В год, когда рванул Чернобыль, мы учились в школе, а Славка служил в армии, как раз там. Сразу же включился в борьбу с последствиями. Ну и заработал кучу последствий для себя самого. Последние лет шесть у него не бывает месяца, чтобы он не ходил на похороны кого-то из своих чернобыльцев. У него больные сердце, ноги, вены, желудок, мозг, сосуды, суставы, печень – все. Он пьет чуть ли не каждый день, только тогда страх его отпускает. У него есть пистолет и яд. На всякий случай, когда станет совсем невыносимо. Но он привык так жить, в этой невыносимости.
Я не знаю, что его держит на этом свете. У него было две жены: одна – настоящая красавица, другая – вроде бы умница. Одна сбежала от него за границу. Другая – на дачу. Обе обижены на жизнь. У него две дочери, больные, неустроенные и несчастные. Видимо, именно их неустроенность и постоянные обвинения в том, что это он разрушил их жизнь, держат его на этом свете. Своим существованием он подпитывает их злополучность, ведь именно он во всем виноват, если он умрет, кого они будут обвинять в своих бедах?»
«Остался только один? Он самый уникальный?» «Не думаю. Влад – издатель. Когда-то мы работали вместе в одной лаборатории, потом он понял, что если это его и прокормит, то только через несколько сезонов. Он начал печатать голых баб и церковные календари. Собственно, и сейчас он продолжает это печатать, голые бабы в цене, как и церковные праздники. Но к этому ассортименту добавились книги всяческих советов для идиотов. Как выйти замуж за миллионера. Как получить первый миллион. Как иметь больше баб. Как изменять, чтобы он не догадался. Как ни за что не платить. И тому подобное. Он называет их «мои идиотские какочки». Слушай, совсем немножко осталось, но мы попали в эту чертову пробку!»
«Сколько мы будем здесь стоять? Мне нужна таблетка». «Потерпи, не думаю, что очень долго. Надеюсь». Мне было немного больно разговаривать, голос отдавал в руку, поэтому я огляделась. На нескольких столбах я увидела фотографию седовласого довольно интеллигентного вида мужчины в очках, который показывал обе свои ладони. «Это политик дирижер?» – спросила я у Марата, потому что, зная специфику, понимала, что на столбах висят исключительно политики.
Марат проследил за моим взглядом «О, нет. Это счастливое исключение, это – гипнотизер, у нас таких много, гастролируют успешнее популярных групп». «Не поняла…» «Это Аллан Чумак. Он не одинок в своей популярности и профессиональной сфере. У нас со времен развала СССР гипнотизеры стали популярнее кинозвезд. Их знали все. Они заряжали кремы, воду, газеты, листовки, которые нужно прикладывать к больному месту». Я издала стон. «Это что-то из серии про расчески, ножницы, ножи?» Марат хихикнул. «Да, но дороже. Однажды моя собственная свекровь пыталась лечить Даринку портретом этого господина, она приклеила его под кроватью малышки. Там его увидела подруга Даринки – Катя, они играли в прятки, и Катька залезла под кровать. Она долгое время думала, что это или любовник мамы Дарины, или странная подкроватная икона. После небольшого совещания с Дариной они решили, что это икона, поэтому повесили ее под рушничком в углу комнаты. Свекровь была возмущена. Но ведь она сама назначила Чумака ответственным за выздоровление Даринки и за ее хорошие сны». Я смеялась. «Вот ты смеешься, а эти люди собирали стадионы тех, кто верил в них и велся на рекламу, люди закрывали глаза, размахивали руками, жуть. У вас есть такие?» «Точно нет. Есть только Ури Геллер, он гнет ложки. Первый, кто согнул ложку на отечественном телевидении, он очень популярен». «У нас он тоже популярен, ведет шоу «Феномен». Я немного о другом». «О чем?» «Вас закалил Гитлер. Он привил вам отвращение к любым гипнотическим штучкам. Сталин на нас таким образом не подействовал. Мы любили легенды, у нас забрали Бога, мы начали верить в коммунизм, забрали коммунизм и еще не вернули Бога, нужно было найти, во что верить, и мы коллективно породили всех этих экстрасенсов». «То есть ты считаешь, что Гитлер постоянно напоминает нам, что стоит держаться подальше от возможных коллективных психозов?» «Что-то в этом роде. У вас иммунитет». «А как же Геллер?» «Слушай, он, кажется, родился в Тель-Авиве, верно?» «Вроде бы». «Ну, кому бы еще немцы позволили пудрить себе мозги, если не еврею?» Я расхохоталась, как сумасшедшая. «Разве что туркам». «Тронулись!» – обрадовался Марат. Через несколько минут мы заезжали во двор. «Сейчас выпьешь таблетку, обезболивающее в моем доме всегда есть».
Я зашла в двухкомнатную квартиру Марата с небольшой кухней и огромным балконом, у дверей которого стоял велосипед, как бы намекая на то, что нас пригласили на трек. Посреди одной из комнат стоял большой овальный стол. Нас встретил Валера, который деловито жевал колбасу. «Привет, я Валера», – представился он, не замечая мою правую руку, которую я к нему протянула. Он ткнул мою левую, больно не было, но я дернулась от неожиданности. «Хорошо, что левая. Не будет мешать. Слушай, ты набросай что-то на стол. Чего стоишь? Давай, мечи икру».
Марат обнял меня и отвел на кухню. Достал таблетки, налил в стакан воды. «Выпей, должно полегчать». «Слушай, что я должна делать? Метать икру? Я правильно поняла? Это он после общения с аквариумными рыбками так стал говорить?» «Нет. Это означает, что поскольку в доме есть женщина и это ты, мы не будем накрывать на стол. Ибо все это дело женских рук. Ты должна нарезать хлеб, делать бутерброды, фаршировать яйца, готовить салаты, выкладывать колбаску и сырок – на одно блюдо, волнистыми рядами. И делать это очень быстро, потому что мы хотим выпить, но не будем этого делать без закуски, потому что мы не алканавты». «Что?» «Не умеешь?» – невинно спросил Марат, лукаво улыбаясь. «Я могу только заказать что-нибудь в Интернете, ну, или сходить в супермаркет». «Вот поэтому ваши мужчины охотятся за нашими бабами». Я фыркнула. «Ты не фыркай, а послушай меня». Я снова фыркнула. Именно в это время в кухню пожаловал Иван. Он принес две бутылки водки, которые осторожно, как биоматериал, уложил в морозилку. А еще две банки икры. «Масло есть?» Я призналась, что не знаю. Иван проверил. «Есть. Так бери, нарезай батон, намазывай маслом и выкладывай по пол чайной ложечки икорки. Пойду, покурю». И он исчез на балконе.
Марат отправился открывать дверь, а я зашла в другую комнату. Там стояли две бандуры. Вспомнила, что малышка Марата и его жена – бандуристки. Одна из бандур была словно чем-то исколота. «Ты бросила на произвол судьбы две банки икры?» «Марат, что это такое?» – указала я на исколотую бандуру. «Это Даринка. Когда она поняла, что ей постоянно будут делать уколы, она стала колоть бандуру. Чтобы она от нее не заразилась. И чтобы не так страшно было». «А это доска визуализации?» – Я указала кивком головы на круглый плакат, висевший на стене. На нем были изображены Пеле, Хэлли Берри, Шэрон Стоун и еще двое мужчин. Один из них напоминал мне Хемингуэя, другого я не смогла узнать. Текст был на украинском, я ничего не понимала. «Это герои Дарины. Сезанн, Пеле, Хемингуэй, Стоун и Берри. Все они диабетики. Берри даже сама родила. Для Дарины это очень важно, понимаешь?» Я прекрасно понимала.
Появился Сергей, больше похожий на унылую старую овцу в очках, чем на Джона Леннона, и начал, по меткому выражению Марата, кобелить. Хватал меня за бедро и пытался привлечь к себе. Без слов. Собственно, он готовил меня, тем самым спасая меня от того, чтобы готовила я. Сергей не выпускал меня из комнаты. На кухне же колдовал Влад, наверное, пользовался советами одной из своих брошюр. Ему помогали Аркадий и Марат. Аркадий – высокий и уверенный в себе, с такими глазами и подбородком, которые могли бы быть у скал.
Сергей потащил меня в гостиную. Так, началось. За столом сидел Иван. Рядом с ним лежал пакетик мезима. На тарелку он сразу наложил гору яств. «У Ивана – язва и панкреатит, поэтому он не садится за стол без мезима». «Может, лучше отказаться от жирного и жареного?» «Ха, – ответил Марат. – У нас страна как будто создана для продажи панкреатинов: ненасытные желудки, нездоровая пища и тяга к бесконечному и щедрому застолью».
А потом были водка, вино и разговоры. Сначала была водка, потом кто-то вспомнил о шампанском, Марат сказал, что в другой раз, но Сергей помчался за шампанским на кухню. Я думала, что после водки и шампанского мне будет плохо. Но выпитое пока никак на мне не отразилось. Поэтому я продолжила вместе со всеми.
Говорили о футболе, правительстве, газе, коварных русских, о том, как Меркель складывает руки на животе, а это значит, что она напористая, агрессивная и всегда беременна какой-либо идеей, выбирает, то ли броситься и укусить, то ли затаиться и переждать; «а еще прячет талию, которая давно расплылась», о Штази, КГБ, Путине; говорили о поляках, которые устали поддерживать украинцев (тут я пошутила, что так, наверное, чувствует себя назначенный адвокат, когда понимает, что больших денег он не получает, но выкладываться нужно, поскольку речь идет о его профессиональной чести, профессиональном долге). А также о том, что евреи нас используют и мы еще пожалеем, что на это повелись. Как и по поводу турок, которые наглеют с каждым день, а мы этого не замечаем. О том, что украинские женщины – корыстные и красивые шлюхи, а мы, немки, в большинстве своем выглядим как легкоатлетки, нужно провериться на гормоны. «Вот какой у тебя рост?» – спросил коренастый Валерка. «Я меньше тебя», – спокойно ответила я. Сергей незаметно наклюкался так, что начал целовать мой гипс. Аркадий скептично помалкивал.
Мы с Маратом вышли подышать на балкон-трек. Ночь была спокойной. «На небе штиль, – улыбнулся Марат. – Люблю ночной город. – Он перевесился через перила. – Смотри, сколько припарковано машин, ничего не замечаешь?» «Замечаю. На газонах стоят, на тротуаре, один на детскую площадку влез». «Ты права. Но я сейчас не об этом. Обрати внимание на то, как мигает сигнализация. Современные светлячки больших городов – сигнализации припаркованных автомобилей, они перекликаются, живут своей жизнью, мигают в темноте и посылают любовные сигналы друг другу. А мы ничего не понимаем».
«И слава Богу. Мы много знаем о машинах, по крайней мере, гораздо больше, чем о светлячках», – раздался чей-то голос. На балкон вышел Аркадий. «Вы не романтик», – сказала я. «Можно на «ты». Я романтик, но прагматичный. Метис. Дитя современного мира». Когда он улыбался – преображался. Это странно, но я подумала, что могла бы в него влюбиться. Так же сильно, как в Дерека. Трогательно-опасный. Это при том, что на подсознательном уровне он меня раздражал, я считала, что он использует Марата.
На какое-то мгновение я представила себя чайкой, которой он дал обезболивающую таблетку, чтобы та полетела, насколько хватит таблеточной анестезии, потом упала и разбилась. Но уже не на глазах его впечатлительного друга. Когда не видишь – этого как будто и не происходит. Аркадий наклонился ко мне. «Я не верю в сестринство». Тихо, почти по слогам, сказал он. И ушел.
«Что он тебе сказал?» «Я не уверена, что поняла. Слушай, а он женат?» Марат подумал перед тем, как ответить. «Он вдовец. Его дочери Анне шестнадцать, она учится в Женеве. Он не хотел, чтобы она росла с мачехой, поэтому у него постоянные отношения. Но не с одной женщиной, а с проститутками». «Он не верит в сестринство, но верит в проституток. Потому что легче поверить в чек – “к оплате”». «Он тебя обидел? Не обращай внимания, он заботится обо мне. Даже не обо мне, а о моей семье. Чтобы не распалась, чтобы никто ничего не разрушил». «Я похожа на женщину, которая может разрушить крепкую семью?» «Ты не похожа на проститутку. Этого ему достаточно, чтобы не доверять тебе. Давай сменим тему?» «Давай!»
«Ты когда-нибудь предполагала, что Германия объединится?» «Мне трудно было осознавать, что существует две Германии, если честно. Поэтому я воспринимала ту Германию – просто как отдаленную часть моей Германии. Или как часть Чехословакии. Впрочем, сейчас происходит то же самое. А ты думал, что Союз распадется, что твоя страна обретет независимость?»
«Не думал. Тогда я читал не те книжки. Но со временем начал думать, но Союз успел распасться до того, как эта мысль у меня созрела. А потом все закрутилось, как в калейдоскопе. Однажды ты встал, посмотрел в окно и увидел, что кто-то крутнул его, пока ты спал. И теперь перед тобой другая картинка. А потом еще раз. И еще». «А у меня такое впечатление, что этот кто-то эту картинку не докрутил, остановился на полпути, одна Германия наложилась на другую, но новой картинки не получилось. Что-то настоящее, а что-то поддельное». «Вы в силах ее докрутить».
Когда мы вернулись к гостям, Иван все еще продолжал жевать, Сергей уже спал. Аркадий вызвал офисного водителя, а Влад – такси. Слава смотрел телевизор с выключенным звуком и пил. Валера что-то рассказывал Ивану, который больше внимания оказывал красной рыбе, чем словам друга. Была уже половина первого. Я сказала, что мне нужно собирать чемодан, но Валера возразил, что мне его уже собрали. Потом он предложил выпить за дружбу народов. И мы выпили. Потом за женщин. Потом спросил, придираются ли наши таможенники к ввозу продуктов из Украины. «Может, они, как канадцы, думают, что мы упаковываем микробы в банки с икрой?» Я ответила, что не знаю, но у меня будет возможность проверить. Валера сказал, что несколько банок икры мне положили между брючками и синей кофточкой.
Потом мы еще за что-то пили, а может, и просто так, потому что Валера сказал, мол, последнее дело к чему-то привязываться. Пора было подхватываться и ехать в аэропорт. Марат вызвал такси, взглянул на меня. «Мда. Хрестоматийное возвращение немки из Украины домой. Пьяная, обкуренная и переломанная». Мы рассмеялись. «Тебе надо бы повстречать Кличко, чтобы сфотографироваться с ним и рассказывать, что это он тебя искалечил, потому что могу себе представить реакцию твоих на историю с ножницами. Или скажи, что тебя пытались изнасиловать менты». «Не неси чушь». У регистрационной стойки я встретила восточника Адама, рядом с ним стояла девушка с такими невероятными ногами, что мне захотелось искренне за него порадоваться, но он сделал вид, что мы не знакомы, и только когда она наклонилась, чтобы заполнить какие-то бумажки, он подмигнул мне.
В самолете я и правда встретила Кличко и попросила с ним сфотографироваться. Он вежливо улыбнулся и согласился. Я спросила его, а вот как он ощущает, он уезжает из дома или едет домой. Он еще раз вежливо улыбнулся и сказал, что направляется из дома на работу. Резонно. Я собиралась еще что-то спросить, но какая-то личность в сером костюме прикинулась серым волком и настойчиво, касаясь моей загипсованной руки, предложила мне усесться на свое место. Что я и сделала.
Глава пятнадцатая
Сломанная рука превращала меня в человека, который что-то несет и боится уронить. Я думала, что привыкну к этому быстрее, чем на самом деле с этим свыкалась. Дом мой притих и совсем мне не был рад, когда я вернулась. Когда я возвращалась из всяких командировок и поездок, достаточно было почувствовать знакомый запах, и оживали эмоции. Я затаилась в прихожей, как вдруг услышала шорох. Вбежала в комнату, крепче придерживая сломанную руку, будто она могла воспользоваться моментом и сбежать, отвалиться. Двери шкафа были открыты, оттуда выглядывала мордочка Библии деда. Как котенок, который заснул в шкафу, а потом выглянул проверить, не пришел ли кто-то, кто может накормить.
Я присела и погладила ее, потом мне захотелось взять ее на руки и прижать к себе, но сломанная рука помешала мне. Поэтому я шире открыла дверь шкафа и уложила ее на нижнюю полку, провела рукой по обложке – как будто погладила и успокоила. Интересно, кто-нибудь еще общается с Библией, как с кошкой? В тот самый момент, когда вернулся домой?
На столе я заметила банку оливок. И маленькую записку: «Современная ветвь мира. С возвращением, Эйрена, [9] когда бы ты ни вернулась». Оливки были нафаршированы перцем чили. Это был привет от Манфреда. На записке порхал его фирменный голубок: три замершие в воздухе скобки. Манфред по мне соскучился, или ему что-то срочно понадобилось. Судя по перцу чили, это примирение было кусачим. Когда Манфред придет за этим примирением, нужно обязательно показать ему фотографию с Кличко. Марат – ясновидец, это ж надо такое напророчить.
Я решила, что пока не буду включать свой немецкий телефон, большая часть меня еще была в Украине, с Маратом. Не стоит начинать разговор и извиняться перед родственниками, если ты сама не чувствуешь своего физического присутствия. Кстати, о физике, нужно выпить кофе и отправиться в Институт экспериментальной биофизики, именно это я обещала Марату. Лично принести и зарегистрировать его проект. «Голос тела». Он не изменил название, оно воспринималось как эротический тренинг для одиноких дам.
Я заварила кофе. Горьковатый запах убаюкивал меня, хотелось свернуться клубочком в кресле и немного поспать. Манфред говорил, что запах и сущность кофе – ближе к одиночеству и индивидуализму. Чай – семейный, теплый, благочинный, призывающий к общению. Кофе – самодостаточный, резкий и пикантный. Он для прошлого и будущего, для воспоминаний и грез, чай – для настоящего. Я вспомнила слова Марата: «Нам все равно, что пить. Кофе, чай, водка, шиповник. Любое питье побуждает нас к разговорам и посиделкам. Это нечто ментальное». Захотелось запустить Интернет, чтобы найти что-то об Аркадии, или взять и написать ему письмо. Одержимость. Почему сестры увлекаются сомнительными друзьями своих братьев? С глазами, как у скалы.
Я засомневалась, стоит ли принимать душ, боялась, что могу поскользнуться и упасть. И сломать, например, ногу. Но тело требовало мытья и чистоты, и я решила услышать наконец его голос, прикрикнула на мозг, нашла резиновые тапочки, купленные для Египта, чтобы не порезать ноги кораллами, и влезла в душевую кабину. Никак не могу осознать, как же так устроена жизнь, что ты даже не успеваешь уснуть в одной стране, как перемещаешься в другую, а утро все тянется и тянется.
Джинсы мне надеть не удавалось, поэтому я втиснулась в длинное платье и сапоги. Только физические изменения способны повлиять на мой привычный стиль. Это платье и эти сапоги я надела впервые. Все эти мои манипуляции заставили меня вспомнить картину Манфреда, которую он подготовил к Международному дню левшей. На ней человек, левую руку которого будто удерживают невидимые силы, рисует другого человека правой рукой. У этого нарисованного человека появлялись зеркальные органы, справа билось сердце, слева пристроилась печень. Я чувствовала себя такой нескладной. Трудно, когда тебя заставляют быть не тем, кем ты есть.
Девушка за регистрационной стойкой долго не могла понять, что мне нужно и кто я такая. Наконец она нажала на кнопку, чтобы вызвать джинна. И он пришел. Серые брюки, серый свитер в любопытные ромбы, которые будто рассматривают тебя. Абсолютно лысый, примерно с меня ростом. Он улыбнулся и спросил: «Что вы принесли такое страшное, что Эн не может разобраться?»
Я увидела его глаза, серо-голубые, такие же любопытные, как и ромбы на его свитере. И неожиданно для себя я поняла, что вижу в них свое отражение. Я давно не видела своего лица в глазах других людей.
Папка его сразу заинтересовала. «Вот это да! Значит «Голос тела» – интересно», – сказал он. И снова посмотрел на меня. «Меня зовут Райнер Граф, я заведующий лабораторией и вхожу в комиссию по рассмотрению проектов, представленных на грант. Вы украинка, имеете отношение к этому проекту?» «Нет. Я немка. Марта фон Вайхен. Не имею никакого отношения к этому проекту. Разве что у меня есть голос, ну и тело». «Это я вижу. Вы юрист?» Это было так неожиданно, оказывается, не только Марат ясновидец, видимо, это присуще всем физикам, какую печать оставил на моем челе юридический факультет? «Да, я юрист». «Понятно. Мы проверим документы на правильность оформления, сейчас Эн выпишет вам справку о том, что все документы приняты. Вы сможете проверить опись, указать на недостатки, указать, какие еще документы от нас вам нужны. Эн выдаст вам регистрационный номер, который должен присутствовать на всей дальнейшей переписке и документации. Позже с вами свяжутся».
«Лучше связываться не со мной, а с разработчиками проекта, там есть их данные». «Разве вы не представляете их интересы?» «Я и свои не очень четко представляю, если честно». «Очень странная позиция для юриста». И тут я поняла, что этот Райнер, в глазах которого я все еще видела собственное отражение, думает, что я что-то вроде юридического агента Марата. «Я юрист. Ну, то есть я преподаю право в университете, но я не представляю интересы заявителей. Понимаете, так вышло случайно, мы просто друзья. Даже не друзья, а случайные знакомые, хотя нет, это не совсем справедливо, скорее все-таки друзья…» «Случайные друзья? Интересно. Вы меня интригуете. Я думал, что случайными бывают только партнеры в сексе. Даже брак бывает случайным, но дружба – более логичное явление. Это больше физика, чем химия».
«А у вас тут есть кафе? Я вам все объясню. У меня что-то не то с мышлением. Видимо, сказывается перелом руки». Я пригласила незнакомого мужчину на кофе. Агата бы это одобрила. «У нас есть кафе. Это на этом же этаже, все время держитесь правой стороны, а потом – по запаху. Я к вам присоединюсь чуть позже, должен решить пару вопросов, в том числе и этот». Он легонько постучал указательным пальцем по папке Марата.
Я как раз впилась зубами в ванильный сухарик, когда Райнер Граф подошел к моему столику. «Что у вас с рукой?» «Перелом». «Марта фон Вайхен, скажите, я похож на идиота, который нуждается в таких ответах?» «Вы даже не похожи на идиота, который задает такие вопросы». Он рассмеялся. Я тоже. «Знаете, я только сегодня вернулась из Украины, и почти сразу к вам, чтобы успеть зарегистрировать проект. Сама уговорила моего украинского знакомого передать это со мной для надежности, а не отправлять по почте. Правда, тогда мы еще не напились».
«И рука была еще целой?» «Нет, рука сломалась раньше. Из-за того, что я подобрала ничейные ножницы». «Ничейные ножницы?» «Так я думала, но действительно они были ведьмовскими, не нужно было их трогать, потому что из-за этого я сломала руку». «Кхм. Ценю вашу откровенность. С задачей по проекту вы справились. Кстати, проект выглядит многообещающим». «Я рада». «Но не стоит так сразу радоваться. Знаете, некоторые люди и отношения тоже выглядят многообещающими, но после небольшой проверки сдуваются и исчезают». «Вот именно поэтому я буду сразу радоваться, чтобы успеть получить положительные эмоции». Он снова засмеялся.
«Что вы делали в Украине, если не секрет? Пытались поймать на себя, как на живца, украинских ведьм? Проверяли стадионы к Евро-2012?» «Нет, я пыталась разыскать информацию о своем деде. Понимаете…» «Может, перейдем на «ты»? После таких подробностей о вашей жизни, видимо, я уже заработал статус случайного друга?» Я согласилась. «Понимаешь, я долго считала, что мой дед погиб во время Второй мировой. Мы знали, где его похоронили, даже наведывались туда еще во времена Союза. Только потом я узнала, что в 1943-м он потерял рассудок, его поместили в одно из закрытых заведений в Берлине, он находился там долгое время, а потом заболел раком. Там он и умер недавно. Такие вот дела».
«Зачем ты это разворошила? Это даже не опавшие листья, это листья, ставшие перегноем, они дали жизнь новой, молодой листве. Нужно ли ее срывать? Позволь листьям жить, производить кислород, позволь жить себе». «Не знаю зачем. Мне не хватает кислорода. Видимо, мне очень хочется найти подтверждение тому, что он не был нацистом. Я не знаю, как тебе это объяснить…»
«Да я, наверное, понимаю. Мы не чувствуем себя наполненными, цельными, пока не узнаем, каким было наше прошлое. Под нашим, я имею в виду нацию, думаю, что ты тоже это имеешь в виду. Это незнание, сомнения, опасения тебя раскачивают. Но так же что-то раскачивает часы, историю, время. Вся наша жизнь – раскачивание, ведь правда?» «Знаешь, я больше о себе узнала, когда начала вот так раскачиваться, чем когда замирала в ожидании правды и жизни». «Птицы или бабочки тоже узнают о себе больше, когда начинают летать, потому что это их естественное свойство, которого они лишены, пока не подрастут. Так и с нами». «Стоит начать летать?» «Ты уже начала, не так ли?»
«Начала, спасибо». «Знаешь, у меня тоже своеобразная история с дедом. Мне, можно сказать, повезло. Дед как раз работал в немецком подполье. Ну, то есть так считалось». «То есть?» «Ты знаешь что-то о движении “Дети свинга”?» «Конечно. И о «Белой розе» [10] тоже. Судя по твоей фамилии, твой дед…» «Судя по моей фамилии – да. Но на самом деле дед принадлежал к свингюгендам. [11] Я всегда им гордился. Странные ощущения, он словно лишил меня бремени общенемецкой вины перед другими, но обострил мою вину перед немцами. Потому что он был предателем нации, ведь так? Никто об этом открыто не заявлял, но я чувствовал это. Потом меня стали подкалывать тем, что вся работа деда – это было несерьезно, какой-то протест танцульками. В отличие от «Белой розы» или «пиратов».
Хотя его несколько раз арестовывали, и я об этом рассказывал, потому что мне об этом рассказывал дед. Но дед остался жив, одно это уже было подозрительным, в то время герои в живых не оставались, если это был подлинный героизм. Ну, и фамилия, ведь сначала вспоминаешь Вилли Графа, а он настоящий герой, в отличие от как бы ненастоящего Графа. Моего деда. Впервые я почувствовал это в Баварии, когда приехал в Мюнхен на школьную экскурсию. Они услышали мою фамилию и, конечно, настаивали на том, чтобы отвести меня на улицу Графа, а я говорил, что я не тот Граф, чувство было мерзкое. Будто я присвоил чужую фамилию. Дед – ненастоящий герой, дед – ненастоящий Граф. Так каким должен быть я, его внук? Я сам поверил в свою ненастоящесть». «И что ты делал? Все время просил, чтобы тебя ущипнули?»
«Нет, начал набираться знаний о самозванцах, буквально повелся на них». «Ты имеешь в виду тех, кто выдает себя за кого-то другого?» «Угу. Псевдоцари, псевдопророки, псевдогерои и всякое такое. Каждый раз открывал для себя что-то новенькое». «Например?» «Знаешь, это интересная тема, больше всего информации я нарыл о псевдоцарях Персии, России, Великобритании, Франции и Португалии. Из немцев меня заинтересовал только Тиль Колуп – псевдоимператор Фридрих II Штауфен. Яркий немецкий представитель из числа псевдоличностей. Наш народ либо недоверчив, либо лишен фантазии». «Чего не скажешь, вспоминая Гитлера или, например, братьев Гримм». «Угу. Знаешь, сначала я решил, что если бы реальные цари были более аскетичны и не злоупотребляли внебрачными связями, псевдоцарей было бы меньше. Игривые французы, неугомонные португальцы и славяне, не признающие светских и церковных законов, только и придумывают, как все это обойти.
Но потом понял, что полового чистоплюйства было бы маловато. Всегда имел место протест. Он и рождал своих героев. А еще интриганство, которое лепило героя из любого, иногда используя этого человека втемную. Ну, кроме того, высокая детская смертность и братоубийство. Никогда не можешь быть уверенным в том, действительно ли этот ребенок умер от чахотки или, чтобы спасти его от интриг, был похоронен кто-то из слуг. Недаром ведь человечество верит в воскресение Христово». «Но ты ведь понимал, что дед твой не был псевдогероем и не носил чужое имя?» «Да, понимал. Но все равно считал, многократно убеждая себя в обратном, что если дед выжил, настоящим героем он не был…»
«Знаешь, Марат, проект которого я тебе принесла сегодня, тоже об этом говорил». «О ненастоящих героях?» «Не совсем, но о чем-то очень созвучном». «Расскажешь?»
«Марат говорил о том, что в условиях постоянной оккупации Украины, поглощения ее другими империями и использования только в качестве дополнительной территории, выживали только трусы, предатели и приспособленцы. Героев убивали. Смелых уничтожали. Громкоголосых клеймили. Принципиальных арестовывали, мордовали, казнили. Выживали слабые духом. Марат говорил, что трудно осознавать себя потомком слабых духом. Поэтому Украине трудно отстаивать свою позицию в той же объединенной Европе». «Разумно. Вижу, ты там не только пила, ломала руки, подбирала ведьмовские ножницы и искупала вину нации. Ты еще слушала». «Ну да. И внимательно. Знаешь, это пафосно звучит, но я открыла для себя другой мир. В чем-то страшный и непонятный, в чем-то прекрасный и непостижимый. Одновременно родной и чужой. Неизвестно, что больше привлекает, а что больше отпугивает. Со мной говорили не только люди. Со мной говорила одна старая хата на Житомирщине. Со мной говорил Киев. Со мной молчали деревья Бабьего Яра, я дышала калиной у Креста, установленного в честь украинского освободительного движения».
«Я бы с тобой тоже говорил, если бы был Киевом», – сказал Райнер, и я снова увидела свой облик в его глазах. Он коснулся моей руки. «Мы сможем еще увидеться? Я давно ни с кем не разговаривал настолько откровенно. Видимо, откровенность чувствует другую откровенность лучше, чем сами люди. Увидимся?» «Обязательно». Я оставила Райнеру Графу все свои координаты и свое отражение в его глазах. А еще вдруг поняла, что не хочу и не хотела ничего писать Аркадию.
Дома я решила набрать Ханну, она долго не брала трубку и только позже сама мне перезвонила. «Ты что так долго? Я уже собиралась снова отключить телефон». «Ты вернулась! Наконец-то. Манфред прекратит меня преследовать?» «Он тебя преследует?» «Ну, не буквально. Но трижды звонил. А еще звонила его безумная жена». «Бриг? Что она от тебя хотела?» «Узнать, что от меня хочет он. Бедная девочка совсем ему не доверяет». «Она думает, что ты беременна от него?» «Она не знала о моей беременности, хотя он знал, но не сказал ей ничего. Я сама затронула эту тему, теперь жалею, я убеждала ее, что ребенок уж никак не от Манфреда, но она, конечно же, мне не поверила. Хорошо, что ты вернулась, поможешь мне покончить с этим кавардаком. Ну а ты как съездила?»
«Ты не хочешь ко мне прийти?» «Хочу, но не сейчас. Я на проплаченных и недешевых курсах. “Как воспитывать детей в семьях, где родители принадлежат к разным расам и верованям”». «Ханна, но ты даже не знаешь, от турка у тебя ребенок или нет? И ты будешь воспитывать ребенка сама, по крайней мере, поначалу, или ты надеешься на появление турецкого папаши? Я это вот к чему, зачем ты записалась на эти курсы?» «Здесь очень интересно. Тебе бы тоже понравилось, такая неоднородная среда. Именно здесь – настоящий Берлин. Может, подойдешь в нашу кофейню? Мы с девчонками всегда пьем кофе после окончания курсов». «В другой раз. Так тебя ждать?» «Да. Ты привезла из Украины чего-нибудь вкусненького?» «Конфеты, икру с микробами, водку и маковый рулет». «Вкуснятинка. Скоро буду».
Неугомонная Ханна. Телефон я снова выключила и загрузила свою почтовую программу. Черные войска непрочитанных писем. Среди прочих – письмо Марата. Я открыла его. Марат интересовался, как я добралась домой и как моя рука. Не очень беспокоит? Я ответила, что рука в порядке благодаря контрабандной наркоте, которую он мне подсунул и которую не нашли наши таможенники, с его документами все обстоит еще лучше, я сообщила всю необходимую информацию и регистрационный номер, а еще попросила немного рассказать о его семье, потому что мы говорили больше о моей, а теперь мне хочется больше узнать о Маратовой. И передала всем привет, не выделяя Аркадия. Райнер – чудотворец. Несколько часов назад я бы обязательно написала Аркадию отдельное письмо и раскрутилась бы пружина абсурда.
Остальные письма интереса не представляли и касались работы. Кроме одного. Это было письмо от Боно.
«Марта, привет. Мне передали, что ты ищешь письма деда. Тут такое дело, письмо я продал на аукционе. Даже не предсталял себе, что его кто-то может купить, но его купили за бешеные бабки. Хватило на открытие и оформление клуба. Хотя такую сумму я выручил, видимо, не за письмо, а за оригинал психоделических нот, которые продавал вместе с письмом. Ты бы слышала эту музыку! Но приятели говорят, что покупатели любят ноты с легендами. Поэтому, если тебе не нужны другие его письма – перебрось мне, мать сказала, что все остальные письма у тебя. У вас дела пошли лучше, а клуб сжирает много бабла. Спасибо, посвящу тебе одну из композиций».
Я полезла в свои бумажки, письмо деда № 4 было там. Уже без приложенных к нему нот, потому что ноты я оставила в музыкальной школе имени Лятошинского. Боно шмалит. Наверное, обкурился и не вспомнил, куда он дел это письмо. На всякий случай я решила пока ничего ему не отвечать. Все это выглядело странно.
Несколько писем пришло от Оскара, я даже просматривать их не стала, убила и все. Чего-то адекватного в ответ на свое малоадекватное письмо о положении лиселей не стоит ожидать, а в который раз читать о том, что я сумасшедшая, настроения не было. Ныла сломанная рука. Мне почему-то пришло в голову, что именно так чувствует себя надломленная ветка дерева, ей тоже больно, крутит, жмет. Недаром ребенком я пыталась перевязать такие ветки лентой, дети чувствуют боль деревьев.
Настроение изменилось, нужно было выпить обезболивающее, но врачи предупреждали, что этим не стоит злоупотреблять. Украинские врачи тоже учат терпению. Все тренируют терпение спокойного украинского народа. Терпеть боль как тренинг, потому что жизнь состоит из боли, как Земля из более чем семидесяти процентов воды.
Ханна округлилась и выглядела прекрасно. «Ты помнишь наш тест на полноту?» – с порога спросила она меня, пытаясь покрепче ко мне прижаться. «Да». Тест на полноту очень прост, нужно легко пройти между двумя припаркованными вплотную друг к другу машинами, и не задеть зеркала, и вообще не спровоцировать сигнализацию. Если удастся, сигнализация не устроит истерику, тогда с твоими бедрами и другими важными частями тела – все о’кей. «Теперь от меня пищат все сигнализации, такой кайф – проходить мимо, не касаться, а она – вопит! И не переживать из-за того, что ты толстая». Ханна мне подмигнула. «Как ты сломала руку? В этом виноват пылкий казак? Если я рожу мальчика, мы с ним обязательно полетим смотреть футбол в Украину или в Польшу». Логика Ханны достойна отдельной диссертации. Но меня радовало то, что она не бросилась трясти мою бедненькую ручку.
«Это довольно мистическая история, давай я не буду тебе ее пересказывать, сегодня меня уже об этом спрашивали». «Кто?» «Мужчина». Ханна посмотрела на меня внимательнее. «Мужчина? Кхм. Ты сказала это так, что я просто не могу не поинтересоваться, что это за мужчина, при упоминании о котором у моей подруги меняется голос, а?» «Он физик. Зовут его Райнер. Я ему передавала материалы Марата». «Марата?» «Да, он тоже физик. Очень помог мне там, в Украине. Мы немного похожи с его сестрой. Вполне возможно, его бабка и мой дед были знакомы. Если можно так выразиться. Я не знаю, можно ли считать знакомством момент, когда враг располагается в твоем доме. Они могут и не быть знакомыми при таких обстоятельствах». «Ты опять за свое. Война, дед, вина. Оставим Марата, хочу услышать о физике. Ну?» За это время Ханна умяла полкоробки конфет «Вечерний Киев».
«Хорошо. Райнер Граф. Лысый физик средних лет. Со светлыми глазами, в которых я увидела себя». «Мне это кажется, или ты и правда нашла свой идеал?» «Я не могу назвать его моим идеалом. По крайней мере, внешне, но он очень теплый. И когда вспоминаю о нем, теплеет в животе. А это хороший знак». «Ты же знаешь, как я отношусь к внешним идеалам. Мой идеал – Роберт Де Ниро, из всех существ мужского пола, которых я встречала, больше всех на него похож таксун Манфреда Тролль». Я так расхохоталась, что испугалась, как переживет это землетрясение моя сломанная рука. Тролль действительно был похож на Роберта Де Ниро. «Я счастлива за тебя, – сказала моя подруга. – Счастлива, потому что наконец ты перестаешь жить прошлым. Дедом, Дереком. Буду рада пожать руку лысому физику Райнеру».
Самое интересное, что порадоваться от пожатия руки Райнера Ханне посчастливилось всего лишь несколькими минутами позже. Ибо он позвонил в дверь. «Привет. Я подумал, что если сегодня не ворвусь к тебе, то снова почувствую себя псевдогероем. Хотя я несколько раз звонил, потому что на самом деле не такой нахрапистый, как кажется. Но бесполезно. Никто мне не отвечал». И тут Ханна пожала ему руку. И сказала, что ей пора спать, поэтому она уже уходит.
Он был действительно теплым. Телесно-теплым. С опытными руками и уверенным взглядом. Мы занимались любовью, и я замирала, ожидая, когда он почувствует мой настойчивый взгляд и откроет глаза, и я в который раз увижу свое отражение. Он открывал глаза, я видела себя и выдыхала его имя, снова наседая на него. Телефон я не включила.
Глава шестнадцатая
Спешить мне было некуда, но я подскочила ни свет ни заря, потому что подумала, что Райнеру нужно раньше вставать и он не решиться меня разбудить. А потом будет искать оправдания, почему опоздал на работу. Кроме того, хотелось бы вызвонить моего знакомого психолога Эрнста Янга, чтобы договориться о встрече. Райнер не спал, уставился в потолок, и, судя по выражению его лица, вряд ли он обращался к Богу. Если бы я была Богом, непременно подумала бы, увидев такое, что надо мной кто-то нагло насмехается. С другой стороны – мистер Бин тоже молится. Но смеяться позволено исключительно Богам. Я легонько пнула его ногой. «Не спишь?» «О Господи!» «Все. Теперь он точно заметит твои неучтивые гримасы». «Да он к этому привык, я каждое утро делаю упражнения для глаз. Выписываю названия европейских столиц глазами». «Лучше стал видеть?» «Нет, но географию знаю лучше, чем знал в школе».
«Тебе не нужно на работу?» «Нужно, но дело в том, что твой дом ближе к моему университету, чем мой». Райнер поцеловал меня и сказал, что у меня горят уши. «Наверное, тебя кто-то вспоминает». «Это точно не ты?» «Нет, я не успел тебя забыть». «Тогда это моя семья, они думают, что я успела забыть их». «У тебя большая семья?» «Среднего размера».
Райнер встал и потянулся, своей наготы он не стеснялся, у него было поджарое тело и смешной пуп, очень наглый. Я думала, что он пойдет в душ, но он уселся на подоконнике, открыл окно и закрыл глаза. «Знаешь, все может лгать, но мурашки никогда не подводят, они бегут по коже всегда, когда ты что-то чувствуешь. Они осознают важность момента. Когда ты вчера касалась моих пяток, кадыка, члена, ушей, ноздрей. Когда еще раньше ты смотрела на меня в университетской кофейне, чуть смущенно, чуть удивленно, но нежно. Когда я проснулся и коснулся твоего соска и он вытянулся в ожидании поцелуя, а ты еще что-то бормотала во сне. Когда я сейчас запускаю в себя ветер, который спешит, потому что украл у людей лучшие их сны, чтобы затихнуть где-то в горячей листве и просматривать их в одиночестве».
Я подошла к нему, чтобы впитать его в себя, как он – ветер. И мурашки тоже меня не подвели. Они действительно осознавали важность момента. «Так хочется сегодня быть с тобой весь день». «Давай этот день перенесем на завтра, а сегодня проживем какой-нибудь обычный день, когда в твоей жизни есть работа, друзья и обязательства, но пока нет любви? Попробуем?» «Давай. Может, перенесешь какие-то свои вещи ко мне? Тем более, что мое жилье поближе к твоей работе». «Но мы же договорились, что завтра у нас сегодня, в котором нет работы, не так ли?» «Именно так. Но потом наступит послезавтра, оно же завтра, и работа там будет». Он поцеловал меня. «Хорошо. Такой мудрости сопротивляться нет ни малейшего смысла. Что ты будешь делать сейчас? Когда я пойду на работу?» «Пойду к психологу».
Райнер отодвинул меня от себя на расстояние своих сильных рук. «Уже? Из-за меня? Это такой ритуал?» «Нет, из-за другого мужчины. Из-за деда. Я тебе немного рассказывала. Хочу показать ему рисунки, письма деда. Возможно, ему удастся лучше почувствовать Отто фон Вайхена». «Может, дед из тех мужчин, которым легче открыться посторонним людям, чем родственникам? Может такое быть?» «Вполне». Я почувствовала, как он ослабил руки, и мы сложились в одно целое, как переносной стульчик рыбака.
Эрнст Янг сказал, что ждет меня ровно в двенадцать, просил не опаздывать, потому что «через час у меня одна шизанутая истеричка». Я подумала, как он после моего визита окрестит меня и еще подумала, как мне повезло, что он не мой психолог. Хотя несколько раз я у него консультировалась, но это было не на его кушетке, а на моей.
Собственно, это был приятель Манфреда, а не мой. Хотя какое-то время у нас была общая компания. Кроме того, он был другом нашего с Манфредом детства. Так странно, мы с братом не близнецы, но свое детство я чаще всего обозначаю как наше. Словно меня не было без Манфреда.
Его полное имя – Эрнст Янг Маккензи. Это имя для всех людей в той среде, где он вращался, звучало как название консалтинговой или юридической фирмы. Никто на слух не воспринимал это как имя физического лица (неужели так зовут человека?), что его в свое время очень раздражало, но потом он привык и стал использовать это как усыпляющую бдительность шутку и свою фишку. Учиться на психолога он подался не в Австрию, что было бы логичным, а в Великобританию.
Там ему было нелегко. Он попал в среду шикарных снобов. Один из профессоров в качестве ремарки к неплохому английскому Эрнста сказал, что такое произношение он еще готов простить дворнику, ирландцу или продавцу булочек из Индии, но не профессиональному психологу. Профессор всякий раз так остро реагировал на слова Эрнста, что тот посоветовал ему общаться со словарями, чтобы не оцарапаться о слова, ударения и произношение живых людей, а еще лучше, говорить на латыни, так как мертвый язык словно выдуман для таких профессоров. После этого профессор отказался принимать у Эрнста экзамены, но это был не единственный профессор в округе.
Еще Эрнста травили Шекспиром. Он считал, что Уильям чрезвычайно ядовитый драматург и сонетист. Травля Шекспиром происходила везде: в аудиториях, на вечеринках, на тренингах, в гостях. Его собеседники всегда цитировали Шекспира. Главным было не то, чтобы угадать фразу или несколько слов, вырванных из контекста, спустя секунду после того, как кто-то это процитировал. Угадать нужно за секунду до того, как кто-то это процитирует.
Сначала Эрнст комплексовал. Но потом как-то вечером сел и самостоятельно, не пользуясь уже имеющимися переводами, перевел произведения Гете на английский и начал травить британцев цитатами из Гете. Некоторые из его собеседников думали, что это Шекспир, и упорно, несмотря на мозговой запор, силились и тужились припомнить, откуда взялась эта фраза-раздражитель. Эрнст любил говорить, что у каждого могучего писателя есть текст, который воспринимаешь как Библию. То есть ты уверен, что где-то это слышал, но не можешь ни вспомнить, где именно, ни признаться в том, что никогда этого не читал.
Его лучшими друзьями были Кайра Натали Линн и Джонатан Линн. И еще психоаналитики. Они фанатели от истории о Джеке-потрошителе. Даже своих девочек-близнецов назвали Барнаби и Бурго. Детишек назвали в честь двух бладхаундов, полицейских собак, которые занимались розыском легендарного серийного убийцы.
Познакомились они при трагикомических обстоятельствах. Однажды Эрнста пригласили в гости к известным в узких профессиональных кругах психоаналитикам Линн. Он потерял сознание и разбил голову, когда входил в арку, ведущую в дом супругов. Дело в том, что в арке была установлена гипсовая фигура Джека-потрошителя, изготовленная в полный рост и в натуралистической манере. Манфред, когда рассматривал фотографии, всякий раз вздрагивал и бурчал, что это извращенческая, но очень качественная работа.
Эрнста забыли предупредить о Джеке, ведь все давно к нему привыкли. А у Линна (который он) было несколько мэрских и полицейских разрешений на установку этой «парковой фигуры», за которые ему пришлось побороться. После того как в результате нескольких судов борьба закончилась победой Линна, он стал воспринимать Джека так же естественно, как усыновленного ребенка, которого добивался и теперь считал частью своей семьи, поэтому забывал предупреждать о нем новичков.
Манфред спросил, а как к этому относятся дети? Ведь это ужасно. Линн сказал, что их дети к этому относятся с пониманием, а чужим детям нечего делать в этой арке, впрочем, если кто-то из детей туда сунется, то не испугается. Так как дети и женщины потому и становятся жертвами маньяков, что маньяки вызывают у них не страх, а любопытство. «Он как аттракцион, это Диснейленд, понимаешь?» Эрнст пытался понять.
В то время Линн (которая она) была беременной. Линн надеялись, что у них родится сын. Эрнст посоветовал назвать его Лустморд, что в переводе с немецкого означает – убийство ради развлечения, сексуальное убийство, он думал, что они станут упрекать его за такое проявление «юмора», но и Кайра Натали, и Джонатан были в восторге от этой идеи. «Все-таки, когда веками темечко людей долбит дождь, с их мозгом происходит что-то необратимое», – констатировал Эрнст Янг Маккензи.
Эрнст был женат, и хотя с женой своей не жил, развестись с ней ему никак не удавалось, несмотря на многочисленные знакомства в юридических кругах. Так бывает. Его жена производила хорошее впечатление на моего отца и отца Эрнста, которые, не сговариваясь, определили этот брак как канонический. Ее звали Ада, она была австрийской оперной певицей. Конечно, все мы называли ее Аидой. Хотя умирать за Эрнста или Родину она бы точно не стала.
Эрнст решил, что Ада – это то, что нужно для довершения образа блестящего психолога. Рожать она отказалась сразу. Сказала, что у нее «растянутся легкие и она не сможет петь сопрано». Все пытались ей возразить, но в ответ получали только высокомерные взгляды.
В сексе она была необузданной, Эрнст ходил весь искусанный. Она не могла начать без укусов, заводилась только так, Эрнст старался избегать поцелуев и орального секса, чтобы дольше оставаться неповрежденным, но Ада редко с ним считалась. Характер у нее был невыносимым. Не только для Эрнста, но и для всей семьи и близких друзей.
Он дважды пытался разорвать эти брачные узы, но Ада надрезала вены. Именно надрезала. Ее забирали в больницу, Эрнст страдал и боялся, что подробности его семейной жизни дойдут до ушей коллег из Ассоциации, журналистов или клиентов (неизвестно, что хуже), потому что работать с психологом, жена которого режет себе вены, отважится разве что доведенный до отчаяния или псих.
Ада была человеком «над». Она надрезала вены, надкусывала грушу, надламывала хлеб, надлюбливала Эрнста, но в целом не надрывалась. Мой отец в присущей ему саркастической манере сказал, что Ада отпустит Эрнста только тогда, когда он исчезнет из ее репертуара. На это не менее ехидный Эрнст отвечал, что лучше пусть она переключится на репертуар Эрнста Кшенека, например «Прыжок через тень» прекрасно ей подойдет в воспитательных целях как человеку, лишенному самоиронии. На это отец подмигивал и отвечал, что в этой опере найдется место Эрнсту, например в особом хоре половых психопатов-мазохистов, намекая на сексуальные привычки Ады.
«Опять вы…» – грустно и притихше-униженно произносил Эрнст, а потом безудержно хохотал. Я всегда представляла себе, что так ведут себя лица, расстроенные вынесенным решением отца, когда он его зачитывает. Этот кадр будто застывает и несколько замедляется, чтобы каждый погрузился в печаль. Ведь не стоит поспешно сталкивать гроб в могилу, процесс требует промедления, исполненного уважения. Зато вторым кадром сразу же идут карнавальное и безудержное веселье тех же персонажей. Поминки.
К Эрнсту я добралась вовремя. Сначала он попросил дать ему рисунки деда, письма и предметы.
«Ты считаешь, что он помешался на почве раскаяния и чувства вины?» «Не знаю. В письмах он на это даже не намекает. Но ты же видишь, что после него осталось, разве не странные предметы?» «Марта, после каждого из нас остаются исключительно странные предметы, потому что нестранные предметы растаскивают алчные наследники». Эрнст хмыкнул.
«Например, эти персики. Одинаковые, но один из них подпорчен. Возможно, дед считал, что он разлагается из-за нацистской идеологии?» «Марта, у него были сильные боли, он был слабоумным. Трудно сказать, пытался ли он что-то передать этими рисунками. Единственное, что могу утверждать: он думал о своем «я», это очевидно. Но что именно он думал? Это вопрос».
«Слушай, а может быть так, что он потерял рассудок от стыда и чувства вины? Может быть так, что он опомнился и не смог себе простить? Не смог жить в том уме и теле, которые имел, когда творил жуткие вещи?» «Интересная теория. Все те, кто теряет рассудок, ногу, или получает рак – просто не могут ужиться с собой и нуждаются в обновлении. Напишу статью, спасибо за идею». «Эрнст!»
Эрнст пожал плечами. «Рассудок можно потерять и от груши». «В смысле?» «Если тебе начинает казаться, что она разговаривает. Или даже если ты утверждаешь, что будешь есть только те груши, которые опадут, потому что слышишь их стоны, когда срываешь с ветки. Ну, или если груша вовсе не груша. Хотя часто так оно и есть». «Прекрати это. Прекрати со мной так разговаривать. Я тебе не Манфред и не твой клиент». «Я так понимаю, что в Украине ты не нашла ответа на свои вопросы». «Нет. Никто его не помнит. Да и вообще, почти не осталось очевидцев». На этом слове я запнулась. «Ты чего?»
«Неловко называть участников тех событий очевидцами, для этого необходимо придумать другое слово». Мы какое-то время молчали. Потом Эрнст сказал, что молчал только из уважения к моей патетике. «Я сам скопирую некоторые письма и рисунки и еще подумаю. Но пользы от меня будет еще меньше, чем от очевидцев. А ты можешь надеяться. Хотя, это все равно, что верить, что «Milka» дает сиреневое молоко». Я улыбнулась и сказала, что я это сделала только из-за уважения к его шутке. Эрнст состроил мне рожицу. «Не бери это особо в голову. Все это отболело. Давно. И у деда. И у тех, кого он обидел. Хочется по-стариковски добавить тебе: «Это было такое время. И такими были люди в то время». «Я не могу».
«Послушай, расскажу тебе такую историю. Ко мне ходил один клиент с расшатанной психикой. Ее ему расшатал один еврей. По имени Ноам Философ. Он был коллегой моего клиента, тоже работал в международном переговорном департаменте одной из компаний. А расшатал тем, что упрямо читал в присущей евреям манере номера телефонов, которые отправлял ему мой клиент. И звонил именно так, как читал. Не слева направо, а наоборот. Конечно, он никому не мог дозвониться, а отвечал за это мой клиент. Потом они разобрались, что к чему. Но тогда этот Ноам обвинил моего клиента в дискриминации и игнорировании национальных особенностей. Тот начал бояться телефонных номеров. Ему казалось, что его не поймут и обвинят арабы, корейцы, узбеки, поляки, он путался в том, где, кто и как пишет, читает и воспринимает цифры». «Это ты к чему?» «Иногда нужно воспринимать все без истерик. Уметь прощать и себе, и другим, не придумывать новые грехи, не приписывать себе былых грехов и не сочинять новые слова вместо “очевидцев”».
Я посмотрела на часы, у меня было еще десять минут до появления «истерички». «Слушай, а его портреты… кого он рисовал, себя, воображаемого себя, что-то другое?» «Художник и человек, рассматривающий картину, могут вкладывать и видеть в ней разный смысл. Знаешь, кому-то в улыбке Джоконды может чудиться скептическая улыбка Джокера». Мне хотелось спросить его, он сейчас выстроил эту фразу или уже использовал ее раньше, но я не решилась, поэтому попрощалась и отправилась восвояси.
Райнера дома не было. Но моя квартира будто приняла его, жила его интересами, я натыкалась на его запах, на зеленую чашку, которую уже давно не снимала с полки, на салфетку с формулами.
Я решила проверить почту, увидела письмо Марата и уже собралась открыть его, но тут заметила письмо с темой «Детский диабет», странно, это письмо по всем показателям должно было быть отправлено в спам, но оно оказалось среди прочих, «нормальных» писем в ящике. В письме сообщалось, что есть возможность приобрести таблетки, изготовленные на основе сока горькой цейлонской дикой тыквы, имя и адрес отправителя ни о чем мне не говорили, был указан телефон, по которому можно сделать заказ, я переслала письмо дяде Артуру с просьбой проверить. Он мгновенно прислал сообщение, что все получил и поручил заняться проверкой, а также поздравил меня с возвращением домой. Больше он ничего не спрашивал. Хорошо, что у меня есть такой родственник. Он лучше Санта-Клауса и фей, он не требует от меня примерного поведения и елейных писем с покаянием и просьбами, он определился с кругом проблем, которые может решить, и действует.
Наконец я открыла письмо Марата, оно было удивительно длинным, поэтому я решила заварить себе чай, открыла холодильник, чтобы отщипнуть сыра, и поняла, что кормить Райнера нечем. Собственно говоря, не понимаю, откуда взялась мысль, что я должна его кормить. Раньше такие вопросы меня не занимали. Видимо, это влияние друзей Марата. А если так – пусть немедленно шлет мне рецепт, с которым легко справиться девушке, не умеющей готовить, к тому же, с загипсованной левой рукой. В морозилке лежали пакеты с блинчиками-бендериками с домашним печеночным паштетом, а еще вареники с вишнями, которые кто-то передал из Украины, но я не была исполнена той щедростью, которая бы позволила мне делиться этими вкусностями даже с любимыми. Итак, пусть Марат напишет мне рецепт. Ему это не трудно. Он представитель страны, где все умеют готовить вкуснятину из чего угодно. Видимо, это особенность страны со щедрой землей и долгим отсутствием качественных продуктов в магазинах.
Я устроилась удобней и принялась читать.
Письмо Марата Шевченко Марте фон Вайхен
...
«Привет, Марта! Спасибо за то, что наши бумаги в надежных руках. Надеюсь, ты успела снять все отпечатки пальцев. На всякий случай.
Ты просишь, чтобы я рассказал тебе о своей семье. Я понимаю, когда узнаешь что-то новое о человеке, которого, пусть не любил, не имел возможности полюбить, считал умершим и для себя закрытым, т. е. если так вот фактически появляется новый родственник, о котором ничего не знаешь, хочется узнать больше и о других. Думаешь, что наткнешься на новый факт, новое измерение, новые возможности выяснить все обстоятельства.
Понимаешь, о своей семье я знаю очень мало. Мою бабушку, на которую похожа моя мать, моя сестра Майка, и на которую, как оказалось, немного похожа ты, звали Майя Гетман. Я о ней ничего не знаю, как и о деде – Науме Гетмане. Он погиб в 1942 году в Беларуси, моей матери и тете в наследство от него осталось только отчество, даже похоронки нет. Я не знаю, как он выглядел, спросить было некого. Если кое-кто из соседей бабушки и дедушки помнят мою бабушку, то деда не помнит никто. Ушел на фронт и погиб. Типичная судьба мужчин в то время. Говорят, что он был неграмотный, поэтому после него не осталось ни одного письма, но похоронки после него тоже не осталось, хотя ее мог написать и кто-то другой.
Бабушка моя погибла под Житомиром в 1943 году во время оккупации территории. Видишь, ты тоже думала, что твой дед погиб под Житомиром именно в этом году. И даже видела его могилу. Количество наших совпадений увеличивается. Могилу моей бабушки я не видел, но когда я хожу по нашему двору, чувствую, что она где-то рядом. В том, что погибла моя бабушка, ничего удивительного нет, ведь она была еврейкой. Никто не знает, как именно это произошло, но какая разница? Вполне возможно, что твой дед причастен к ее гибели, ведь он играл по правилам того времени, своей партии и своей нации. Мне все равно, как она умерла. Как ее убили. Как уничтожили. Я не хочу об этом знать, мне и без того больно, когда я размышляю над тем, как это могло случиться.
Говорят, что бабушка знала немецкий язык, переводила Маркса, Энгельса, Фрейлиграт, Гервега и Гете, возможно, ее выдали немцам свои же. К евреям особой любви никто не испытывает. Внешность у нее не была типично семитской, и фамилию ее можно было отнести к немецким или даже украинским. Ты, наверное, знаешь, кто такие гетманы? Думаю, что немецкий язык она действительно знала, это больше похоже на правду, чем на легенду, потому что моя тетя Дора также прекрасно знает немецкий язык и считается лучшей переводчицей немецких народных сказок. Ты понимаешь, как биофизик я доверяю генам больше, чем многому другому.
Мою мать Иду и ее сестру Дору после того, как погибла бабушка, сдали в детский дом, там они и выросли. Им очень повезло, что они попали в один и тот же детдом, что их не разбросало по разным. К шестнадцати годам они почти выучились на швей и им вернули родной дом. На руку им сыграло то, что о частной собственности тогда никто не говорил, дом оставался ничьим и был таким старым и запущенным, что на него никто не претендовал все эти годы, поэтому вместо того, чтобы дать сиротам новое жилье, местное руководство решило вернуть им имущество матери и отца. Это ничего, что жить в нем было невозможно, во всех бумагах он значился как «дом, пригодный для жилья». Тогда же им выдали паспорта, где фамилия Гетман превратилась в Гетьман, такие изменения произошли не умышленно, просто тот, кто выписывал паспорта, решил, что следует записать фамилии грамотно. Мать подсмеивалась над этим изменением родовой фамилии, говорила, что паспортистки исправили им с Дорой карму, изменив содержание фамилии с «Получи мужчину, держи мужчину» (get man) на «Пошел ты!» (Геть, man!)
Хотя их характеры формировали одни и те же воспитатели, моя мать и тетя очень разные. Моя мать была старше тети лишь на год, по поводу своего характера, который каждый второй определяет как несносный, ужасный и резкий, она говорила так: «Вот представьте себе, господа хорошие, сколько мне пришлось сожрать дерьма за тот год, пока Дорка не вылезла из маминой дырки, что меня сейчас терпят и понимают только собаки, да и то только тогда, когда я на них рычу».
Мать моя, как я тебе уже говорил, была портнихой. Учиться она не хотела, доверяла только собственным рукам. «Острее меня разве что игла, но она может проткнуть только палец или ухо, а я легко способна добраться до сердца и желудка». Тетя Дора получила высшее образование, вообще-то она и сейчас продолжает учиться. У матери и тети было одинаковое количество мужчин. Только от мамы они убегали в неизвестном направлении, а от тети Доры уходили в землю. И сейчас она точно знает, где они находятся, потому что все лежат друг под другом в одной могиле, убирать которую тетя Дора ездит дважды в год.
Мать насмешливо определила троицу мужчин Доры, как «гой, гей и Гай». За гоя Петра Соколова моя тетя вышла замуж, когда училась в университете. Он считал себя гениальным переводчиком, злился из-за того, что больше никто так не считает, долгое время не получал заказов, приставал к иностранцам под гостиницами, поскольку хотел иметь разговорную практику, много раз бывал бит низшими чинами КГБ, фарцовщиками и проститутками обоих полов, одним словом – всеми теми, кому он мешал спокойно работать; начал пить и в итоге умер в двадцать восемь лет от цирроза печени. Моя мать ему говорила: «Петька, какой ты Соколов, если ты Петька? Петушок ты!»
Второй муж Доры, Игорь Шор, был кандидатом педагогических наук и преподавал в школе немецкий язык. Он никогда не афишировал своих симпатий к мужчинам, не увлекался музыкой Чайковского или прозой Уайльда, но почти все были убеждены в том, что он гей. Возможно, это из-за того, что он носил свитера яблочных цветов, по два раза на день чистил зубы, а вместо одеколона «Шипр» с резким запахом использовал лавандовую воду с легким ароматом, которую ему на заказ делал один горец.
Дошло до того, что Игорь перестал по-родственному класть руку на мое плечо и обнимать меня, потому что смущался от того, что родственники и знакомые с пониманием и омерзением обменивались взглядами и шептались. Вообще-то он мне нравился, потому что порой казалось, он был единственным, кого интересовали мои взгляды, мысли и мечты. Он покончил жизнь самоубийством, наглотался таблеток от сердечного приступа. Мать насмешливо сказала, что это он сделал потому, что ему отказал какой-то хорошенький школьник. Мать была очень циничным человеком, цинизм она избрала своим мечом. И размахивала им по сторонам.
Тетя Дора нажила благодаря первому мужу кучу знакомств среди врачей-наркологов, благодаря второму – среди директоров школ и библиофилов, благодаря им обоим – фиброму и эрозию матки, но детей так и не нажила.
Гай Венедиктович Гаевский – третий муж тети Доры, она похоронила его в прошлом году. Никакие похороны мне не нравились так, как эти. Прости меня, Господи. Мне трудно себе представить человека, которому мог бы нравиться Гай Венедиктович. По крайней мере, моя тетя этим человеком точно не была. Гая Венедиктовича она ненавидела, похоже, он отвечал ей тем же. Зачем они жили вместе – до сих пор не понимаю, а спрашивать о таком как-то неудобно. Гай Венедиктович занимался разведением орхидей, которые потом отправляли в космические полеты. Он был настоящим академиком. Может быть, тетя думала, что наконец сможет развести с ним маленьких академиков, тогда ей исполнилось сорок два года и не все еще было потеряно. Но он хотел и умел разводить только орхидеи, которыми будто оплодотворял Вселенную, а тетю оплодотворять он не хотел.
На его рабочем столе в кабинете стоял огромный портрет Героя Советского Союза летчика-космонавта Георгия Гречко с орхидеей Гая в руках. Если бы Игорь Шор позволил себе поставить на стол портрет какого бы то ни было мужчины, даже президента страны, вернее, Генерального секретаря ЦК КПСС, ему бы несдобровать. На Гречко Гая никто особого внимания не обращал. Как-то мать сделала наклейки «Гречка героя Гречко» с фотографией космонавта, наклеила на пакеты с крупой и принесла академику. Гай орал так, что гипсовые украшения с потолка его кабинета рухнули.
Общаться с ним было невозможно, как невозможно общаться с каким угодно человеком, который разложил все человечество по коробкам с надписями: «клинические идиоты», «подхалимы», «шлюхи», «дебилы», «проходимцы» и «придурки». Иногда он вынимал кого-то из одной коробки и перекладывал в другую. Например, тетя была «клинической идиоткой», а затем была переложена к «шлюхам». Мать была «проходимкой», не знаю, кем был я, да и знать не хочу.
Умер Гай Венедиктович от рака легких, хотя никогда не курил. Мать на это сказала: «Свершилось! Нашелся наконец-то тот, кто наложил лапы на эту сволочь, вернее – клешни». Одной «сволочью» в маминой коробке стало меньше. На похоронах Гая Венедиктовича мать заметила, что «Шор, заметьте, и тут неплохо устроился, и сам на одном лежит, и другому – любезно подставляется».
Мать сколько угодно могла судачить о мужчинах тети Доры, а о своих помалкивала. Думаю, она не хотела унижать из-за них себя, а тетю ей никогда не было жалко. О моем отце она сказала так: «Ты вполне можешь считать, что твоим отцом был цыганский медведь». Хорошо, что я никогда не озвучивал эту версию в детском саду и школе. Могу себе представить, какой бы это вызвало фурор. Еще она называла его «ученым говнюком», из чего я могу сделать вывод, что он занимался какой-то наукой. Я никогда не собирался его искать, даже в детстве. Хотя знаю, что зовут его Сергей Шевченко. Он тоже меня не искал. Отца Майки зовут Борис Фридман, поскольку мать давала ему определение «говнюк театральный», думаю, что он был связан с театром. Я его плохо помню, кажется, у него были больные кости, на него нельзя было влезать, виснуть или просто устраиваться у него на коленях. Он стряхивал тебя, как шкодливого кота. Чаще всего я слышал от него «брыссссь».
На третьего мужа мамы, с которым я некоторое время был вынужден жить в одной квартире, она пожалела эпитета, поэтому в истории он остался просто «говнюком». Он мне запомнился тем, что мог исполнять «Полонез» Огинского на пустых пивных бутылках, пытался залезть мне в карман, а Майке в трусы.
Мать была жуткой неряхой, в нашей квартире всегда все было разбросано. Хлеб можно было найти в коробке с бигуди. Ватки и смывку для лака стоило поискать рядом с обувью. Чашки, тарелки не мылись и стояли там, где их оставили. Увядшие цветы стояли во всех вазах, засыхали, гнили; мебель была трухлявой, от одежды зачастую разило потом; пыль была членом семьи, ее покою ничто не угрожало. А тетя Дора старательно занималась уборкой. Мать насмехалась над ее белыми стерильными фартуками. Когда тетя приходила к нам в гости, она вынимала из пакета резиновые перчатки, чистящие средства, тряпки и начинала с кухни. Мать на это говорила: «Хорошо, что Дора сама похоронила своих мужей, если бы их разбросало по свету, как моих, она бы с ума сошла от того, что не может регулярно прибирать их могилы».
Они обе – и мать, и тетя – любили собак. Но у них даже собаки были разные. У тети Доры всегда жили эрдельтерьеры, в основном умные, воспитанные и сообразительные. Всех их звали Эдельвейс. Мать говорила, что в прошлой жизни эти собаки были строителем-ворюгой по имени Эрделя. И все обязательно спрашивали, почему она так думает? Мать отвечала: «А посмотри на его морду! Кирпич кирпичом. Вот крал он кирпич, крал, перепродавал, а потом Бог посмотрел на это и сказал ему: «Все, достал ты меня, Эрделя, сейчас ты умрешь, а родишься собакой, а вместо морды у тебя будет кирпич. Так оно и вышло!»
У нас, вернее у матери, жили дворняжки Пляшка и Плошка – собачки, похожие на ершики для мытья посуды. Один щенок – продолговатый, с жесткой шерсткой, ворсинки торчат, как у дикобраза, будто он специально создан для мытья бокалов и бутылок, второй – кругленький, маленький и лохматый, как ершик для мытья мисок. Интересно, что эти две сучки были карикатурно похожи на мать и Дору. Длинноногая и резкая мать, лаяла и кусала каждого, кто приблизится даже с едой, и ласковая мечтательница – ее сестра, ей доставались самые вкусные кусочки.
Тетя Дора тяготела к самосовершенствованию. Мать никогда и ни в чем не пыталась быть лучшей, она просто не сомневалась в этом. Когда кто-то из клиенток пытался надеть только что сшитую ею юбку, а та никак не натягивалась на ягодицы, мама говорила: «Кисанька, что вы ели всю эту неделю, что у вас так выросла жопа?» Лучше всего матери удавалось пристрачивать карманы. Когда у матери спрашивали, кто она по специальности, она отвечала: «Карманница». И наблюдала за реакцией людей. Обычно все пытались перевести разговор на другую тему. Тогда мать громко смеялась и объясняла, что она пристрачивает и кроит карманы.
С карманами связана одна интересная история. Мать терпеть не могла советских партийных бонз, но кто-то из ее швейного руководства однажды направил ее в Москву на партийный съезд вместе с другими передовиками производства. Прогрессивные представители рабочего класса из УССР! На радость товарищу Брежневу. Как мать попала в состав этой делегации – история умалчивает, возможно, у кого-то из руководства было своеобразное чувство юмора.
Сначала она носилась по дому, как подстреленная ворона, кричала: «Они же смердят! А нас к ним везут, к этой падали, к мертвецам!»; отвесила нам с Майкой серию оплеух, а потом неожиданно успокоилась.
В свою дорожную сумку она положила упаковку коробков со спичками. Спичек в них не было. В эти коробки, пардон, она разложила свое дерьмо. Раньше, во времена Союза, именно в таких спичечных коробках сдавали на анализы кал. Мать разложила свои анализы в карманы плащей и пиджаков партийного руководства, конечно, до Брежнева она не добралась, но его помощнику умудрилась подложить такую коробку в карман брюк, да еще и зашила так, что он не заметил. «Чтобы этот «выродок» проходил с говном народным целый день! Почувствовал правду народа». Она была настоящей карманницей. Брежнева она ненавидела, но одобрила его однажды, когда он умудрился умереть в День советской милиции. Милиционеров мать ненавидела еще больше. «Молодец, Дарагой Ильич. Испортил поганцам праздник, так им!» Не думаю, что у вашей полиции есть подобные праздники. У нашей – есть. Сейчас украинская милиция празднует и День советской (теперь российской) милиции, и День украинской милиции. Праздников много не бывает, водки тоже.
Ты рассказывала мне о том, как тебе больно от того, что нация оставила тебе в наследство, хотя ты не готова была к этому. У меня тоже есть свое наследство, Марта. Впервые о Голодоморе я услышал от своей учительницы истории, когда она поймала меня и моего товарища на том, что мы плевались пшеном из ручек. Ты такое делала? Скорее всего, нет. Учительница очень долго говорила о том, что нельзя разбрасываться пшеном, что это – великая дающая жизнь ценность. Рассказывала, что такое голод, как это было в Украине в тридцатые годы, говорила, что люди поедали самых слабых, детей, потому что у них силой отбирали еду, организм начинал питаться телом человека, и люди не выдерживали, разрывало голову – они становились людоедами. Сейчас можно прочитать очень много работ на английском языке о геноциде украинцев. А учительница говорила прямо и откровенно, призналась, что в ее семье были такие случаи. Это меня поразило, я не мог есть три дня. Если у меня и есть фобия, то ее вызывает запах сырого мяса.
Тогда же я спросил у матери, может ли она меня съесть и вообще кто-то может меня съесть? Она ответила мне, что нужно «прекращать читать идиотские африканские сказки». Тогда я рассказал ей о Голодоморе и моей учительнице. Она сказала: «Ну, было такое, было. Коснулось фактически каждой второй семьи. Но ты успокойся. Ты – жид. Нечистый, православные тебя не сожрут. Побрезгуют. Лопатой ткнут – и будь здоров, лежи себе – отдыхай, на растопку даже не годишься, потому что воняет от тебя. Хотя не расслабляй булки, ты же у нас полукровка, так что и сожрать смогут, и размазать».
Возможно, мать права. И с евреями все понятно. Их приятнее убивать, чем жрать. Хотя кто, измученный голодом, обращает внимание на национальность, на паспорт, на разрез глаз или размер носа? Я очень редко чувствовал себя евреем, хотя мать сделала все для того, чтобы моим первым словом было «жид». Я чувствовал себя украинцем, посторонние чаще считали меня татарином (из-за имени, оно переводится с арабского как «желанный», и чернявости) или украинцем. Сам я время от времени думаю: а в семье моего отца, Шевченко, кого-нибудь съели? Это очень тяжкое наследство, Марта. Пожалуй, страшнее фашизма. Знать, что твои предки убивали чужих, это тоже страшно и грешно, но знать, что твои предки пожирали своих, это чуть ли не самое страшное из всего содеянного человечеством. Давай не будем считаться, кто хуже – предки-людоеды или убийцы…
Когда я вижу большой герб Украины, мне становится жутко, потому что на нем изображен казак. Все гербовые изображения являются тотемами, жертвами, которые охраняют нацию, государство. Одно дело – жертвовать животными, птицами – у вас, кажется, это – орел. Другое – людьми. Изображения людей на гербах встречаются только в африканских странах, где царил каннибализм, и чем больше узнаешь историю собственного народа, тем яснее понимаешь, что каждый рисунок, каждый символ – не просто так, он лучший свидетель. Нужно только объяснить, что он означает.
Моя тетя Дора мечтала, чтобы из меня вышел порядочный и хороший парень. Моя мать призналась, что мечтала, чтобы из меня вышел выкидыш, но мечты ее не осуществились. Моя мать понятия не имела о том, что такое порядочный и хороший парень, она знала только то, что представляют собой скверные девчонки, потому что сама была такой, такой была и Майка. В этом смысле они друг друга любили, дополняли и соперничали. И звали они друг друга одинаково со страстью и любовью – «стервь». И могли лечь спать вместе, курили в кровати, хохотали, пили вино, а потом мать опрокидывала бокал на простыню или еще что-то в этом роде, и они уже драли друг друга за волосы. Я был чужаком в их женском мирке. Когда мать поняла, что «мой корешок» начал принюхиваться к жизни и женщинам, она сказала: «Если у тебя дочь, это – гарантия того, что когда она тебя бросит или умрет, через двадцать лет тебе не позвонит какая-то незнакомая тебе прибдуда и не скажет, что она твоя внучка. А потом не выгонит тебя из дома, объясняя это тем, что ей негде жить со своим хахалем, а этот дом по праву принадлежит ей. С сыновьями ты лишена такой уверенности и спокойной старости».
Майку мать допекла дважды. В первый раз, когда ее прооперировали, вырезали щитовидную железу, мать пожелтела, исхудала, стала, как жердь, хотя никогда и не была тучной. Она расчесывала свой шрам на шее так, что он становился еще заметнее, чем был в первые дни после операции. И орала на нас так, будто мы выгрызли ее горло. Швырялась табуретками или просто выла. Она твердила, что стала неполноценной женщиной, не хочет и не будет всю жизнь принимать гормональные препараты. «Да я лучше сдохну! Завтра. Зимой. Чтобы вы замучались рыть мне могилу! Чтобы вы руки посбивали!» Майка на это ответила, что мать зря рассчитывает, что мы замучаемся, потому что мы ее сожжем.
Тогда мать побежала к нотариусу и составила завещание, в котором, несмотря на протесты заведующего нотариальной конторы, отметила: «Когда бы я ни умерла, завещаю похоронить меня зимой, на участке № 78 Байкового кладбища. Кремацию категорически запрещаю. Пусть сначала поджарят себя». Вообще-то, как это не смешно и не парадоксально, но с этим завещанием у нас были проблемы. Потому что мать умерла летом. И мне пришлось судиться с умершей матерью, чтобы выбить разрешение похоронить ее летом, а не делать из нее консервы на зиму. Я судился с ней, нервничал и не спал, а она лежала в столичном морге, одетая в свое любимое зеленое платье имени Скарлет О’Хара, и поднимались только для того, чтобы отлучиться на часок в мой сон и выругать меня.
Майку в те, послеоперационные, времена мать достала настолько, что она пошла в Институт эндокринологии, нашла маминого хирурга, вцепилась в него и кричала: «Разрежьте мне горло, выскребите все, а если там ничего нет, то просто разрежьте и зашейте! Или ее позовите – пусть она зашьет, она же у нас профессионал. Умеет пристрачивать карманы, застрочит и шею родной дочери! Давайте, режьте! Пусть знает, пусть видит, что не одна она такая калека, может, она прекратит тогда надо мной издеваться». Хирургу пришлось вызвать милиционеров из ближайшего отделения, чтобы угомонить Майку.
Когда мать допекла Майку во второй раз, Майка сбежала в Израиль. На этот раз она решила не резать себе горло, а отрезать от себя мать…
В детстве моими друзьями были книги. Благодаря тете Доре я читал много немецких сказок, мать это очень смешило. Она говорила: «А Дорка наша – хитрая жидовка, она моего приблуду воспитывает на сказках фашистов, чтобы если что, он мог воздействовать на них магическими заклинаниями». От первого Дориного мужа заразился советской героикой, тогда таких книг было много. Партизаны, комсомольцы, подпольщики, пионеры-герои, Ленин в Шушенском, другие революционеры, героизм простого солдата и генерала во время ВОВ, белые и жандармы – сволочи, красные и комиссары – молодцы! И всякое такое. Мне кажется, ты и твои сверстники были лишены влияния всей этой идеологической мишуры. Хотя у вас было что-то свое. С другой стороны – моей любимой книгой сих пор является гайдаровская «Тимур и его команда», правда, теперь я не понимаю, что тогда в ней нашел и нахожу сейчас, но перечитываю ее каждый год. Наверное, я восхищаюсь анонимными благотворительными действиями.
Тот же Петр Соколов открыл для меня мир европейской классической эротической прозы: Золя, Моруа, Мопассан, Боккаччо, Бальзак делились со мной своим опытом. Самые пикантные, на его взгляд, моменты в этих книгах он подчеркивал карандашом и делал пометки на полях в виде восклицательного знака или женских сисек, поэтому я имел возможность сначала познакомиться с самым интересным. В семь лет я знал слишком много об идеологии, героизме и плотских радостях. Это повлияло на стиль моего общения с девушками. Когда я почувствовал, что хочу по-взрослому встречаться с девушками, и не мог понять, чего мне хочется больше – впиться в их губы или в их ягодицы, я обращался к ним в старомодно-классической манере, награждал скабрезными эпитетами, имевшими распространение во Франции прошлых веков, они меня не понимали, хихикали и сбегали от меня. Меня тянуло к тем девушкам, которые испытывали потребность отдаваться раньше, чем у них подросли сиськи, а вот потребности читать у них не было вообще.
Игорь Шор открыл мне мир американской и советской фантастики, Гарри Гаррисона, братьев Стругацких, братьев Вайнеров. Влюбил меня в Достоевского и Винграновского.
Поскольку бабушек и дедушек у меня не было, я долгое время был убежден в том, что мой дедушка – Ленин. Учитывая твою историю про деда, о Ленине ты хотя бы можешь быть уверен в том, где его содержат, потому что об этом знает весь мир. Теперь я думаю, что был идиотом.
Когда у матери спрашивали, кто ее ближайшие подруги, она отвечала: «Лидия» и «Изабелла». Лидочка и Беллочка. Это, если ты не знаешь, сорта вин. Сладкие вина из сладкого крымского винограда. Мать в чем-то не лукавила, с «девочками» она действительно общалась почти каждый день. Но подруга у нее была. Берта. Учительница английского языка, преподавала у Майки в школе. Такая же ироничная, резкая и язвительная, как мать, только воспитанная. Мать смеялась над этой воспитанностью, потому что считала, что Берта – трусиха. «Тоже мне, Берта – мадам Помпадур. Да трясогузка она! Трясет сиськами и задницей, как хвостом, всего боится. Эй, Берта, не спасет тебя от погромов сотни раз произнесенное гоям спасибо!»
Берта отбыла в Израиль еще до обретения Украиной независимости. Мать ее возненавидела, Берта ее предала. До самой смерти она звала Берту «эта жидовка», «сучье вымя» или «трясогузкино яйцо». Берта приехала на ее похороны, долго гладила седую голову матери и прикрепила на вырез зеленого платья голубоглазую ладонь на маленькой шпильке. Не знаю, что подумала в этот момент мать или ее душа. А я плакал. И Берта плакала. И Майка с Дорой.
О том, как я познакомился с женой, и о дочери я расскажу тебе в другом письме, очень рад, что мы познакомились! Пиши, если нужна помощь или просто захочется поболтать. Тут тетя Дора просит передать тебе, чтобы ты не думала, будто все украинские девушки – шлюхи. Наверное, боится попасть в твою коробочку с надписью «шлюха», если у тебя такая есть. Я бы тебе тоже не советовал ее туда класть, а то сейчас она такая толстая, что раздавит всех остальных, кто там уже живет в мире и согласии».
Это было замечательное письмо, я подумала, не приписать ли мне в ответе ремарку о том, что я сплю с возможным работодателем Марата, но вместо этого передала привет всей его семье и особый привет тете Доре, а еще спросила, что я могу приготовить вкусное и простое, если у меня мало продуктов. Есть картофель, банка консервированного тунца, маринованный лук, оливковое масло, укроп и чеснок. Марат быстро ответил, посоветовал мне приготовить драники и к ним – оливково-чесночный соус. Он не поленился записать рецепт. Когда я заканчивала приготовление соуса, который благоухал очень соблазнительно, в дверь позвонили. Я подумала, что это деликатный Райнер решил сначала позвонить, а уже потом открыть дверь ключом, который я ему оставила.
Но это был не Райнер. Это был Злой Манфред. Бриг Возмущенная. И Тролль, Любящий Марту. Он сразу вскочил мне на руки и подставил свое бархатное брюшко, он умудрился так легко устроиться на гипсе, что я не успела испугаться. Поглаживала это теплое и прямодушное чудо. Я увидела, как взгляд Манфреда меняется, будто в молоко добавили растительное масло. Конечно, нельзя бросать обвинения человеку, который ласкает у себя на руках твоего любимца. Это все равно, что поднять крик на няню, которая баюкает твоих малышей. Поэтому Манфред ограничился тем, что насупил брови так, как умел только он, и вошел в квартиру. «Мы о твоем возвращении узнали от Эрнста. Я так и знал, что эта поездка заставит тебя броситься к психологу». «А чем это так пахнет!» – восторженно потянула носом Бриг. Тролль не тратил времени на лишние слова, он замельтешил в воздухе своими лапками, спрыгнул с моих рук и бросился на кухню. «Проходите», – сказала я. Ну а что мне еще оставалось делать?
Манфред может ссориться с кем угодно, долго и вдохновенно, он в этом знает толк. Но еще лучше он знает толк в удавшихся и неудавшихся ужинах. Он недоверчиво посмотрел на горку золотистых дерунов на блюде, потом подцепил один вилкой, и мы глазом моргнуть не успели, как он положил на тарелку семь штук. «Как съездила?» «Нормально». «Нормально! Вернулась со сломанной рукой, не включает телефон, побежала к психологу и говорит, что она съездила нормально. Ты за кого нас имеешь?» Все, он наелся, сейчас начнется. Я не знала, с чего начать, он своей энергетикой часто сбивал меня, как кеглю мячом, не потому, что мяч был в руках умелого игрока, а потому, что я была кеглей, которую должен был сбить именно этот мяч. Бриг что-то пыталась ворковать по поводу того, как вкусно я приготовила эти «картофельные штуки», попутно она отыскала белое вино, откупорила его и разлила по бокалам.
Именно во время ее воркования в кухню и вошел Райнер с чемоданом в руках и огромным портфелем под мышкой. Первым его заметил Тролль, который сожрал два деруна, понял, что больше ему не достанется, и улегся спать. Тролль колебался, лаять ему или нет. Манфред заметил направление взгляда Тролля, оглянулся, вилка и нож выпали из его рук. «Добрый вечер, – поздоровался вежливый Райнер. – Привет, стражник», – дополнительно кивнул он в сторону Тролля, малышу это понравилось, у него заиграл глаз. «Так. Хорошо, что он хотя бы по-немецки говорит, – ткнув пальцем в направлении Райнера, сказал Манфред. – Когда мать говорила тебе, что лучше найти мужа, чем рыться в исподнем деда, она имела в виду найти его здесь, а не привозить оттуда. Ты совсем ошалела?»
Райнер улыбнулся, закатил чемодан в угол, вымыл руки и присел к столу. Я ничего не могла произнести, мне было очень смешно: Манфред решил, что я привезла с собой казака. Кроме того, я узнала взгляд родственника Ореста, пана Грыця, когда он увидел меня в машине с Маратом. Я тогда подумала, что это за взгляд? Отеческий? Вроде бы нет. Обманутого любовника? Нет. Это был взгляд брата, который решил, что его сестра ошалела. «Я так понимаю, вы Манфред? Приятно познакомиться. Райнер Граф». Он наклонился, поднял приборы, положил их на рабочую поверхность кухни за своей спиной. «У вас такой взволнованный взгляд, – обратился он к Бриг. – Успокойтесь». Он легко коснулся ее руки, она не убрала ее. «Бриг».
Зазвонил мой телефон, Манфред посмотрел на него, как на врага народа, а на свой – как на предателя. Это был дядя Артур, он сказал, что препараты передаст мне завтра, все было чисто и препараты очень эффективные. Я спросила, сколько я должна ему отдать денег. Артур сказал, что мне передадут чек. Мне хотелось узнать об отправителе этой информации, как она попала ко мне, я точно не заполняла никаких анкет по поводу больных диабетом и не была задействована в социальных программах. Манфред был начеку, поэтому я вышла из кухни, чувствуя, как на моей спине появляются красные родинки от его взгляда.
Артур ничего нового мне не сообщил, его сотрудникам ничего не удалось выяснить. Когда я вернулась на кухню, увидела, что Райнер показывает Манфреду фотографии житомирского костела, которые он достал из папки. Видимо, заказал печать, заскочив в студию перед работой. Манфред не отреагировал на мое появление, они активно обсуждали, сможет ли Манфред из этих фотографий и ракурсов сделать цельный макет костела. Манфред сказал, что возни много, но это вполне возможно. Хотя это не будет очень качественной работой, потому что у Марты нет видения в перспективе, и если бы фотографировал он, все бы могло получиться гораздо лучше. Тролль сидел на полу, вилял своим шнурочком и восторженно смотрел на костел.
«Марта, ты готовишь кому-то подарок? Райнер не в курсе, кому же?» «Наташе». «Кому?» Вот не зря ураганам дают женские имена, Бриг словно взвилась в воздух, от ее возмущенного дыхания закачались занавески. «Наташе», – упрямо повторила я. «В твоей жизни точно многое изменилось благодаря деду. Сломанная рука. Райнер. И пода рок Наташе. Я просто не знаю, чего еще от тебя ждать?» Я улыбнулась, хоть Манфред издевается над религией, сам он часто говорит троицами. Вообще-то, чуть ли не всякий раз в качестве констатации чего-то или примеров он использует троицу. И не замечает этого. Надо спросить об этом у Эрнста, возможно, я подскажу ему тему для следующей статьи.
Мы еще немного посидели, потом Бриг, Манфред и Тролль ушли. «Думаю, что скоро тебе придется познакомиться с моей мамой», – заметила я Райнеру, когда мы растянулись на кровати. «Сначала я должен лучше узнать ее дочь, чтобы не оскандалиться, я чувствую огромную ответственность», – торжественно произнес Райнер. И мы занимались любовью.
Глава семнадцатая
Райнер торчал на работе, я тоже наконец занялась своей работой, разбиралась с запросами студентов. Я написала письмо Манфреду, он отмалчивался. Удивительно. Ханна снова поехала в Турцию, я подумала, что раньше это меня огорчало, но теперь, мне кажется, я ее понимала. В письме она написала, что «ребенок должен знать силу мусульманского солнца, это полезно для самоидентификации и здоровья». Я немного поразмышляла над тем, мусульманское солнце – это полумесяц или она имеет в виду реальное солнце. Солнце как солнце. Только мусульманское. Не пришла ни к какому выводу.
Зазвонил телефон. Райнер. «Соскучился?» «Не без этого. Но я хочу тебе сообщить, что по мне тоже соскучились. Твоя мама звонила. Пригласила с визитом. Без тебя. Тебе никто не звонил, я правильно понимаю?» «Мне никто не звонил. Меня для них нет». «Неправильный вывод, если для них есть я, ты для них тоже существуешь, даже не сомневайся и не спеши радоваться или жаловаться на свое сиротство. Какие цветы любит мама?» «Я бы на твоем месте ничего ей не дарила. С ней никогда ничего не знаешь наперед». «Я подумаю. Я тебе позвоню. Не грусти».
Несколько дней меня мариновали. Узнаю почерк отца. Думаю, что он копил претензии ко мне после получения копии моего письма Оскару. Хотя, зная Оскара, можно предположить, что письма он не отправлял, а просто позвонил отцу, сказал, что беспокоится обо мне, потому что ему кажется, я начала пить. А также сообщил, что я просила передать о своем отъезде в Украину.
С отцом я давно не общалась. Чаще можно встретить прочерк напротив графы «отец», чем прочерк напротив графы «дочь», но кто сказал, что папа не претендует на оригинальность? Мама послушно выполняла все его прихоти. Поэтому они держатся вместе, это слаженная пара. Он делает вид, что очень чистый и соблюдает все правила и законы, еще бы! По-другому и быть не может у господина судьи. Зато мать всегда была немного сумасбродной и способной на эмоциональные поступки. Папа же уважал ее свободу, потому что он любил ее, понимал и ценил как личность, и поэтому провоцировал на нужные ему поступки, а потом мягко укорял ее.
Мне пришло новое письмо. Интересно, от кого это? Непонятно. «Не спеши сближаться, дружить, от этой спешки можешь завыть:)». Подписи нет. Письмо-предупреждение, как в китайском печенье? Может, это какая-то брошенная Райнером подружка шутит таким образом, запугивает меня?
Мне снова звонили. На этот раз Дора Тотер-Габор. Неожиданно, неужели поступила новая информация о деде? Я механически перенесла письмо-предупреждение в папку «личное». «Добрый день, Марта. Ты вернулась из Украины, как съездила?» Ну ничего себе. Они оба, словно две команды саперов, держали временнýю дистанцию, чтобы в один прекрасный день взорвать меня одновременно. Как быстро она перешла на «ты», чтобы мгновенно приблизиться. Кобра. «Вы следите за мной?» «Нет, отслеживается только твоя фамилия. То есть фамилия господина Отто».
«Я должна перед вами отчитываться?» «Марта, ты меня неправильно поняла. Это дело не пустой звук для меня. Я хочу докопаться до истины. Думаешь, это просто? Ты уже поняла, что это не просто. Я трижды гадала на картах Таро, загадывала, узнаешь ли ты что-то там, на месте, или нет». «Новая методика Министерства юстиции? Я познакомилась с несколькими людьми, которые могли бы вам пригодиться».
«Правда? С ними можно связаться?» «Можно. У них есть мобильные телефоны, и они прекрасно ориентируются в народных приметах. Например, я упала и сломала руку не потому, что поскользнулась на влажных ступеньках, а потому, что подобрала и занесла в дом чужие ножницы». «Марта?» «Я слушаю». «Марта, у тебя все в порядке?» «С рукой – да. Хотя собирал мне ее врач, который демонстрировал ход операции на игрушечном шимпанзе. Слушай, Дора, я не хочу морочить тебе голову, про деда я ничего нового не узнала. Да и не нового тоже. Постояла у пустой могилы, пообщалась с местными и отправилась домой. А что показали Таро?»
«Я не разбираюсь в этом, просмотрела, как картинки. Жаль, что ты ничего не узнала. Четвертое письмо не нашлось?» «А вы его искали?» «У тебя такой тон, что лучше нам закончить этот разговор. Пока. Не забывай держать нас в курсе. Всего хорошего! Официальный запрос по поводу твоего визита в Украину ты получишь в ближайшее время».
Я снова принялась за работу. Еще несколько раз пришлось отвлечься на телефонные звонки, Наташа поблагодарила за макет костела, сказала, что это лучший из подарков, который она только могла себе представить. Мы еще немного поговорили на тему социальной адвокатуры. Наташа хотела зарегистрировать бюро адвокатов, которые бы бесплатно помогали легальным мигрантам. И очень надеялась, что возглавит его Дерек. Я традиционно сомневалась, вдруг почувствовала, что сама хочу попробовать. Решила пока ничего не говорить Наташе, потому что не могла разобраться с тем, настоящим ли было мое желание и откуда оно всплыло. Потом звонила фрау Фоль, передавала привет от Лилии, интересовалась делами, договорились попить вместе кофе. Я со страхом ждала возвращения Райнера. Не то чтобы я была в нем не уверена или боялась за него, я не могла понять, что хочет довести до его сведения отец.
Наконец он вернулся. Я напоминала себе Тролля или тетю Олю, которая увидела Марата, я наматывала круги, дергала его и твердила одно и то же: «Ну что? Ну что?» Райнер поцеловал меня и спросил, может ли он раздеться. Я позволила. Отпустила рукав его куртки, чтобы крепко вцепиться в запястье.
Мы сидели за столом, когда Райнер начал свой рассказ. «Внешность у твоей матери такая безупречная, не представляю, как твой отец касается ее руками. Раньше я видел комнаты подобной красоты, а не людей, наверное, он всякий раз закрывает глаза, а то как же иначе поверить в то, что это твоя жена?» Я вскипела. Неужели он думает, что я не наслушалась этих дифирамбов, посвященных матери, за всю свою не столь уж короткую жизнь? «Марта, я просто стараюсь быть откровенным, остынь, ладно?» Он мягко коснулся моей ладони, развернул ее к себе, погрел об нее нос.
«Там были мать, отец, который появился позже и очень эффектно: торжественно проплыл по комнате, неся в руках судейскую мантию, чтобы прилюдно, т. е. в присутствии непосвященных, в данном случае меня, повесить ее в шкаф. Это все было похоже на то, будто он говорит: я здесь со своей семьей, отец и муж, и уж никак не судья. Убедительно, должен признать». «Да, мать несказанно красива, отец – извечно убедителен, именно так оно и есть». «Еще был Манфред, Бриг и Тролль. Манфреду я обрадовался больше, чем остальным, мне же порадовался за всех Тролль, мои амбиции получили чуточку витаминов». «А чего это ты так обрадовался Манфреду, что-то я не поняла, если честно. Нет, я ему тоже радуюсь, но это мой брат, у тебя нет в отношении него таких обязательств». «Ты – злюка. Обо всем узнаешь».
«Они сразу стали тебя обрабатывать? Ты рассказал им о своем деде?» «Знаешь, они предпочли говорить о тебе и твоем деде. Они возложили на меня почетную миссию по твоей реабилитации. Чтобы ты занялась работой, чтобы ты занялась своей личной жизнью, чтобы не задалбывала ни себя, ни свою семью дедом, который отошел в мир иной».
«Замечательно. А ты?» «Знаешь, сначала я предстал настоящим романтиком. Чуть занудным, но лирическим». «Это как?» «О, ты бы слышала мою речь. О нашей встрече и любви. Я сказал, что если долго тянется холодная весна, деревья держат свои почки в себе, они вырастают под корой, как опухоли, и не могут выйти наружу, деревья болеют, но когда немного теплеет, то деревья бросаются всеми ростками навстречу этому теплу, так и у людей с любовью. Так и мы с тобой. Душевно?»
«Душевно. Наверное, это понравилось отцу. Потому что звучит и выглядит, как сцена выяснения отношений между женихом и строгим отцом невесты из бедной, но независимой семьи в какой-нибудь социальной пьесе, классической, конечно, не авангардной. Он пылкий поклонник такой драматургии. А если бы в конце кто-то еще оказался предателем или кого-то отравили, он бы непременно записался на твои лекции». «Думаешь?» «Конечно. Ты их очаровал». «Не могу с тобой не согласиться, меня даже сделали поверенным в сердечных делах Манфреда. Рассказали о его конфузном романе с русской аристократкой. Ты ведь знаешь, как меня привлекает тема псевдогероев и героинь». «Бедная девочка. Она звалась Ее Светлость Анастасия Глинская». «Какая у тебя память! Я только обратил внимание на то, что это была распространенная княжеская фамилия, которую не запоминаешь еще и потому, что сразу же сомневаешься в ее достоверности». «Бедная девочка. Она хотела, чтобы в нее верили, более того, чтобы ее любили. В себя гораздо труднее верить, чем в Бога, хотя себя ты, по крайней мере, можешь увидеть в зеркале».
«Марта, ты меня каждый раз удивляешь. Ты умеешь формулировать, хотя не знаешь ни одной формулы!» «А ты умеешь очаровывать, до сих пор удивляюсь, как легко тебе это удалось». «Это только звучит легко. Как музыка Моцарта, ведь никто не знает, сколько он сил приложил? Твои хотели быть более уверенными во мне. Манфред подсмеивался и вмешивался в разговор, но я на него возлагал большие надежды, потому что у меня был план». «Ого». «Не забывай, нас учили логике не так, как вас. Вас учили плавать, а мы овладевали еще и дайвингом. Я предложил твоей матери и Манфреду сделать памятник. Мемориал». «Господи, понятно, что ты подкупил Манфреда, но почему ты решил, что это будет интересно маме?» «Смотри. Они просили, чтобы я переключил тебя с темы деда. Я сказал, что я, собственно, отличный парень и попробую переключить тебя на себя. Кстати, не удивлюсь, если у твоего отца есть досье на меня». «Не думаю, что он дошел до такого. Но он мог подстроить так, что при случае оно к нему попало, конечно, это произошло случайно, вот он его и пролистал. Как шахматный слон. Прошелся диагонально слоновьими ногами».
«Чувствую, ты права, любимая». Он меня поцеловал. «Поехали дальше. Тогда я сказал, что переключиться на меня ты сможешь, позже. Но мы ведь должны спасать тебя прямо сейчас! Не ждать, пока ты пропишешься в Украине». «Еще раз – ого». «Ага. Они заговорили все разом, никто не мог ничего предложить, а тут я – с проектом». «Зачем ты издевался?»
«Я ничуть не издевался. Мне кажется, ты сама поддерживаешь этот проект, он своевременный. Помнишь, ты дала мне прослушать рассказ Лилии Манюк? Она начинает с того, что хочет выбрать специальный день для своих цветочных бабушек». «Да». «Вот я и подумал, а почему это должен быть день, почему бы не создать памятник? Я не художник, но это так очевидно, три цветка – разные, но растут из одного корня…» Мне очень понравилась эта идея, я вскочила, порывисто обняла Райнера, при этом заехала по нему гипсом. «Умммм. Хорошо, что тебе это скоро снимут. Я весь прогипсован, чувствую себя скульптором, на которого каждый день падают заготовки для скульптур». Я легонько толкнула его. «Слушай, это классная идея!»
«Даже твой отец выслушал внимательно и готов был согласиться. Твоя мать и Манфред загорелись сразу. И Бриг. У нее всегда вид маленькой, всеми брошенной девочки, которая сомневается, примут ли ее играть?» «Всегда. Поэтому ее поведением ты меня не удивил, она всегда зажигается от мамы или Манфреда, такая ее бриговская натура». «Манфред засуетился, заметался, а где взять деньги, а где взять заказ». «А где взять деньги? Лиля не сможет это оплатить, я так думаю. Кроме того, это не совсем справедливо». «Заказ можно получить в мэрии, думаю, твой отец может вбросить это как идею в нужную среду. А деньги собирать всем миром. И в этом тоже есть смысл. Бриг согласилась координировать этот процесс. Хотя мне кажется, что лучше поручить это твоей Наташе». «Она не моя, а Дерека, кстати, звонила сегодня, была тронута классностью подарка. Это благодаря тебе! И благодаря тебе плавучий дом Дерека постепенно превращается в плавучий город, по крайней мере, они уже построили церковь».
«Возможно, они могли бы объединить усилия. Я верю в Наташу». «Наташа зарабатывает еще один голос для роли Бога, святой или ангела». «Прекрати. Я начну ревновать». «Да это я так. Подзуживаю». «Ты можешь поговорить со своими студентами, я со своими сотрудниками и аспирантами. Кампанию в прессе можно поручить Францу, ты мне о нем рассказывала, я вспомнил его статьи, сегодня несколько перечитал в Интернете, вполне прилично, и это его тематика. Я уверен, что на этот мемориал люди не будут жалеть денег. У каждого есть своя боль, которая становится глуше, если что-то делаешь. Пусть даже такое, что не кажется настоящим, хотя это по-настоящему». «Мне и Катарина звонила, мы договорились попить кофе, так я могу ей рассказать обо всем этом? Она перескажет Лиле. Лиля сейчас в больнице, готовится рожать, я не хочу ее беспокоить, а Катарина проведывает ее каждую неделю».
«Очень на тебя рассчитываю, потому что Лиля об этом должна знать, пока мы не разгулялись. Но это еще не все. Твоя мама предложила интересную идею, чтобы это были не просто цветы, а цветы с историей, настоящие символы наций: немецкие маргаритки, украинские лилии, еврейские розы». «Я не очень тебя поняла». «Я бы тоже не понял, если бы не вспомнил твою вышиванку и эти лилии на рукавах. Это как цветочный почерк каждой нации, понимаешь? Все вышивали, рисовали, ковали цветы в определенной традиции». «Теперь поняла!» «Поэтому я высказал мысль, что лучше всех нам может помочь твой дядя Артур». Я смолчала. Райнер требовал одобрения и аплодисментов. «И что сказала мама?» «Твоя мама ему позвонила, он обещал помочь. Я заслужил хороший ужин?» «Еще и какой», – ответила я, быстро чмокнула Райнера и бросилась писать письмо Манфреду. Я посоветовала обратиться к Марату, он может найти ответ на вопрос, как должны выглядеть цветы. Райнер махнул на меня рукой и пошел на кухню.
Когда он вернулся в комнату, я подумала, что для меня он сейчас открылся с новой стороны. «Слушай, а все-таки, как тебе это удалось – что они тебя вообще слушали? Я же хорошо знаю свою семью…» «У меня из родственников только мать и тетя, сестра отца. Они ссорились каждый раз, когда виделись. Мать бесится, потому что тетя напоминает ей о моем отце, который бросил мать и совсем не интересовался мной, мать посылала в его адрес проклятия, пока не узнала, что он, оказывается, давно умер. «И тут он меня опередил» – такой была ее первая реакция. Отец первым признался ей в любви, первым понял, что она беременна, первым ее бросил, а теперь первым умер. Тетя злилась, потому что мать претендовала на ее ненависть, но теткина ненависть к отцу, брату, имела более длинную историю и вынашивалась на девятнадцать лет дольше. В моем присутствии они не стеснялись обмениваться бранью, взаимными претензиями и обидами, а потом переключались на меня. Потому что я не только внешне был похож на отца, я к тому же был мужчиной, что удваивало мои шансы быть ненавистным».
«Как ты это выдерживаешь?» «Я довольно рано понял, что они успокоятся лишь тогда, когда осознают взаимную выгоду. Две практичные, прагматичные личности с перекрученными, как гетры футболиста, судьбами, под которыми болит, печет, не готовое к прощению травмированное сердце. Когда я понял это, мне осталось разложить по полочкам их достоинства, возможную выгоду и время от времени напоминать им об этом, доставать, как продавец, с верхних полок залежалый товар, который долго не замечали, и разворачивать у них на глазах. Их корыстность, черта, которую мало кто считает положительной, позволила мне примирить семью. Нет, я не сделал из них подруг, но мне удалось взрастить уважение. Они научились видеть что-то хорошее. Со временем они стали относиться ко мне снисходительно, шпыняют и иронизируют, но я не злюсь, потому что знаю их формулы и могу использовать их в мирных и военных целях. Вот такая исповедь сына и племянника. Поскольку ты родной для меня человек, я позволил себе немного поколдовать, чтобы определить формулы твоих родственников и примирить их, насколько это возможно».
«Ты страшный человек, Райнер Граф. Страшный и опасный! Мне везет на мужчин с тягой к упорядоченности этого мира. Отец раскладывает всех на параграфы или нормы, а ты вычисляешь формулу. Интересно было бы посмотреть на вашу игру в шахматы». «Твой отец разделяет твое любопытство. Мы уже договорились на субботу, кстати, тебя пригласили, можешь отправить благодарственный дочерний мейл».
Что я и сделала. Отправляя мейл, я вспомнила о странном письме, полученном днем. Я пересмотрела все папки, но его нигде не оказалось. Я разволновалась и позвала Райнера. «Слушай, ты можешь считать меня чудаковатой». «Уже». «Это к лучшему. Я сегодня получила странное письмо. От неизвестного, а скорее – неизвестной. Письмо-предупреждение в стихах, что не стоит сближаться и дружить, потому что потом я буду выть, что-то вроде этого. Я подумала, может, это какая-то из твоих любовниц? Ты ничего не говорил мне о своей личной жизни, я не спрашивала, но такое может быть? Мне кто-то может угрожать?» «Ты мне лучше скажи, а мы что – дружим?» «В частности, и это».
Райнер присел на диван. «Тебя напугало это письмо?» «Не могу сказать, что я испугалась, но было в нем что-то неприятное. Знаешь, как в фильмах ужасов, такое вроде бы невинное послание, стихи, украшенные смайликом, а потом – бац, когда ты купаешься, тебя душит маньяк». «Не хочу тебя разочаровывать, но я никогда не встречался с маньяками и не спал с ними». «Отлегло».
«Единственная девушка в моей жизни, которая умеет писать стихи, это моя лаборантка Эрна. Она очень аккуратная и практичная и не склонна к театральным эффектам. Но мы действительно периодически спали с ней последние полгода. То есть она самая свежая. Не представляю себе, чтобы она могла отправить тебе письмо с неизвестного адреса, потом взломать твой ящик, если я тебя правильно понял?» Я утвердительно кивнула. «Уничтожить письмо. Как-то странно. Она могла написать стихотворение, но все остальное – не ее стиль. Я у нее спрошу, если это она – непременно признается. Она не из тех, кто врет». «А с кем ты спал вторую половину года, до Эрны?» «С мечтами о лучшем будущем». «Я серьезно». «Я тоже. Понимаешь, не могу похвастаться бурными и страстными романами. Я же ничего не скрываю, все тебе рассказываю. Представь, я с семнадцати лет хотел жениться. Мне казалось, что это благородно, что это придаст мне значительности. Не знаю, где я этого набрался. Поэтому в первый раз я чуть не женился на Илме, когда мне исполнилось девятнадцать лет. У нее был ребенок, она пела в дешевых кабаках и курила целыми днями напролет». «Ты хотел ее спасти?» «Очень. Хотя понятия не имел, как это сделать. Мне казалось, что как только мы поженимся, она сразу изменится, ведь я подарю ей новую жизнь. Хорошо, что она сразу поняла, что я романтичный идиот, и сбежала с дальнобойщиком куда-то в Швецию». «Дальше».
«Потом я очень влюбился. Мне уже было двадцать четыре, я был взрослым, и мне казалось, что никто мне не нужен больше, чем Карла». «И что?» «А Карле казалось, что я на нее давлю. В сексе, в жизни. Во всем. Кончилось это тем, что я боялся ее обнять, потому что она могла закатить истерику, что я пережал ей сосуды. Безумие. Она сама хотела на кого-нибудь давить, но могла только сбивать. Со мной ей это удалось с первой попытки. Я был сбит Карлой. Она жила в соседнем доме, но для меня это было так же далеко, как Швеция. Вскоре она вышла замуж за одного писателя. Профессора и писателя. Кроме того, бывшего телеведущего. Она выгуливает его меланхолично-степенного мастифа, а он всегда рычит на них из окна».
«Слушай, она меня заинтриговала. А чем она занимается, когда не выгуливает собаку и не слушает рычание писателя?» «Это смешная история. Она учительница, но бросила работу, когда вышла замуж. Потому что считала свою работу маловажной, ей хотелось быть поводырем гения. Странно, что она не родилась лабрадором, тогда было бы больше шансов. Потому что профессор-писатель запретил ей приближаться к его бумагам, архивам, записям. Она до сих пор от этого в шоке. Самое большое разочарование в жизни. Она сама мне жаловалась».
«Если бы она была лабрадором, могла бы получить ботинком по морде. Тоже не слишком весело». «Ты думаешь, слепые бьют своих собак? Ты рушишь мое миропонимание. Рассказываю дальше. Ты так активно не устраивайся в подушках, я планирую получить свой ужин!» «Не отвлекайся!»
«Я сегодня слишком много говорю. Я не оставил своих романтических попыток. Поэтому решил жениться фиктивно. На турчанке по имени Сэл. Она не могла устроиться на нормальную работу, а я мог ей помочь. Кстати, себя она называла Сельма». «Странно. Знаешь, о чем я сейчас подумала? Вот если к поезду прицепить два лишних вагона, он остается поездом. А прицепить две лишние буквы к имени, и оно меняет национальность». «Но человек, сменив имя или национальность, тоже остается человеком. Возможно, поезд тоже превращается в другой поезд, меняет национальность. Слава Богу, до национальностей поездов мы еще не дотянулись своими ручонками. Поезд с десятью вагонами – одна национальность, поезд с пятнадцатью вагонами – другая национальность. Как тебе?» «Думаю, что товарняк – это другая национальность. Если вообще подобное можно утверждать. И что Сельма?»
«Ничего. Ее депортировали, миграционные службы нашли ее в списках, состоялся суд, и она улетела на родину». «Слушай, ты мне напомнил кое о чем. О списках. Мне звонили сегодня из Министерства юстиции, моя бывшая сокурсница, она ведет дело деда. Они требуют отчет о моей поездке в Украину. Представь себе. Они за мной следят. Хотя сказали, что следят, мол, не за мной, а за фамилией деда». Райнер обнял меня за плечи, и на его раз-два-три мы поднялись и присели на диван. «Ты чего?» «Марта, знаешь, если они следят за твоей фамилией, не пора ли ее сменить? Например, на мою? Конечно, только в качестве предупредительной меры». «Ты делаешь мне предложение?» «Уже сделал». «Тогда зачем мы встали?» Я никогда не думала, что буду столько заниматься любовью со сломанной рукой. Я даже представить не могла, что я на такое способна! Я оторвалась от Райнера. «Слушай, а мы не слишком часто занимаемся любовью?» «Интересный вопрос, равно как и наблюдение. Мне кажется, ни одному мужчине не удалось бы такое сформулировать». «Тогда я точно женщина, хотя иногда я в этом сомневаюсь». Райнер сделал «большие глаза», и мы расхохотались.
Глава восемнадцатая
Еще без двадцати минут восемь, а мы с Райнером завтракаем на открытой площадке кафе «Hackescher Hof». Кроме нашего заняты только три столика, за одним сидят шумные итальянские туристы, такие бурные и беззаботные, что хочется поперебрасываться с ними мячиком. За другим – видимо, сотрудник музея с утренней газетой и несколькими брошюрами. За третьим – влюбленная пара иностранцев. Они целуются, отвлекаясь только на голубей и кофе, а не на людей. Будто сидят на карнизе, похлебывают кофейную дождевую воду, целуются и воркуют. Поэтому непонятно, какой они национальности, может, они и немцы, ну и что, что на столике разложена карта, возможно, они впервые в Берлине.
В такое время по улицам бродят только туристы, бездомные, влюбленные и собачники. Автомобилисты выводят на улицу свои машины, готовя их к загородным поездкам, на отдых или на закупку в моллы. [12] Туристы озираются, цепляют и поддевают взглядом все, что кажется им интересным или необычным. Какой-то дедушка в забавном фиолетовом берете с пимпочкой, напоминающем половинку сливы-угорки, проходя мимо кафе, фотографирует готические окна, таблички, голубей-воркунов. Я встречаюсь с ним взглядом, у него светло-голубые глаза, кажется, если немного дольше всматриваться в них – увидишь облака или тебя ослепит солнце. У деда странные зрачки, такое впечатление, что они вращаются. Так на миг показалось. Я вспомнила, как когда-то фотографировала необычные двери или просто новые двери, у меня была коллекция закрытых дверей. Эрнст сказал на это, что я все еще ищу свой путь и свой выход. Кажется, я уже все нашла. Интересно, что именно хочет отыскать этот дедушка?
«Ты такая нежная», – говорит Райнер, укладывая мои руки в свои ладони, наши сложенные вместе кисти напоминают лотос или речную лилию. «Ты знаешь, что я именно сейчас открываю тебя заново. С новыми возможностями». «Ты имеешь в виду мою новую фамилию? Теперь и я псевдогерой». «И это тоже. Но я имел в виду нечто иное. Я открываю новую тебя, с двумя руками! Знаешь, пока я совершенно не чувствую разницы». Я поднимаю левую руку, чтобы стукнуть его, Райнер уворачивается. «Слушай, тебе велели ее разминать, жаль, что я не остался и не услышал, как именно. Тогда бы еще подумал, регистрировать ли нам наши отношения». Когда мы отсмеялись, я впала в меланхолическое состояние, чего раньше со мной почти никогда не случалось. Когда я бывала меланхоличной, я знала, что это начало депрессии, мне нужно съесть черного шоколада, три миндальных ореха и апельсин. Сейчас хотелось вишен, поэтому я попросила, чтобы мне принесли кусок вишневого штруделя.
«Марта, Марта!» Я не заметила, как на время выпала из реальности. «Прости». «Задумалась?» «Да. Подумала, как изменилась моя жизнь». «Коренным образом?» «Нет, но быстро. У меня появился ты, еще несколько месяцев назад я не могла дышать свободно, потому что в каждом вдохе был Дерек. Ходить не могла ровно, потому что спотыкалась о мысли о нем. Я с трудом выносила присутствие Наташи. Не представляешь себе, как она меня раздражала. У меня были мои студенты, а сейчас – так непривычно это произносить – клиентура.
Но я даже подумать не могла, что стану работать адвокатом не под давлением отца. Что только он не выдумывал, чтобы заинтересовать меня адвокатурой, угрожал, убеждал, дарил букинистическую литературу с речами известных адвокатов. Говорил о перспективах, благородстве этого выбора, развитии в профессии, о вкладе в восстановление мировой справедливости и т. д. А Наташе это удалось с помощью одного-единственного судебного заседания. Как будто она лучше знала, где у меня был тот детский родничок на темечке, который зарос, но до сих пор отзывается на некоторые вещи, терморегулируя мой организм. Наташа это почувствовала, а не папа, который прижимал мою головку к своему правому плечу, я так лучше засыпала». «Ты и сейчас так лучше засыпаешь. Только плечо поменялось». «Все шутишь, а я серьезно».
«Но я тоже серьезно. Мне кажется, что ты перестала бояться своей ответственности». «Как это?» «Тебе виднее, ведь это ты перестала бояться, а не я. Меня твоя ответственность очень пугает». Райнер съежился и попытался спрятаться за сахарницу. Я хмыкнула. «Когда мы познакомились, я почувствовал, что у тебя зашкальный уровень ответственности, но ты ее стесняешься, как некоторые люди своей полноты, не знаешь, куда приткнуть. Даже на себя эту ответственность распространить боишься, не то что на других. А тут ты как бы отпустила ее».
«Возможно, я просто начала слушать голос своего организма, своего тела, как настаивает Марат в своей работе?» «Кстати, жена. Могу ли я кое о чем у тебя спросить?» «Попробуй». «Скажи мне, это равнодушие или деликатность, что ты совсем не интересуешься судьбой проекта Марата? Ведь проект на рассмотрении у меня, а от тебя ни одного вопроса, как будто и не ты мне его принесла». «Я подумала, что уже не отвечаю за это, в конце концов я правильно его зарегистрировала и вовремя принесла, а что еще? Разве вы не должны проанализировать, проголосовать и ответить?» «Должны, более того, мы уже это сделали. Интересно узнать результат?»
«Ммм, если можно, ведь можно?» «Можно. Проект очень интересный, мы его полностью поддержали, даже с увеличением бюджета. Марат может разрабатывать его и проводить первые исследования в Украине, мы всем его обеспечим. Оборудованием, технологиями, которые ему необходимы. Его партнер, Аркадий, сообщил, что они нашли местные финансы, усиленно будут заниматься этим, проект приоритетный. Ты знаешь, вполне возможно, что ты, пьянчужка со сломанной рукой, принесла к нам – Нобелевскую премию в области физики или медицины».
«Нет слов. Я очень рада. Я была уверена, что это скорее фантастический роман, а не нормальный научный проект. Я и сейчас так думаю. Вы меня не убедили в его реалистичности». «Это порочное недоверие, оно не делает тебе чести». «Наличие чести дорого стоит тому, кто ее бережет, гораздо проще ее продать». «Какой цинизм, на тебя влияет адвокатура». «Когда я буду старенькой, на меня не будет влиять адвокатура, только погода. На дождь будет ныть левая рука. Дотерпишь до того времени?» «Не знаю. Сейчас послушаю голос своего организма, может, он поведает о степени изношенности моего сердца. Я тут подумал, что изношенность лица у каждого своя, то есть изношенность кожи. Видимо, так же старость сказывается на сердце, у кого-то больше морщин, проступают пигментные пятна, а у кого-то оно гладкое и румяное». «Главное, чтобы никто не додумался колоть ботокс». «У сердца есть свой ботокс».
«Знаешь, Марат обещал написать длинное письмо и не написал, а я так ждала. Я так поняла, что у него голова идет кругом от работы, потому что он обещал, но постоянно переносил эти обещания, как человек переносит тумбочки, потому что ему крайне необходимо вымыть под ними пол. Я получала от него письма, но это были скорее записки, он очень смеялся, когда получил письмо Манфреда с вопросом: «Как выглядит еврейская роза?» Помнишь, ему это было нужно для памятника? Марат написал тогда, что так же ужасно весело ему было, когда он знакомился с семьей одной девушки из Херсона и мама той девушки спросила у него: «Марат, вы не знаете, а камбала это благородная рыба? Вы же, евреи, в этом разбираетесь?» Марат так и не понял, что она имела в виду. Кошерность камбалы? Ее происхождение? Веру в Иисуса Христа? Ее хорошие манеры? Не подставляет ли она бычков? Не мечет ли свою икру в брюшки других рыб? Или еще что-то?»
«Еще будем кофе?» «Будем!» Райнер заказал еще. «Я вспомнил открытие памятника сестрам Манюк. Манфред гнал, как скорый поезд. У меня были свои представления о работе скульпторов, я думал, что они работают над памятниками около года. Иногда – больше. Причем все это происходит за счет государства, то есть за мой. Манфред спас репутацию художников в глазах простого физика». «Я разговаривала с Францем. Он убежден, что это лучшая работа брата: тонкая, исполненная смыслами, кодами и чувствами. Лиля плакала, помнишь?» «Я тоже всплакнул, я у тебя очень чувствительный». «Даже Катарина плакала, расчувствовалась. Она сказала, будто увидела, что именно вырастет на месте ее погребенной старости».
Мы поцеловались, Райнер должен был зайти к своей матери, я отправилась домой. Включила компьютер и наконец-то получила письмо Марата. Длинное и подробное, как он и обещал.
Письмо Марата Шевченко Марте Граф
...
«Привет, ты, наверное, думаешь, ну что же этот черт молчит, а черт этот чувствовал себя лучше, чем белка в колесе, но хуже, чем само колесо. А теперь я должен тебе сказать, что мы выиграли грантовое предложение, наш проект поддержан единогласно, да еще и с увеличением бюджета, но я остаюсь в Украине, потому что Аркадий наконец нашел партнера. Как говорит тетя Оля: «То густо, то пусто». Тетя Дора прокомментировала это так: «Для того чтобы быть удачливым, не нужно быть умным, но для того чтобы быть умным, нужно быть удачливым». Аркадий долго размышлял над этой фразой, потом сказал, что нет, на своем надгробном памятнике он такое точно не напишет. Тетя Дора сказала, что она не знала, что он подбирает себе надгробную надпись, но может посоветовать ему хотя бы вот это: «Откуда дурак выбраться не может, туда умник не полезет». Аркадий промолчал, а потом сказал мне, что еще неизвестно, кто из двух сестер бóльшая язва, моя мать или тетя Дора. А я подумал, что когда из жизни уходит старшая сестра, младшая так или иначе наследует не только ее барахлишко, но и характер.
Я обещал познакомить тебя со своей женой хотя бы в письме, поэтому выполняю обещание, жалею, что вы так и не встретились, но я столько о тебе толкую, Аркадий тоже, что ей кажется, будто ты с нами училась на одном факультете. Страшное (или наоборот!) дело, но и мне так иногда кажется.
Как я тебе уже говорил, моя мама косо смотрела на людей вообще. Что уж говорить о людях, которые хотели войти в нашу семью. Я думаю, что Майка потому и меняла постоянно мужей, чтобы мать не успела к ним начать цепляться, но мать хмыкала и говорила, что это все равно, что содержать в чистоте велюровый костюм в доме, где хозяйничают коты. Мать истребляла кавалеров Майки через одного, даже имен не запоминала. Все они были «трахали-хахали».
Впрочем, когда Майка бежала в Израиль, поначалу она верила в благословение матери, поэтому впервые и, можно сказать, официально познакомила ее с будущим мужем – Яшей. Яша был парикмахером в гостинице, где обосновались азербайджанцы. Гостиница располагалась возле базара. В Израиле Яшу пообещали устроить на новую ферму, которая занималась тем, что разводила овец для шерсти. Когда я сказал, что Яша никогда не стриг овец, он справедливо заметил, что после азербайджанцев постричь овцу – проще простого.
Мать подбоченилась и спросила: «Что, думаешь, ты там нужен, блистать там хочешь?» Яша на всякий случай кивнул. «Блистать ты мог только фиксой в нижней челюсти, только вы же теперь от совдепии открещиваетесь, как раньше от Христа, выдаете себя за кого-то другого, гляжу я, на дешевую керамику свой золотой зуб заменил. И нечем тебе, Яшка, блистать, и в ломбард отнести нечего». Видимо, это были последние слова мамы, с которыми она обращалась к Майке, хотя предназначалось это все Яше.
Мать понимала, что Майку она не удержит, если та этого не захочет. Ей было неважно, с кем она сбегает, главное, что это было бегство от нее, от матери. И тут уже она ничего поделать не могла. Разве что переломать Майке ноги.
Мать понимала, что в Майке рано проснулась сексуальность, и беспокоилась только из-за того, что Майка может забрюхатеть лет в четырнадцать. Она часто говорила: «Боюсь, что у нее появится молоко в груди раньше, чем успеет молоко на губах обсохнуть». Впрочем, в отношении меня она высказывалась еще более «по-доброму»: «Рожать тебя было более легким и безболезненным занятием, чем выносить твое подрастание и дальнейшую жизнь».
Что касается моей будущей жены, мать понимала, что придется с ней смириться, потому что от меня так просто не избавишься, я тяжелее на подъем.
Моя жена родом из Червонограда, со Львовщины. Зовут ее Гердана, дома мы сокращаем ее имя до Даны. Сначала ее имя бесило мать, она все квохтала, что нельзя брать в жены галичанку, да еще и с именем, которое означает ошейник, пусть даже этот ошейник не просто ошейник, а украшение из бисера. «Сам себе это на шею вешаешь, не заметишь, как она на голове у тебя сидеть будет». На это я отвечал, что Гердана – кроткая и миролюбивая, страстная и нежная и вообще я ее люблю. «Кроткая, говоришь? Так эти вот кроткие так прочно садятся на голову, при этом убеждая тебя, что это теплая шапочка, и если ты ее снимешь – заработаешь себе менингит, гайморит или отморозишь уши, так что сам ее побоишься снять». Мать была непреклонна в своем неприятии. Гердана ее раздражала, каждый раз, когда мать ее видела, она пыталась ее унизить. Гердана же говорила, что привыкла относиться к матери как к вещующей зло карте, которая выпадает при гадании, главное – не принимать близко к сердцу, тогда это на судьбе не сказывается, и продержаться до нового расклада, тем более, что каждый раз вместе с этой картой выпадает червовый король (я). После таких слов Гердана меня целовала.
Гердана преподает музыку, играет на бандуре. Не только преподает, но и участвует в концертах, это тоже злило мою мать, она считала, что два единственных музыкальных инструмента, которые нужны женщине, это флейта, если она планирует удачно выйти замуж, или скрипка, если она замуж выходить не хочет.
Знаешь, помню, как ты смутилась в церкви, потому что не знала молитв. Я тоже не силен в молитвах, а вот Гердана знает многие: от коротких до очень длинных. Она воспитывалась на Библии и молитвах, так же, как я – на «Тимуре и его команде». Удивительно, но эти две книги оказали почти одинаковое влияние на наше мировоззрение, мы прекрасно понимали друг друга, оставались бесхитростными, надеюсь, что добрыми, и верили в справедливость.
В Киев Гердана приехала учиться на экономиста, музыкального училища ей было мало, но познакомились мы на ее концерте, куда меня занесло только потому, что я был влюблен в девушку Яну, а та, как водится, была влюблена в руководителя Даниного ансамбля Анатоля. Я тогда пытался вызвать Анатоля на откровенный разговор, но он не понимал, чего я от него хочу, ибо в его жизни не было никакой Яны, это в ее жизни мельтешило большое количество Анатолей. Я страдал, Яна страдала, Анатоль злился.
Не знаю, почему я обо всем этом рассказал Гердане, наверное, потому что у нее был проникновенный взгляд (так смотрят на тебя анютины глазки, любимые цветы моей тети Доры, моего детства, если верить, что у цветов тоже есть душа) или красивые ноги, которые легко представить под своими руками. Гердана не говорила мне, что моя влюбленность пройдет, что когда-то я даже не вспомню эту Яну, она взяла в свои руки мои пальцы и начала их разминать. Значительно позже она рассказала, что так успокаивала своего любовника, водителя Ромчика, который бросил Гердану так же быстро, как и руль, и подался в коммерцию. Возможно, Рома так успокаивался, а я, наоборот, активизировался, поэтому посмотрел на Гердану другими глазами и стал думать, не согласится ли она продолжить этот вечер со мной в другой обстановке.
Мне некуда было ее вести. Тетя Дора, хотя бы все и поняла, но не удержалась бы, чтобы не доложить матери. К матери вести было категорически нельзя, потому что она превратила бы нас в две кучки навоза. Пока я грустил о неосуществимости мечты, Гердана взяла меня за руку и повела на еще один концерт. Концерт проходил в Доме учителя. Мы пришли почти последними, когда по коридорам уже ходили бдительные тетеньки и звенели ключами, будто церковные колокола в старину, сигнализировали об опасности и бедствиях.
Гердана потащила меня на цокольный этаж. Там было темно, но сверху проникал тусклый свет, у одной из закрытых дверей на ветхой банкетке, прижимаясь спиной к обшарпанной стене, сидел ребенок в чешках и костюме бабочки – с золотистыми рукавами-крыльями. В Доме учителя ютились несколько детских кружков, в том числе танцевальных, но что эта бабочка забыла тут, почти что среди ночи? «Что ты здесь делаешь?» – спросил у нее я. «Я – ночная бабочка, понятно?» Мы с Герданой рассмеялись, потому что в блатной песне одного эмигранта, которая была тогда популярной, ночными бабочками называли проституток. «Вы туда?» – взмахнула она золотистым крыльцем. Гердана кивнула. «Скажите моим родителям, чтобы они быстрее выходили, у меня крылья устали ждать».
Гердана привела меня в комнату, где находился видеосалон, там работал ее бывший, Рома. Так я в первый и пока что в последний раз почувствовал себя участником оргии, поскольку Рома устраивал закрытый показ эротического кино для взрослых, и все стулья, кресло и кушетка были заняты парочками, которые занимались друг другом, периодически отвлекаясь, чтобы поглазеть на обнаженную натуру, ведь в темноте комнаты своей обнаженной натуры не было видно. Мы присоединились к этой вакханалии. Где-то рядом сидели родители златокрылой бабочки. Ко гда кто-то спрашивает меня, смотрел ли я «Греческую смоковницу» (кстати, а это правда, что некоторые родители в Германии использовали ее в качестве учебного пособия по сексу для подростков?) и когда это было, я отвечаю, что совершенно не помню сюжета, потому что занимался развитием своего, зато помню грудь Бетти Вергес лучше груди своей тогдашней партнерши (долгое время мне казалось, что именно так и выглядит грудь Герданы). Как и то, что она мне показалась очень развратной и старой. Уже потом я узнал, что она играла студентку.
Из видеосалона мы выходили счастливыми, наши руки образовали качели, и казалось, что совершенно невозможно жить порознь. Пришлось привести Гердану к тете Доре. Там мы прожили месяц до узаконивания отношений (слово такое же безобразное, как заключение, хотя, может, вы, юристы, воспринимаете это иначе) и еще год после этого. Мать бесилась больше, чем я это мог себе представить, так и не приняла Гердану, не приняла наш союз, каждый раз нарекая Гердану – «эта».
Даринку мы вымолили у Бога. Поэтому и назвали так. Как подарок. Гердана долго не могла забеременеть. Мать, конечно же, обвиняла ее в распущенности, шептала-шипела мне, что Гердана несколько раз себя выскабливала, поэтому ребенка у нас не будет. «Хочешь ребенка – меняй жену». Но мы с этим справились, хотя было очень трудно. Знаешь, когда мы бегали по врачам, а Герданке кололи гормоны, капали капельницы, я в который раз мечтал о реализации своего проекта. Потому что зачала она не после того, как выполнила рекомендации всех каких только можно врачей: от участковых до светил, а после того, как попала в руки старенького доктора, которому достаточно было положить ладонь на низ ее живота, долго держать ее, потом переместить и еще подержать, прописать травяные чаи, и через год она стала мамой.
Слушай, я сейчас пишу это и подумал вот о чем. У нас скоро появится сын. Жена на девятом месяце. И что-то мне подсказывает, что именно ты должна стать крестной мамой. Знаешь почему? Во-первых, ты стала крестной моего научного проекта. А во-вторых, мы знаем, как назовем малыша, мы это решили давно, моего сына будут звать Мартын! Вообще-то, мы уже обращаемся к нему только так. Чувствуешь? Он еще не родился, но уже звучит, как твой крестник. Подожди… Вот, уже договорился с Герданкой. И мы очень ждем твоего положительного ответа.
Крестным отцом (наконец-то он получает роль своего масштаба) согласился быть Аркадий. Помню, как он сказал тебе, что не верит в сестринство, но в кумовство (крестных у нас называют – кум и кума) не верить он не может, как-никак, а это непреходящее и традиционное украинское явление.
P. S. Отказываться быть крестной мамой нельзя. Это плохая народная примета, которая испортит карму того, кто отказывается.
С острыми воспоминаниями,
Ваши Ножницы;)».
Когда Райнер вернулся домой, я огорошила его тем, что скоро стану матерью. Он сказал, что не знает, что делать: целовать меня, прыгать до потолка или проверять свой счет. Тогда я объяснила ему все по-человечески, он погрустнел, но потом все равно обрадовался и резонно заметил, что это большая ответственность и я безупречная крестная мать, но он не знает, как эту новость переживет Ханна. «Она ведь уверена, что именно ты будешь крестить ее ребенка». «Слушай, если она перенасытит малыша мусульманским солнцем, я, видимо, останусь в стороне, потому что крестить ханеныша будут по другим правилам». «Тогда все складывается наилучшим образом». Я тоже так думала и в мыслях уже стала собираться в Украину.
Глава девятнадцатая
Это было мое первое дело, которое рассматривалось в суде. Дело в буквальном смысле плотское. Мое первое заседание в качестве адвоката, а в качестве моей первой клиентки выступала Эвка Павелич, хорватка, студентка церковного колледжа, которая пребывала на четверти пути к получению немецкого гражданства, подрабатывала няней и обвиняла старшего сына своих работодателей в изнасиловании. Вся семья обвиняемого занималась тем, что выливали на Эвку лохани помоев, в свою очередь, обвиняя ее в фабрикации обвинения, умышленном подрыве репутации их сына, а также в недозволенном использовании его «семенного материала» в личных корыстных целях. У меня от всего этого голова шла кругом. Эвка Павелич была чрезвычайно холеричной особой, через несколько минут после начала судебного заседания у судьи уже было обидное прозвище, у меня оно тоже было, я звалась Оглобля.
Когда кто-то из адвокатов рассказывал мне о том, что клиенты могут мешать и ухудшать правовую позицию гораздо больше, чем сторона контрагентов, я скептически улыбалась, теперь я готова была отправить этим людям рождественские подарки. После трех часов судебного заседания я чувствовала себя такой измочаленной, как никогда прежде.
«Я приехала, чтобы учиться в этой стране и заработать деньжат, а не услужливо подставлять… ну, вы знаете, о чем я, этому подонку, мать которого считает, что у ее сыночка не достаточно отросло для того, чтобы насиловать, но достаточно созрело, чтобы забеременеть от него на расстоянии…» Так она начала свою речь. Когда мы познакомились, я считала ее знания немецкого преимуществом, сейчас у меня такой уверенности уже не было. Судья каждый раз моргал глазами, когда она начинала говорить, это означало, что он привык наблюдать у жертв насилия другое поведение.
В перерыве я спросила Эвку, что побудило ее пойти учиться в церковный колледж, если ей явно не хватает сдержанности и смирения. В ответ на это она спросила меня, где, по моему мнению, учат сдержанности и смирению; когда она выпутается из «этой байды», непременно запишется на курсы. Я подумала пару минут и сказала, что такому должны учить на курсах будущих матерей, но я об этом точно не знаю. Эвка расхохоталась и заметила, что если она не выскоблится в ближайшее время, у нее будет повод этому научиться. Мне оставалось извиниться и попросить ее называть судью Носком Вонючим только шепотом. «О’кей. Ты знаешь, что делать, Оглобля», – сказала Эвка.
Я просила, чтобы кто-то из моих встретил меня после заседания, хотелось пройтись и проветрить мозги, уважила меня Ханна, все остальные были заняты. Только Ханна согласилась выгулять свой наполненный жизнью живот у суда. Я до сих пор не привыкла целоваться с ней во время встреч, это выглядело как насмешка, но я заходила со спины, как маньяк, и быстро чмокала ее в щечку.
«Привет!» «Привет! Освободилась, слава Богу. У тебя такое красное лицо, как будто ты активно занималась самоудовлетворением». «Ханна, только не о самоудовлетворении, хорошо?» «Я еще должна подумать, хорошо ли это. Кто твой клиент? Несчастная сербская девочка?» «Почти. Неуемная хорватка. Эвка Павелич. На самом деле это ужасная история, и я понимаю, что только благодаря своему характеру Эвка еще держится. Она работала няней трехлетнего ребенка, ее изнасиловал пятнадцатилетний подонок, но вся его семья и он сам твердят, что он к ней не приближался, это она заставляла его мастурбировать в ванной, а потом ввела себе его сперму, чтобы забеременеть, заставить признать ее ублюдка и записать его в немцы, чтобы быстрее решить вопрос с собственным гражданством». «Не знала, что ты готова все это выдерживать», – отметила Ханна. Я наклонилась, чтобы поправить ботинок, что-то натирало ногу. Кто-то, шедший за нами, резко рванулся в сторону. У меня похолодел нос. Стало страшно. В последнее время я легко возбуждалась, как будто в организме двигались новые, необычные волны. «Ты чего?» – поинтересовалась Ханна, тонко чувствующая состояние и смену настроения, возбуждение и волны.
«Знаешь, кажется за нами кто-то следит». «Кто?» – активизировалась Ханна, которая любила подобные истории либо оттого, что никогда не попадала в них, либо потому, что всегда об этом мечтала. «Наташа сказала мне, что эта работа небезопасна. И за мной действительно могут следить. Нацисты, торгаши, из тех, кто делает деньги на мигрантах». «В принципе, это возможно. Но что они могут хотеть от тебя в связи с этим делом?» «Может, день ги хотят сунуть, чтобы я прекратила защищать Эвку, чтобы с парня сняли все обвинения, а ее выслали из страны». Ханна сказала, что никто не испортит нам прогулку, но я могу периодически, используя ее живот, как щит, оглядываться.
Относительно спокойно мы добрались до кафе, где Ханна уговорила меня остановиться, чтобы съесть гамбургер и выпить кофе-латте. Помогая официанту справиться с заказом (Ханна не ограничилась одним гамбургером и одним кофе), я заметила Адама Шольца. Он сидел за три столика от нас, встретился со мной взглядом, но не поздоровался. Я указала на него Ханне, вспомнила наши разговоры в Украине и его красивую невесту. «Он без обручалки, – отметила Ханна. – Видимо, она ему не подошла». «Обручалка?» «Вместе с невестой».
Мы продолжили прогулку лишь тогда, когда Ханна утолила голод «проглота» (он еще не родился, но уже был козлом отпущения, Ханна валила на него постоянные смены своего настроения, агрессивность, настырность, новоприобретенную способность доводить до бешенства работников сферы услуг, то, что она стала обращать внимание на женские ягодицы, чрезмерную чувствительность к жаре и духоте, прожорливость, желание читать книги, где всех убивали и калечили, и многое другое). «Во мне подрастает представитель воинствующей нации», – говорила она. «Ты, конечно, не имеешь в виду немцев?» – язвительно спрашивала я. «Ты зациклилась на нашей истории. Ты что-то слышала о Селиме Первом?» «Нет, и сейчас ничего не хочу о нем слышать». «Напрасно! Обстоятельный был человек, сначала отравил всех, кто мог отнять у него трон, зачистил все и всех, кого достал, и только потом начал стратегически выверенное правление. Кстати, после появления наследника он перестал посещать гарем, чтобы никто из ублюдков не убил его сына». «Стратег, спасибо за лекци…» «Марта?»
«Слушай, он идет за нами». «Кто?» «Адам. Он меня преследует». «Зачем?» «Не знаю. Но его появление не случайно. Я не хочу оглядываться, можешь посмотреть, он продолжает за нами идти?» Ханна пожала плечами. «Не волнуйся, он за нами идет, но не один, с ним очень красивая блондинка. Настолько похожа на Шэрон Стоун, насколько это вообще возможно. Вряд ли мы его интересуем». «Что?» Я наклонилась и выглянула из-за живота Ханны. Адам Шольц держал за руку Дору Тотер-Габор. Я выругалась. «Не смей! – одернула меня Ханна. – Не хочу, чтобы он набирался этого дерьма, еще успеет наслушаться! Ты же фактически выпалила ему это», – тут Ханна притормозила, пытаясь понять, какой частью развернулся ко мне ее наследник. «В ухо!» – констатировала она наконец. Все это время я ускоряла шаг и тянула ее за собой. Попробуйте оторваться от слежки с беременной подругой на руках.
«Чего ты так завелась?» – спросила Ханна, когда мы завернули за угол сувенирного магазина. «С ним не про сто блондинка, похожая на Шэрон Стоун. Это – Дора Тотер-Габор, моя сокурсница, сейчас она работает в Министерстве юстиции и ведет дело моего деда». «У твоего деда есть дело?» «Конечно, есть. Если она встречается с Шольцем, это означает только одно, они наняли его, чтобы за мной следить. Поэтому он сидел рядом со мной в самолете, потом заговорил со мной».
Ханна нахмурилась. «Ты уверена?» Я потерла виски. «Слушай, я больше чем уверена. Сейчас всплывает в памяти еще кое-что. Я его видела возле здания суда, еще подумала, что это может быть он, а потом отогнала эти мысли, мол, что бы ему тут делать? Теперь я припоминаю, что видела его у дома Франца, он спрашивал, как найти банкомат, он был на открытии памятника сестрам Манюк. А еще я заметила, что кто-то сканирует мою почту, к тому же посылает стихотворные издевки, вполне в его стиле. А я подозревала кого-то из подружек Райнера…»
«Марта, прекрати эту паранойю. Это как история с пятном крови, стоит однажды увидеть его, как ты начинаешь видеть его повсюду, хотя оно было только в одном месте и вряд ли научилось бегать за тобой и подкарауливать повсюду. Это жизнь, а не японская анимация, не накручивай себя. Помнишь, как в пятом классе мы увидели место аварии, где был мелом обведен контур человека? Я перестала пользоваться мелом, потому что считала это кистью смерти. И сейчас я не люблю рисунки мелом. Уфффф, ты можешь идти медленнее?» «Нет». «Если они за тобой следят, они все равно тебя не упустят. Сжалься надо мной, жалеть ближнего гуманнее, чем карать врагов, ясно?» «Ладно». Я замедлила шаг.
«Постой. Смотри. Он как будто невзначай познакомился со мной в аэропорту в Борисполе. Все это происходило очень естественно. Но он профессионал, их этому учат, он сидел рядом, когда мы летели туда, у него был не один повод заговорить со мной, но он этого не сделал». «Слушай. Но если он за тобой следит, разве это профессионально разоблачать себя, познакомившись с тобой?» «Конечно. Ведь нас все равно познакомил пан Грыць. Он уже знал, что я его выберу в качестве сопровождающего лица. Так как знал, что пан Грыць владеет немецким. Возможно, он тоже его агент». «Конечно. Поэтому он передал тебя Марату, а сам спокойно жрал колбасу». «Ты бы видела, как он недобро смотрел, когда я уезжала из отеля вместе с Маратом. А потом он звонил мне в деревню, узнал, когда я улетаю в Германию, чтобы скоординировать Адама. И я его увидела в аэропорту». «Что-то я никак не могу понять, зачем этой министерской Шэрон нанимать какого-то Адама, чтобы за тобой следить?» «Они думали, что я найду там что-то, что реабилитирует деда, новую информацию о его безумии, показания очевидцев. Или наоборот. Хотя не представляю себе, на которое «наоборот» они могли бы рассчитывать». Тем временем мы оказались возле большого торгового комплекса.
Я затащила Ханну внутрь, Адам и Дора прошли мимо, Дора растерянно озиралась. «Потеряли! Так вам и надо!» «Ты сумасшедшая, Марта. Честное слово». Возможно, я и была сумасшедшей, но я решила, что стоит их наказать, и это место было подходящим для воплощения моего плана. «Слушай, я знаю, как неожиданно на них напасть. Напасть, прижать и все из них вытрясти». «Ты считаешь нормальным предлагать беременной подруге нападать на федеральную Шэрон и вероятного агента?» «Я сама нападу, ты будешь моим страховочным ремнем». «Что ты задумала? Что ты из них собираешься вытряхивать?» «Правду. Мы можем перехватить их на выходе, где паркуются машины сотрудников комплекса, там обычно малолюдно, но эта парочка точно будет обходить это здание, если уж они не бросились искать нас внутри. Пошли? Ты со мной?» Ханна пошла.
Сквозь стеклянные двери я увидела их. Они смотрелись как парочка. Нервозная парочка любовников. Он прижимал ее к машине, она положила руку ему в карман. Вот оно. Передает шифры, задания, инструкции – или что там еще? Я выскочила наружу, как черт из табакерки, и бросилась на них. Прижалась так, словно приобщилась к ласкам.
«Что ты положила в карман? Думали, что обманули меня, что я простушка, что я не замечу вашей слежки?» «Марта?» – как будто удивленно отреагировала Дора. Я засунула руку в карман, выбросив оттуда ее влажную руку, и тут же почувствовала его мокрую и напористую, как нос собаки, возбужденную плоть. Я снова выругалась. Рука имела такой вид, будто у нее был насморк. Ханна выглядела возбужденной, но именно она протянула мне салфетку. «Спасибо», – слегка запинаясь, произнесла я. «Что все это значит?» – спросил смущенно Адам. Не знаю, чем он был смущен, тем, что его карман был прорезан (или разорван) так, чтобы легко можно было коснуться его плоти, или из-за всей этой ситуации в целом. Спрашивал он это не у меня, а у Доры. Она тоже смутилась и ничего не могла ответить, потом выдавила из себя, что это какое-то недоразумение, что она сама ничего не понимает. Для специальных агентов они вели себя странно.
«Вы знакомы?» – спросил у меня Адам. «Да, представь себе, мы с ней знакомы». – Я пошла в наступление. «А что это за тон, фрау фон Вайхен?» «Она фрау Граф», – аккуратно поправила партнера Дора. «Вы уже и об этом пронюхали», – заметила я. «Конечно. Ты можешь объяснить свое поведение?» «Могу. Я не люблю, когда за мной следят». «Мы этого тоже не любим», – поддержал меня Адам. Дора держалась рукой за щеку, как будто я отхлестала ее по лицу.
Она подняла на меня глаза. «Кажется, я начинаю понимать. Это месть за то, что мы отслеживаем информацию, связанную с твоим дедом? Извини, но это мои служебные обязанности, а какие у тебя обязанности, что ты позволяешь себе выслеживать меня и моего любовника? Да, мы с ним встречаемся тайно, я замужем, и что? Ты все теперь знаешь, напишешь письмо моему мужу? Может, ты и фотографии успела нащелкать?» «Так он ее любовник? По стой, ты же говорила, что он привез из Украины невесту», – отозвалась Ханна. «Очень хорошо. Еще неизвестно, кто за кем следит. Какую невесту, Адам, это правда?» – с болью в голосе произнесла Дора.
Как только он начал оправдываться, а она сняла шикарную туфлю на высоком каблуке и попыталась воткнуть его Адаму в пах, я поняла, что ошиблась. Жизнь полна неожиданностей и всяких совпадений. Их гораздо больше, чем можно себе представить, иногда они настолько концентрированные, что могут обрушиться на нас настоящим кислотным дождем.
Напряжение, которое сжимало меня в крепких объятиях, резко отпустило, я зашаталась и чуть не упала с ощущением легкой приподнятости в легких и тяжести в голове. Ханна придержала меня. «Приняла мячик на живот», – как сказала она потом. «Послушайте, извините, простите». Но они меня не слушали. Дора шла босиком, туфли валялись на месте разборки, ее плащ, как раненое птичье крыло, тянулся за ней, неизвестно на чем держась.
Адам курил, опираясь спиной и головой на стеклянную стену комплекса. «Рано или поздно так должно было случиться», – спокойно сказал он. Мы не очень хотели продолжать эту беседу, но просто так взять и уйти не могли. «Она никогда с ним не развелась бы, а мне хоть и нравится чувствовать себя восторженным подростком, настоящего огонька не хватает». Он огляделся вокруг, нигде не было пепельницы, здесь, скорее всего, курение было запрещено. Взгляд его остановился на валявшихся туфлях Доры, и мне показалось, что сейчас он возьмет одну из них и спрячет там свой окурок. Но он вытащил из кармана (другого, видимо, не разорванного) платок, заботливо, словно младенца, завернул в него окурок, бережно положил в карман.
«Знаете, когда я понял, что постарел?» Ханна хотела было что-то сказать, но передумала. «Я понял, что постарел, когда до меня дошло, что большинство женских имен в памяти моего телефона – это врачи, а большинство женских имен в моей памяти – это быль. Она может простудиться. Так глупо сбросила эти туфли, переполненная страстями, до безумия. Я впервые подумал, что рисковал больше нее. Возможно, она могла меня убить. Прощайте, дамы. Пока, Марта Граф». Я подумала, что он поднимет туфли Доры, но он не сделал этого.
Я проводила Ханну домой, она все твердила, что ей не хватает воздуха и слов, что было на нее совсем не похоже. А у меня было перенасыщение словами, эмоциями и воздухом, наверное, поэтому я, не раздеваясь, рухнула на диван и уснула так крепко, что не слышала ни одного телефонного звонка и проснулась только оттого, что меня целовал Райнер, я вцепилась в его шею, будто ничего более реального и надежного рядом не было. «День был очень тяжелый», – прошептала я. «Завтра обязательно будет легче», – пообещал мой муж, но он очень ошибся в своих прогнозах.
Глава двадцатая
Возможно, я не обратила бы внимания на это письмо с неуказанным отправителем (странно, не было ни одного символа, как будто со мной переписывался невидимка), если бы не приложения, которые были подписаны marta-rainer. Возможно, я не обратила бы внимания на это письмо, а создала бы новое, как и планировала, с указанием времени, даты и номера моего рейса, эту информацию ждал от меня Марат. Но я открыла это письмо.
При загрузке сначала я увидела фотографии – Райнер, кофе, я. Счастливые лица, целеустремленные и в то же время спокойные, как у моряков, которые наконец-то добрались до моря. Я узнала время и место, я узнала лицо старика-зеваки с необычайными глазами, его отражение поймала блестящая сахарница. Вероятно, именно тогда сильнее забилось сердце, хотя трудно уловить, когда именно это произошло, когда я увидела его лицо на сахарнице, или когда я прочитала первую строчку:
...
«Здравствуй, Марта. Долго думал, как к тебе обращаться, так всегда бывает, когда чувствуешь человека родным для себя, но на самом деле он тебе не родня и вообще вы с ним не знакомы. Мне кажется, что ты уже знаешь, кто я, на одной из фотографий я позволил своему лицу (этот мой образ называется – господин Слива) остаться навеки на вашей фотографии (вы выглядели счастливыми, ладными и гармоничными, как хорошо подобранная рифма), ты могла слышать обо мне (не очень много) и видеть мое фото (я знаю, что оно должно было сохраниться), тогда ты знаешь мое имя, хотя позволь мне представиться, чтобы тебя не грызли лишние сомнения, итак – Ганс Ленц, к вашим услугам.
Я уверен, что это письмо ты открыла только благодаря названию файлов с фотографиями, ведь правда? Я редко ошибаюсь. Мне многое нужно тебе рассказать, даже не знаю, с чего начать: с твоего деда, моего лучшего друга Отто фон Вайхена, с тебя, или с себя. В отличие от вас, я не хоронил Отто дважды, хотя оплакивал его гораздо больше, чем вы. Тебе трудно представить, насколько мы были близкими людьми, как мечтали прожить эту жизнь, а она было прекрасной.
Сейчас, чтобы в этом убедиться, я смотрю старое английское кино (иногда требуется три фильма), заказываю себе артистичную проститутку, желательно славянку (иногда требуется три женщины), которая может разыграть для меня персональное представление, или выпиваю бокал южноафриканского вина (иногда требуется целая бутылка). Еще у меня есть мои маленькие развлечения и большая память.
Жизнь казалась прекрасной, за какую бы ее часть ты ни ухватился. Жизнь, как женщина, которую хочешь познать, неважно, что окажется под твоими руками первым: шея, плечо, скулы, пальцы… Жизнь – это женщина, которую хочешь познать до конца, и хорошо, если твой интерес, страсть, желание покорить, наслаждение, наконец, любовь, жажда и знания заканчиваются вместе с ней. Иначе жизнь становится постылой, иначе это не жизнь, а вялое супружеское постылое существование, существование старых рыб в аквариуме, которые реагируют только на мотыль, а потом и к этому обреченному теряют интерес.
Я знал, что Отто не погиб в 1943-м, потому что он успел написать мне письмо. Еще одно письмо о безумии моего лучшего друга успел написать один лейтенант, в мирной жизни он несколько раз проигрывался мне в карты и считал, что задолжал мне душу (похоже, что деньги были ему больше по душе, в отличие от самой души), поэтому врал, доносил, предавал, добывал для меня все, что душе угодно.
Мне очень жаль, но эти письма сожгла моя любовница, британская шпионка Фиона, которую я разоблачил. Рано или поздно я всех разоблачал, поздно для них, не для меня. Она поняла, что времени и возможности передать эти письма у нее нет, поэтому скурила их при мне.
Письма твоего деда и лейтенанта были тонко нарезаны, раскатаны, только потом свернуты в самокрутки (тогда я не находил пошлым то, что она курила самокрутки, мы могли получить любые сигареты и даже сигары, мне нравилось, как она крутила эти самокрутки, как ее губы пахли дешевым табаком, смешанным неизвестно с чем). Я не хотел отказывать ей в куреве, необходимо было кое-что выведать, и она воспользовалась этой возможностью, поэтому, видимо, пыталась до последнего мгновения улыбаться, когда шелковый шнур познавал ее шею, все глубже и глубже, как умелый любовник.
Я не мог приехать на кремацию Отто, я знал, что охота на меня продолжается, и даже позже, когда я позволил себе приблизиться к тебе, почувствовать твой запах, прикоснуться к твоей жизни, я не пошел на кладбище, я боюсь, Марта. Боюсь не того, что меня схватят, будут судить, поднимут шум в прессе, боюсь того, что жизнь утратит свое очарование. Без вина, женского театра и британского старого кино. Не думаю, что Отто поймет меня, ирония судьбы, он всегда понимал меня, но кто-то лишил его этой способности в отношении всех и не сделал ни одного исключения. Даже для меня.
О, вижу, как тебе интересно узнать, что же произошло. Что случилось с блестящим, образованным Отто фон Вайхеном, который безгранично любил свою жену и детей. Чего же больше в твоих чувствах сейчас: любопытства или страха? Страх и любопытство – мощные мотивы, помни об этом, Марта.
Я узнал о том, что ты интересуешься дедом после того, как до меня дошло известие о его смерти. Министерство юстиции не меняет своих методов, они всегда готовы ловить на живца, даже, прости, мертвеца, по этому сделали все от них зависящее, чтобы донести до меня эту информацию. Итак, я об этом знал. Отто на этот раз действительно умер. Отмучился.
Я знал о том, что ты единственная из всей семьи прощалась с Отто. Знал о том, что ты увидела все эти странные предметы, рисунки, записки, оставшиеся от него в наследство. И был убежден, что ты продолжишь в этом копаться. Ты не знала, какие тебя ждут приключения и открытия, но я об этом знал. Потому что позволил себе кое-какие действия.
Я сканировал твою почту и отслеживал твои финансы, как сейчас легко узнать о жизни человека чуть ли не все, зная, кому и о чем он пишет и на что тратит деньги. Поэтому мне известно, что ты лелеешь надежду на то, что твой дед, Отто фон Вайхен, в конце своей сознательной жизни (потому что потом началась бессознательная, и она оказалась гораздо длиннее) признал свои идеологические ошибки, отчистил свою совесть до блеска, до дрожи в руках, покаялся и впустил в свою жизнь Бога.
Хочу тебе заметить, что Бога Отто никогда не выпускал из своей жизни, Бог не представлял, в какую попадет ловушку, когда постучался в его детские дверцы. Он только хотел познакомиться с маленьким Отто, рассказать сказочную притчу, но остался там навсегда. Ты никогда не задумывалась над тем, как трудно Богу жить в мыслях праведника? Как мало простора для фантазии, для жизни, для роста?
Но я отвлекаюсь. Отто фон Вайхен жил и действовал как офицер Рейха. Да, у него появлялись сомнения, как и у каждого из нас, мне было намного легче, я с детства считался мизантропом, Отто было труднее, потому что он принимал и отдавал гораздо больше любви, чем нужно одному человеку. Даже моя любовь перетекала к нему. Он не захлебывался только потому, что умел отдавать, мне же трудно было принять ее, но когда я решал, что это стоит брать, тогда высасывал все до последнего глотка, переваривал и прятал. Свою любовь.
К Отто привели новую переводчицу. Она выглядела несчастной и старой, хотя была молодой матерью двоих детей. Он знал, что у нее жидовские корни и не убили ее только потому, что кто-то должен был переводить, можно что угодно говорить о нас, немцах, но мы практичная нация.
Дальше я пересказываю с его слов. Из путаного письма, которое неизвестно как, но долетело до меня, никем не перехваченное по пути.
Он посмотрел на нее и вдруг понял, что они похожи. Словно близнецы. В ее лице он видел свое лицо.
И впервые в жизни барон Отто фон Вайхен испугался. Испугался, потому что поверил, без всякого сомнения, в то, что он – жид. Ты думаешь, учитывая это открытие, Отто сжалился над матерью двух детей и помог ей спрятаться или перебраться к своим? Ты все еще надеешься на это?
В кабинете на стене висело большое старинное зеркало, видимо, хозяйство местного жида, которого только что убили, потому что он неосмотрительно не выучил немецкого или, банально, был очень богатым.
Отто встал, закрыл кабинет на ключ, она никак на это не отреагировала, это была лучшая линия защиты. Не реагировать, что бы странное, смешное или страшное ни происходило. Он схватил ее за руку, подвел к зеркалу. И оно убило зерна сомнений, которые, возможно, смогли бы прорасти. На Отто смотрели два одинаковых лица. Одно – ее, несомненно, жидовское, другое – его, сомнительно-немецкое, но такого не могло быть! Он не мог в это поверить, поэтому одним махом он разбил и зеркало, и ее лицо, залепивши этим лицом, как мячом, в зеркало.
Потом перерезал осколком ее горло, лицо уже было обезображено так, что узнать ее было невозможно.
Никто из офицеров, которым пришлось разбираться с этой историей, увидев в кабинете женщину без лица, с перерезанным горлом, в луже крови, которая казалась черной и поэтому не пугала так, как если бы она алела, и Отто фон Вайхена, который бормотал что-то на неизвестном языке, пытаясь поймать кого-то или что-то в воздухе, не знал, как иронично они поступят, похоронив искалеченную убитую переводчицу в могиле, на кресте над которой было указано имя Отто фон Вайхена. Да, Марта, в той могиле, перед которой ты дважды склонялась, лежит женщина, которая довела до безумия твоего деда и которую он убил. Он испугался того, что она похожа на него как две капли воды, а ее похоронили под его именем, словно подтверждая их одинаковость.
Отто успел написать мне письмо, пока еще он не понадобился кому-то, сначала этот солдат или офицер робко постучал в дверь, потом звал его, а когда не услышал ответа – выломал дверь и увидел ту картину, которую я тебе обрисовал. Конверт с письмом для меня лежал среди другой, обычной корреспонденции, служебной и личной, поэтому его отправили, не открывая, наивно полагая, что все эти письма написаны Отто, когда он был в уравновешенном состоянии.
Из другого письма, письма лейтенанта, я узнал о том, как была захоронена та женщина, ее имя, о допросах Отто, которые не могли ничего дать, потому что он не понимал, кто он, где и что от него хотят эти неизвестные существа. Не знаю, идентифицировал ли он себя как человека или включилась настолько прочная защита организма, что убедила его в том, что он камень, кора, корешок, пыль или еще что-то другое. Его показывали нескольким врачам, они сменяли друг друга, давая как будто под кальку медицинские заключения о неадекватности Отто, но никто не мог разобраться с тем, что послужило толчком этому безумию. Об этом знал только я, но я не собирался сдавать своего друга. Об этом потом узнала Фиона, но я убил ее, об этом теперь знаешь ты, я решил, что ты имеешь право это знать. Врачи же отписывались, прикрываясь одним словом: стресс.
Дальше начались мытарства Отто по больницам и санитарным поездам. Нашим и советским. Никто точно не знал, кто же он такой, не всегда при нем были его документы. Это его спасло. В каком-то из поездов он и взял себе хасидскую шляпу. Безумцев перевозили скопом, их не разделяли по национальностям, их второсортность была и без того ясна, поэтому Отто снял шляпу с головы умершего хасида. Из-за того, что его постоянно брили, сверлили голову, чтобы узнать хоть что-то (думаю, он интересовал медиков и с нашей стороны и со стороны противника, поэтому его не лишили жизни. Пусть себе живет лишенный разума, а мы разберемся, что же произошло), он мерз, поэтому взял теплую шерстяную шляпу, чтобы согреться. Видишь, организм может забыть имя, но понимает, что ему холодно.
В этом прав твой новый друг Марат. Да, я о нем знаю, интересно читать его письма к тебе. Талантливый парень, хоть и полукровка. Ты еще не догадалась, почему я о нем вспомнил? Думаю, что ты уже знаешь ответ, но пока я позволю себе сказать о другом.
Библию твоему деду передал кто-то из медицинского персонала, один из врачей, теолог, австриец еврейского происхождения, пытался защитить теорию относительно того, что Библия возвращала безумцев к жизни благодаря своим повторам, универсальности сюжетов, смирению, которое веет чуть ли не от каждой строки, и знакомому с детства (обычно это касалось только верующих) запаху страниц. Он каждый раз открывал ее только на страницах с одинаковыми цифрами: 11, 22, 33, 44, 55… Потом его начинало трясти, как в лихорадке, он закрывал Библию и отбрасывал ее подальше от себя. Чего он боялся, знал только я. Ужасного единообразия, сходства, которое пугало его, близнецовства, от которого снова взрывался его мозг. Поэтому он отбирал у врачей картинки, где были изображены два одинаковых предмета, и пытался превратить один из них во что-то другое, чаще просто искажая его. И понятно почему, не так ли?
Он рисовал себя или ее, этого я точно не знаю. Он любил рисовать. Самоучитель иврита переслал ему я. Мне было интересно, как он отреагирует, в одной больнице был человек с таким же гнилым прошлым, как у меня, с неуемным финансовым аппетитом. Работал этот человек в заведении, где удерживали Отто, недолго, но я воспользовался случаем. Отто листал этот самоучитель, рассматривал знаки, но пользоваться им не мог. Я знаю, что сотрудники Штази, развлечения ради, дали Отто жидовское прозвище. Тот, кто первый это придумал, давно погиб при неопределенных обстоятельствах. Та же прикормленная мной медицинская особа ввела ему воздух, и этот укол, как воздушный шар, вознес шутника на небеса.
Теперь ты знаешь почти все. Осталось рассказать мелочи. Мне ужасно захотелось поиграть с тобой, простое созерцание меня утомляло. Поэтому я сделал первый шаг и первый звоночек. Динь-дилинь. Но ты на это не обратила внимания. Помнишь, четвертое письмо Отто? Ты решила, что его украл Боно. Так оно и было, но тебе он его не возвращал. Это сделал я. Боно выставил письмо с нотами на аукционе, цена была средней, он то убирал лот, то снова выставлял. Я умышленно предложил высокую цену для того, чтобы он избавился от последних угрызений совести, продал мне письмо деда и купил на эти средства клуб, о чем он давно мечтал. Убежден, что это был хороший поступок с моей стороны. Когда ты начала действовать, я послал тебе письмо. Но ты не почувствовала моего вмешательства.
Когда ты отправилась в Украину, я кое-что сделал для того, чтобы ты встретила Марата. Видишь, как оно бывает, я начал отслеживать и его, когда в моей голове промелькнула мысль, что можно вас свести и посмотреть, что из этого получится. Я прочитал, чем он занимается, его проект выглядел убедительно, это действительно переворот в медицине. Он искал финансы для его воплощения, я осторожно привлек его внимание к сайту университета твоего мужа, Райнера. Марат увидел, что можно воспользоваться грантом. Об эмиграции он задумывался и раньше, поэтому сейчас получил еще одно основание для того, чтобы начать оформлять документы.
Ты спросишь, откуда я о нем знаю, зачем он мне нужен? Все просто. Его я не знаю, но я знаю его бабушку. Вернее, не знаю бабушку, но знаю, кем она была, почему умерла и где ее похоронили. Ну что, начали гореть железки под ушами? У Отто всегда горели, когда он был напуган.
Ты уже догадалась, я чувствую это. Да, бабушку Марата – Майю Гетман, изувечил и лишил жизни испуганный барон Отто фон Вайхен. Марат об этом ничего не знает. Видимо, и не узнает никогда, если ты не расскажешь. Ты расскажешь? Как я люблю поселять в людях таких вот лямблий, ну, и как ты будешь лечиться, а Марта?
Я знал, что Марату предстоит доказывать свое жидовское происхождение, поэтому он вынужден будет наведаться в Житомир, вернее, в ту деревню, где жила его бабушка. Я знал, что он обязательно приедет к подруге своей тети, которая работает в кукольном театре, а ты будешь искать музыкальную школу Лятошинского, находящуюся на той же улице. Я никогда не видел эту Майю, но предположил, что дыма без огня не бывает, поэтому Майя могла действительно внешне напоминать Отто, а значит ты (так как унаследовала черты лица фон Вайхенов) тоже можешь быть похожей на нее.
Так и случилось, вы пересеклись. Я не был уверен, сможете ли вы сблизиться, но предполагал подобное развитие событий, было бы шикарней, если бы вы стали любовниками, но друзья – это тоже неплохо.
Ты вернулась, и я еще раз позвал тебя. Динь-дилинь. Вот ты и получила мейл о новых лекарствах от диабета. То, что ты отзывчивый человек, я быстро понял, поэтому знал: ты не сможешь не обратить внимания на это письмо после того, как узнала о болезни дочери Марата. Но ты опять не почувствовала меня, поручила проверить информацию своему дяде Артуру (какой придирчивый тип). Я сделал очередную попытку, написал шуточное послание, где предупреждал, что тебе не стоит сближаться, любое сближение, это как открытая дверь, Марта, никогда не знаешь, кто зайдет туда первым. Тут я допустил стратегическую ошибку. Я предположил, что вы стали любовниками, что ты думаешь только о нем, но ты умудрилась в это время впустить в свою жизнь Райнера. Поэтому подумала, что над тобой издевается какая-нибудь его подруга.
Ты не реагировала на мои звоночки. Тогда я приехал в Берлин. О, спасибо за это ощущение. Неповторимое ощущение настоящей опасности. Я подошел к тебе, слышал твой голос, ваш разговор, смотрел на ваши руки, фотографировал вас. Я увидел рядом с тобой Адама Шольца. Теперь я знаю, что это стечение обстоятельств, но тогда мне это категорически не понравилось, я знал, что он любовник Доры Тотер-Габор, поэтому по ошибке решил, что она поручила ему следить за тобой, а значит, он может вычислить меня. Спешно я уехал из страны. Они не поймали меня. Но я не успел затронуть тебя, поэтому и пишу это письмо.
Не думаю, что ты перешлешь это письмо в министерство, у них было судебное разрешение на сканирование твоей почты, но оно утратило силу два дня назад, Дора еще не подала заявление на восстановление. Ты не сможешь мне написать, хотя я хотел бы получить от тебя письмо, но это очень опасно, а ты помнишь мои маленькие слабости, я не готов отдавать их вечности.
По поводу Марата. Я знаю и о крестинах. Решай сама, Марта, имеешь ли ты право быть крестной матерью, и готов ли он, Марат, к такой родственной близости и осознанию того, что ответственность за его сына будет нести женщина, дед которой убил его бабушку. Хотя, вина и прощение – тоже мощные мотивы, помни об этом, Марта. Цени жизнь. И – прощай».Райнер читал письмо вместе со мной, я и не думала его прогонять или прикрывать текст руками; поэтому он первым почувствовал эмоциональное землетрясение, которое встряхнуло меня так, что я чуть не упала. Хотя внешне все выглядело так, будто ничего не изменилось, у меня крепкий фундамент. «Что ты будешь с этим делать?» – тихо спросил мой муж. Я молча скопировала письмо, руки тряслись, никогда не думала, что это настолько сложно – просто скопировать письмо, и отправила его Марату. «Правильно, правильно», – поспешно, неизвестно сколько раз, успокоительно повторял мне Райнер.
Марат позвонил через полчаса. Я приняла звонок и его молчание. Я тоже молчала, не знаю, сколько это продолжалось, но он заговорил первым. «Я молчу не из ненависти к нему. Я молчу от жалости и любви к тебе. Я молился, как тогда в церкви на Покров, будто чувствуя наше общее прошлое. За нее, за него. Марта, обиды для тех, кто живет головой к небу, а не для тех, кто уже головой к земле. Вторым они уже не нужны, они ушли в землю вместе с ними. Первые же в состоянии с ними справиться, чтобы не отравлять землю мертвыми обидами. Марта, я очень надеюсь, что увижу тебя еще сегодня вместе с нами». И я ответила как кодом, шифр к которому знали только мы: «PS 204, 16:55».
Рейс звучал как постскриптум, видимо, это он и был. Райнер держал в руках мою дорожную сумку, в которой в маленьком серебристом бархатном футляре была упакована серебряная ложечка для моего крестника, и вызывал такси.
Я летела и думала о мотивах. Страх и вина – два мощных мотива. Особенно для тех взрослых, которые в детстве не прятались под одеяло и не закрывали глаза от страха, а вставали и шли, чтобы обнаружить источник жутковатого звука.
Понимание и прощение – два не менее мощных мотива, которые помогают двум людям очистить или уничтожить то, что поддается очищению и уничтожению; и смириться с теми щербинками, дырами, шрамами и пятнами, которые вжились в нас, стали частью нас и нашей истории.
Я держала на руках Мартына и никак не могла себе объяснить, почему Гердана должна ждать нас снаружи, расставшись с этим неповоротливым солнечным зайчиком, который доверчиво согревает носиком мое плечо. Аркадий с теплом смотрел на нас, будто поверил в сестринство в этом измерении пространства и времени, когда мы объединялись для того, чтобы защитить это крошечное существо, голая пяточка которого коснулась моего живота, ее шелковистость ощущалась даже через тонкий трикотаж моего платья.
Дома, после того как мы сначала насладились встречей, событием, Мартыном и общением, а потом наплакались и погрузились в чужие воспоминания, воспоминания людей, которые были близкими и родными нам, но такими далекими и незнакомыми, мы наконец разошлись по своим комнатам.
В ванной, когда я вытиралась полотенцем Герданы, я увидела свое отражение в навесном зеркале, я видела свой анфас и два профиля, таким тройчатым было это зеркало. Я узнавала себя – и не узнавала. Мы всегда отражаем еще кого-то. Как мой дед тогда. Как я сейчас. Но все наши отражения – все равно являются нами. И еще чуточку кем-то другим.
Вдруг я услышала голос своего тела, словно кто-то позвал меня: «Ма…» Я прислушалась к нему внимательнее и услышала нечто настолько странное, мягкое и приятное, что это побудило меня к определенным действиям. То, что обеспечивало мне эти действия, я заметила еще раньше, на полке, рядом с коробочкой с витаминами, пипеткой и бутылочками с ароматизированными маслами.
Этот тест с двумя красными полосками Райнер получит раньше, чем я увижу свое отражение в его глазах. Теперь я поверила в то, что история с дедом завершилась, и в то, что у меня родится мальчик. Возможно, Ханна права, люди, у которых есть дети, начинают жить будущим, а не живут прошлым. Но, лишь разобравшись со своим прошлым, ты можешь стать сильнее и почувствовать себя уверенным. Я знаю, что у меня родится мальчик. Тоже чей-то дед. И я хочу, чтобы жизнь его была прозрачной для его внуков. Поэтому посылаю DHL [13] этот тест Райнеру. Это положит начало корзине с артефактами маленького Отто Марата Графа (еще не родился, но уже звучит так, как крестник Марата) вместе с началом его жизни во мне.
Лариса Денисенко 2009–2011 годы. Киев
Примечания
1
Хорст Вессель (1907–1930) – нацистский активист, штурмфюрер СА, автор текста «Песни Хорста Весселя». (Здесь и далее прим. переводчика.)
2
Карл Диттер фон Диттерсдорф (1739–1799) – австрийский композитор и скрипач.
3
Сента – героиня оперы Вагнера «Летучий голландец», в основу либретто которой положен сюжет повести Генриха Гейне «Мемуары господина фон Шнабелевопского».
4
Буквально переводится с немецкого как Житомир.
5
Скибка – ломоть (укр.).
6
Jerkof – мастерство доводить до оргазма только при помощи рук. Термин используется в порноиндустрии.
7
LL.M – магистр права.
8
Ph.D – доктор философии/доктор наук.
9
Эйрена – богиня мира в древнегреческой мифологии.
10
«Белая роза» – название группы студенческого Сопротивления, действовавшего в Третьем рейхе.
11
Свингюгенды – представители неформального молодежного движения в Германии в 1930-х годах, идеологически противостояли гитлерюгенду.
12
Молл – крупный торговый центр.
13
DHL – немецкая международная компания, один из лидеров логистического рынка.






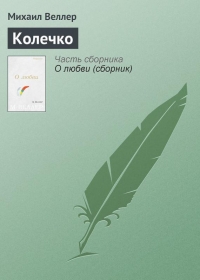


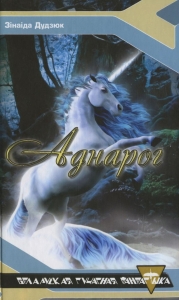

Комментарии к книге «Отголосок: от погибшего деда до умершего», Лариса Владимировна Денисенко
Всего 0 комментариев