Норман Льюис День лисицы. От руки брата его
В. Ивашева Предисловие
В начале 60-х годов, покидая Великобританию, Грэм Грин сказал мне в личной беседе: «Один из лучших наших прозаиков — Норман Льюис. Дороги наши с ним не раз скрещивались, совпадая».
Норман Льюис безусловно сегодня крупнейший из писателей не только Англии, но и всего Запада. Однако того, что увидел и оценил Грин, не увидела и не захотела увидеть английская охранительная критика. Одну из лучших книг Льюиса — «Зримую тьму» (1960) — объявили неудачей писателя, о наиболее интересных и ярких его романах умалчивали, в лучшем случае «замечали» лишь книги путешествий (travel books), которые писатель издавал в разные годы.
Активный, динамичный, неутомимый Льюис изъездил множество стран и континентов. До сих пор он считает лучшим для себя отдыхом поездки в далекие края, познание новых людей, новых нравов. Отсюда и его склонность к журналистике, отсюда замечательные репортажи, наконец, романы, пропитанные духом новых открытий, впечатлений. Любовь Нормана Льюиса к исследованию не изведанных им ранее стран и частей света, людей, живущих на разных широтах земного шара, роднит его с Грином, также постоянно странствующим.
Потомственный валлиец, Норман Льюис родился в 1908 году на Юго-Западе Уэльса. Его родители были бедны, и отец постоянно пребывал в поисках заработка, однажды уехав даже под Лондон, но вскоре вернулся назад в Уэльс. О систематическом образовании ярко одаренного сына не могло быть и речи. Норман окончил поселковую школу, потом среднюю, но о высшей школе оставалось лишь мечтать, восполняя пробелы образования жадным чтением. Сегодня один из образованнейших и начитаннейших писателей своей страны, Льюис обязан этим лишь самому себе. Дом его в Эссексе[1] представляет собой своеобразный музей, где собраны предметы искусства и культуры, привезенные из тех многочисленных стран, в которых Льюис побывал после второй мировой войны. Книжные полки рабочей комнаты писателя, коридоры и чуланы его дома заставлены книгами, стены увешаны картинами европейских мастеров, масками, привезенными из тропической Африки, безделушками, подаренными ему археологами и жителями разных стран.
Льюису присущи многие черты национального характера: вспыльчивый, экспансивный и в то же время замкнутый и скрытный, он во всем своем внешнем и внутреннем облике всегда обнаруживал множество противоречий. Ключ к его личности — личности, глубоко незаурядной и сложной, почти загадочной, — надо искать именно в его «валлийском характере», в особенностях коренных валлийцев, которых Льюис любит критиковать, порой сгущая краски, но в своих обобщениях справедливо и всегда метко подмечая черты их характера, нюансы поведения.
Вспышки внезапного и тогда совершенно безудержного гнева, горящие глаза, кривящийся иногда в гримасе рот. Потом тяжелая депрессия, внезапно охватывающие его длительные периоды угнетенности и полной расслабленности, когда он не может писать, не хочет общаться с людьми, даже близкими. Бурная реакция на все, что его задевает за живое, затем вялость, идущая вразрез с его обликом испанского матадора. И наряду с этим огромная душевная щедрость, широта натуры, теплота и радушие к друзьям, что, впрочем, не предполагает полной откровенности с ними.
Противоречивость, характерная для Льюиса, не распространяется, впрочем, никогда на суть его убеждений. В одном он всегда остается самим собой: он остро ненавидит все формы несправедливости, все виды угнетения и произвола. Эта ненависть пронизывает все его произведения и как художника, и как публициста.
Писать Льюис начал после войны. Военные годы были годами большой активности Льюиса, но в других областях деятельности: сначала он был фронтовым фотографом, потом служил в военной разведке. Когда его с британскими частями перебросили в Африку, сбылась давняя мечта Льюиса — увидеть этот континент. Итогом его пребывания на Севере Африки были такие книги, как «Самара» (1948), первый роман писателя, и «Зримая тьма» (1960), а также многочисленные очерки об Африке. В конце войны Льюис оказался в Италии и много месяцев провел на Сицилии. Этим объясняется превосходное знание им преступной деятельности мафии, нашедшее отражение в книге «Почитаемое сообщество» (1964) и в более позднем романе — «Сицилийский специалист» (1975). После войны начались путешествия Льюиса по разным странам. В них он черпает богатый материал для новых романов и репортажей[2].
Чудовищная эксплуатация арабов европейскими промышленниками, поддержанными властями Алжира, изображена в «Зримой тьме», книге, вызвавшей раздражение британской критики.
Недоверие и антагонизм валлийцев к англичанам, в которых они не без основания с давних времен видят своих угнетателей, практически колонизаторов, нашли отражение в романе Льюиса «От руки брата его» (1967).
Публицистика Льюиса — в особенности разоблачение им чудовищной эксплуатации сборщиков винограда в Калифорнии, истребление индейцев в Латинской Америке — была встречена в штыки охранительной критикой Британии.
Льюис — превосходный знаток Испании, с которой его связывали даже семейные узы. Именно об Испании один из лучших его романов — «День лисицы» (1955) — и совсем недавно появившаяся книга очерков «Голоса» (1984). первоначально названная автором «Деревни собачьи и деревни кошачьи»
Сам Льюис внешне похож на испанца и многие годы жил в этой стране. Он отлично знает ее людей, их историю, их сложные нравы, чем-то напомнившие ему Уэльс.
Знакомясь с романами Льюиса, многие из которых уже переводились на русский язык и известны нашим читателям, следует помнить о взглядах и настроениях их замечательного автора. Эти произведения насыщены жизненной силой, страстной болью за человека и отмечены тонким искусством проникновения в тайники духовного мира изображаемых людей.
Все, что написано Льюисом, обнаруживает не только большое мастерство, но лаконизм, характерный для его манеры письма, большую сдержанность, за которой нетрудно ощутить глубокую взволнованность. Льюис любит говорить о своем восхищении русскими классиками, отдает должное мастерам слова, писавшим на его родном языке, но его собственный стиль не обнаруживает никаких подражаний.
* * *
Знакомство Льюиса с Испанией впервые проявилось в одной из замечательных книг писателя, созданных им в первые годы творческой деятельности, — «День лисицы». Читая эту книгу, трудно поверить, что она написана начинающим художником. Только опыт, полученный Льюисом во время войны, может объяснить зрелость его оценки социально-политической обстановки во франкистской Испании через 13 лет после окончания гражданской войны. И только большое, совершенно незаурядное дарование Льюиса может объяснить его умение глубоко проникнуть в психологию людей, преимущественно простых рыбаков небольшого приморского поселка.
Надолго запоминается описание Торре-дель-Мар, пейзажа деревушки у подножия горы на берегу моря, «дышащего жаром и солью». Но автора книги не удовлетворяет просто описание ландшафта и нравов людей: он много внимания уделяет изображению обстановки, в которой трудятся рыбаки, полностью зависящие от моря, нелегко отдающего им свои дары. И не только той обстановки, в которой виновна природа. Льюис не проходит мимо того, что в деревушке, где мало денег и еды, много церквей, колокола которых ежедневно «бомбардируют небо, напоминая ему о муках, претерпеваемых современным миром…», церкви с их священниками и полицейский участок с его ищейками господствуют над людьми, живущими трудной, подчас слишком даже трудной для человека жизнью.
Основная черта манеры льюисовского письма — лаконизм и сдержанность. Но его лаконизм пропитан еще и скрытой, очень горькой иронией. Полицейские, сообщает он, похожи здесь на монахов, а священники — на полицейских. Слежка, допросы, всякие беды поджидают тружеников поселка за каждым углом. И Льюис подчеркивает что ничто здесь не может быть забыто, потому что в каждом доме жива еще память о погибших и замученных в застенках Франко. И жизнь в Торре-дель-Мар предстает на страницах книги трудной, лишенной всяких радостей, скрытной жизнью.
Норман Льюис верен себе, он предельно точен в описании политической обстановки Он верен себе и в другом: в правдивом показе психологии полунищих рыбаков, полных необыкновенного человеческого достоинства и той сплоченности, царящей среди них, которая оборачива ется в сплоченность всех против одного. Это сплоченность против Косты — главного действующего лица романа, человека, который во время войны «сражался не на той стороне» Сопротивление это очень глубоко и живет даже в сердце его старой матери Марты, потерявшей во время войны мужа — отца Косты. Признанный лидер рыбацкой коммуны, Франциско, хотя и видит нищету в доме Косты, не в силах, как и его товарищи, забыть недавнее прошлое этого человека.
После «Дня лисицы» вышло немало новых книг Льюиса. Но Льюис до сих пор считает «День лисицы» одним из своих лучших романов, и не без оснований. «День лисицы» — суровая, даже мрачная книга. В ее названии есть нечто зловещее, если расшифровать тот смысл, который вкладывают в него испанцы. Особенно испанцы суеверные. Лисица, считают они, приносит несчастье. Если увидишь лисицу даже во сне — жди беды. Лучше никогда не вспоминать о лисе и не произносить это слово.
Неизбежную грядущую беду роман предвещает с первых же страниц и до последних. В роковой день его жизни проклятье лисицы легло на Косту. Когда Льюис писал свою книгу над Испанией висели темные тучи. Но автор — превосходный знаток страны и людей, о которых он писал, — верил в то, что «день лисицы» рано или поздно минует, — верил, как верит и сегодня в Человека и его возможности.
В романе мало описаний. Они даются, но лишь тогда, когда необходимы по ходу действия. Льюис редко что-либо поясняет, «беря слово» за персонажей. Там, где он это делает, он делает это очень умело, почти незаметно. У Льюиса все решает действие и через действие все становится на свои места. Характеры раскрываются в динамике происходящих событий. Дополняют их диалоги, но внутреннего монолога, столь популярного в западной литературе в последние десятилетия, писатель избегает.
Вся жизнь живущих в Торре-дель-Мар вращается вокруг их трудного и зависящего от моря заработка. Об этой жизни автор говорит, как всегда, скупо и лаконично, хотя совершенно достаточно для того, чтобы быть понятым. Достаточно сказано и о людях, и о том, как они трудятся, чем живут, что думают и чувствуют. Вполне достаточно сказано и о том, как рыбаки относятся к Косте — отличному мастеру своего дела, но человеку предавшему, по мнению рыбаков, свою сторону, бывшему во время войны на стороне врага. Отношение это сурово и может показаться чрезмерно жестоким, когда ощущаешь нищету Косты, страдания его матери, но в то же время может быть и понято — каждый дом хранит память о погибших. В одном это сын, в другом муж или брат. Коста, хотя и бедняк, всем кажется чужим и всегда подозрителен. Когда его однажды видят в полицейском участке, где с ним обращаются учтиво (к чему не привыкли рыбаки Торре-дель-Мар!), все делают один вывод. Полицейский участок для них — цитадель режима, который держится на доносах, подслушивании и клевете.
Выделенные в романе эпизоды подобраны автором с большим мастерством: ничего нет лишнего, случайного. Так, поездка Косты в Барселону на свидание с невестой, переставшей ему писать, помогает лучше понять обстановку в стране, очень сложную и напряженную. Богатство спекулянтов, нажившихся на новом режиме, их претензии и деятельность на черном рынке резко контрастируют с жизнью рыбацкого поселка.
Появление в поселке неизвестного, с лицом «испанца из испанцев» и в то же время явного иностранца (недаром он прожил тринадцать лет во Франции!), могло бы пройти незамеченным: Торре-дель-Мар привык к иностранным туристам. Но судьба приводит его в дом Косты. И «судьба» ли это? Именно Коста больше, чем кто-либо в поселке, нуждается в лишних песето, а потому сдает Молине свой чердак. Обстоятельства складываются так, что полиция скоро нападает на след республиканца, прибывшего в поселок с заданием партийного центра, а рыбацкая коммуна столь же скоро делает (неверное) заключение о том, кто́ был предателем. В ходе драматических событий того проклятого «дня лисицы» все детали взвешены и все концы сходятся с концами.
Все, что происходит с Молиной: его отчаянное бегство от полиции почти безо всякой надежды спастись, его незадачливая попытка принять яд, наконец, исчезновение в доме старого чудака Вилановы, — все в высшей степени убедительно, если принять во внимание сведения, полученные нами предварительно о Молине. Молина — представитель той республиканской эмиграции, которая, в отличие от испанских коммунистов, считала, что освобождение испанского народа должно прийти извне. Неприятие Льюисом Молины сквозит в каждой строке романа. Раскрывая нерешительность, трусость, мещанские вкусы и стремления Молины, Льюис отрицает за ним право на участие в освободительном движении. Разумеется, далеко не все борцы, прибывшие в Испанию из эмиграции, были похожи на Молину. Их мужество и стойкость заслуживали восхищения.
Неосторожная связь Молины с Пакитой понятна, если учесть глубокие противоречия, возникшие в сознании и чувствах молодого еще человека, пошедшего на опасное задание скрепя сердце. Столь же понятен и поступок Пакиты, ставшей предательницей поневоле. Ее толкнул на кражу радиоприемника-передатчика Молины голод. Заметим, Льюис и здесь кладет на полотно любопытный реалистический мазок: Пакита не крадет ни одной из тех денежных купюр, которыми туго набит бумажник ее спящего любовника. В своем предательстве, совершенном чисто случайно, Пакита — слепое орудие обстоятельств, а ее поступок — продажа приемника скупщику — определяет все последующие события в жизни ряда людей.
Столь же убедительна и другая цепь событий: письмо, полученное Костой из Барселоны, содержащее мольбу Элены о денежной помощи; самозабвенный подвиг Косты, выходящего в море и мужественно выдерживающего поединок с огромной рыбой меру; наконец, невозможность продать рыбу в результате всеобщего бойкота — трагическое последствие ложного подозрения рыбаков. События развертываются динамично, помогая раскрыть психологию людей, сплетенных в один тугой узел судеб и обстоятельств. Композиция романа блестяще продумана и нигде не нарушает при этом строгих требований реалистической эстетики автора.
Рисуя второстепенные персонажи, Норман Льюис ограничивается законченным внешним портретом, открывающим в то же время черты внутреннего облика. Так, агенты разведывательного управления, появившиеся в Торре-дель-Мар в машине, грубо закамуфлированной под такси, даны пунктиром. В полицейском управлении трое анонимных агентов отказываются присесть по приглашению лейтенанта, но «искоса наблюдают за лейтенантом, повернув к нему бескровные, как у всех людей их профессии, лица».
Значительно полнее (хотя и здесь автор не отступает от своей лаконичной манеры) раскрыты характеры главных действующих лиц романа — Косты, Молины, дона Федерико. Меньше всего Льюис склонен к схематизму, рисунку в черных и белых тонах.
Множество противоречий живет в сознании и движет поступками Косты и Молины — двух персонажей, очень различных и очень тонко ДРУГ Другу противопоставленных. При всем их отличии (один полуграмотный рыбак, другой интеллигент, которому не чужда склонность к резонерству и самоанализу), Коста и Молина обладают одной «трагической виной» — тот и другой способны на подвиг и в то же время в чем-то трусливы.
И именно в малодушии и нерешительности Косты причина всех без исключения его несчастий. Он был малодушен во время войны, он не решается на прямоту в отношениях с рыбаками, он малодушен в разговоре с Кальесом. Отсюда и двусмысленность его слов, и двойственность его поступков.
Отношение к Косте рыбаков, таким образом, обоснованно. Они признают в нем мастера своего дела, видят его нищету, даже отчаяние, но в то же время верно ощущают в нем нечто ускользающее и двусмысленное.
Превосходно нарисован эпизод лова огромной рыбы, потребовавшего от Косты и ловкости, и умения, и страшного напряжения физических и моральных сил, но с самого начала предрешена трагическая бессмысленность этого подвига.
Столь же, если не более противоречивым перед нами предстает Молина, и, хотя в основе его судьбы все та же нерешительность и трусость, Молина не случайно будит в читателе иные чувства, чем Коста. Молина даже в самые трагические минуты своей жизни вызывает раздражение, порой брезгливость.
Недаром эпизод его встречи с Вилановой, после неудачной попытки самоубийства, дан в гротескном ключе.
В молодом республиканце, живущем вдали от родины, в вынужденной эмиграции, работает, но словам Льюиса, «собственная пятая колонна». Он утратил не столько веру в то дело, которому призван служить, сколько желание рисковать собой и встать лицом к лицу с опасностью.
Молина берется за выполнение задания партии почти механически. Не будущее Испании и свобода ее народа волнуют его, а возможность найти и построить крошечное счастьице маленького человека. Старая и затертая мечта мещанина: личное маленькое благополучие, а в остальном — хоть потоп. В фигуре Молины нет ни унции героизма, и потому так гротескны его потуги на самоубийство, его цепляние за жизнь и весь эпизод встречи со старым Федерико.
«Я трус, — признается Виланове Молина. — Сегодня я уже один раз заставил себя принять смерть. Меня это сломило. Я опустошен. Сейчас это в тысячу раз труднее».
Совсем другим и по-другому нарисован старый Виланова, случайно сыгравший решающую роль в спасении Молины.
Если в обрисовке Молины прорывается презрение автора к его слабодушию, то в обрисовке образа дона Федерико Вилановы юмор переплетен со сдержанной грустью и в конце начинает превалировать подчеркнутый лиризм.
Поначалу дон Федерико воспринимается только как старый чудак, его главным занятием кажется забота о своем здоровье и поддержании «чести дома», полуразрушенного обиталища старинных традиций, где предки Вилановы прожили три столетия своего медленного упадка. Забавное, чудаковатое постепенно начинает переплетаться с печальным. Типичный идальго XX века, разорившийся и обреченный, дон Федерико воспринимается как человек, объективно потерявший уже все, кроме воспитанной в нем поколениями гордости и собственного достоинства. Независимость и уважение к самому себе характеризуют Виланову и в его взаимоотношениях с местными властями, в том отпоре, который он дает Валсу, «рыцарю черного рынка», скупающему земли в районе Торре-дель-Мар. При всех его чудачествах, Виланова в конце книги выступает перед читателем как человек большого мужества и большой внутренней цельности. Он объективно встает в один ряд с борцами Сопротивления — рыбаками Франсиско и Симоном.
Язык Льюиса в «Дне лисицы» такой же сдержанный и строго отработанный, как и вся манера его письма. Только изредка Льюис позволяет себе образные сравнения, причем все они поразительно свежи и смелы в своей непредвиденности. Именно в силу своей непредвиденности — порой даже парадоксальной — образные находки Льюиса остаются в памяти как яркое зрительное впечатление. Так, море, утром еще спокойное и белесое, словно таит «жар расплавленного металла». Плескаясь в далеких гротах, «тихонько покашливает вода». Говоря о Марте — матери Косты, — Льюис мимоходом набрасывает ее портрет: «Годы стерли черты ее лица тысячью нанесенных на него крест-накрест ударов».
Подтекст, на котором строится роман, автор дает понять различными словесными оборотами. Видя приближающуюся к его дому полицию, Виланова говорит: «Хорошо, что я уже стар, потому что когда-то я был метким стрелком и, конечно, кого-нибудь бы убил, да только не тех, кого надо. Ведь тех, кого надо, пулей не достанешь!» Или в диалоге лейтенанта Кальеса с полковником: «А на него можно положиться?» — вопрошает полковник, когда Кальес ему передает рассказ Гомеса об исчезновении Молины. «Нет, сеньор, — отвечает лейтенант. — Он интеллектуал».
«Днем лисицы» был всего один день, полный самых драматических событий в жизни многих действующих лиц книги.
Но только ли этот день имел в виду Льюис, давая название своему роману об Испании начала 50-х годов? И не хотел ли он, назвав роман «День лисицы», сказать много больше того, о чем непосредственно говорит его повесть, где переплелось столько различных судеб?
Под знаком лисицы жила изображаемая Льюисом франкистская Испания конца 40-х — начала 50-х годов. Писатель рисовал Испанию второго десятилетия диктатуры Франко. Ее жизнь уродлива, ее народ подавлен нищетой, голодом, репрессиями. От нового режима получили выгоду только те, кто показан как бы мимоходом в двух коротких поездках Косты в Барселону, а отчасти и в Торре-дель-Мар, — богачи, такие, как Валс, чиновники-фалангисты, генералы, верхушка духовенства. И конечно, следящие за всеми полицейские ищейки разных оттенков — и такие, как ретивый лейтенант Кальес, и такие, как полковник, мечтающий о «новых методах» подавления и сыска.
Небольшой роман Нормана Льюиса — яркая страница из истории Испании первого десятилетия после окончания гражданской войны. В нем читатель, правда, не найдет изображения массовых народных выступлений, которые уже потрясали страну тех лет, когда писался роман, но, что бы ни было недосказано в его книге, она и сегодня зовет к сопротивлению произволу и бесправию и исполнена огромного сочувствия к людям труда.
* * *
Существует представление, что роман «От руки брата его», вышедший в 1967 году, — книга, особым образом выделяющаяся из ряда других произведений Льюиса. Такое представление основывается на том, что она не похожа на те известные антиколониалистские и антиимпериалистические произведения, которые для писателя столь характерны. Но дело обстоит не так просто, как может показаться поначалу: «От руки брата его» — книга, глубоко связанная с существом Льюиса, а что касается антиколониалистских и антиимпериалистических мотивов в ней, то и они налицо, хотя убраны в подтекст. Речь в этом романе идет об Уэльсе и валлийцах, а отношение их к английскому соседу мало отличается от отношения к колонизаторам. Несколькими годами позже после выхода романа Льюиса это уже совершенно прямо было показано Джоном Уэйном в его романе «Зима в горах»[3].
Уже говорилось выше о том, как хорошо знает Льюис Испанию и испанцев. Если он превосходно знает историю этой страны, нравы и характеры ее людей в XX веке, то Уэльс Льюис знает еще лучше и ближе, будучи плоть от плоти этого края.
Каков бы ни был сюжет «От руки брата его», роман этот прежде всего исследование «валлийского характера», книга об Уэльсе и его людях. Норман Льюис пишет о том, чем дышал от рождения. Он обобщает воспоминания, строит образы, основанные на многолетних наблюдениях. В чем-то главном — в своей «атмосфере» — книга его даже автобиографична.
События развертываются вблизи горы Пен-Гоф в районе Западного Уэльса. Гора эта в изображении Льюиса воспринимается как зловещий символ проклятья, наложенного природой и историей на нравы и жизнь края. В выборе художественных средств, красок и их оттенков мастерство писателя никогда еще не было столь тонким и совершенным, как здесь в изображении ландшафта, знакомого ему с детства и в равной мере с детства и любимого, и ненавистного. Ландшафт в романе, в частности описание горы, конечно же, не «фон» и не требует ни пояснения, ни комментария. Читая описание Пен-Гофа в 3-й главе, любой человек ощутит присутствие этой горы как нечто живое, она словно мрачное действующее лицо в той драме, которая разыгрывается в романе Льюиса у ее подножия.
…Из года в год, из столетия в столетие валлийские земледельцы, хотя и обреченные на поражение, дрались за то, чтобы вырвать себе пропитание со склонов мрачной горы. Их гнало к ее вершине непреодолимое стремление к земле, которая их заманивала и как бы заколдовывала.
Постепенно мученики Пен-Гофа превращались в особую породу людей: они привыкали к тяжкому труду к огромному напряжению, они замыкались в себе, поздно заключали браки и мало рожали детей. Даже общаясь друг с другом, они больше разговаривали знаками, чем словами. Люди края в изображении Льюиса — недобрые люди, и живут они как бы под влиянием, как бы в тени Пен-Гофа. Льюис нарисовал валлийцев такими, какими увидел их в первые дни своей жизни. Он ничего не приукрасил и ничего не скрыл. Притом нигде не сгустил краски.
Создавая роман, Льюис говорил, что в его произведении не будет политики. Правда, психология изображаемых людей интересовала его на этот раз особенно живо. И в то же время политики в книге сколько угодно. Если в его «Вулканах над нами» или «Зримой тьме» политика кричит с каждой страницы, здесь она звучит в подтексте, но звучит очень убедительно и красноречиво.
На каждом шагу Льюис показывает, насколько глубока вражда коренных валлийцев по отношению к англичанам, насколько сильно ощущение ими своего зависимого положения от ненавистного соседа. Антагонизм ощутим во взаимоотношениях обывателей, ощутим он и среди полицейских, где англичанин ущемляет валлийца, а валлиец не терпит англичан.
В одном месте Льюис прямо определяет отношение валлийцев к англичанам: Джонс, вызывавший постоянное недовольство у начальников своей манерой поведения с местным населением, в конце концов переводится в небольшой индустриальный центр, населенный преимущественно иммигрантами с Востока. Иммигранты эти, замечает Льюис, легко сживались с валлийцами, «редко проявляющими враждебность к кому-либо, кроме англичан».
В основе своей «От руки брата его» — роман об Уэльсе, однако сюжет его сложен и вписывается в тщательное исследование нравов валлийцев весьма своеобразно. Роман этот содержит как бы два пласта, органически связанных друг с другом в книге Льюиса. Второй пласn его — история двух братьев, один из которых считается психически больным, другой здоровым. История эта приобретает в романе глубоко драматическое и в то же время парадоксальное решение: «здоровый» оказывается больным, а «больной» здоровым.
«До сих пор не знаю, почему я должен был это писать, — рассказывал мне Льюис, когда я, гостя в его доме, на одном дыхании прочитала сигнальный экземпляр его книги, пришедший за два дня до моего вылета на родину. — Причем именно так писать, как я это сделал». В словах моего друга и замечательного художника я не услышала ничего, что могло меня удивить, — меньше всего какую-либо мистику. С первых глав Льюис ощутил потребность отлить в художественные образы кое-что из того, что давно тяготило его память, жило в том или ином виде в его воспоминаниях Иное дело — выбор сюжета: исследование психологии безумия. Здесь, видимо, сыграл роль широко распространившийся в Великобритании 60-х годов интерес ряда писателей к проблеме безумия и получивший теоретическое обоснование в работах психиатра и философа Д. Лэнга.
К теме безумия обратились в середине 60-х годов и драматурги, и прозаики. Это время создания пьес Д. Мерсера («На своем коньке», «Чаепитие в субботу», «Раздвоение личности», «Ударим по Вивальди» и др.). романов Ч. Сноу («Уснувший разум»), Дж. Уэйна («Меньшее небо»), К. Уилсона («Стеклянная клетка»).
Лаконичный, но беспощадный обличитель американской экспансии в странах Латинской Америки («Вулканы над нами»), американских методов колонизации и секретной службы там же, чудовищного истребления арабов на Севере Африки («Зримая тьма»), Норман Льюис в своем романе «От руки брата его» дал неожиданный ключ к разгадке смысла и происхождения вспыхнувшего на Западе в 60-х годах интереса к психологии безумия (меньше всего его роман натуралистическая «история болезни»!).
Безумен ненавистный Норману Льюису мир. против которого он как художник борется и боролся оружием своего пера всю жизнь. Вчитаемся в роман «Вулканы над нами»: чисты до больничной белизны дома, построенные мистером Элиотом для индейцев в Гватемале. Но почему-то индейцы голосуют против этого белого рая и стандартного благополучия своеобразным путем — они вымирают… А разве портрет Бильбао — американской марионетки в той же Гватемале — не меняется от месяца к месяцу на глазах жителей несчастной страны, превращенной в латифундию США? В романе «От руки брата его» Льюис берется за исследование безумия, которое видит вокруг себя в капиталистическом мире.
Смысл заглавия романа подсказан двумя строками из Библии, вынесенными автором на оборот титульного листа: «…Я взыщу… душу человека от руки человека, от руки брата его…» Продолжение этих строк в Библии: «…Кто прольет кровь брата…», иными словами — «пролитая кровь взыщется». Строки эти поясняют и замысел автора, и его отношение к изображаемому.
Герой романа Брон Оуэн — молодой валлиец, заключенный на пять лет в тюрьму за совершенное им в полубредовом состоянии преступление. Врач Даллас, проникшийся симпатией к Брону, разобравшись в его болезни, лечит молодого человека и обещает ему выздоровление. Но в момент освобождения Брона из тюрьмы Далласа не оказывается на месте. Брон выходит «на волю» без лекарства, без свидетельства о болезни и без денег — одинокий человек на большой дороге, безразличный всем. Отсутствие документа, удостоверяющего его временную невменяемость, грозило несчастному молодому человеку новыми бедами.
Брон разыскивает в Морфе, из которой он родом, врача Гриффитса — единственного знакомого ему человека, который, как гласила молва, был когда-то близок с его матерью и даже, быть может, приходился ему отцом. Но у Гриффитса для Брона лишь плохие новости: считая сына без вести пропавшим, мать Брона перед смертью отдала все свое состояние старшему сыну Ивену, от которого трудно ждать сострадания. Гриффитс помогает Брону разыскать старшего брата — Ивена, переселившегося в Бринарон, далеко от родных мест, но предостерегает о возможных последствиях этой встречи.
Здесь, в сущности, и завязывается первый узел той сложной интриги, которая определяет всю дальнейшую структуру романа.
«Больной» Брон, о котором врач Даллас скажет, что он редко встречал на своем пути таких хороших людей, встречается со своим братом — «здоровым» Ивеном. Убедив мать на одре смерти, что Брон пропал без вести, Ивен присвоил все ее состояние, практически обобрав брата до нитки и полностью его обездолив. Отвратительный ханжа, скупой и жадный собственник, Ивен «здоров» и всеми воспринимается как таковой. Поведение его по отношению к брату, которому он предлагает вступить с ним «в долю» и поселиться в его доме, — игра, за которой кроется желание скорей отделаться от нежелательного родственника. Его молодая жена Кэти не разделяет планов коварного фермера, Брон же в своем простодушии о них даже не подозревает.
Начиная со встречи двух братьев в Бринароне, встречи «больного» Брона и «здорового» Ивена, Льюис углубляется в исследование психологии двух братьев — исследование, в котором проявляет себя большим мастером реалистического рисунка. Чтобы понять глубину этого исследования, надо пристально всмотреться в те «ходы», которые происходят на шахматной доске изображаемых им взаимоотношений братьев.
Движение на этой доске начинается с 6-й главы и развивается затем в стремительном темпе.
Когда Брона начинают раздражать часы в доме брата, а затем кошка и он — добрый к людям и животным — топит кошку в пруду и разбивает часы, читающий понимает, что Брон вступил в темную сферу своей болезни. Сюда же относится и его посещение спальни Кэти — жены Ивена, — в котором Брон не может отдать себе отчета. Наконец, драка с Ивеном в кухне его дома и исчезновение Ивена, которое уже со следующего дня окружающие начинают рассматривать однозначно; Брона не сразу настигает новый приговор, но уже после исчезновения Ивена (или его трупа, как полагают полиция и судебная экспертиза) как будто все ясно: в бреду или в драке из-за Кэти, но Брон уничтожил «несчастного» фермера, брага, протянувшего ему руку помощи и взявшего его «в долю».
Последующие главы написаны в духе превосходного детектива: следствие затягивается, показания сторон противоречивы, но сам Брон под влиянием прибывшего на место трагедии Далласа признается в возможности совершения им убийства. Спасая несчастного человека от виселицы, Даллас помогает следствию закончить дело, приговорив Брона к пожизненному заключению в Нортфилдс — тюрьму для умалишенных. Выход из нее возможен лишь «с благоизволения Ее королевского величества», но практически маловероятен.
Действительно ли убил Брон своего брата или тот скрывается где-то, но в таком случае — с какой целью и где? Разговор Бейнона, юноши, работавшего на ферме Ивена, с Джонсом (в гл. 19) подсказывает возможность совсем иного поворота событий: Бейнон убежден в том, что Ивен не умер, а жив и где-то прячется, хотя по какой причине — неизвестно.
В процессе развития романа читающему становится ясно, что Норман Льюис, по существу, исследует психику не одного, а двух людей, поведение которых выходит за пределы нормы, притом становится ясно и другое, что «здоровый» Ивен, ряд лет прятавшийся от «больного» Брона, чтобы досадить последнему, прятался благодаря патологической ненависти к родному брату, которого считал виновным в ущемлении своей корыстной мечты. Парадоксально здесь то, что отбывает наказание невинный человек, обвиненный в убийстве того, кто на самом деле прячется от него, работая на чужой земле и под чужим именем, и наконец умирает от инфаркта в то время, как его брат в тюрьме для душевнобольных полностью выздоравливает и после известия о нахождении мнимоубитого возвращается к нормальной жизни.
Парадоксальность ситуации, завершающей роман, содержит глубокий смысл. Подлинный безумец в романе — Ивен, человек, способный даже лишить себя наиболее дорогого для него из ненависти к человеку, не причинившему ему никакого зла. Признанный безумным Брон, получив освобождение, оправданный, идет к светлой жизни, жизни, полностью им заслуженной.
Норман Льюис рассказывал мне о том огромном числе книг по психиатрии, которые он прочел, создавая свое замечательное произведение. Рассказывал он и о том, как консультировался с учеными-психиатрами и, когда окончил свой роман, получил их полное одобрение. Бесспорно, что «От руки брата его» — роман, написанный «вполне профессионально»: в нем трудно было найти хотя бы один штрих, который нарушил бы логику поведения изображенных людей. Это признали и специалисты. Но если Льюис и провел свое исследование психики двух главных действующих лиц, роман его меньше всего воспринимается как две сопоставленные «истории болезни». Это произведение по справедливости встало в один ряд с лучшими из книг Льюиса как исследование психологии разных характеров, при этом характеров, выросших на почве столь знакомого ему края.
Запоминаются в романе не только Брон и Ивен в их противопоставлении, но и полицейский надзиратель Джонс, столь неугодный начальству валлиец, запоминается Кэти, глубоко полюбившая Брона и оставшаяся верной своему чувству, несмотря на все неблагоприятные обстоятельства. Даже Уэенди — случайная любовница Брона, не постеснявшаяся солгать, ограждая себя и свое маленькое мещанское счастье ценой возможной виселицы, грозившей Брону.
Здесь, как и во всем своем творчестве, Норман Льюис остается верным своему методу реалиста и большого художника. И в этом значение его книги.
Кровь пролитая взыскалась, обезумевший от ненависти к брату Ивен погибает, а Брон как бы воскресает к жизни нормального человека, которую он давно заслужил, но которая дается ему нелегко. В романе нет наигранного оптимизма: финал его не звучит как хэппи-энд. Но Льюис демонстрирует свое убеждение в том, что зло, существующее в мире, могут и должны победить силы справедливости и добра.
В. Ивашева
ДЕНЬ ЛИСИЦЫ РОМАН
Фрэзер утверждает, что во времена кельтов, в день летнего солнцестояния, лисиц сжигали на кострах: считалось, что они либо кем-то заколдованы, либо сами ведьмы, обернувшиеся животными, чтобы строить козни против рода человеческого. Может быть, поэтому во многих странах Европы лисица и по сей день считается предвестницей несчастья.
THE DAY OF THE FOX
London
1955
Перевод H. Высоцкой
Глава I
Утром, когда море было еще спокойным и белесым, словно таящим жар расплавленного металла, когда большинство рыбаков уже потянулось к берегу — к жене, в постель, или в таверну, рыбак Себастьян Коста отвязал свою лодку и оттолкнулся от берега.
Коста — человек, которому не раз приходила в голову мысль о самоубийстве, — всегда рыбачил один. Наступил май — первый из трудных месяцев мертвого летнего сезона. Зимой рыбаку-одиночке еще кое-как можно прокормиться — ловить в заливчиках среди скал всякую мелочь или бить при свете факела острогой крупную рыбу, когда тихими ночами она приходит подремать на мелководье. Но летом надеяться было не на что. Летом прибрежные воды пустели. Чтобы одолеть лето, приходилось действовать сообща, разрабатывая план, как при боевом наступлении. Например, требовалось двенадцать человек, чтобы управиться с небольшим баркасом для ловли сардин. Человека три-четыре да еще лошадь с телегой были нужны, чтобы доставить на берег тяжелый невод. Даже рыбакам, которые вдвоем ловили рыбу на леску, — и тем приходилось ладить с немногими знатоками своего дела, добывавшими свежую наживку. Хорошо было бы жениться на какой-нибудь дурнушке, дочери вдовы, у которой осталась большая лодка. Или обнаружить двоюродного брата, которому недавно досталось по наследству два полных комплекта рыболовной снасти. Или хотя бы найти лодочного механика, с которым ты сидел после войны в концлагере. На худой конец, неплохо было бы просто дружить с кем-нибудь из приятелей этих людей. Но случилось так, что Коста друзей не имел. Он растерял их всех и остался в полном одиночестве.
Обстоятельства вынудили Косту ловить меру, когда все уже отказались от этого гиблого дела. Меру — великолепная, живущая в одиночку рыба, ее упругое мясо ценится на рынке очень высоко. Но меру встречалась все реже и реже, и поэтому любой искусный рыбак, чей отец когда-то вылавливал из моря этих великолепных рыб, теперь мог считать, что ему повезло, если после недели тяжких трудов вытаскивал одну рыбину средних размеров. Меру жили в гротах, среди скал, каждая в своей излюбленной расщелине, и вырастали иногда до громадных размеров, становясь с каждым годом все хитрее; самые большие и старые приобретали репутацию неуловимых, им давали ласкательные прозвища и слагали о них легенды. Неподалеку от берега имелось всегда десятка два излюбленных меру мест, до которых можно было добраться на весельной лодке, и Коста неизменно каждое утро наведывался туда; без особой надежды вытаскивал он крючок, на который насаживал наживку накануне, снова наживлял его и забрасывал в пучину, где, по-видимому, и не было признаков жизни.
Этот день ничем не отличался от предыдущих. Несколько сот взмахов поскрипывающими веслами, от которых на руках давно уже затвердели мозоли, потом пять минут передышки, пока меняешь наживку, и снова медленный, долгий путь. Эта работа не возбуждала в Косте никаких эмоций. Он привык к невзгодам, а за последние несколько лет стал равнодушен и к радостям. Даже в тех редких случаях, когда леса не поддавалась и он знал, что это сопротивляется рыба, в душу его закрадывалась горечь. «Почему это не случилось раньше?» — говорил он себе. Косте было тридцать пять лет, руки его напоминали древесные стволы, в углах выразительного рта пролегли горькие складки — следы неудавшейся жизни, — а выражение лица было как у человека, который никак не может опомниться от неприятной неожиданности. На багровокрасном лице и руках светлыми пятнами проступали островки крупных рыжих веснушек. Косте понадобилось все его упорство, чтобы стать первоклассным рыбаком, потому что он не имел к этому никакой склонности. Он ненавидел солнце, которое и сегодня, после тринадцати лет, проведенных им на море, жгло его так же немилосердно, как и в тот день, когда он впервые нехотя снес в отцовскую лодку свою снасть и начал жизнь рыбака.
За пять часов Коста прошел на веслах три мили и сменил наживку на двенадцати крючках. Он клял безоблачное небо и бронзово-мглистый горизонт, мучился от солнечных ожогов, то и дело вытирал разъедавший глаза пот и со страхом думал о будущем. Как никогда прежде, томило его предчувствие надвигающейся беды. Он чувствовал, как смыкается вокруг него кольцо людской ненависти, стремясь смять его с неумолимостью и равнодушием стихийного круговорота природы. Его покинула даже любимая с юных лет девушка, и, хотя Элена уверяла, что только бедственное положение семьи заставило ее нанести ему этот последний удар, Коста подозревал, что она просто хотела смягчить горечь разрыва. Неотвязные страхи омрачали каждое мгновение этого дня. На сердце накипало, и Коста время от времени изливал свои жалобы вслух воображаемому третьему лицу, своего рода третейскому судье, принявшему образ старого, скучающего помещика, который уже всем в жизни пресытился и поэтому мог беспристрастно разбираться в чужих бедах. «Я же ни на кого не таил злобы, — говорил Коста. — Хотел жить со всеми в мире. Почему же они так ко мне относятся? А тут еще Элена перестала писать мне. Хуже и не придумаешь… Не ожидал я от нее такого».
Третейский судья, как обычно, не мог ничего сказать ему в утешение.
Около полудня Коста поймал в заливчике небольшого осьминога. Ухватив его за щупальца, он снял осьминога с остроги и несколько раз с силой ударил о скалу; затем вывернул его, как чулок, наизнанку и извлек, подцепив указательным пальцем, студенистые внутренности. Он вытащил лодку на берег и привязал ее к причалу. Потом, закатав брюки выше колен, вошел в воду, опустил осьминога в море и снова вынул, наблюдая, как растворяется в прозрачной воде чернильное облачко. Коста взобрался на берег, увязая ногами в колючем раскаленном песке. Осьминог в его руке обмяк, но щупальца еще слегка шевелились. Бухта была до краев наполнена дрожащим, безжалостным светом; полукругом стояли жгуче-зеленые, похожие на зонтики сосны; где-то в блеклом небе каркали вороны.
Чуть повыше в отдалении стояла палатка. Соорудил ее человек, носивший имя Христос. За что бы он ни брался, его преследовали неудачи: какое-то время он прожил здесь, на берегу, продавая по субботам и воскресеньям случайным заезжим коньяк, консервированные сардины и черствый хлеб. Когда же он совсем обнищал, его в чем-то обвинили и забрали в полицию, где он вскоре и умер от побоев.
Выйдя из воды, Коста увидел возле палатки незнакомого человека и вспомнил разговоры о том, что она перешла к новому владельцу. Хозяин палатки, видимо, заметил приближавшегося Косту и осторожно двинулся из тени ему навстречу, словно паук, который желает узнать, что за добыча попалась ему в паутину. Коста с удивлением отметил, что, несмотря на заморенный вид, одет человек был в элегантный выходной костюм — его тощие загорелые руки торчали из рукавов модного полотняного пиджака. Коста подошел к незнакомцу.
— Осьминога возьмешь?
Человек скорчил гримасу, выражая отвращение. Но Коста-то знал, что такие, как он, едят все без разбора — угрей, чаек, рыбьи головы.
— Ну, говори прямо, — сказал он, — берешь или нет?
Насекомые уживались с этим человеком — по лицу и по рукам его ползали желтые песчаные муравьи. Он заговорил было, но речь его сразу же стала бессвязной, зазвучали отрывочные, ничего не значащие слова.
— Как вы, без сомнения, знаете… если позволят обстоятельства… если будет найден общий язык…
Лопотание оборвалось. Человек подтянул модные джинсы и, осторожно выставив палец, дотронулся до осьминога. Присосок сомкнулся вокруг кончика пальца, как губы младенца, берущего грудь, и в уголках рта незнакомца выступила слюна.
— Хм. Несомненно свеженький! Сколько вы за него хотите?
— Давай, что ли, выпьем.
За спиной шипело, шелестело пропитанное солью и зноем тусклое, бесцветное в полдень море. Косте еще сильнее захотелось выпить. И в то же время его пронзило тревожное чувство — словно в памяти вдруг ожил какой-то эпизод из прошлого. Он, без сомнения, уже встречался с этим человеком прежде. И говорил ему те же слова: «Давай, что ли, выпьем». Когда же человек повернулся, чтобы отнести в палатку осьминога, и Коста опять увидел его прихрамывающую походку, невероятная догадка мелькнула в мозгу.
— Васко! — закричал он. — Васко!
Человек замер и медленно повернул голову.
— Вы это ко мне?
— Васко, — сказал Коста. — Ведь ты же Васко? — И подумал: «Или это он, или я схожу с ума».
— Меня зовут Кабрера, — произнес человек. — Хуан Пруденсио Кабрера, к вашим услугам.
Коста пошел за ним. «Что ж, — подумал он, — мне и самому несладко пришлось. Может быть, так вот и сходят с ума».
— Васко, дружище, — заговорил он, — зачем ты мне-то втираешь очки?.. Будто мы с тобой не тянули одну лямку…
Обитатель палатки казался растерянным, но отвечал все так же любезно:
— Боюсь, друг мой, что я вас совсем не понимаю. Разве я с вами знаком?
— Знаком? Вот это да! Ну-ка, где мы с тобой были, скажем, зимой тридцать восьмого года?
Морщины на лице человека обозначились резче, когда он попытался изобразить улыбку, более похожую, впрочем, на страдальческую гримасу.
— Мой дорогой сеньор, я всей душой хотел бы быть вам полезен. Но беда в том, что у меня бывают провалы в памяти.
— Провалы в памяти? Ну, это уже что-то новенькое!
Коста резко придвинулся к самому лицу незнакомца, стараясь уловить в его глазах проблеск воспоминания. Напрасно! Однако человек не отвел глаз — терпеливо и покорно ждал он, пока Коста пытался восстановить в памяти прежние черты осунувшегося за пятнадцать лет лица. Последние сомнения быстро рассеивались. Припомнился голос Васко, его манера говорить, небольшой шрам над губой. Шрам! Какое еще нужно доказательство!
— Послушай, — заговорил Коста, — хочешь, я докажу тебе, что ты Васко, даже если ты сам это забыл? Почему ты хромаешь? Я тебе скажу почему — в бедро тебе угодил осколок снаряда. Спереди-то почти не видно, куда он влетел, зато сзади не хватает куска мяса величиной с мой кулак.
Коста быстро притянул человека к себе и нащупал впадину, о которой говорил. С радостным воплем бросился он Васко на шею. Испуганный муравей кинулся искать спасения в пропахших морем волосах. Лицо человека мучительно передернулось.
— Васко, дружище, сколько лет, сколько зим! Подумать только! Чем же ты занимался все это время, гордец ты эдакий?
И вдруг Коста уловил слабый тошнотворный запах. Он отпрянул.
— Не знаю, — заговорил человек. — То есть я был учителем и все такое. Да только сами понимаете… Как-никак из памяти выпала чуть ли не половина жизни. Лучшие годы…
Глаза его увлажнились, и он утер нос тыльной стороной руки.
Порывом знойного ветра всколыхнуло бумажные флажки, которыми, будто в честь свадьбы прокаженных, была разукрашена палатка.
— Но ведь ты помнишь день, когда мы оба получили по осколку — ты, так сказать, пониже спины а я вот сюда, в горло.
Коста тронул пальцем у себя на шее гладкий шрам величиной с небольшую монету Васко покачал головой.
— Нам обоим осточертели фалангисты, но, как раз когда мы хотели смыться, фронт был прорван. Уж это ты, конечно, помнишь? Послушай меня, быть не может, чтобы ты забыл того сержанта из Девятнадцатого Наваррского, который еще хотел отдать нас под трибунал?!
Напряженно подыскивая нужные слова, Васко делал руками странные движения, словно птицелов, пытающийся схватить попавшую в силки птицу.
— Поразительно, просто невероятно! Трибунал, говорите? Подумать только! Какие-то отрывочные сцены… Все спуталось… Меня смотрело несколько хороших врачей, да с деньгами, сами понимаете… Однако садитесь, пожалуйста. Наверное, с уловом надо что-то сделать?
— Вот где страху-то натерпелись, — сказал Коста. Он вдруг снова почувствовал себя мальчишкой. — Как сейчас слышу этого сержанта. «После боя обоих под трибунал!» — заорал он. Между нами говоря, свет не видывал такой сволочи. Он всех нас, мобилизованных, ненавидел. Понимал, что в их армии мы оказались не по своей воле. «А пока что, говорит, у меня для вас есть сюрпризец». Так и слышу его голос. Вот тут-то мы — ты да я — очутились в окопчике на ничейной земле, метров на пятьдесят впереди остальных, с одним покореженным пулеметом, атаки ждали с минуты на минуту! Сержант думал, что мы драпанем к красным и он пустит нам заряд в спину, чтобы не связываться с трибуналом.
— Как во сне, — сказал Васко. — Припоминаю только отдельные эпизоды… В голове какая-то каша…
Коста, удивляясь и соболезнуя, покачал головой.
— Вот беда! У нас тогда такая потеха вышла — лучше не надо!.. Он, конечно, зря надеялся, что мы удерем, — мы остались сидеть, где были. Пришли красные, и только успели мы сдаться им в плен, как наши пушки стали бить по всему фронту; один снаряд угодил прямо в окпп и прикончил всех до единого — кроме нас с тобой. Так и вышло, что после контратаки мы находились на своем посту — вокруг валялись убитые красные, а нас только слегка ранило, и мы оказались героями. По счастью, сержант наш получил пулю в лоб, а больше никто и не знал, как все было. Хочешь не хочешь, а им пришлось наградить нас обоих и дать по две нашивки. Сам генерал явился в госпиталь нацеплять нам медали. Герои, братец! Вот кем мы были. И ты, Васко, хочешь сказать, что ничего не помнишь? Забыл даже, как ходил в героях?
Владелец палатки грустно покачал головой.
— Ничего не помню и, по правде говоря, не могу себе представить, чтоб чей-то просчет мог оказаться на руку вашему покорному слуге.
Он придвинулся к Косте — они сидели на одной скамье, — и Коста снова уловил слабый тошнотворный запах смерти.
— Мне в жизни редко выпадала удача, — сказал Васко. — Чему тут удивляться? Но, строго между нами, открою вам, что дня два назад мне здорово повезло. Вот. — Он дотронулся до рукава своего пиджака и с нежностью его пощупал. — Вы, возможно, слыхали о несчастном случае, который произошел — когда же это было?.. Да, в минувший четверг… Стал забывать даже дни недели. Я говорю о перевернувшейся лодке. Обычная трагедия на море. — Он положил руку Косте на плечо и перешел на шепот. Чуть повыше его высохшего лица рекламная красотка соблазнительно протягивала бутылку: «Это вмиг вас освежит». — Одного из находившихся в лодке молодых людей прибило волной к берегу. Я нашел его в заливчике, когда он уже начал разлагаться. С полицией я все уладил, да только будь ты там герой или трус, а когда знаешь, что одежду они все равно сожгут, так и подмывает сделать им наперекор.
Васко встал.
— Ну, а теперь займемся нашим чудесным уловом. — Он вдруг замолчал и резко отвернулся, однако Коста успел заметить промелькнувшее на его лице отвращение. — Совсем ничего не помню. Что-то я хотел у вас спросить? Ах да, конечно. Что же стало с нами потом?
— Когда потом?
— Ну, мы были в госпитале. Два героя, ведь так? А потом?
Что-то в этом вопросе смутно встревожило Косту.
— Да ничего, — ответил он. — Ничего больше и не было.
— Продолжали мы с вами и дальше встречаться? — спросил Васко. — Я хочу сказать, после того как нас подлечили, мы снова были вместе?
— Нет, — ответил Коста, — не долго. Ты куда-то исчез, вроде бы числился в списках пропавших без вести…
— Ну а вы, — продолжал Васко и снова потрогал уже безжизненные присоски спрута, — скоро вам удалось вырваться?
— Вырваться? — Коста явственно увидел в глазах Васко недоброе.
— От фалангистов. Мы ведь хотели бежать при первом удобном случае, поправьте меня, если я опять путаю. Я ведь повторяю с ваших слов.
— Не знаю, как насчет тебя, — сказал Коста. — Может, тебе и удалось, а может, и нет. Что до меня, то мне подходящий случай не подвернулся.
Вопросы эти вдруг начали его злить.
— Да, впрочем, о чем тут беспокоиться? — сказал владелец палатки. — Как-никак там вы были героем, и смеяться над этим нечего.
Он ушел в свою палатку, оставив Косту в недоумении: «А может, этот сукин сын просто издевается надо мной?»
Внезапный страх стиснул ему грудь, и он подумал: «Вот так же кончу и я, если буду сидеть сложа руки».
Глава II
Приступ отчаяния, усилившегося после встречи с Васко, заставил Косту поработать в тот день больше обычного. Вместо того чтобы проверить, как всегда, все крючки и направиться к дому, он решил проплыть вдоль побережья еще одну милю до бухточки, которую называли Ловушкой Дьявола из-за окружавших ее подводных скал. Огромная глыба рухнула здесь в воду, усеяв морское дно громадными камнями, и множество гротов и расщелин служило рыбам превосходным убежищем. Предстояло обследовать немало акров этого подводного лабиринта; для этой цели у Косты имелось смотровое оконце — квадратная коробка со стеклянным дном, — через которое открывались тайны моря. Он начал грести медленно, печально, безо всякой надежды; табаня, останавливал лодку и перегибался через борт, чтобы заглянуть через свой крошечный глазок в прозрачную пучину моря.
Внизу, квадрат за квадратом, проплывали огромные нагромождения менгиров, будто обрызганные кровью бесчисленных жертвоприношений алтари, испещренные тайными знаками, облепленные моллюсками, усеянные сверху донизу проворными, цепкими обитателями моря. Яркие, хрупкие и бесполезные сокровища дразнили Косту своим видом: он знал, что стоит извлечь цветы и кораллы из воды — и они сразу завянут, поблекнут и начнут испускать зловоние. Безымянные неуловимые рыбки появлялись, как стрекозы, откуда-то из темноты, носились стайками над запятнанными пурпуром скалами и снова прятались в лиловатых ажурных водорослях. «Чудеса! А что в них проку!» — думал Коста. Ему стало грустно при мысли, что из красоты этой нельзя извлечь никакой ощутимой пользы. «Ничего съедобного, — подумал он. — Ни на что не пригодно. Надо же!»
— Конечно, дальше так продолжаться не может, — сказал он громко. — Сил моих нет. Никакой надежды. Остается только продать лодку и отправиться по окрестным фермам — может, кому нужен человек бобы пропалывать. Или построить палатку и торговать вином. Тоже выход. Палатка! О господи!
Потом он — в который уж раз — подумал: «А почему бы не убраться отсюда совсем, не уехать в Кадакес или еще куда-нибудь… Попытать счастья на ловле сардин? Вопрос в том, дойдут ли и туда слухи? Много ли пройдет времени, прежде чем кто-нибудь из тех, кто меня знает, — хотя бы муниципальный курьер — пронюхает об этом и обронит с кислым видом в каком-нибудь кабачке:
— Коста, старина Коста. Да как вам сказать! Даже и не знаю. О таких вещах не так-то легко говорить — да и не мне судить. В общем, на такую штуку не всякий из нас пошел бы… Наверное, вы меня поняли».
И достаточно. Сейчас, когда люди привыкли скрывать свои мысли и говорить намеками, уж кто-кто, а рыбаки любой намек поймут с полуслова. И мысленно Коста уже переживал все это: осторожное, с улыбочкой, предательство курьера и приговор, снова вынесенный ему без суда.
Часов около пяти вечера, когда дневной свет стал меркнуть и густой мрак теней, медленно поднимающихся с морского дна, окутал основания подводных скал, Коста увидел рыбу. Она висела, словно вмерзшая в лед; громадная, неподвижная, неправдоподобная рыба висела стоймя — как почти всегда делают меру, если что-нибудь на поверхности воды привлекает их внимание. Косте была видна только обращенная прямо к нему голова рыбы; похожие на жабо грудные плавники шевелились медленно и ритмично. И даже поглощенного своими горестями Косту поразила красота рыбы и ее уродливость: нижняя губа большого бесформенного рта, отвисшая, как у желчного старика; выпученные от любопытства глаза; живые волшебные краски, недоступные взору людей, проживших всю жизнь на суше, краски, которые не под силу воспроизвести ни одному художнику, потому что все эти оттенки пурпурного и фиолетового, рожденные живым телом рыбы, все время меняются, вспыхивают и меркнут и, лишь только она уснет, мгновенно угасают.
Когда лодка скользнула по мерцающей пелене, покрывающей ее мир, рыба чуть шевельнула плавниками и повернулась, провожая взглядом тень лодки. И внезапно Коста понял, что, только убив, приблизится он к обладанию этой красотой. Продажа рыбы будет самым обыденным делом, она доставит ему лишь незначительное удовольствие, подобное тому, какое испытают за трапезой купившие ее люди. Но, убивая, он познает истинное наслаждение, потому что акт умерщвления, требующий огромной затраты сил, таинственным образом приобщит его к ее красоте.
Почувствовав, что его сносит в сторону, Коста встревожился — надо было спугнуть меру, чтобы она спряталась и обнаружила свое убежище. Коста изо всех сил хлопнул свободной рукой по воде — любопытство рыбы мгновенно сменилось подозрительностью, она приняла горизонтальное положение, и Коста успел увидеть ее во всю величину: непомерно широкая грудь, короткое туловище, суживающееся и заканчивающееся небольшим лопатообразным хвостом. Фунтов сто будет, прикинул он. Переворачиваясь и уходя вглубь со спокойной неторопливостью подводной лодки, рыба показала тусклое золото своих боков и брюха; погружаясь, она становилась все темнее, вспыхнула багрянцем на фоне скал и снова стала темной, когда, наконец, чуть шевеля хвостом и плавниками, неспешно, как корабль в гавань, вошла в свой грот.
Коста перевел дух. Теперь он мог быть спокоен — словно отверстие грота было входом в западню. Он запомнил его местоположение среди окружающих скал, подивившись, что такая огромная рыба решила поселиться на мелководье. Потом, удобно устроившись в лодке, стал не спеша готовить снасть. Это был целый ритуал, к нему приступали, чисто вымыв руки, взяв новый крючок и лесу — этим рыбаки отдавали дань достойному противнику.
Коста был уверен, что поймает эту рыбу. Поймает ее, потому что она будет обязательно ждать его в этом гроте, а он станет приплывать сюда каждый день, соблазнять ее лакомой приманкой, и в один прекрасный день — может, завтра, может, через неделю, но никак не позже, — она выйдет из укрытия и проглотит наживку. Вот тогда-то и начнется настоящая схватка — надо будет вытащить меру на поверхность из недр ее собственного лабиринта, — а пока эта рыба в воде, у нее больше упрямой отчаянной силы, чем у осла. В море было немало здоровенных старых меру, у которых в глотке или утробе ржавели огромные крючки — из схватки с рыбаками они вышли победителями.
Закончив приготовления, Коста бросил за борт крючок с наживкой и стал следить, как уходит в глубину, теряя серебристость, сверкающая макрель. Осторожно меняя положение лодки, он провел наживку через все струи подводного течения и подвел ее к самому входу в грот. Потом в воду с плеском упал камень, вокруг которого был обмотан конец лесы, и потянул за собой пробковый поплавок. Быстро искупавшись, Коста освежился и, снова взявшись за весла, повернул к дому И вдруг он почувствовал, как в душе у него впервые за много месяцев тихонько шевельнулась надежда. Он греб сильно, ему помогал прилив и дувший в спину бриз. На горизонте вырисовывался белый изящный силуэт орабля, медленно уходившего вдаль. Прибрежные скалы пестрели дроком и соснами.
Войдя в бухту, Коста увидел иностранцев — на пляже там и сям виднелись неподвижно сидевшие под зонтами нарядные японки, и до него донеслись слова песенки, которую пели водившие хоровод школьники: «Всех хорошеньких девчонок побросали тут за борт Стефен! Стефен! Черт за спиной!»
Нос лодки врезался в гальку. Коста выпрыгнул на берег и привязал лодку. Несколько рыбаков разбирали снасти, готовясь ночью выйти в море. Коста поздоровался с тем, кто был к нему ближе других, и кто-то, приветствуя его, взмахнул рукой.
Глава III
В сверкающей солнечной панораме утра старуха Марта, мать Косты, одетая в черное, напоминала статистку, робко жмущуюся к кулисам. Она начала осторожно, шаг за шагом, спускаться в центр деревни; два вопроса заботили ее: как раздобыть провизии и топлива?
Утренний воздух звенел от ликующих звуков. В небе висел забытый осколок луны, и вокруг него с криками носились стрижи. На колокольне какой-то малый пускал в небо оглушительные ракеты, видимо желая напомнить святому, чей день сегодня праздновался, о муках, претерпеваемых современным миром. Молоденькие служанки, ненадолго вырвавшиеся из дома, ошалев, бегали по улицам, выполняя утренние поручения, и сквозь их веселые возгласы то и дело прорывался пронзительный, как крик павлина, скрежет точильного колеса. У бакалейной лавки Марте пришлось задержаться: тащившая шарманку лошадь, когда ее распрягли, вздумала поваляться на дороге, а потом встала, громко цокая подковами. Только тогда старуха вошла в лавку. Она немного волновалась.
Бакалейную лавку держала сеньорита Роса, когда-то красивая девушка, до сих пор сохранявшая в своем облике что-то юное и печальное, как увядающий на груди душистый полевой цветок. Лавочники Торре-дель-Мар составляли особую разновидность людей, резко отличавшихся от прочих обитателей деревушки. Все рыбаки были худые и лишь иногда, в пору богатой осенней путины, немного поправлялись, а потом снова тощали; лавочники же год от года все больше обрастали жиром. Но основным различием был момент психологический — отношение тех и других к деньгам. Рыбаки любили во всеуслышание обсуждать свои заработки, они останавливали друг друга на улице только затем, чтобы сообщить, во сколько — с точностью до песеты — оценили на торгах их последний улов. Всю зиму они жили в долг, если же неожиданно выпадала удача, им не терпелось поскорее спустить деньги, и они покупали в приданое дочери или сестре непрактичную дорогую мебель. «Взгляни-ка, друг! Выложил целиком недельную выручку Ни больше ни меньше. Зато такой мебели ни у кого нет. Не думай, она вовсе не из дерева. Все как есть из пластика!» — «А бар для коктейлей на кой тебе черт сдался, раз никто из молодых не пьет?» — «Этот-то? Ну, не пьют они сами — так, может, дети их будут пить. Надо шагать в ногу с веком». Лавочники были не такими. В их жизни деньги играли главенствующую роль. В тех редких случаях, когда они вообще упоминали о деньгах, они предпочитали употреблять отвлеченный термин «расходы», и им даже не могло прийти в голову посвящать посторонних в свои дела.
Когда Марта вошла в лавку, сеньорита Роса подняла глаза и устремила их мимо покупательницы в пространство, где, доступная лишь ее взору, вырисовывалась колонка четких, ясных цифр.
— Пакет древесного угля, — сказала Марта, — на этот раз я возьму немного. — Она надеялась, что небрежный тон поможет ей.
Сеньорита Роса сверилась с цифрами. Два да три — пять, да еще восемь — тринадцать. Минус четыре песеты, уплаченные в предпоследний раз. Остается девять. Минуточку, сейчас проверю по гроссбуху Совершенно точно, девять.
— Быть может, сеньора, сегодня вы сможете уплатить хоть немного в счет долга? Вы, конечно, понимаете, как трудно отпускать товар в бессрочный кредит.
Марта, вздохнув, извлекла из кармана две песеты, взяла пакет с углем и вышла. Топливом она по крайней мере была теперь обеспечена. Она опасалась, что раздобыть провизию будет гораздо труднее.
Веселая утренняя суета захватила и старуху, когда она, стараясь держаться в тени, снова неторопливо двину-, лась вниз по деревенской улице. Встречая элегантных, по-заграничному одетых иностранцев, которых с каждым днем становилось все больше, Марта тоже ощутила легкое волнение начавшегося сезона. О наступлении лета говорила и непривычного вида одежда, проветривавшаяся на крышах еще недавно заколоченных вилл богатых испанцев, на которых сверкали, подобно изумрудам, зеленые телефонные изоляторы. Марта остановилась у фонтана — перевести дух и взглянуть поближе на бродячих актеров, поставивших на пляже свой балаган. На сцене актеры казались более настоящими, чем в жизни. Беспощадное солнце спалило всю таинственность и волшебство, и глазам Марты представилось лишь несколько развинченных нелепых фигур — неряшливых женщин и женоподобных мужчин, которые переругивались между собой.
— Толку не будет, можешь мне поверить. Слишком поздно, полный провал. И вообще, моя милая, сделай одолжение — убирайся-ка ты ко всем чертям.
Марта, недоумевая, покачала головой и пошла дальше. С ней рядом остановился, фыркая, странного вида мотоцикл с высокой рамой; восседавший на нем старик был такой тощий, такой прямой и негнущийся, что, казалось, двигаясь, он должен был скрипеть всеми суставами. Старик приподнял черную шляпу, прикрепленную резинкой к лацкану его полотняного пиджака.
— Замечательное утро, мадам. Позвольте узнать, нет ли у вашего сына рыбы на продажу?
Дон Федерико Виланова имел привычку обращаться к Марте в высшей степени церемонно.
— Он сейчас в море, — ответила Марта. — Я жду его не раньше чем через час-другой. Если он что-нибудь поймает, пошлю его к вам… И между прочим, сеньор, мы решили последовать вашему совету и сдать свободную комнату.
— Рад это слышать. Постарайтесь сдать англичанину. Все они мерзавцы, но это не имеет значения — в отношении денег на них можно положиться, и в еде они неприхотливы. Обожают жареных улиток!
Дон Федерико еще раз приподнял шляпу, привел в действие свою машину и почти мгновенно стал частицей того приятного расплывчатого узора, каким представлялся Марте на расстоянии двадцати шагов весь мир.
«А теперь провизия, — подумала она. — Хоть бы разок для разнообразия покормить его, беднягу, мясом». Она подошла к лавке сеньориты Антонии, раздвинула занавеску из бус и вошла. Бусы звякнули за ее спиной, осыпав пятнами света и тени сеньориту, которая сидела за прилавком, возвышавшимся у задней стенки, подобно алтарю, и трех, одетых в черное, покупательниц, с покорным видом стоявших внизу, словно внимая проповеди.
Сеньорита так и не нашла себе жениха, который мог бы внести в семейный капитал долю, равную ее громадному вкладу — мясной лавке. Антония была полнотелая, улыбающаяся девица с ярким румянцем, пышным бюстом и больными венами. За ее спиной как решающее доказательство того, что лето действительно наступило — в зимние месяцы мясо в Торре-дель-Мар не привозили, — висела на ввинченном в потолок крюке громадная бычья туша. Поскольку рыбакам мясо было не по карману и они покупали его, лишь когда доктор прописывал больному ребенку мясной бульон, тушу завезли с расчетом только на приезжих, но и местному населению могла перепасть требушина и другие части, которые не покупал ресторан при гостинице.
Сеньорита Антония, держа в руке большой нож и слегка покачиваясь на больных ногах, с ласковой улыбкой смотрела сверху вниз на Марту, не отрывавшую глаз от великолепной туши — алой, местами коричневатой и светло-желтой.
— А чего отпустить вам, сеньора Марта?
— Я бы хотела купить немного потрохов.
— К сожалению, вот все, что осталось.
Сеньорита показала ножом на расставленные тарелки, и, казалось, румянец на ее щеках вспыхнул еще ярче. С трудом дотянувшись до прилавка, Марта увидела куриные и утиные лапки и головы, сгустки крови и крохотные кучки потрохов, покрытых запекшейся кровью и перепутавшихся с кишками.
— Я думаю, мясо слишком тяжело для желудка, — сказала одна из покупательниц, неодобрительно взглянув на бычью тушу. При появлении Марты три старые карги, казалось, теснее придвинулись друг к другу.
— А легких тоже нет? — осведомилась Марта.
Сеньорита покачала головой.
— Боюсь, что все забрал ресторан. К тому же, сами понимаете, я должна думать о своих постоянных покупателях… Возьмите, дорогая, гусиные потроха… Суп наверняка получится хороший.
— На худой конец, у вас ведь всегда есть рыба, которую наловит сын, — сказала другая покупательница. И три старухи, сплоченные злобной радостью, сдвинулись еще теснее — словно читали по одному молитвеннику.
— Слыхала я, что нынче с уловом плоховато, — сказала карга, стоявшая посредине.
Марта пронзила ее взглядом.
— Если рыбы нет, откуда же ее наловишь, как вы думаете?
Сеньорита Антония ловко отрубила ножом два утиных клюва и тоже вступила в разговор:
— Бедняга, в последнее время ему уж совсем не везет. Ну не грустно ли получилось с Эленой? Наверное, для него это такой удар…
Марта не осталась в долгу.
— Что ж, рано или поздно всем нам приходится огорчаться из-за женитьбы.
Улыбка померкла на лице сеньориты, но сразу же появилась снова. Она поудобнее расположила свой громадный бюст среди лежавших на прилавке отборных кусков говядины.
— Не понимаю ее мать. Позволить девчонке уехать одной! — Сеньорита больше не обращалась к Марте.
— Да еще в Барселону! — елейным тоном подхватила одна из покупательниц. — В такое место…
— Вот именно!
— Но, с другой стороны, удивляться не приходится…
— … при том, как обстоят дела.
Марта думала о другом, ее заботила еда. Она уже смирилась с мыслью, что говяжих потрохов нет, и решила взять то, что имелось. Только вот что — головы с лапками, гусиные потроха или цыплячьи внутренности? Ну да ничего, выручат лук и помидоры, купленные за полпесеты: не сняв крышку, и не угадаешь, из чего сварен суп.
Бусы звякнули снова, и сеньорита встала, чтобы обслужить новую покупательницу.
— Порцию гусиных потрохов, дорогая? Правильно, две песеты. Сегодня они очень хороши — алые, как рубин.
Три старухи покончили с покупками и вышли из лавки, а вновь вошедшая обратилась к Марте:
— Я слыхала, дорогая, что вы сдаете комнату?
Марта от неожиданности вздрогнула.
— Комнату? Да как же! Вообще-то мы об этом только подумываем.
Она никак не могла решиться. Чтобы отыграться, она хотела истратить деньги с наибольшей пользой. Если б не было никакого выбора! Рука ее нерешительно потянулась к одной из тарелок. За несколько минут их стало вдвое меньше. Вошли еще две покупательницы. Кто-то произнес у нее над ухом:
— Но, конечно, не иностранцу? Люди болтают…
На одно роковое мгновение глаза Марты оторвались от прилавка.
— А если и иностранцу, что тут плохого?
— Плохого? А вы слыхали, что случилось у Кармен? Они сняли со стены картину с изображением распятого Спасителя.
— Женщины приводят к себе мужчин.
— Официантов из отеля и даже истопников.
— Ходят по дому нагишом.
— У них у всех дурные болезни.
— Матрацы после них нужно сразу выбрасывать.
Марта спохватилась слишком поздно: если я провороню, опять придется готовить рыбу. Она протолкалась к прилавку, и в этот момент у нее из-под носа выхватили последнюю тарелку. Пунцовая физиономия лавочницы расплылась в улыбке.
— Вы хотели что-то купить, дорогая? Что же вы не сказали? Я бы отставила в сторонку.
Марта направилась к берегу. Ничего не поделаешь. Сегодня им снова придется есть рыбу, зато уж завтра она встанет пораньше, и суп у них, во всяком случае, будет. При мысли о курином бульоне, к которому прежде она была равнодушна, но который теперь был недоступен, у нее потекли слюнки. Завтра у них во что бы то ни стало будет суп с картошкой.
Лодки, которые вернулись последними, были привязаны у берега, и рыбаки сортировали улов для продажи. Поступавшая в продажу рыба делилась на две категории — белую и голубую. Белая рыба, например кефаль, была лучшим, что могло дать море. Она славилась не только тонким вкусом — было в этой рыбе что-то таинственно прекрасное, когда она засыпала в лодке и пунцовые пятна, просвечивая сквозь чешую, вспыхивали и гасли на ее теле. Кефаль рыбаки бережно сортировали и укладывали в ящики. Рыбу голубую, к которой относились также макрель и золотистые лини, сваливали в корзину и продавали не торгуясь. Арану, вообще-то рыбу белую, но безвкусную и имевшую ядовитый спинной плавник, оставляли валяться на дне лодки. Скатов и морских собак, считавшихся вовсе несъедобными, выбрасывали обратно в море, и их мерцающие отражения серебрились на отмелях вокруг лодок.
Когда Марта добралась до берега, там уже собралось несколько старух. Все они были, как и Марта, вдовами и пришли за так называемой вдовьей пенсией. Многие из них стеснялись и хотя от лодок не отходили, делали вид, что просто моют в воде ноги или рассматривают разложенные для просушки сети. Рассортировав улов, рыбаки отправлялись на рыёный рынок, унося с собой ящики и корзины, и тогда старухи свободно могли подходить к лодкам и брать себе рыбу, негодную для продажи, например нарочно оставленных для них в лодках аран. Марта пришла, когда рыбаки уже заканчивали свою работу, а бедные вдовы мало-помалу приближались к лодкам, где их ждали россыпи невесть каких богатств.
Марта лишь совсем недавно заставила себя приходить за вдовьей пенсией, и ей все еще было неловко и стыдно. Она ни за что не хотела утратить чувство собственного достоинства. Марта предпочла бы подойти последней и с безразличным видом взять, что останется. Но она прекрасно понимала, что может при этом уйти с пустыми руками. Не зная, на что решиться, она медлила в отдалении, рискуя опоздать, как вдруг заметила, что к ней направился с ящиком в руках один из рыбаков. Марта слишком поздно узнала в нем Селестино, пожилого рыбака, который еще мальчишкой рыбачил вместе с ее мужем. Ей было стыдно, что он увидел ее здесь, но она была слишком слаба и медлительна, чтобы уклониться от встречи. Она стояла, как никогда остро ощущая свою старческую немощность, и мягкий песок засасывал ее ноги.
Подойдя к ней, Селестино остановился и поставил ящик. Марта посмотрела на плотные ряды кефали, словно обрызганные пурпурными пятнами предсмертной агонии.
— Бери, мать, — сказал, улыбаясь, Селестино, — возьми несколько штук, не стесняйся.
Марта почувствовала, что краснеет, и обрадовалась, что густая сеть морщин скроет от посторонних глаз краску стыда. Надо же! Вообразил, будто мы уж совсем обнищали. Она покачала головой.
— У нас хватает своей. Но все равно спасибо тебе.
Селестино поднял ящик и ушел, не сказав ни слова.
Она разгневанно смотрела ему вслед. Подумать только, ведь мой-то муж и научил его рыбачить! Но теперь ее заботило другое — остальные рыбаки тоже уже уходили, старухи приблизились к лодкам, а она не могла двинуться с места — ведь Селестино еще не скрылся из виду. Марта упрямо ждала, пока черный мужской силуэт не растворился в белой пелене, отгораживавшей ее мирок. После этого она немного еще подождала, сердито соображая: хоть я его больше и не вижу, он своими молодыми глазами еще может видеть меня.
Когда Марта подошла к лодке, в ней остались только две маленькие араны. Она подобрала их и положила в передник. Спасибо и за это.
Глава IV
Дом, в котором они жили, строил человек, почтительно хранивший в подсознании память о пещерах предков. В доме отсутствовали прямые линии, все углы были срезаны и закруглены; комнаты имели уютные округлые своды, и невозможно было определить, где же стены переходят в потолки, а комнаты — в коридоры. Несколько узких окон, несомненно нехотя, пробили уже после завершения постройки. Долетавшие изредка с улицы звуки, словно плоды инжира, падали через высокий забор в тишину дворика, которую нарушали лишь негромкие домашние шумы.
Марта хлопотала около печурки в углу двора, а сидевший поблизости на ящике Коста собирался с духом, чтобы обсудить с матерью очень важный для него вопрос. Он уже дважды делал глубокий вдох, собираясь заговорить, но оба раза слова замирали на губах, и продолжалось неловкое молчание.
Старуха взяла две маленькие араны, вырезала из них ядовитые спинные плавники, быстро почистила и бросила рыбок в кастрюлю с кипящей водой. До Косты сразу же донесся резкий, отбивающий аппетит запах стряпни. Спавший на ограде худющий длинноногий кот проснулся и зевнул. Коста почувствовал легкую тошноту. Арану ели только рыбаки и, что не могли съесть сами, выбрасывали в море. Даже сваренная через десять минут после поимки арана уже отдавала тухлятиной. «Завтра я, может быть, поймаю меру, — подумал Коста, — но мы все равно будем есть арану». На рынке меру ценилась дороже всякой другой рыбы. Есть такую рыбу рыбаки считали святотатством, и многие из них даже не знали, какова она на вкус.
— Садись, — сказала мать. — Сейчас все будет готово. — Она бросила в кастрюлю коренья.
— Мне что-то не хочется есть, — сказал Коста. Он знал, что не проглотит куска, пока не облегчит душу. Снова сделав глубокий вдох, он сказал неестественно ровным голосом: — Тебе никогда не приходило в голову, что хорошо бы отсюда уехать?
Старуха выпрямилась, чтоб увидеть лицо сына.
— Пришло время посмотреть правде в глаза, — торопливо продолжал он. — Взять хотя бы то, что здесь уже всю рыбу выловили. Я бы больше заработал, починяя на берегу сети вместе со старухами. Вот, в общем, все, что я хотел тебе сказать.
Он ждал, волнуясь, ответа на свои слова, но мать молчала. Ей было уже семьдесят пять, за последние двадцать лет она с каждым годом становилась все меньше, так что теперь казалась чуть побольше куклы, неизменно одетой в шуршащее, черное как вороново крыло платье. Годы стерли черты ее лица тысячью нанесенных крест-накрест ударов.
— Дело в том, — заговорил он вдруг поспешно, — что я подумываю, не перебраться ли мне в Кадакес или Пуэрто и не заняться ли ловлей сардин. Рыбацким артелям там не хватает рабочих рук. Так мне по крайней мере говорили.
— Что ж тебя держит, сынок?
— Ну, тебе, конечно, тоже придется перебраться туда. Я хочу сказать, мы переедем вместе, а здесь надо со всем разделаться.
— Ты хочешь сказать — надо продать дом?
— Да, пожалуй, придется. Нам понадобятся деньги.
— Продать дом чужим людям?
Коста пожал плечами и горько усмехнулся.
— Воспоминаниями сыт не будешь. По-моему, дом — это просто место, где люди спят, это удобство. Нельзя же, чтобы он связывал человека по рукам и ногам.
«Удобство», — подумала она. Для него дом и не был ничем большим. Но для нее дом был храмом Минувшего, служительницей которого она, сама того не ведая, стала. Ее связывала с этим домом, с этим местом не память о счастливых событиях — их было мало, — а мрачные воспоминания о всех пережитых тут трагедиях: о двух революциях, когда сжигали церкви, а потом жестоко за это расплачивались; о страшной эпидемии и о страшном шторме в начале 20-х годов, после которого вся деревня несколько лет носила траур; об убитых в гражданскую войну трех сыновьях и об умершем вскоре муже; о воздушных налетах итальянцев и о бедах, выпавших на долю единственного уцелевшего сына. В сущности, она жила только этим. Пролитые слезы привязывали ее к дому и к Торре-дель-Мар; горе, которое удавалось преодолеть, всякий раз вливало в стареющее тело каплю внутренней силы. И она жила в своем беленьком, чистом, похожем на пещеру доме, где каждая вещь после смерти мужа стала для нее священной, не поддаваясь невзгодам, безропотная, хрупкая и несгибаемая.
— Выходит, ты пал духом? Говоря по правде, я думала, что ты крепче.
Он не мог разглядеть выражения лица матери, потому что только большая радость или большое горе пробивались изредка сквозь густую сеть морщин, покрывавших ее лицо, но в старческом голосе звучали горечь, жалость и презрение.
— А что мне остается?
— Ты все время вел себя как дурак. Не отступай перед ними, сынок. Пусть знают, что совесть твоя чиста. Бегством ты никому ничего не докажешь. Стисни зубы, держись уверенно, и в конце концов они поймут.
— А чем мы будем кормиться?
— Да ведь как-то мы всегда справлялись, — сказала она, — На худой конец, в желудях недостатка никогда нет.
И так она отвечала всегда. Держись! Не падай духом! Затяни потуже ремень! И в конце концов все обойдется.
Только обойдется ли? Понимала ли она всю глубину окружавшей его скрытой враждебности?
Он задумался, вспоминая, как все было. В памяти всплыли первые недели после возвращения в деревню, когда он еще носил военную форму, которую потом, раздобыв штатскую одежду, сжег: сначала гимнастерку, а после и брюки. События развертывались постепенно, словно искусно разработанная кем-то кампания; но только он-то знал, что все произошло само собой.
Прежде всего было зловещее нежелание о чем-либо его просить. Они не могли открыто проявлять враждебность к тому, кто оказался в рядах победителей, — полиция знала, как в таких случаях действовать, — но и обращаться к нему их никто не мог заставить.
— Когда тебе, Пако, понадобится лодка, бери мою. Бери безо всяких, ты знаешь, где она привязана.
— Спасибо, спасибо тебе. — (С улыбкой, всегда с улыбкой.)
Он должен был тогда же понять, что он осужден. Тогда же догадаться, что ему вынесен приговор — ведь даже самые бедные рыбаки ничего у него не просили, и вдовы вопреки обычаю не брали из его улова ни пригоршни рыбы, и деревенский нищий не подходил к нему с протянутой рукой.
И всегда эта убийственная вежливость. В его присутствии — как при священнике — не богохульствовали, потому что богохульствовать можно только среди своих: вместе согрешив, люди становятся ближе друг другу.
А потом, как-то сразу, на всех баркасах для ловли сардин подобрались полные команды. Для него не нашлось даже места моториста или фонарщика, хотя за это причиталась только половинная доля улова. Даже молодые парни, которые стали взрослыми уже после войны и не имели понятия, в чем тут дело, не хотели брать Косту в долю. Так или эдак, а он неудачник, и они не хотели рисковать.
— День добрый, Себастьян. Вроде западный задувает?
Ему не смотрели в глаза, не подшучивали над ним, не подталкивали локтем. С ним всегда были очень вежливы.
А потом настал роковой день отъезда Элены.
Женщины Торре-дель-Мар были согласны ждать своих суженых по десять лет, пока те медленно, с трудом, по грошу копили деньги, чтобы наконец купить непременный мебельный гарнитур и прилично обставить одну-единственную комнату.
Срок этот уже истек, потому что Коста объяснился с Эленой, когда ей было всего шестнадцать. Головка Элены напоминала эскиз головки замечательной красавицы, сделанный рукой большого мастера, который поручил выполнить несущественные детали своему талантливому ученику; но когда дошла очередь до громадных, скорбных глаз, художник снова сам взялся за кисть и явил все совершенство, всю страстность и неповторимую проникновенность своего мастерства. Элена была тоненькая, нежная, преданная, и Коста, привыкший принимать ее любовь с опасным благодушием, перенес в один из февральских дней страшное потрясение.
Обычно, встречаясь на людях, влюбленные затевали для отвода глаз шумные игры и возню. В тот раз Элена вместе с другими девушками стирала на реке белье, и, когда Коста не спеша прошелся по берегу и обрызгал ее, бросив в воду большой камень. Элена вскочила и, притворяясь рассерженной, кинулась за ним, вытирая о подол руки.
— Сегодня надо встретиться. В обычное время, где всегда.
Встречались всегда на кладбище. Здесь между влюбленными улаживались размолвки, тут же, под покровом темноты, среди могил предавались любви те, кто не видел проку в ожидании. Встречаясь в сумерках на дороге, ведущей к кладбищу, люди не узнавали друг друга — мужчины низко надвигали на глаза шляпы, женщины прикрывали лица носовыми платками. Не было секретом, что все занимались тут одним и тем же.
— Я хотела написать тебе, — сказала Элена, — да не знала как. Сердце прямо разрывается. Конечно, я понимаю, тут не твоя вина, но у меня ведь на руках старики.
— Погоди, я что-то тебя не понимаю — У Косты перехватило дыхание. С раннего утра его томило предчувствие надвигающейся беды.
— Отец долго не протянет, — продолжала Элена. — Ты ведь знаешь, что сказал доктор про его грудь. Подумай сам, что тогда будет с мамой9 Да и со мной тоже.
— Мы о ней позаботимся. Пускай живет с нами.
Элена невесело рассмеялась, потом ласково взяла его за локоть.
— Послушай, Себастьян, мы с тобой никогда не говорили о деньгах, правда? Все эти годы я ни разу об этом не заикнулась. Но не сомневайся, я знаю, в каком ты положении. На прошлой неделе доктор сказал отцу, что он больше не сможет рыбачить. Как же нам быть? Я говорю о себе и о маме. Можешь ты мне ответить?
Нет, ответить ей вразумительно он не мог Коста выдавил из себя несколько бессвязных слов, сам понимая всю их никчемность. Элена тихонько плакала.
— Я должна что-то делать. Тянуть дольше нельзя.
— А что же ты можешь сделать? Не хотелось бы мне, чтобы ты пошла служить в гостиницу.
— В гостиницу? Не беспокойся, я уже туда ходила, гам устроиться нельзя. Знаешь, чем откладывать, лучше уж я скажу тебе все сейчас. Ты уж прости, но я уезжаю работать в Барселону.
— Куда? — произнес он. — В Барселону? Но это невозможно. Ты… и в Барселону? Никогда я на это не соглашусь. Подумать только! В Барселону — не нашла другого места.
— Обо всем уже договорено. Я нанялась в хорошую семью. Насчет этого все в порядке, только с тобой мы не сможем часто видеться. Не сердись, — продолжала она, — мне тяжело, когда ты сердишься. Я так долго ломала себе голову. Ведь надо что-то делать.
— Тебе, наверное, не нравится, что тут у нас слишком тихо, — сказал он с горечью. — В Барселоне, говорят, жить куда приятнее. Будешь там в кино бегать.
Сейчас ему больше всего хотелось причинить ей боль, хотя изо всех людей — за исключением матери — она одна не отвернулась от него, потому что ее как женщину, кроме любви, по-настоящему ничто не волновало и она — как способны лишь женщины — умела видеть сквозь маску, которую судьба вынуждает носить человека. Но Элена понимала, что другого он и не мог сказать.
— Если б только ты хотел понять, — заговорила она, — это же выход для нас обоих. Единственный выход. Мы можем уехать вместе. В Барселоне никому до нас не будет дела. Я бы нашла себе работу в гостинице, а ты бы поступил на фабрику И зачем нам собственная мебель9 Мы могли бы пожениться и снять комнату, как делают все в Барселоне. Почему бы и матери твоей не поехать с нами?
Но мать Косты в ответ на предложение сына лишь покачала головой.
— Не хочу стоять у тебя на дороге, сынок. Только обо мне ты не беспокойся. Бывает в жизни, что чего-то не можешь сделать, и все тут. В мои годы, во всяком случае.
Он и не ждал иного ответа.
На следующий день Коста снес железный сундучок с пожитками Элены на маленькую площадь, откуда в полдень отправлялся автобус в Барселону. Он подарил ей японский веер и флакон лавандовой воды. Думая, что автобус вот-вот тронется, они дважды сказали друг другу «до свидания» и пожали руки, а потом в растерянности стояли, не зная, что сказать еще, и лишь изредка встречались глазами и натянуто улыбались, как бывает, когда расставаться мучительно больно.
Пришел и кое-кто из соседей.
— Ну, прощай, Элена. Не плохо прокатиться, а? Смотри уж, держись там, девушка! Это ведь тебе не что-нибудь, а Барселона! Ха-ха!
— Ну мог ли он ожидать, что она… — услышал Коста чьи-то слова.
Глава V
Когда предстояло что-нибудь обсудить, члены братства рыбаков Торре-дель-Мар собирались в задней комнате кафе «Двадцатый век». Хотя предполагалось, что братство это занимается главным образом такими делами, как организация ежегодного паломничества к мощам святого Бенедикта, собрания его проходили при закрытых дверях, и даже высохший хмурый официант, прежде чем войти, должен был постучаться и терпеливо ждать разрешения переступить порог. Скромные, иссушенные тяжелым трудом люди, носившие имена всех двенадцати апостолов, с неловким видом сидевшие сейчас вокруг стола в строгих праздничных костюмах, составляли негласный кабинет, вершивший делами деревни; они были честью ее и совестью. Высказывались медленно и немногословно, они принимали решения по жизненно важным для общины вопросам, предоставляя мэру и его подчиненным взимать налоги и заниматься починкой дорог.
Среди собравшихся только председатель братства, Франсиско, выделялся своей внешностью. Благодаря некоторым своим качествам, высоко ценимым сдержанными, неприхотливыми рыбаками, он пользовался почти неограниченной властью. Суровый и сдержанный, Франсиско, вполне естественно, стал вожаком людей, которые гордились тем, что даже самые скромные удовольствия себе позволяли нечасто. Франсиско работал больше всех, ел меньше других, вина не пил, жертвовал больше остальных на нужды братства и в конце войны дольше других просидел в концентрационном лагере. У Франсиско была большая семья, жившая в достатке, а его холодная, демоническая красота не раз тревожила восторженные сердца дам, приезжавших летом с севера в Торре-дель-Мар.
На сей раз собрались якобы для того, чтобы организовать сбор средств для одного из жителей деревни, которому надо было сделать в Барселоне дорогостоящую операцию. Вопрос решили быстро — кто бросил два-три слова, кто просто кивнул, а затем Франсиско сказал:
— Да, кстати, хочу сообщить вам о том, что я намерен предпринять на будущей неделе.
Кое-кто из рыбаков одобрительно кашлянул.
— Я хочу предложить Косте работать на моей лодке. Есть возражения? Если кто не согласен, сейчас самое время сказать об этом.
Франсиско обвел молчащих рыбаков строгим взглядом.
— Ну, раз так, будем считать, что никто не против. Ты хотел что-то сказать, Симон?.. Прости, если перебил тебя.
Висевшее на стене кривое зеркало образовало словно ореол вокруг изможденного, страдальческого лица Симона; он облизнул губы и сказал:
— Твоя лодка — не моя.
— Но ты на ней работаешь, и, значит, тебя это прямо касается. Поскольку Педро выбывает, Коста будет получать двенадцатую часть улова.
— Ты хозяин, — сказал Симон.
— И вот еще что. Когда Коста придет, каждый член артели пожмет ему руку.
— Может, еще преподнести ему какой-нибудь подарочек? — спросил Симон. — Скажем, пяток яиц или еще что-нибудь?
Франсиско нахмурился.
— Хочу с самого начала предупредить всех, что я не потерплю вражды в моей команде. Обойдемся без ссор.
Рыбак, которого душил, по-видимому, тесный ворот рубашки, сказал:
— Своей собственностью ты, Франсиско, можешь распоряжаться как хочешь. Почему бы и нет? Мы — люди свободные. Не понимаю только, зачем тебе понадобилось обсуждать этот вопрос здесь.
Он быстро обвел взглядом присутствующих и криво улыбнулся, ища одобрения.
Заговорил ФранСиско:
— Одна из целей нашего братства — по мере возможности восстанавливать справедливость. Коста наказан всеми нами — нечего закрывать на это глаза. Только, по-моему, всякая вина заслуживает определенного наказания. И раз человек это наказание отбыл, он свободен. Не забывайте, что, когда разразилась война, из нашей деревни не один Коста оказался на территории, занятой фашистами.
— Не один, — подтвердил кто-то, — но награды-то удостоился только он один.
— Видно, ему это пришлось по вкусу, — заметил тот, кому давил воротник. Симон же спросил:
— А как насчет того, будто он в одиночку захватил нашу позицию? Все об этом болтают.
— Он всегда это отрицал, так почему же я должен верить другим, а не ему?
— За что же он тогда получил свою медяшку?
— Да что ж тут особенного? Крест за военные заслуги второй степени. Фашисты выдавали их вместе с пайком. Гораздо важнее, что, вернувшись, Коста ни разу не пошел против нас, а это известно каждому. Судите людей по их делам, говорю я.
Гул неодобрения замер, но Симон продолжал:
— Если он будет с нами рыбачить, значит, он получит право быть избранным в члены нашего братства. А раз так, может, мы подождем с решением до следующего собрания и еще обсудим это дело между собой?
— Прекрасно, — сказал Франсиско.
— Это тоже надо учитывать. Но если остальные согласятся, я не буду против.
— Хорошо, — сказал Франсиско, — а теперь можно приступить и к делам более важным.
Раздался осторожный стук, и в комнату вошел старый официант с подносом в руках. Франсиско взял стакан воды и подождал, пока старик не вышел.
— То, что я сейчас скажу, должно остаться, как всегда, в тайне — и от жен тоже. Понятно?
Симон бесшумно встал и затворил окно. Другой рыбак открыл дверь и выглянул в кафе, где единственный посетитель — разорившийся помещик в трауре — раскладывал пасьянс да стоя дремал, прислонившись к кассе, старый официант. Рыбак тихо притворил дверь и кивнул Франсиско, и тогда Франсиско сказал:
— Вопрос в том, что нам делать с новым лейтенантом полиции.
Глава VI
Служебное усердие лейтенанта Кальеса, который требовал безоговорочного соблюдения самых пустячных запретов, доводило до белого каления жителей деревни, а его отказ — неслыханное дело! — брать взятки приводил в бешенство процветающих барселонских спекулянтов, понаехавших на лето в Торре-дель-Мар. Лейтенант отличился по службе, разгромив гнездо контрабандистов в одном из небольших портовых городков, где он беспощадно провел карательную кампанию, прибегнув к методам весьма сомнительным; после этого его для той же цели направили в Торре-дель-Мар. Не будь Кальес полицейским, он посвятил бы себя служению святой церкви; он и теперь редкие свободные минуты проводил за чтением священных книг, испытывая при этом ни с чем не сравнимое наслаждение.
В этот день Кальеса привел в замешательство неожиданный приезд полковника — его непосредственного начальника. Человек этот оставался для него загадкой.
Они сидели лицом к лицу на жестких стульях; лейтенант держался подчеркнуто прямо и был весь внимание, полковник же мог позволить себе более свободную позу. Он расположился так, чтобы иметь возможность обозревать через окно окрестности: береговые укрепления, коричневые прямоугольники рыбацких сетей на пляже и большую часть бухты с едва прикрытым водой рифом. «Словно изъян в изумруде, — подумал полковник. — Впрочем, разве в изумрудах бывают изъяны? Тогда, скажем, как в горном хрустале». Он был человеком утонченным и в кругу близких друзей-аристократов весьма неодобрительно отзывался о своей профессии. Последние два года он сочинял бесконечно длинную эклогу, которая все еще была далека от завершения.
Полковник перевел взгляд на лейтенанта — тот сидел как истукан, угрюмый, чрезмерно почтительный, и что-то аскетическое проглядывало в его розовом после бритья лице. В комнате имелся лишь сосновый стол, два жестких стула, аляповатая картинка религиозного содержания и по-солдатски заправленная койка. Сильно пахло дезинфицирующим средством зотал.
— Как вы устроились в этом уютном уголке? — спросил полковник. — Надеюсь, хорошо?
До чего же скучно выдерживать нужный тон: ни на минуту нельзя забывать, что ты — начальство. Полковник позволил себе еще раз посмотреть в окно.
— Идиллия, — произнес он. Близорукие глаза его от умиления увлажнились. — Как я вам завидую!
— Прошу прощения, сеньор? — Покорно, хотя и с явным отвращением лейтенант проследил за взглядом полковника.
— Я говорю о восхитительном виде, который открывается из вашего окна, — сказал полковник. Он изучал своего подчиненного: недалекий, ограниченный, плохо разбирающийся в людях, достаточно честный — это безусловно, — фанатичный даже. В полиции, где такие люди нужны, их слишком мало, а в целом для блага человечества, увы, слишком много. — Довольны вы тем, как идут у вас дела?
— Я никогда не осмелюсь сказать, сеньор, что я вполне доволен. Я подготовил рапорт о состоянии дел, может быть, вы пожелаете взглянуть? — Кальес поспешно выдвинул ящик стола и извлек из него папку.
— Не беспокойтесь, рапорт пока что оставим, — сказал полковник. — Изложите мне в общих чертах самое главное. Времени остается мало, а до отъезда мне бы хотелось взглянуть на деревню.
— Вообще-то все более или менее благополучно. Единственное серьезное дело связано с тайным складом контрабанды, обнаруженным еще в прошлом году.
— Я что-то припоминаю, — сказал полковник, с трудом заставляя себя сосредоточиться. — Может быть, вы мне напомните. — «Господи, — подумал он, — какие же все это пустяки по сравнению с вечностью!»
Монотонно, казенным языком лейтенант стал привычно докладывать:
— Шестнадцатого сентября, около четырех часов пополудни, одна молодая леди иностранного происхождения, заявившая, что она занята поисками редких морских животных, вошла в пещеру неподалеку от Кала-Бланки. В дальнем углу пещеры она обнаружила несколько ящиков, один из которых был вскрыт. Она поинтересовалась, что в нем, и нашла противозачаточные средства.
— В самом деле? — воскликнул полковник, стараясь подавить улыбку.
— К сожалению, я не видел полного списка всех обнаруженных предметов, сеньор. Кроме того, в ящиках оказалось свыше пяти миллионов сигарет и различные медикаменты.
— Это дает представление о национальном характере, — сказал полковник.
— Прошу прощения, сеньор?
— Я говорю, это точно указывает, в чем мы как народ нуждаемся больше всего.
Кальес снова уставился в пространство.
— В результате проведенного расследования четырнадцать человек предстало перед судом, все местные жители…
— Этим тут, вероятно, никогда не перестанут заниматься, — заметил полковник.
— …и каждый был приговорен к тюремному заключению сроком на один месяц.
— Я бы сказал, они легко отделались.
— Среди приговоренных был некий Эуладио Кастаньяс, который, выйдя из тюрьмы, публично похвалялся, что отдохнул на славу и, поскольку «компания» платила ему за каждый проведенный в тюрьме день четыреста песет, жаловаться ему не на что.
— Все это крайне прискорбно, — сказал полковник. — И я бы сказал — обескураживает. Возникает вопрос: откуда берутся у них такие средства?
Он достал пачку американских сигарет и хотел угостить лейтенанта, но вовремя спохватился и сунул пачку ооратно в карман.
— Но мы, сеньор, на этом не успокоились, — продолжал лейтенант. — Расследование велось несколько месяцев, и в результате накопилось много новых сведений, которые и легли в основу моего рапорта. Выяснилось, например, что человек, который выплачивал деньги попавшим в тюрьму контрабандистам — то есть, по существу, местный агент этой компании, — не кто иной, как наш новый мэр.
— Не может быть! — сказал полковник, пытаясь придать своему добродушному лицу подобающее случаю изумленно-суровое выражение.
— Мы обнаружили, что контрабандный груз прибыл из Танжера через Мальорку на пароходе «Эль-Казба» и что главой компании является…
Полковник поднял руку.
— Я знаю, что вы намерены сказать, и предпочитаю, чтобы вы этого не говорили. — Он внимательно посмотрел на Кальеса. — Я понимаю, лейтенант, вы шокированы, но должен напомнить вам, что основная ваша обязанность — предупреждать нарушения закона; что же касается расследований, то тут ваши права весьма ограничены.
Подобные речи полковнику приходилось произносить уже не раз, и, как всегда, проникаясь сознанием собственной значимости, он заговорил звучно и раскатисто:
— Остерегайтесь, лейтенант, проявлять чрезмерное рвение и не забывайте, что здесь, в Испании, мы воздвигаем храм правосудия постепенно и терпеливо, используя для его постройки все имеющиеся у нас материалы. Добротного материала у нас порой не хватает Знай мы слишком много, каждый из нас впал бы в отчаяние. Так будем же по мере сил делать то, что нам надлежит, и предоставим остальным — особенно тем, кто поставлен над нами, — исполнять их долг Вам понятен ход моих рассуждений?
— Вполне, сеньор.
— Прекрасно. Мы оба, лейтенант, винтики в весьма расшатанном механизме. Но это лучшее, что имеется сейчас у нас в стране, поэтому будем довольствоваться сознанием, что сами мы — хорошие, надежные винтики, и согласимся, что не стоит считать себя умней других и выбрасывать подряд все неисправные части.
Полковник вспомнил еще об одном неприятном деле, которым предстояло заняться.
— А что там с этим Вилановой? Насколько я могу судить, он всего-навсего один из старых махровых монархистов, не более.
— Он, сеньор, оказывает на окружающих самое вредное влияние. В частности, публичные высказывания Вилановы справедливо расцениваются как антиправительственные, но, поскольку он тут самый крупный землевладелец, я решил без ваших указаний никаких шагов не предпринимать.
Полковник взял из рук Кальеса бумагу.
— Да, род старинный. Наверняка имеет много друзей в верхах. Что же нам с ним делать?
— Это как вы решите, сеньор.
— Что ж! — Полковник обрадовался подвернувшемуся предлогу ближе познакомиться с прелестной деревушкой. — Для начала нанесем ему неофициальный визит. Быть может, он прислушается к добрым советам и тем самым избавит нас в дальнейшем от неприятностей. Есть что-нибудь еще на повестке?
— У меня, сеньор, все.
— В таком случае перейдем к вопросу более важному.
Полковник пошарил у себя в кармане, достал какой-то листок, развернул его и протянул лейтенанту. У Кальеса в руках оказалась листовка, плохо отпечатанная на тонкой желтой бумаге.
— Что вы на это скажете? — Полковник говорил бодрым, небрежным тоном филателиста, демонстрирующего не слишком ценную марку.
Кальес прочитал: «Он низверг власть имущих и возвысил сирых и убогих…»
— Тысяч пять таких листовок было роздано во время футбольного матча вскоре после забастовки трамвайщиков, — пояснил полковник.
— Распространение подпольной литературы подпадает под статью седьмую кодекса — призыв к подрывным действиям, — машинально отбарабанил Кальес. — Безусловно подлежит рассмотрению военным трибуналом. — Он снова посмотрел на листовку. — Подбор слов и их написание изобличают в сочинителе иностранца, да к тому же неграмотного.
— К сожалению, нет, — возразил полковник. — Определение «иностранец» вряд ли в данном случае подходит. Это слова богоматери, вырванные из библейского контекста.
Красивое серьезное лицо преуспевающего человека приняло шутливо-извиняющееся выражение — так с ласковым снисхождением смотрят на болтающего глупый вздор приятеля, у которого, по общему мнению, не все дома.
— Разумеется, ничего серьезного в этом нет, — продолжал полковник, — но начальство явно обеспокоено. Совершенно не понимаю почему.
Кальес был потрясен.
— Виновник этой милой шалости отбыл обратно во Францию, — сказал полковник. — Но по сведениям, полученным от наших агентов, он возвращается, причем именно сюда, в эту деревушку. Значит, в одну из ближайших темных ночей его высадят с лодки на берег.
— Думаю, что на этот раз, сеньор, он далеко не уйдет.
— Прекрасно. Мы очень рассчитываем на вас. Вы уже великолепно себя зарекомендовали.
— Благодарю вас, сеньор.
— Никак не могу понять, что движет этими людьми. Здесь, в Испании, мы сокрушили все, за что они боролись, они ничего не достигли, сумели организовать лишь одну-единственную жалкую забастовку. Из десяти человек, перешедших границу, девять уже через день-другой попадают к нам в руки. Они плохо организованы, у них нет ни денег, ни снаряжения, да и действуют они не слишком умно. И тем не менее прошло уже тринадцать лет, а они по-прежнему появляются. Я даже примерно не могу себе представить, к чему они стремятся. То есть я знаю, за какие они идеи борются, но почему? Что они в них находят? И ради этого идти на расстрел?!
Недоумение полковника было как никогда искренним. Он был убежден, что жизнь надо принимать такой, какова она есть. Для него жизнь всегда была хороша — и в юности, когда он начинал служить, и потом, когда стал продвигаться по служебной лестнице, и сейчас, когда он достиг известных высот; спокойная и размеренная, она была очень приятна. Вообще-то он был склонен думать, что во всей этой жизненной неразберихе победа, возможно, останется за великодушными, голодными, легкомысленными бедняками. Все это хорошо, но кем нужно быть, чтобы стремиться положить конец этой увлекательной лотерее, изгнать из жизни расточительство, интриги, бурные страсти, непредвиденность, таящую прелестные сюрпризы, заменив все этой бездушной сухой честностью, и добиться того, что в конечном итоге общество превратится в какой-то муравейник?.. Полковник полагал, что уничтожение этих одержимых вполне оправдано — ведь надо же ограждать здравомыслящих людей от заразы, которая им ничего, кроме горя, не принесет.
Лейтенант перечислял, какие меры безопасности будут приняты: периодическая проверка домовладельцев, слежка за иностранцами, посты на дорогах, ограничение передвижения, но полковник снова отвлекся, очарованный прелестью открывавшегося из окна вида — в излучине бухты ровный ряд домиков сверкал, словно мелкие белоснежные зубы. «Как это сказал Асорин, описывая Кадис? — припоминал полковник. — «Ободок серебряной чаши» — очень точно!» — До него дошли слова лейтенанта:
— Мы обещали приложить все усилия, чтобы ее любовника амнистировали. Она оказалась очень полезной.
— О чем это вы? — спросил полковник.
— Я говорю об этой осведомительнице, цыганке, — ответил Кальес. — Ее любовник оказался замешанным в поножовщине. Нам удалось поприжать ее. Она работает в театре и всегда все знает.
«Вот это и есть государство, — размышлял полковник. — В высших сферах пышные парады, дипломатические приемы в Эль-Пардо, море шампанского, опереточные мундиры и фейерверки, а держится все на грязных цыганках-осведомительницах и бездушных чурбанах вроде этого типа».
— А вы завели тут какие-нибудь знакомства? — спросил полковник. — Я имею в виду рыбаков.
Кальес покачал головой.
— Они настороже — никого к себе не подпускают. И в душе все до единого — красные, хотя никто ни за что в этом не признается, даже если будет в стельку пьян.
— Возможно, я сумею вам помочь, — сказал полковник и протянул лейтенанту листок. — Возьмите на заметку это имя. Может пригодиться. Человек этот имеет военные заслуги — сражался на нашей стороне. Быть может, он как раз то, что вам нужно.
Глава VII
Дон Федерико Виланова завтракал, как обычно, в половине одиннадцатого утра на небольшой, сложенной из кирпича площадке в углу обнесенного высокой оградой сада. Дом его, самый высокий в деревне, являл собой источенные временем остатки некогда хорошо укрепленного замка, в стенах которого род Виланова, неотвратимо приходя в упадок, прожил более двух столетий. Со своего места дон Федерико мог при желании обозревать пять заливов, три невысоких горных вершины и все, что находилось между ними; ему доставляло неизъяснимое наслаждение наблюдать, как бредет по руслу пересохшей реки вереница черных коз или как пляшет на крыше соседнего дома, прищелкивая наподобие кастаньет прищепками для белья, полоумная служанка. Лежавший под рукой бинокль помогал дону Федерико развлекаться.
В саду, полном хризантем и тощих кошек, появилась с кофейником в руках красивая женщина средних лет — его экономка Мария, — и Виланова, с беспокойством следивший за ней, протянул руку к биноклю. Опустив кофейник на стол, Мария остановилась около хозяина, осуждающе глядя на него сверху вниз, а он делал вид, что совершенно поглощен созерцанием облюбованного им кусочка вселенной. Внизу, невероятно приближенный биноклем, возился с черепахой рыбак: он перевернул ее на спину, осторожно, едва заметным поворотом ножа, отделил панцирь, и вода окрасилась кровью. На берегу снимала платье какая-то иностранка, но под ним оказался вполне приличный купальный костюм, что и отметил, с легким огорчением, дон Федерико. Рядом послышался не то кашель, не то ворчание, и, нехотя обернувшись, Виланова вернулся к действительности. Ну конечно, Мария, одетая, как всегда, в поношенное черное платье, с хмурым видом стояла рядом, и чуть заметные усики ее вздрагивали от возмущения.
— Так что вам сегодня приготовить?
— Как Коста, поймал что-нибудь?
— Боюсь, дорогой, что ждать, пока Коста что-нибудь поймает, придется очень долго.
Виланова вздохнул.
— Я ведь объяснял вам свою позицию. Только так могу я выказать сочувствие человеку, который в одиночку ведет борьбу с темными социальными предрассудками.
— Тогда на обед вам придется довольствоваться сочувствием.
— Нет, на обед я предпочитаю тушеные бобы, а сочувствие оставим на ужин. Мне полезнее легкий ужин.
— Ах так! Вам нельзя много есть, а я должна страдать?
— Приготовьте побольше бобов — чтобы хватило и на обед, и на ужин. Вы же не обидитесь, если я не составлю вам компанию, — продолжал Виланова. — Скажите Косте, чтобы в другой раз он оставил для нас рыбы. Я всегда за того, кто противостоит толпе. А во имя чего он это делает, меня не касается!
Он снова взялся за бинокль, но Мария и не думала уходить.
— Я хочу серьезно поговорить с вами.
Виланова сделал протестующий жест:
— Как-нибудь в другой раз. В другой раз.
— Нет, вы от меня так просто не отделаетесь. Эта женщина снова была у вас прошлой ночью, не так ли?
Дон Федерико притворился, будто наводит бинокль.
— Прогнивший мир, но как он бывает прекрасен! — пробормотал он.
— Я жду ответа.
— Я не намерен вам отвечать, — бросил Виланова. — Вы забываетесь.
— Меня нисколько не волнует, что вы строите из себя дурака, но, возможно, вам будет интересно узнать, что бронзовые настольные часы исчезли. Только и всего.
— Совершенно верно, — быстро сообразил дон Федерико, — я отдал их в починку.
— Ничего подобного. Часы у вас украли, но вы из гордости не желаете в этом признаться. Или вы воображаете, что такой девице нужно от старого петуха вроде вас что-то еще?
— Она, безусловно, права, — произнес дон Федерико, размышляя вслух, что с ним теперь нередко случалось. — Что ей еще может быть нужно? В мои годы игра уже не стоит свеч. Ничто уже не может заглушить горького привкуса, который оставляет любовь.
— Пречистая дева Мария! — донесся снизу чей-то голос, еле слышный из-за неумолчного жужжания пчел, облепивших садовую ограду. Дон Федерико посмотрел вниз и увидел нищего, страдавшего болезнью Паркинсона.
— Пожалуйста, уйдите, — сказал он экономке, — я не хочу шокировать нашего друга. Что ты сказал? — спросил он, перегнувшись через стену.
Нищий громко повторил свое приветствие.
— Вот так-то лучше. Терпеть не могу, когда бормочут себе под нос.
За удовольствие отчитывать нищего дон Федерико платил ему каждое утро песету. Он вынул из-под бутылки бумажку. Нищий протянул палку с расщепленным концом, и Виланова засунул туда песету.
— Господь вам воздаст, — сказал нищий так же громко.
— Да, да, разумеется.
Нищий ушел, взмахнув на прощанье палкой. Отношения между ними были превосходные, и дон Федерико считал нищего надежным источником информации, хотя и делал вид, что новости его вовсе не интересуют. Виланова позвонил в колокольчик, и из дома вышел дурачок Хуан, помогавший по хозяйству.
— Спусти гнездо, — приказал хозяин.
Хуан убрал металлический обруч, не дававший кошкам забираться на миндальное дерево, залез на него и спустил на землю гнездо с пятью птенцами. Виланова нежно посмотрел на них и, подцепляя зубочисткой хлебные крошки, бросил по одной в каждый желтый разинутый клювик.
— Верни их на место, — сказал он Хуану. — Ума не приложу, что мы станем делать с кошками, когда птенцы оперятся и начнут летать по саду.
Неприятный осадок после стычки с Марией улетучился, и Виланова был готов наслаждаться чудесным безмятежным днем. По утрам слышны были только лягушки и стрижи: лягушки весело квакали в бесчисленных водоемах, и казалось, что это покрикивает на своих мулов погонщик, а в небе пронзительно кричали стрижи. Дон Федерико поднял чашку, тонкий согнутый палец его цветом и хрупкостью напоминал старинный фарфор. Пролетавшая птица капнула на тыльную сторону руки, и Виланова осторожно снял белую каплю кончиком салфетки. Как хрустально-чисты радости уединенной жизни! Дон Федерико никогда не сожалел, что покинул свет: он продолжал наблюдать за ним насмешливым оком. Внезапно милый сердцу день оказался испорченным: проверяя резкость наводки бинокля, Виланова увидел три направлявшиеся к его дому фигуры. «Какая досада! — мелькнуло в голове. — Ну ничего, Мария может сказать, что меня нет дома». Тут он узнал в одном из мужчин своего друга, доктора Росаса, спастись от которого было невозможно. Мало того: доктора сопровождали двое в полицейских мундирах. Дон Федерико пришел в бешенство. Он органически не переваривал полицейских и был возмущен наглостью Росаса, осмелившегося привести этих типов к нему в дом.
— Мерзавцы! — громко самому себе сказал он. — В конце концов, почему я должен это терпеть? Вот увидите, как я их выставлю, за дверь.
На полпути решимость покинула доктора Росаса. Его охватило беспокойство. Кальес одним своим присутствием действовал ему на нервы. С ним надо было все время держаться начеку.
— Разумеется, не нужно забывать, что старик — невообразимый чудак. Я бы даже сказал — немного тронутый. Не уверен, добьемся ли мы от него толку.
— Очень любезно с вашей стороны, доктор, тратить на нас свое драгоценное время, — сказал полковник. — Но право же, было бы очень жаль упустить возможность познакомиться с самым крупным здешним землевладельцем. Так редко удается выбраться и побывать во вверенной тебе области.
Росас, уже жалевший, что предложил полковнику представить его своему другу, сказал:
— Боюсь, что Виланова произведет на вас весьма странное впечатление. Когда знаешь его давно — дело другое. Но будьте уверены, что в сущности это благороднейший человек.
— Я в этом не сомневаюсь, — сказал полковник.
— Может быть, вы имеете в виду, что ему не очень-то по душе теперешний режим? — сухо, по-казенному спросил лейтенант, и доктору подумалось, что таким вот тоном ведут перекрестный допрос.
— Боже праведный, разумеется, нет! Вот уж чего бы я никогда не сказал!
— Вероятно, он мало общается с людьми, — высказал предположение полковник. — И привык ни с кем не считаться.
— Вот именно, — подхватил Росас. — А попросту говоря, Виланова — старый грубиян. Но совсем безобидный. Хочу, чтобы вы это поняли. Жена у него умерла лет двадцать назад, сын же — человек весьма вспыльчивый. Теперь Виланова живет один. Ну, не совсем…
— Надеюсь, дон Федерико поймет, что наш визит — всего лишь дань вежливости, — заметил полковник.
— Он будет чрезвычайно польщен, — заметил Росас. — Хотя может выразить свои чувства несколько экстравагантно. С ним нелегко найти верный тон. Я-то научился с ним обращаться. Надо не выходить из себя и за все платить ему той же монетой. Такое обхождение он понимает.
— В общем, нам предстоит понаблюдать прелестный старинный характер, — сказал полковник. — Я уже предвкушаю нашу беседу…
«Хотелось бы мне то же самое сказать о себе, — подумал Росас. — . Знать бы заранее, я бы постарался, чтобы к нашему приходу его не оказалось дома».
— Да, между прочим, совсем забыл. Дайте ему только возможность — и он замучит вас рассказами о своих предках. Я подумал, что вас следует предупредить об этом.
Полковник и доктор рассмеялись, а Кальес недоуменно уставился на них.
— Ну что же, постараемся не касаться хоть этой темы, — заключил полковник.
Глава VIII
Они сидели в неудобных, похожих на троны креслах в громадной полупустой комнате, где массивная мебель была расставлена как попало, будто в ожидании, что ее сейчас продадут с молотка. На стенах темнели пятна сырости, а в нескольких местах, где отвалилась штукатурка, проступал кирпич. Застоявшийся воздух был словно набальзамирован тишиной, десятки лет томившейся в этих стенах.
Полковник наслаждался, изучая лицо дона Федерико — маску из темного полированного дерева, на которой годы скепсиса и сомнений оставили свои неизгладимые следы. Полковник еще раз попробовал польстить Виланове.
— Этот секретер так красив, что я просто не могу оторвать от него глаз. Подлинная вещь в стиле Людовика Четырнадцатого, не так ли?
— Нет, — отвечал Виланова. — Грубая подделка из Мадрида, но, поскольку это подарок Карла Третьего одному из моих предков, приходится терпеть, раз уж он тут.
— Мы могли бы целый месяц жить на деньги, вырученные от продажи этого старья, — заметила Мария.
Она только что вошла и, не обращая внимания на сдвинутые брови Вилановы, невозмутимо уселась на один из тронов. Полковник, решивший, что перед ним какая-то родственница Вилановы, удивился, почему ей его не представили.
Виланова повернулся к Марии.
— Не затруднит ли вас угостить моих гостей рюмкой ранчио?
Мария встала и вышла, бормоча что-то себе под нос. Росас наклонился к полковнику и шепнул:
— Это его подруга.
— Понимаю, — шепотом ответил полковник.
Хилый цыпленок, пошатываясь, забрел в комнату, упал, потом поднялся.
— Осторожно, маленький! — ласково обратился к нему Виланова. — Ничего не понимаю. Я делаю для них все, что могу. Наверное, это от жары. — Он скорее обращался к самому себе, чем к гостям.
— Вероятно, вы правы, — сказал полковник, чувствуя неловкость от того, что он горожанин. — Жара сильно изнуряет, хотя лично мне не кажется, что для этого времени года сейчас жарко.
— Не могу с вами согласиться, — возразил Виланова. — Все идет вверх тормашками, и климат тоже!
Вошла никем не замеченная Мария и уселась на прежнее место.
— Я еще помню времена, когда летом по неделе лил дождь, — сказала она. Затем задумалась, вспомнив детство и прохладные дни весны и осени, когда с прекрасного, сизого, как голубиное крыло, неба сеял мелкий дождичек.
— А ранчио? — спросил Виланова. — Где же ранчио?
— Все кончилось.
— Тогда принесите что-нибудь еще, черт бы их побрал! — вполголоса сказал Виланова, но так, чтобы его все услышали. — Принесите белого вина, только проверьте, чтоб на сей раз в бочке не плавала мышь.
Экономка стремительно вышла из комнаты, но почти тут же вернулась, и в руке у полковника оказался красивый бокал, наполненный на треть мутноватым вином, которое он с опаской пригубил.
Росас решил втянуть в разговор Кальеса.
— Ну, а как вам, лейтенант, нравится Торре-дель-Мар?
— Мои личные вкусы к делу не относятся, — ответил Кальес тоном школьного наставника.
Полковник мысленно ахнул, а Виланова с интересом посмотрел на лейтенанта.
— Но вам, конечно, как бы это выразиться… — не сдавался Росас, — в общем-то вам это место нравится?
— Нет, — сказал Кальес, — не нравится. Но я повторяю, наши личные чувства не имеют к службе никакого отношения.
— По всей вероятности, вам не нравится климат? — неуверенно предположил Росас.
— Нет, люди, — сказал Кальес, упорно избегая устремленного на него взгляда полковника.
, — Слава богу, нашелся хоть один честный человек! — воскликнул Виланова.
— Ну что вы, право, лейтенант, — заговорил полковник. — Везде есть люди хорошие и плохие.
— В бога они не верят, сеньор. Вся беда в этом, — пояснил Кальес. — Нигде на всем Пиренейском полуострове не встречал я такого нежелания вернуться в лоно церкви.
— Чушь! — отрезал Виланова.
— Что вы сказали? — Кальес не был уверен, что замечание Вилановы адресовалось присутствующим.
— Я сказал: «Чушь!»
Кальес вспыхнул.
— По-видимому, вы не читали большую статью Фонта в «Вангардии» за прошлый вторник. Вы нашли бы в ней много интересного.
— В последний раз я просматривал газеты лет десять назад. Нищий, который приходит сюда каждый день, сообщает мне все сколько-нибудь важные новости.
— Автор статьи описывает несколько примечательных случаев. Вы, конечно, слышали, что месяц назад крестьяне нашли под одним водопадом святые мощи?
Росас, наконец-то придумавший, как переменить тему, попытался вставить словечко, но тут в разговор решительно вступил дон Федерико.
— А какое отношение, вы полагаете, имеет данное событие к делу? — небрежно спросил он.
— Я считаю его знамением времени, — сказал лейтенант.
Из стоявшего на окне маленького приемника доносились приглушенные звуки сумбурных мелодий — находясь в саду, дон Федерико никогда не выключал радио, и не потому, что любил слушать музыку, а потому, что она раззадоривала невидимого в разросшихся кустах соловья. В отчаянии доктор Росас дотянулся до приемника и усилил звук. Сквозь треск электрических разрядов он расслышал слова дона Федерико:
— В общем я с вами согласен. И где же произошло это удивительное событие?
— Неподалеку от места, где я родился. В окрестностях Памплоны.
Росас покрутил регулятор шкалы, послышались щелканье, свист, и соловей в саду отозвался короткой трелью.
— Подобное надувательство мы устроили в Каталонии еще несколько столетий тому назад.
Воцарилось неловкое молчание.
— Я говорю, что подобное надувательство мы устроили в Каталонии еще несколько столетий тому назад.
— Мы вас слышали, — отозвалась из дальнего угла комнаты Мария.
— Что ж, тем лучше, я не был уверен, что говорил достаточно громко.
— Наш друг принадлежит к старинному роду, у которого всегда были разногласия с церковью, — мягко заметил Росас. Не было никакой надежды исправить положение, так пусть уж старик садится на своего любимого конька. Всем приезжавшим в Торре-дель-Мар рано или поздно приходилось выслушивать рассказы Вилановы.
— Наши пути давно разошлись, — пояснил дон Федерико. — Севильская инквизиция истребила половину нашей семьи, оспаривая формулировку одного из догматов веры. Мы с тех пор не принимаем этих вещей всерьез. — Росас хотел подмигнуть полковнику, но тот смотрел в сторону.
— Здесь вы имеете дело с рыбаками, — сказал Виланова, — и я вам скажу, чего можно от них ждать. Люди они богобоязненные, но вы, пожалуй, были правы, назвав их неверующими — если вы имеете в виду их нежелание целовать ноги идолам. Когда после окончания гражданской войны церковники стали настаивать, чтобы рыбаки снова посещали богослужения, церковь окончательно утратила среди них влияние. Им не за что любить правительство, политические партии и… полицию.
«Только послушать этого старого дурака, — подумал Росас. — Сам себе яму роет».
— Весьма любопытно, — мягко заметил полковник. — Могу ли я заключить, что и вы придерживаетесь сходного мнения?
— Можете, — согласился дон Федерико.
Полковник посмотрел на него почти с нежностью.
Какой все же великолепный экземпляр этот махровый анархист, ну прямо доживший до наших дней мамонт! Хорошо бы устроить резервацию для подобных музейных редкостей и держать их там в целости и сохранности. Роковая ошибка, что он взял с собою этого болвана лейтенанта. У этого дурака еще хватит наглости направить рапорт через мою голову. Ну да теперь уж ничего не поделаешь, разве что попытаться смягчить удар.
Полковник встал и протянул Виланове руку.
— Было чрезвычайно интересно познакомиться с вами. Поверьте, я завидую вам — такой прелестный вид открывается из вашего окна.
— По крайней мере запах гнили долетает ко мне через него только из помойки соседей, — сказал Виланова. — А это еще не так плохо.
Продолжая улыбаться, полковник вполголоса процитировал строчку из «Оды одиночеству» Луиса де Леона. Затем кивнул замершему, как на параде, Кальесу. Росас проводил их до дверей и извинился, что не сможет сопровождать их обратно в деревню.
— Мне кажется, старик хочет посоветоваться со мной относительно своего здоровья.
— Разумеется, разумеется, — сказал полковник, и Росас с удивлением почувствовал, что от его любезных слов повеяло холодком.
Когда Росас вернулся в комнату, дон Федерико, не взглянув на него, встал и подошел к горке, где хранились остатки коллекции севрского фарфора. Выбрав прелестное блюдце, он поставил его на маленький столик. Снял пиджак, повесил его на спинку стула, налил из кувшина полтаза воды, вынул вставную челюсть и осторожно положил ее на блюдце. Росас, усевшись на один из резных тронов, с усмешкой наблюдал за ним.
Дон Федерико, ожесточенно растиравший подбородок, резко повернулся к доктору.
— Намеков вы, как видно, не понимаете!
— Неужели вы хотите избавиться от меня?
— А разве вам не ясно?
— Не понимаю почему — ведь нам давно не представлялось возможности поболтать.
Виланова вставил челюсть на место.
— У вас совершенно нет чувства приличия. Раз уж вы вломились ко мне в дом с этими двумя чудовищами, имели бы по крайней мере совесть убраться вместе с ними.
— Не будьте идиотом, — сказал Росас. — Я действовал вам на благо. Если б я не пришел последить за вами, вы бы показали себя в сто раз большим ослом. Видит бог, вы и так уже крепко влипли…
— Вас удивляет, что я желаю открыто выражать свое мнение в собственном доме?
— При существующем положении — весьма удивляет.
— Потому что вы — закоренелый лицемер.
— Я бы сказал, скорее лицедей. Вы еще пожалеете, что не следовали моему примеру. Ну да ладно, поговорим о другом. Вот снадобье, которое я обещал вам достать.
Дон Федерико нехотя взял пакетик и повертел в руках.
— Что это?
— Лекарство от кашля.
Виланова надорвал целлофановый пакетик и извлек из него пузырек. Отвинтил пробку и вытряхнул на ладонь темную таблетку.
— Могу я узнать, что входит в это снадобье?
— Витамины и кое-что еще, — пояснил Росас. — Я хочу испробовать новое средство, хотя уверен, что вы предпочли бы старозаветную бутыль с мерзкой на вкус жидкостью.
Дон Федерико осторожно водворил на прежнее место темную таблетку, патом, изящно прихватив двумя пальцами пакетик, протянул его Росасу.
— Извините, но это меня нимало не интересует. Я не верю ни в какую магию.
— Да послушайте же… — начал Росас.
— Я знаю одного коновала, который разъезжает по ярмаркам и торгует таким же зельем. Лечит все: от задержки месячных до облысения. Хм, витамины. Интересно, что они еще придумают, чтобы надувать людей?
— По-моему, вы были бы не прочь, если б я сделал вам кровопускание, — сказал Росас.
Ему стало весело. Наконец-то он постиг, как надо обращаться с Вилановой.
— Конечно, будь я уверен, что вы имеете хоть малейшее представление о том, как пускают кровь. Отец ваш был в этом деле большой мастер. Никто не умел так хорошо делать надрезы.
— Так это вы о моем деде. А отец всегда рекомендовал клизмы и лимонад.
— Во всяком случае, оба они были врачами получше вас. Мне говорили, что вы заселяете новое кладбище быстрее, чем они — старое, и что вас называют доктором-обольстителем…
Улыбка застыла на лице Росаса.
— А я слыхал, что вы изменяете своей экономке с девкой из театра.
Виланова с беспокойством посмотрел по сторонам и снова ринулся в бой, радуясь, что ему удалось пробить брешь в обороне противника:
— Послушайте, Росас, ну а если обойтись без обычного хпарлатанства, вы на самом деле верите, что витаминными таблетками можно излечить мой кашель?
— Нет, — отвечал Росас.
— Я так и знал. Почему же вы хотите, чтобы я в них поверил?
— Нет на свете лекарства, которое могло бы излечить ваш кашель.
— Что ж, я предпочитаю знать это, чем позволять морочить себе голову, как какому-то кретину.
— Ничто не может излечить ваш кашель, — сказал Росас, продолжая сухо улыбаться, — потому что у вас нет никакого кашля. С точки зрения медицины его нет. Это просто психологическая уловка, чтобы обратить на себя внимание. Это не болезненный кашель. Вы им не страдаете..
— Значит, я хочу обращать на себя внимание, даже когда нахожусь в одиночестве?
Удачный выпад вернул Виланове хорошее настроение. Голос его зазвучал более снисходительно.
— Даже когда вы находитесь в одиночестве. Психологическая уловка, но никак не настоящий кашель. Вы состарились, друг мой, а иные из нас, постарев, готовы на любые проделки, лишь бы как-то привлечь к себе внимание.
Виланова открыл рот, но так ничего и не сказал. Он почему-то не мог придумать достойного ответа, и в то же время весь его внутренний мир предстал перед ним, словно высвеченный безжалостным, слепящим светом. На какой-то миг взглянув на себя со стороны, он увидел жалкого незнакомца и смиренно, без возражений признал себя в этой нелепой фигуре. От огорчения он едва не лишился чувств. Блеск и великолепие его юности, безумства и бравада, сверкающая вереница глупых, но милых сердцу воспоминаний: дикарка-цыганка в парижском туалете, которую он с вызывающим видом провел однажды под руку через салон герцогини де ла Калатрава; гондола на Мансанаресе; случай на арене для боя быков в Уэльве, который стоил ему тысячу песет штрафа и три недели, проведенные в госпитале, — хвастовство, бьющие на эффект выходки, воспоминания о которых давно померкли, оставив лишь один отголосок — сухой старческий кашель.
Где-то на горе в лесу вдруг расхохотался дятел, и грустные нелепые звуки проникли через открытое окно в комнату.
— Вы совершенно здоровы, — сказал доктор. — Болезни существуют лишь в вашем воображении. Если говорить начистоту, вы кашляете потому, что вас гнетет сознание собственной никчемности. Жизнь подходит к концу, и в душе вы понимаете, что растратили ее попусту.
— Да, — сказал Виланова, вдруг сникший в своем кресле. — Это правда.
— Господи! Вы думаете, мне никогда не приходилось лечить malades imaginaires[4], вроде вас? — воскликнул Росас. — Вы не в ладах с эпохой, но делать ничего не делаете, а лишь задираетесь и хвастаете. Только и всего! И поскольку вымещать вам свои горести больше не на ком, вы отыгрываетесь на мне, придумывая себе всяческие недомогания.
Он ожидал контратаки, но ее не последовало. Виланова, сидя в кресле, молча кивал головой.
«Прямое попадание, — сказал себе Росас. — Еще один залп — и он готов». Но, отведя душу, он устыдился своей победы.
— Я ухожу, — сказал он, встал и, внезапно почувствовав раскаяние, похлопал Виланову по плечу. — Простите, старина. Язык мой — враг мой. Встретимся как-нибудь в «Двадцатом веке», ладно?
Виланова не ответил.
Глава IX
Машина ожидала полковника при въезде в деревню, где он и расстался с Кальесом; полковник нехотя поехал обратно в город к ожидавшим его скучным делам, а Кальес отправился в ежедневный, ненавистный ему обход рыбацкого поселка.
Прежде всего Кальеса разозлила попавшаяся на глаза свежевыкрашенная лодка, которая теперь называлась «Разум». Под свежим слоем желтой краски можно было разобрать старое название — «Чудеса». Кальес подозвал какого-то мальчишку.
— Чья это лодка?
— Франсиско.
— А как его фамилия?
— Не знаю, просто Франсиско.
Кальес мысленно занес это имя в свой черный список. Чудеса и Разум! Случай весьма характерный для средиземноморских рыбаков — людей грубых и самоуверенных, которые так погрязли в греховных мирских делах, что о духовной чистоте и думать забыли. Он прочел названия еще нескольких лодок: «Венера», «Счастливчик», «Любимая». Лодки были в беспорядке раскиданы по всему берегу, и от них мерзко воняло тавотом, которым смазывали мотор; за лодками расстилалось равнодушное море.
Лейтенант ненавидел море, его безмятежную скуку и коварство, ненавидел и притворную вежливость людей, кормившихся морем, этих безбожников, которые прятали под ничего не значащей улыбкой свои тайные мысли и беспечно расточали богатства океана. Но еще сильнее ненавидел он самоуверенную черствость жителей деревни — церковь прозябала здесь в небрежении, здесь не было ни молчаливой, благопристойной, предопределенной свыше бедности, ни почитаемого богатства, как в его родной Наварре, где бедные и богатые являлись одинаково ценными и необходимыми аспектами божественного порядка, неразрывно связанными с родной землей и с церковью. Тут же богачи, отгородившиеся от всех в своих уродливых домах, были никому не нужны, присутствие их было просто бессмысленно. К тому же почти все они — преступники, которым удалось замести следы.
«Здесь покупают и продают людей, — размышлял лейтенант. — Они купили моего предшественника и уничтожили его, а скоро попытаются купить и меня. Продажность идет тут рука об руку с богатством. Кто здесь процветает? Только продажные люди — это ни для кого не секрет. А на какие деньги построены все эти аляповатые особняки, так обезобразившие окрестности? На взятки да на доходы от махинаций с продовольствием, в то время как половина испанцев умирала с голоду. Кругом продажность! В этом старый монархист, конечно, прав». Владельцы всех этих домов, воздвигнутых на крови простых людей, были приятнейшими в мире людьми, Кальес был со всеми знаком. Продажность оборачивалась гостеприимством, чувством юмора, преданностью семье, подарками на крестины детям бедняков и скромной благотворительностью на виду у всех. Корень зла был в продажности! Из-за нее оказывалось скомпрометированным правосудие, замарана религия, из-за нее враждовали классы и двадцать миллионов испанцев таили в сердце незаживающую рану.
Лейтенант Кальес вступил на главную, очень узкую улицу селения, где находился рыбный рынок, и в нос ему ударило запахом рыбы, которым провоняла вся деревня; лейтенант, почувствовав тошноту, зажал нос и стал дышать ртом.
На улице располагалось три бара, одни рыбаки входили в них, другие выходили. Несколько недель назад Кальес установил на этой улице одностороннее движение. В дальнем, узком, как ущелье, конце ее лейтенант увидел спину своего сержанта, тоже направлявшегося в полицейский участок.
Большой американский автомобиль последней марки, который, Кальес знал, был по карману только крупному спекулянту, свернул на улицу и поехал в запрещенном направлении. Машина обогнала сержанта и, осторожно сигналя, приближалась к лейтенанту. Шофер вел машину очень медленно. Возле рынка еще пришлось притормозить, пока сдвигали в сторону ларек, освобождая дорогу Торговки рыбой вели себя очень вежливо, они смеялись и махали тем, кто сидел в машине. Когда машина подъехала к Кальесу, он преградил ей путь.
— Вам известно, что на этой улице движение одностороннее?
За рулем сидел шофер в зеленой ливрее, на заднем сиденье — хорошенькая светловолосая особа, без сомнения шикарная кокотка из Барселоны. Женщина, голову которой украшала смешная черная шляпка, улыбнулась лейтенанту. Шофер сделал удивленное лицо.
— Извините, сеньор, в другой раз не ошибусь.
— Задний ход, — приказал Кальес.
Шофер обернулся к женщине, которая продолжала улыбаться.
— Трудновато, начальник. Едешь прямо впритык к домам.
— Задний ход, — повторил Кальес.
— До самого конца?
— До самого конца, — сказал Кальес.
Красотка всплеснула руками и закатила глаза. Ее Кальес не знал, но он знал машину. Она принадлежала веселому разбитному плуту, которого все попросту называли Альфонсо. Лейтенант смотрел, как автомобиль с трудом пятился по улочке, шины взвизгивали, задевая край тротуара. Понадобилось десять минут, чтобы проехать сто метров, и Кальес неотступно шел за машиной следом.
Затем лейтенант сразу же направился в полицейский участок и вызвал к себе в кабинет сержанта.
Сержант явился и стал навытяжку перед сидевшим за столом начальником. Сержант был человек средних лет, с рыхлым невыразительным лицом и близорукими глазами; на шее у него грязным пластырем был залеплен нарыв.
—: Вольно, — сказал Кальес. — Я вызвал тебя, чтобы с твоей помощью кое-что вспомнить. Что произошло на той неделе, когда тележка угольщика въехала на улицу с односторонним движением не с того конца?
— Простите за выражение, сеньор, мы ему пересчитали ребра!
— Вот как!
— Он не мог заплатить штраф, — сказал сержант, облизывая губы; ему не нравилось выражение глаз Кальеса.
— Почему же сейчас ты дал проехать этому автомобилю?
— Я не успел задержать его, сеньор, он уже пол-улицы проехал.
— Ты должен был заставить его вернуться, — сказал Кальес. — Впредь так и делай. Шофера же этой машины, если он еще раз нарушит правила, ты арестуешь!
— Слушаюсь, сеньор.
— Постой! Я еще хочу поговорить с тобой насчет портовых правил. Сегодня я видел на одном из баркасов постороннего человека. Разве приказ о том, что на баркасах могут находиться лишь зарегистрированные члены экипажа, отменен?
— Официально нет, сеньор.
— Так вот, отныне все постановления, пока их официально не отменят, будут выполняться. Я наведу среди этой публики порядок.
Сержант про себя вздохнул.
— Приезжающих на лето это тоже касается, сеньор?
— Это касается всех.
Махнув рукой, Кальес разрешил сержанту идти, но тут же вернул его.
— Что это? — Он только сейчас заметил у себя на столе большой нескладный сверток в оберточной бумаге. Кальес надорвал с одного конца бумагу, и оба увидели бурый мех какого-то зверя.
— Это заяц, сеньор. Наверное, подарок Мартинеса с пробковой фабрики.
— Забери его отсюда и закопай, — приказал Кальес.
Глава X
Молина приехал на следующий день автобусом, прибывающим в два тридцать. От Перпиньяна до Хероны он ехал поездом в вагоне второго класса и в Хероне на час задержался — надо было купить кое-какие детали, чтобы переделать портативный приемник в передатчик. На Молине был французский костюм, в кармане у него лежал французский паспорт, и по-испански он говорил с французским акцентом, слегка картавя. И не удивительно — ведь он жил во Франции с тех самых пор, как восемнадцати лет попал туда вместе с лавиной отчаявшихся, голодных, перепуганных насмерть беженцев, хлынувших через восточные отроги Пиренеев. И вот теперь, когда Молина стал почти французом, жизнь преждевременно превратила его в пожилого человека, злорадно коснувшись волшебной палочкой, и он как-то вдруг сразу высох и посмуглел — ни дать ни взять погонщик мулов, какого можно повстречать в любой испанской деревушке. Испанец с головы до ног!
В багаже Молины, как всегда во время его частых поездок на родину, среди всего прочего имелся складной мольберт, ящик для красок с двойным дном и пузырек с двумя таблетками цианистого калия. Его все еще мутило после нескольких рюмок перно — таможенная волокита в Порт-Бу тянулась по обыкновению так мучительно долго, что Молина почувствовал необходимость выпить.
В гостинице «Мирамар» он узнал, что все четырнадцать номеров заняты, однако швейцар любезно предложил ему помочь устроиться в деревне, и в третьем из домов, куда они зашли, Молина нашел то, что ему было нужно. Скудно обставленная, чисто побеленная, похожая на тюремную камеру комнатка находилась под самой крышей, и, чтобы попасть в нее, надо было подняться по приставной лестнице в конце коридора; из комнаты был выход на плоскую крышу, откуда открывался великолепный вид, который, впрочем, ничуть не заинтересовал Молину.
Едва старуха вышла из комнаты и стала с трудом спускаться по скрипучим ступеням, Молина бросился на кровать и закрыл глаза, стараясь успокоить совсем сдававшие нервы. Потухший вулкан — вот кто он такой, человек, до времени состарившийся, теперь у него не осталось в этом сомнений. Молина принадлежал к тем людям, которые рождаются для того, чтобы целиком посвятить себя делу, все равно какому, лишь бы целиком расходовать на него свой бивший через край энтузиазм. А теперь внутренний родник вдруг иссяк. Редкая способность видеть все в резком, контрастном освещении притупилась. Когда-то все было четко и определенно: черное и белое, добро и зло, герои и скоты; теперь же откуда-то выплыли предательские полутени и заволокли мир. Имелось лишь одно средство против этого недуга, который, по твердому убеждению Молины, был не чем иным, как распадом тканей, прикрывающимся утешительными доводами рассудка. Надо было как можно крепче взять себя в руки и во что бы то ни стало обрести пошатнувшуюся решимость. Надо было заставлять себя верить, иначе можно было прийти к страшному выводу и признать, что жизнь загублена, что все усилия и жертвы были напрасны. Но в глубине души Молина сознавал, что где-то в нем самом действует исподволь пятая колонна, и она-то и была причиной того, что все удавалось ему далеко не так хорошо, как в те дни, когда он был полон энтузиазма и веры в правоту своего дела. Он уже почти ни на что не годился. Это задание он, конечно, выполнит. Но хотя бы ради остальных товарищей оно должно стать последним — в этом он был убежден.
Из всего их отряда революционеров уцелел один Молина, усталый тридцатидвухлетний ветеран. По ночам его неотвязно мучил один и тот же кошмар — их последнее задание. Сначала все шло гладко — слишком гладко, но, когда они возвращались и, далеко оставив за собой Бесалу, находились уже у самого перевала, радостно возбужденные и уверенные, что им больше ничто не грозит, внезапно вспыхнули прожекторы и в долине стало светло как днем. До самой смерти не забыть ему криков сраженных пулями товарищей и страшного лая спущенных на них сторожевых собак. И конечно, теперь — как всегда, слишком поздно — все поняли, что о переходе через границу не может быть и речи и что отныне оружие, снаряжение и прокламации придется переправлять морем. И потому Молину, о душевном надломе которого никто не догадывался, послали разведать, как охраняется побережье, и постараться найти подходящее место для высадки небольшого отряда.
В дверь негромко постучали, и хозяйка осведомилась, не хочет ли он поесть. Молина нелюбезно попросил оставить его в покое. Но тут же спохватился и окликнул старуху:
— Хотел спросить у вас, сеньора, нет ли у кого-нибудь из ваших знакомых лодки? Мне бы хотелось завтра половить рыбу.
— Вам повезло, что вы поселились у нас, — ответила она. — Мой сын все для вас устроит. В любое время. Сегодня вечером он вернется, и вы сможете сами с ним обо всем договориться.
На следующий день Коста взял Молину с собой в море. Он извинился, что они не смогли выехать рано поутру.
— У меня было назначено свидание с одной рыбой, но она так и не явилась.
Коста рассказал Молине про большую меру и о том, как он сегодня еще до рассвета отправился на лодке бог знает в какую даль, но все оказалось напрасно.
— В нашем деле надо много терпения. Поймаю ее завтра, или послезавтра, или еще днем позже. Куда мне торопиться…
Молина кивал, думая о своем.
— В это время ничего стоящего не поймаешь, — говорил Коста. — Утром рыба ловится лучше.
— Ничего, в другой раз поедем утром.
— А какую рыбу вам бы хотелось поймать? — спросил Коста.
— Да не знаю. Все равно.
— Чтобы поймать что-нибудь стоящее, надо удить где поглубже. Знаю я один риф мили за две от берега, там бы можно попытать счастья на леща, да и то сейчас уже поздновато.
— Давайте держаться у берега, — сказал Молина. — Неужели в этих бухточках ничего нельзя выловить? — С кормы ему было видно миль десять сильно изрезанного побережья; ближайший мыс был сочного темно-красного цвета, другие по мере удаления казались все более блеклыми, а туманные очертания последнего совсем сливались с неровной линией горизонта.
— Среди камней на удочку ловится только серана, — сказал Коста, — мелочь с ваш мизинец. На уху их надо штук двадцать-тридцать.
— Мне бы хотелось поближе увидеть берег, — сказал Молина. — К рифу отправимся в другой раз.
— Ну что ж, лодку наняли вы. Серана тоже рыба неплохая, если наловить ее побольше. А уж за стоящей рыбой надо плыть в места, где поглубже.
— Хватит с нас и сераны, — отозвался Молина. — Давайте попробуем около тех вон пещер.
Коста шевельнул веслом, и лодка повернула к берегу. Метров сто они плыли молча. В слепящем свете полудня лицо Косты было багровым, сверкающие капельки пота, выступая у корней волос, сбегали по блестящей коже лба. Молина пристально всматривался в нагромождение скал за спиной Косты.
— Можно начать и тут, — сказал Коста. — Место не хуже других.
Он бросил весла, перешел на корму и стал доставать из-под скамейки снасти. Нашел намотанную на толстый кусок пробки лесу, с распоркой и тремя крючками. Из-под дощатого настила на дне лодки высунулось щупальце небольшого мертвого осьминога. Коста нагнулся и отрезал его складным ножом.
Молина продолжал изучать берег.
— Давайте научу вас, как насаживать наживку, — предложил Коста.
Молина заставил себя проявить интерес к этой процедуре.
— Многие рыбы, к примеру, даже не посмотрят на крючок, если его трогали руками. Но сераны — дело другое. Они страшно прожорливы. С лесой теперь поосторожнее, — продолжал Коста, — не то упустите наживку. Вот так… Вы только посмотрите, сколько там рыбы! Просто кишит! Вон как они тыкаются носами в крючки.
«Хоть есть с кем поговорить», — думал Коста. Совсем другое дело. Ему хотелось, чтобы Молина каждый день отправлялся на рыбную ловлю.
Молина вглядывался в глубину, но видел лишь кусок колыхавшейся лесы да слегка покачивающиеся под водной толщей скалы, желтоватые в рассеянных лучах солнца, заключенные в зеленую оправу моря. А потом эту призрачную картину другого мира заслонили наплывшие отражения утеса, облаков и неба.
— Что толку тратить деньги на всякие новомодные приспособления? Надобно знать, что у рыбы в голове. Как почувствуете — клюнуло, сразу подсекайте… Давайте-ка я вам покажу как…
Коста нагнулся и осторожно взял лесу двумя пальцами. С минуту Молина смотрел на рыбака — обожженное солнцем печальное лицо, руки, покрытые веснушками и светлыми, жесткими, как волокна кокосового ореха, волосами. Что бы такое сказать ему?
— Хватайте их! — сказал Коста. — Вот как мы это проделываем.
Леса взметнулась, роняя капли воды, и на крючках запрыгали, распуская и складывая прозрачные плавники, две крошечные блестящие рыбки.
Коста отрезал от щупальца осьминога еще три кусочка, наживил крючок и снова забросил леску. Молина рассеянно взял леску и уселся поудобнее, прислонившись к планширу. Лодку сносило течением, она медленно повернулась, и теперь солнце припекало Молине щеку и правую руку, обтянутую сухой бледной кожей. Сидя так, боком к солнцу, Молина мог разглядывать берег, но теперь это почему-то не казалось ему важным — покачивание лодки завораживало его.
Скалы были здесь цвета львиной шкуры, но выступы, где обычно сидели птицы, побелели от помета. Молина слышал, как тихонько покашливала вода, плескаясь в далеких гротах. Слегка кружилась голова, и он чувствовал удивление, подобное тому, какое испытывает лежащий на операционном столе пациент, когда его медленно и неотвратимо подчиняет своей власти наркоз. Молина, который был всегда настолько одержим своим делом, что почти не замечал ничего вокруг, ощутил на мгновение в душе своей умиротворение и покой. На какой-то миг внешний мир надвинулся на него, воплотившись в тысяче вновь оживших ощущений, а созданный им самим внутренний мир стал зыбким и утратил всякое значение. Сейчас ему хотелось только одного — поменяться местами с этим вот рыбаком. Жить не рассуждая, примитивной животной жизнью, чтобы маленькие удачи уравновешивали всегдашнее невезенье, чтобы самым главным было одно — удовлетворять насущные потребности плоти.
По воде к ним долетели взволнованные голоса и нарушили ход его мыслей. Молина устремил взгляд вдаль. Там, в открытом море, примерно в миле от них, спокойное море вдруг закипело вокруг одного из рифов, так что он исчез сразу из виду, а потом волны лениво вытолкнули его вперед, словно кончик черного языка. Риф окружали со всех сторон крошечные лодочки, в каждой было по два рыбака. Молина видел, как жестикулируют, стоя в лодке, черные человечки. Казалось, они ведут отчаянный бой с невидимым врагом.
— Косяк тунцов, — пояснил Коста. — Наконец-то они его догнали. Никогда не знаешь, где и когда он объявится в следующий раз. Если удается идти за косяком день-другой, можно хорошо заработать. На пол-лета хватит.
Молина уловил в словах рыбака нотки зависти.
— Так почему же вы сами их не ловите?
— Я рыбачу один, а тунца берут вдвоем. Один управляется с лодкой, а другой ловит. Наживка-то живая — приходится все время менять воду, а тут еще и лесу надо наматывать — дел хватает.
— Понятно, — отозвался Молина.
Суматоха на море все усиливалась — большие рыбы, попав на крючок, начинали описывать круги и тащили за собой лодки, лески перепутывались, рыбаки падали в воду. Нейлоновая леса впивалась в кровоточащие ладони, заставляла вскрикивать от боли.
— Кое-кому из этих парней не грех бы поучиться рыбачить, — заметил Коста, но общее волнение передалось и ему. — Знаете, это ведь не так просто. Леса раскручивается со скоростью сто километров в час. Удерживать ее нельзя. Даешь ей раскручиваться. Свистит, как хлыст. И уж тут не зевай. Одному парню так вот начисто и отхватило палец.
Отдаленные крики стихли.
— Прошел косяк, — сказал Коста. Он обрадовался, что другим счастье улыбалось недолго. — Тащите-ка свою леску, — сказал он, — что-то попалось.
Он снял с крючков еще две сераны и бросил их на дно лодки. Другие ловили тунцов, а он, как мальчишка, выуживал серану. Коста страдал от унижения.
— Попытаем счастья в другой бухте, — сказал Молина.
Чтобы добраться до нового места, им пришлось обогнуть невысокий, цвета ржавчины, мыс, похожий на морское чудовище с обиженным ртом. Редкие сосны впивались обнаженными корнями в расщелины мыса, а на самой вершине его сидела, с трудом удерживая равновесие, одинокая чайка с большим желтым клювом. Молина вдыхал запах прогретой солнцем, скопившейся в трещинах хвои, аромат цистуса и фриголы, долетавший из-за скалы, где лежал кусочек суши, красивый и бесплодный. Обогнув мыс, лодка взрезала плотную гладь лагуны; весла с трудом рассекали воду — фиолетовую в местах, где росли водоросли, светло-зеленую, где дно было песчаным. Каскад растительности, сбегавшей по откосу узкого ущелья, здесь обрывался и лежал, засыхая, на пляже — морская соль, пропитав песок, разъела цепкие корни. На песке белело несколько обточенных водой досок.
— Что-то на берегу нигде не видно палаток с напитками, — заметил Молина.
— Старик, которому принадлежит берег, не разрешает их строить, — пояснил Коста. — Запретить людям устраивать тут пикники он не может, ну а палатки сооружать запрещает.
— Отсюда можно выйти на дорогу?
— Есть тут тропка, правда сильно заросшая. Раньше, пока еще не сговорились с полицией, здесь выгружали свой товар контрабандисты. Теперь они выгружаются в гавани средь бела дня. По крайней мере так было, пока кто-то их не продал и лейтенант не угодил за решетку на пять лет.
— Мне хочется размяться, — сказал Молина. — Высадите меня тут, я вернусь в деревню пешком, а сейчас еще, может, искупаюсь.
— Про подводные течения не забывайте, — предупредил Коста.
* * *
Когда косяк тунцов прошел, рыбаки устремились вслед за ним, неслышно работая веслами, переговариваясь вполголоса и непрестанно принюхиваясь. Рыбаки считали, что у рыб сильно развиты все чувства, в особенности обоняние и слух. Верили они и в то, что многие из рыбаков могут учуять проходящий на большой глубине косяк. Наиболее удачливым в этом считался Селестино, который и теперь возглавлял расположившуюся полукругом флотилию лодок. Ему помогал его сын Хуан; он должен был следить, чтобы в лодку непрерывно поступала свежая вода, потому что служившие наживкой пескоройки, пробыв в стоячей воде всего несколько минут, засыпали. Поэтому Хуан то и дело закрывал и открывал затычкой отверстие в днище лодки, одновременно вычерпывая воду черпаком.
— Глянь-ка туда, — тихо сказал Хуан.
— Куда?
— Да вон туда.
Селестино повернул голову и увидел вблизи скал лодку Косты. Он перестал грести и пожал плечами.
— Теперь удаче не бывать, — заметил Хуан.
— Будет удача или нет, зависит от тебя, — сказал Селестино, — и давай привыкать к Косте, потому как в следующий раз, когда мы выйдем на баркасе, он, может, тоже пойдет с нами.
— Кто это тебе сказал?
— Франсиско.
— А пошел твой Франсиско к…
— Не выражайся хоть при отце-то…
Внезапно Селестино втянул воздух раздувшимися ноздрями и изменился в лице, словно на мгновение почуял что-то недоступное другим.
— Брось еще приманки, — сказал он.
Хуан отбросил черпак, наклонился и, набрав пригоршню еле шевелившихся пескороек, забросил их как можно дальше от лодки. Потом выхватил более резвую рыбку, зарывшуюся в песок, так что были видны лишь ее глаза да нос, ловко насадил ее на крючок и бросил вслед за приманкой. С минуту оба рыбака следили за леской.
— Сматывай! — приказал Селестино и махнул в сторону берега. — Они свернули туда.
— Еще бы… раз тут этот Коста околачивается.
— В наше время так рассуждали только старухи. Хорошо же вас учат в школе. Недоумками какими-то растете.
— Не нравится мне он, и все тут, — оправдывался Хуан.
— Вычерпывай воду, все время вычерпывай. И не забывай, что Коста — превосходный рыбак. Тебе таким никогда не стать. Он — клад для любой артели.
Селестино продолжал грести, и весла его беззвучно и точно, как ланцет, резали водную гладь.
— Мы опять над ними, — сказал он, — теперь не суетись и не наступай на пескороек.
Хуан бросил за борт еще пригоршню рыбок и следом лесу. Теперь Селестино особенно сильно чувствовал близость косяка. Он поднял весла и внимательно прислушивался к всплескам падавших в воду пескороек и отчетливым, промытым морем звукам, доносившимся с других лодок: поскрипываниям весел в уключинах и плеску вычерпываемой воды. И вот, как раз когда Селестино снова хотел приказать Хуану «сматывай!», с одной из дальних лодок долетел условный крик — Селестино с размаху опустился на колени прямо в песок и воду, схватил вторую леску, наживил крючок и забросил его. И сразу же рыбы клюнули на оба крючка, и в ту же секунду закричали рыбаки во всех лодках. Крепкая нейлоновая леска, намотанная на толстые пробковые катушки, укрепленные на корме, тут же стала разматываться со страшной скоростью — в воду один за другим летели витки по тридцать футов каждый, и в воздухе лишь мелькали пробковые поплавки.
Пока косяк проходил, с каждой лодки удалось взять на крючок одного-двух тунцов, и теперь рыбы тянули лодки в разные стороны. В результате одни лодки, потеряв управление, кружились на месте, другие едва не таранили друг друга — рыбы бешено рвались с крючков, а рыбаки напрягали все силы, чтобы сдержать тунцов, когда те уходили на страшную глубину и на катушках оставалось всего по нескольку футов лесы, или что было мочи сматывали лесу, когда рыба столь же стремительно всплывала; одновременно рыбаки вычерпывали воду, гребли вдогонку за уходившей рыбой и лишь каким-то чудом не сталкивались с другими лодками; распутывая перепугавшиеся лески, рыбаки отчаянно ругались, грозили друг другу, валились на дно лодок, а то и, не удержавшись, падали за борт.
Всматриваясь в воду сквозь свое искаженное отражение, Селестино видел тускло-серебристый силуэт попавшегося на крючок застывшего тунца — голубизна воды скрадывала блеск чешуи рыбы, медленно описывавшей круги вокруг лодки. В глубине все еще шел вытянутый, как хвост кометы, отливающий металлическим блеском косяк, и выхваченная из его стремительного потока, похожая на серебристого воздушного змея рыба рвалась с лески Хуана, норовя уйти в синий мрак.
Описав третий круг, рыба почти достигла поверхности. Селестино перехватил леску левой рукой, правой взял острогу и резким движением подтянул рыбу к лодке. Наступил момент, когда от рыбака требовалось все его искусство, — одним ударом пробив крепкую кожу рыбы над хребтом, он подцепил ее, вытащил рывком на планшир, мгновение подержал и бросил на дно лодки. Пока Селестино обвязывал рыбе хвост крепкой веревкой, прежде чем перебросить ее на крытую настилом корму, темно-красные струйки крови стекали по гладкой чешуе прямо в воду. Вытащенный из моря тунец походил на гигантскую детскую игрушку, тугую и неправдоподобную: голова и челюсти казались оловянными, серебристые бока чуть отливали бронзой, и глубокие порезы, начинавшиеся в углах рта, — следы борьбы за жизнь, когда рыба, стараясь уйти в глубину, ныряла вниз головой, — рассекали щеки и глазницы.
Селестино высвободил крючок, снова наживил его и забросил лесу, и в этот момент за его спиной на дно лодки, подняв фонтан брызг, свалилась рыбина, выловленная Хуаном. Хуан подтащил свою добычу, положил рядом с рыбой Селестино и закрепил вокруг ее хвоста веревку. Затем он снова наживил свой крючок и забросил лесу. Рыбаки были с головы до ног забрызганы кровью тунцов, и даже вода на дне лодки порозовела. Хуан вытащил затычку, и в лодку хлынула вода. Но теперь Хуан ее не вычерпывал — рыбаки считали, что запах крови отпугивает рыбу. Минуты через две гомон на всех лодках стих.
— Можно вытаскивать лески и вычерпывать воду, — сказал Селестино. — Прошел косяк.
Он смочил керосином ладони, на которых вскрылись старые порезы, и взялся за весла.
— Давай покружим немного, может, еще догоним? — предложил Хуан.
— Дойдем до Кабры, а там повернем, — ответил Селестино. — Косяк не пойдет обратно тем же путем.
— На сколько потянет рыба? — спросил он, помолчав.
— Кило на восемьдесят, — отвечал Хуан. — Вместе с двумя первыми получится сто сорок.
— Неплохо! — сказал Селестино. — Знатный улов. Вот мы сейчас толковали про Косту. За то время, что мы с тобой выловили одну рыбу, Коста поймал бы две. И улов был бы еще лучше.
— Интересно, как бы это он сумел?
— Да уж сумел бы. Забросил бы сразу две лесы. И у него бы они нипочем не перепутались. Если бы один из нас рыбачил в одной лодке с Костой, у нас было бы сейчас шесть тунцов вместо четырех.
Селестино полагал, что для нынешнего поколения материалистов убедительны лишь подобные факты. Нужно взывать либо к их кошельку, либо к желудку.
— Имея на баркасе Косту, можно наловить куда больше рыбы, — добавил он. — Все равно кто-нибудь да возьмет его в команду, так почему бы этого не сделать нам?
Глава XI
Перед самой зарей поднялся слабый с посвистом ветерок, принесший с собой из-за гор в деревню бледный рассвет, и, прислушиваясь к нему, рыбаки поняли, что сегодня рыбачить не придется. Это давало Косте возможность съездить в Барселону.
Тревога, вызванная молчанием Элены, все росла, и Коста уже не находил себе от беспокойства места. Вначале он получал от нее письма каждую неделю. Пустые, вымученные, они были заполнены обтекаемыми, сухими старомодными фразами, взятыми из популярного письмовника. Но вот уже три недели, как письма приходить перестали. Вначале Коста успокаивал себя, придумывал этому всяческие объяснения. Одно письмо — первое из недошедших — могло заверяться на почте. Ведь постоянно кто-нибудь жаловался, что не получил письма, наверняка отправленного по почте из Барселоны. Но минула еше неделя, и от этой версии пришлось отказаться. Тогда Коста решил, что Элена заболела. Что еще оставалось предположить? Ровно ничего! Наступила и прошла третья неделя. Коста каждый вечер сочинял умоляющие письма и бросал их — увы, безрезультатно — в непроницаемо жуткое безмолвие почтового ящика. И тут Коста впервые понял, что может он потерять. Тянулись пустые, тоскливые дни, и Коста все яснее сознавал, что если еще возможно было терпеть как-то жизнь, в которой не было ничего, кроме надежды, то теперь, раз надежды этой не стало, он просто не сможет жить дальше. Далекая, ускользающая от него Элена стала невыразимо прекрасной. Он подолгу смотрел на помятую плохонькую фотографию, которую она подарила ему при расставании.
Автобус отправлялся в шесть утра. Коста оделся и тихонько вышел из дому, стараясь не разбудить спавшего в верхней комнате Молину. Доехать автобусом до Барселоны стоило тридцать песет, за проезд же на крыше брали двадцать. Комфорт был Косте не по карману. Он сидел, съежившись, на низкой скамье и цеплялся за перила, когда на поворотах автобус сильно накренялся. Ему не терпелось поскорее добраться до Барселоны. Теперь, когда он заставил себя действовать, всякое промедление было невыносимо.
Рядом с Костой на крыше сидели такие же горемыки крестьяне и рыбаки, которых вынудили пуститься в путь неотложные дела. Сельские жители питали недоверие к большим городам и ко всему, что они олицетворяли. Пагубное влияние города было для них столь очевидно, что, подобно испарениям серных источников, оно ощущалось сильнее или слабее — в прямой зависимости от расстояния. Так, в Блейне, в сорока километрах от Барселоны, городская зараза едва чувствовалась и проявлялась лишь в некоторой плутоватости. Еще через пятнадцать километров, в Матаро, жители уже говорили по-городскому и всячески старались надуть приезжих. А в Бадалоне, где по дорогам уже бежали трамваи, измученные поездкой крестьяне окончательно приходили в себя и начинали проверять, на месте ли зашитые в подкладку деньги.
Автобус громыхал по ужасной дороге, подпрыгивая на рытвинах и ухабах, мотор стучал разболтанными шестеренками и подшипниками, а пассажиры сидели, изжарившись на солнце, запорошенные белой пылью, еле живые от тряски. Под конец даже у Косты от страшной усталости вылетели из головы все его страхи, и, когда добрались до места, он так ослаб, что с трудом спустился вниз.
Автобус остановился у какого-то парка на громадной площади, со всех сторон окруженной похожими на скалы домами, и одуревший от усталости Коста увидел желтые потоки такси, струившиеся по беломраморным ущельям, каскады голубых искр, которыми осыпали безропотных пешеходов трамваи, а в небе — тучи голубей и трепещущие флаги. Ему хотелось найти среди кустов укромное местечко и уйти подальше от этих торопящихся, равнодушных людей, местечко, где можно было бы перевести дух, но к нему подошел какой-то лощеный изящный молодой человек, рядом с которым Коста почувствовал себя грязным и нескладным, и сунул ему в руку авторучку, а другой юноша попытался надеть ему на руку часы. С большим трудом и пространными извинениями Косте удалось от них отделаться. Тут он вспомнил про бумажку с адресом Элены, вернулся к автобусу и показал листок шоферу. Тот махнул в сторону одной из выходивших на площадь улиц.
— Минут десять пройдешь по ней и сворачивай направо, а потом через три-четыре улицы, точно не помню, свернешь налево. Да если собираешься возвращаться домой, будь тут не позже девяти.
После того как Коста избавился от молодых людей с авторучками и часами, ни один человек из спешащей мимо толпы им больше не заинтересовался. Он вдруг почувствовал себя одиноким, забытым, потерявшимся в этом откровенно равнодушном городе и потому испытал чуть ли не облегчение, услыхав окрик полицейского, когда вслед за хорошо одетыми горожанами ступил на переходную дорожку, не обратив внимания на загоревшийся сигнал «стой!».
Он почему-то воображал, что Элена работает в особняке вроде тех вилл, что строили себе в Торре-дель-Мар спекулянты. Вокруг сад, а сбоку незаметная калитка, через которую можно пройти и постучать в окно кухни, так что господа и не заметят.
Но когда он наконец разыскал нужный адрес, все оказалось иначе. Дом стоял на тихой тенистой улице, где, еле слышно шурша по горячему асфальту шинами, плавно проносились дорогие машины и повсюду висели таблички, запрещавшие нарушать тишину. А вот и номер, записанный у него на листке, он повторялся дважды — в начале и в конце фамилии владельца, неразборчиво выведенной светящимися неоновыми трубками. Построен был дом из светонепроницаемых стеклянных блоков. Прозрачной была лишь дверь с огромной ручкой, похожей на металлический гриб. Минут десять Коста прохаживался около дома и уже собрался позвонить в ночной звонок — другого отыскать он не мог, — когда к дому подъехала машина и из нее вышла молодая дама. Быстро семеня ножками, она пересекла тротуар. Губы у нее были ярко накрашены, а шея удивительно длинная. На светлых взбитых волосах прилепился крошечный платочек с завязанным уголком. Из глубины похожего на аквариум помещения вынырнул человек в форме, как у морского офицера, и распахнул стеклянную дверь.
Коста постучал пальцем по стеклу, но так и не смог привлечь к себе внимание морского офицера. Подождав несколько минут, он очень осторожно, чтобы ничего не сломать, толкнул дверь и с опаской вошел в дом. В первое мгновение он почувствовал себя как человек, впервые ступивший на коньках на лед — ноги на натертом полу разъезжались, и, стараясь удержать равновесие, Коста растопырил руки. Затем, продвигаясь чрезвычайно осторожно и ступая сразу на всю ступню, он добрался по блестящей поверхности до человека в темно-синей форме.
— Простите, сеньор. Извините за беспокойство, но не могли бы вы сказать мне, не проживает ли тут дама по фамилии Нобль? — Коста ужаснулся, услыхав, как громко звучит его голос в тишине полированного помещения.
Но важный господин и виду не подал, что услышал его. Ни один мускул не дрогнул на его красивом лице, а глаза были словно прикованы к какой-то точке над правым плечом посетителя. Коста собрался было повторить свой вопрос в еще более вежливой форме, но господин бросился мимо него и опять распахнул дверь перед дамой, как две капли воды похожей на ту, что вошла незадолго до нее.
Человек вернулся на свое место и, казалось, только теперь заметил Косту.
— Служанка?
— Что вы сказали, сеньор?
— Поденщица, прислуга?
Коста покачал головой.
— Молодая девушка из Торре-дель-Мар, служит в семействе по фамилии Порта.
— Третий этаж, направо. Поднимитесь на служебном лифте.
Он подозвал мальчика-лифтера. Тот, с любопытством и сочувствием поглядывая на Косту, поднял его на третий этаж, показал нужную дверь и нажал кнопку звонка. Где-то в глубине мелодично прозвонили звонки; последовала пауза, потом кто-то издалека сказал: «Иду, иду», дверь приоткрылась, из квартиры пахнуло духами, и на пороге показалась горничная в фартуке и наколке и, увидев Косту, досадливо спросила:
— Чего вам?
— Скажите, пожалуйста… не здесь ли живет сеньорита Нобль?
— Подождите, — бросила девушка и захлопнула дверь.
Ждать пришлось долго, а потом дверь снова бесшумно распахнулась, и на пороге появилась она. Коста был потрясен. Образ, который жил в его душе, был так прекрасен, что сейчас он едва узнал Элену. Какую-то долю секунды смотрел он на болезненно осунувшееся лицо, бледный бесформенный рот, тусклые, непричесанные волосы, огромные испуганные глаза. И не мог сдержать волнения. Он почувствовал, что на глаза ему навернулись слезы, а губы беззвучно приоткрылись и дрогнули. В душном, пропахшем заграничными духами помещении она выглядела сильно похудевшей и гораздо старше своих лет. Элена изумилась и смешалась, а вот обрадовалась она ему или нет, Коста не мог бы сказать.
Она как-то смущенно поздоровалась и протянула руку, поспешно вытерев ее о грязный передник.
— Понимаешь, хозяева не разрешают, чтобы к нам приходили знакомые, — тихо сказала она.
Послышался мягкий шорох — это открывались створки лифта. Элена испугалась и заставила Косту войти в переднюю. На стене за ее спиной он увидел повергшую его в изумление картину: голая розовотелая женщина выглядывала из окна. Его ужаснуло, что Элене приходится смотреть на такие вещи.
— Слушай, после обеда, когда у них будет сиеста, я постараюсь на часок вырваться, — сказала Элена и подтолкнула Косту к лестнице. — Жди меня на улице в три часа. Я обязательно спущусь хоть на минутку.
Коста бродил по соседним улицам, стараясь далеко не уходить — он решил быть на месте раньше назначенного времени: как знать, может, Элене удастся освободиться пораньше. Он ждал в тени то одного, то другого дерева, не в силах оторвать глаз от непрозрачного стеклянного фасада, а улица дремала в послеполуденной тиши. Коста считал минуты, но их не становилось меньше. Солнце село на острие высокого шпиля, а потом соскользнуло вниз, разделенное им надвое. Появилось первое свободное такси. Прежде чем проедет еще одно такси, сказал он себе… Ну ладно, прежде чем следующее… Наконец она появилась: за стеклянной дверью порхнуло что-то белое и легкое, как мотылек, мгновение — и она уже бежала к нему по тротуару, весело помахивая рукой, снова молодая и уверенная в себе.
— Бедный ты мой, я заставила тебя ждать! Думала, никогда не кончу.
Он хотел спросить ее, на весь ли вечер она освободилась, и тут же услышал:
— Я отпросилась всего на час. Пойдем посидим в парке.
Подозрения Косты окрепли. Элена изменилась. Между ними словно черная кошка пробежала. Косметика и свежевыглаженное платье придали ей уверенности. Извинилась, что не писала:
— Я так устаю. Ведь когда имеешь только один свободный вечер в неделю… и потом эти вечные головные боли…
Она продолжала удерживать его на почтительном расстоянии, болтая о всяких пустяках, то и дело вставляя городские словечки и выражения. В прежние времена она бы ласково пожурила его: «Ну, знаешь! Ты что это таким пугалом? Вырядился, будто главный наследник перед чтением завещания». Теперь же она вежливо спрашивала, как он доехал и прошел ли у его матери кашель. Хорошо бы ей перебраться в Барселону, воздух тут гораздо суше, правда, некоторые жалуются, что из-за шума машин не могут спать по ночам. Сама-то она спит прекрасно, случись землетрясение — не услышит. Элена избегала его взгляда, а когда глаза их все же встречались, спешила улыбнуться. Но и улыбка была какая-то ненастоящая. Между ними проскользнула вежливость, словно разделяющее их лезвие ножа.
Коста понимал, что только физический контакт может разрушить эту преграду и перекинуть мост через пропасть, внезапно разделившую их. Ему страстно хотелось найти укромное местечко, где бы он мог взять руки Элены в свои и, нежно сжимая их, сказать ей все. Хотелось молча заключить ее в объятия — ведь влюбленные верят, что это исцеляет самые глубокие сердечные раны. Но несмотря на великолепие Барселоны, при постройке которой предусмотрели все необходимое для удовлетворения малейших желаний и прихотей человека, в этом городе не было укромных закоулков — ни арки заброшенного моста, ни глубокой ниши в старинной ограде, ни уединенной бамбуковой рощицы. Здесь каждый метр был на учете, и негде было спрятаться от досужих глаз, глядевших из множества окон, и нельзя сказать слова, чтобы его не услышали чьи-то безучастные уши.
— Далеко ли до парка? — спросил он, связывая с этим красивым словом картину фонтанов, чьи струи плещутся вдали от гулких дворов-колодцев и раскаленных, дрожащих в знойном мареве зданий.
— Мы сейчас придем, — отвечала она, ускоряя шаг. И, помолчав, добавила: — В шесть я должна вернуться.
Она остановилась и стала рассматривать в витрине какую-то вещь, зашла даже в дверную нишу, чтобы посмотреть на нее с другой стороны, и он почувствовал обиду — как легко транжирит она драгоценные минуты их свидания…
Они несколько раз сворачивали, шли прямо и снова сворачивали. У Косты устали ноги — он впервые за весь год надел кожаные ботинки.
— Мы уже почти дошли, — сказала Элена. — Приятнее посидеть в тени, чем бродить по раскаленным улицам.
Но когда они добрались до парка, там оказалось много людей, прогуливавшихся после сиесты. Коста и Элена опустились на скамейку, на которой уже сидели два солдата, и напротив них остановился какой-то малыш с обручем и стал в упор их рассматривать.
— Красиво тут, правда? — спросила она.
— Да.
— Красивее, чем на Пласа-де-Каталонья, но на Пласа-Реаль еще лучше, только это слишком далеко. Знаешь, почему мне нравится Пласа-Реаль? Как-то не чувствуешь, что площадь эта — большая, там есть один фонтан, весь замшелый, и голуби, и такие забавные фонари. Ты обязательно должен посмотреть эту Пласа-Реаль. На углу там в одном магазинчике продают чучела всяких зверей и птиц, мы могли бы доехать туда на трамвае. А в свободные вечера мы иной раз приходим сюда. Зачем же уходить далеко, раз надо возвращаться? Очень уютный парк, правда? Я так люблю цветы.
— Тени тут маловато, — сказал он.
Малыш отошел было в сторону, но снова вернулся, не обращая внимания на грозные взгляды Косты. Подошел третий солдат, и парни начали со смехом сталкивать друг друга со скамейки.
— Когда солнце клонится к закату, тут еще лучше, — сказала она. — Солнечные лучи так красиво пробиваются сквозь листву.
— Да, — согласился он. — Наверное, тогда тут еще лучше.
Он рвался к ней всем своим существом, время летело, а она занималась пустой болтовней. Чем сильнее хотелось ему убедить Элену в своей горячей любви, тем упрямее застревали в горле слова.
— Посмотри-ка, розы уже отцветают, — сказала она. — Ты любишь розы?
Он кивнул, мучительно ощущая, как уходят минуты.
— Время-то просто летит, — сказала она. Он проследил за ее взглядом и увидел громадные часы — рекламу страховой компании, и, пока он смотрел, минутная стрелка прыгнула еще на целых три дюйма.
— Еще несколько минут, и мне надо возвращаться.
«Мы быстро пойдем назад по переполненным улицам, — пронеслось у него в голове, — и между нами останется стена, мы ничего друг другу не скажем, и я ее потеряю».
И вдруг она грустно сказала:
— Хорошо бы иметь свой домик, где стены увиты цветами, но только не розами. Как они называются, знаешь, такие синенькие цветы? — Она посмотрела на него так, словно только этот вопрос и был важен. Первый раз встретила его взгляд, не прячась за улыбку. — Они еще свисают гроздьями, вот вертится на языке название, а вспомнить не могу.
Голос ее как-то сразу смягчился, и Коста сумел понять, что, заговорив о собственном доме, она предоставила ему последний шанс. Выдав себя этими словами, Элена поспешно отвернулась, но он все-таки успел заметить, что она смахнула пальцем набежавшую слезинку. Он жадно схватил ее за руку, но она отняла руку, открыла твердую блестящую сумочку, достала носовой платок и приложила его к глазам, явно досадуя, что не сумела сдержаться.
— Вот видишь. — Она больше не притворялась. — Лучше уж я пойду. Не хочу выставлять себя на посмешище…
— Побудь со мной еще пять минут, — сказал он. — Пожалуйста. Я должен сказать тебе что-то очень важное.
— Зачем? Теперь уже ничего не изменишь. Слишком поздно. Прости, что я не сдержалась.
Коста заставил Элену сесть и заставил себя принять решение, которое так долго откладывал.
— Послушай, что я тебе скажу. Я заберу отцовские снасти и переселюсь в Пуэрто-де-ла-Сельва. Мы сможем пожениться в любой день, когда ты только захочешь, конечно, если ты не передумала.
Она посмотрела на него почти злобно, огромные глаза темнели на усталом лице, и густой слой румян не мог скрыть ее бледности.
— О чем же ты раньше думал? И ты еще спрашиваешь, не передумала ли я?
— Сходи туда, сложи вещи, и давай уедем. Кто может нас задержать?
Косте казалось, что все это время их обволакивал страшный сон, который он же сам и придумал, и что нужно было лишь сделать над собой усилие или испытать какое-то потрясение, как сейчас, чтобы стряхнуть с себя его оковы. Теперь он наконец очнулся. Надо просто-напросто сесть на девятичасовой автобус, и Пусть он увезет их к свободе и счастью. А чувство ответственности по отношению к матери — это всего лишь глупая отговорка, возникшая неизвестно откуда и непонятно зачем. Быть может, он до сих пор и не любил Элену по-настоящему.
— Я больше не оставлю тебя здесь, — сказал он. — Мы сегодня же вернемся вместе. Мы имеем право сами решать свою судьбу.
Но Элена замотала головой.
— Нет, нет! Как я могу? Так нельзя. Бросать работу, не предупредив! Ведь я же подписала договор. Зачем же делать глупости?.. О господи, ты только посмотри на часы!
Она вскочила и потянула его за собой.
— Они даже не знают, что я ушла. Если бы ты предупредил, я попросила бы дать мне выходной на сегодня.
Она спешила, высокие каблучки ее лакированных туфель нетерпеливо стучали по тротуару.
— Но что же нам делать? — спросил он. — Если ты хочешь уехать, никто не может тебе помешать. Они не могут задержать тебя насильно.
— Не знаю, — ответила она. — Все это так внезапно. Нужно подумать, как все-таки поступить лучше. Хотя бы день-другой, чтобы собраться с мыслями. Послушай, — сказала она через минуту, — сегодня вечером я все обдумаю и напишу тебе.
Эта мысль ее, видимо, обрадовала.
— Да, я напишу тебе перед тем, как лягу.
— Ты не напишешь, — сказал он. — Начнешь откладывать со дня на день, а я опять буду неделями ждать писем.
— Я напишу тебе сегодня, даю тебе слово. — Голос ее пресекся. — Не думай, что я не хочу отсюда вырваться. Если б ты только знал!
— И зачем тебе понадобилось уезжать из дому? Я просто не понимаю зачем.
— Я и сама не понимаю, — отвечала Элена. Теперь она уже плакала не таясь, и ее озабоченное, чересчур накрашенное лицо стало горестно-безобразным, как у испуганного ребенка. Ему вдруг, как никогда в жизни, захотелось обнять ее, но они шли в толпе. Здесь повсюду были толпы.
Глава XII
Первой пришла этим утром в полицейский участок Пакита, цыганка, проведшая минувшую ночь с доном Федерико Вилановой. Сколько ей лет, Пакита не знала и в зависимости от настроения называла любую цифру от двадцати до двадцати пяти. Она была красива какой-то особенной красотой, чужеземной и броской; такие профили встречаются порой на старинных монетах или на осколках карфагенских ваз и действуют неотразимо на пожилых мужчин, чьи вкусы складываются под влиянием классического образования. Многих деревенских жителей ужасала дерзость ее манер и одежды: чрезмерно открытая блузка и вызывающе узкая юбка, туго обтягивающая слишком полные для цыганки бедра.
Кальес заставил Пакиту прождать в приемной полчаса, и, когда ее наконец впустили в кабинет, она дала почувствовать свое недовольство, сильно хлопнув дверью. Потом уселась, закинув ногу на ногу, обнажив на мгновение смуглую ляжку, и, достав из-за пазухи пачку сигарет, закурила.
— Прошу прощения, — сказал Кальес, — у нас здесь не курят.
Пакита прищелкнула языком и вышвырнула сигарету в окно.
— Не очень-то приятно торчать тут у вас, да еще когда этот недоносок-писарь, или кто он там, все время пялит на тебя глаза.
— Дело в том, что вы пришли немного не вовремя, — сказал Кальес. На письменном столе перед ним лежал неоконченный рапорт, и он все еще держал в руке перо. В присутствии Пакиты он чувствовал себя неловко. — Постарайтесь покороче. И пожалуйста, одерните юбку.
— Там, где я была, по крайней мере умеют вежливо разговаривать с людьми, — сказала она. И, почувствовав запах дезинфекции, добавила: — У вас тут воняет, как в венерологической больнице.
— Приступим к делу. Что вам угодно?
— Мне удалось еще кое-что узнать о Виланове.
На лице Кальеса появилось отсутствующее выражение, как у ростовщика, который почуял, что ему хотят предложить невыгодную сделку.
— Вас это, кажется, совсем не интересует?
— Не интересует, — сказал Кальес. — Все, что нужно, мы о нем знаем. Ничего серьезного он собой не представляет.
— Значит, я зря старалась?
— Откуда мне знать? — ответил Кальес. — Зря? Все может быть. Вам виднее.
— И по-вашему, это честно? Я изо всех сил обрабатываю Виланову, а вы вдруг идете на попятный и заявляете, что он вас не интересует.
— Если, говоря вашими словами, вы все еще обрабатываете Виланову, то только ради собственной выгоды. Вы не убедите меня, что это не так.
— Ради собственной выгоды? Это мне нравится! Вы не хуже моего знаете, что у этого старого индюка нет ни гроша за душой.
Ноздри Пакигы трепетали, рот презрительно кривился.
Кальес пожал плечами. Он бы охотно уклонился от разговора с цыганкой, но какое-то непонятное чувство заставляло лейтенанта поддерживать с ней беседу. Привычный запах зотала не мог перешибить сильный, манящий запах тела Пакиты.
— Послушайте, а что же будет с Пепе? — спросила она.
— Пока что все остается по-прежнему, — ответил Кальес.
— Может, еще скажете, что вообще ничего мне не обещали? Я помню, вы говорили, что его дело будет пересмотрено.
— Я ничего вам не обещал, — сказал Кальес. — Все зависело от вас. Я достаточно ясно все вам это объяснил, вы же со своей стороны не очень-то стараетесь выполнять принятые на себя обязательства.
— Быть может, вы мне подскажете, что я еще могу сделать? Когда вам было нужно, чтобы я напакостила жителям деревни, вы пели по-другому.
— Ну, с тех пор вы себя особенно не утруждали, — сказал Кальес. — Это был единственный случай, когда вы оказались нам полезной. А между прочим, на днях километрах в двух отсюда выгрузили целый миллион сигарет. И в деревушке все про это знали — все, кроме вас да ваших приятелей-актеров.
Кальес почувствовал, что ищет повод унизить Пакиту. Он был зол и вовсе не хотел смягчаться. Он и сам не знал почему, но всякий раз, когда Пакита похвалялась перед ним скандальными подробностями своих похождений, им овладевала мстительная злоба, словно ее поведение каким-то образом марало и его лично. В утешение себе он припомнил, что полиция почти всегда обязана своими успехами сотрудничеству с такими вот осведомителями. Заметив, что Кальес снова ее разглядывает, Пакита переменила позу. Юбка задралась выше колен. На сей раз Кальес не отвел взгляда и отрывисто сказал:
— Приходить сюда еще раз вам будет неудобно. Вас могут заподозрить. Я дам вам один адрес. — На последней фразе он смущенно запнулся.
Пока Кальес записывал на бумажке адрес, Пакита, торжествуя, наблюдала за ним. Сколько хлопот и беспокойства, она просила, унижалась, шпионила, а в конце концов он клюнул, как и всякий другой, на самую простую приманку. Шевельни бедрами, покажи кусочек обнаженного тела. И лев укрощен! О, Пакита прекрасно знала такие взгляды. Ей не впервой было ловить их на себе. Он шарил глазами там, где не положено, смотрел на нее, как смотрит птица на горстку зерен, насыпанных в ловушке. Хорошо же, райская птичка, зернышки свои ты получишь — в другой раз. И заплатишь за них. Этот сорт мужчин был ей хорошо знаком. Пусть ночку-другую помечтает о ней. Один адрес, вот как? Удивительно, если он выдержит два дня. А потом, когда он сдастся, всем ее бедам конец, и двери тюрьмы распахнутся наконец перед Пепе.
Играя бедрами, цыганка спустилась по лестнице, миновала комнату дежурного и вышла на улицу. В солнечном свете утра еще ярче заиграли алые и черные краски ее наряда. Из балагана на пляже, где помещался театр, доносились обрывки нестройной восточной мелодии — там уже репетировали. До чего же ей все это опротивело! Пакита замедлила шаг и направилась к кафе «Двадцатый век».
Кафе было построено в 1900 году. Отсюда взялось и его название, которое теперь лишь вводило в заблуждение. Здесь все сохранялось, как в те времена, когда на производстве местной пробки можно было нажить небольшое состояние. Драная обивка из черной шершавой кожи походила на помятую оберточную бумагу, стойка была заставлена громоздкой старомодной утварью из потускневшего серебра, на стене олеография Эйфелевой башни, угрюмый старик официант с болячками на лице, поступивший в кафе еще мальчишкой.
Пакита устроилась в углу. В кафе за столиками сидело шесть посетителей — все старики в твердых черных шляпах, высокие воротнички, черные галстуки бабочкой. Перед каждым стояло по пустому стакану. Это все были владельцы плантаций пробкового дуба, которых изобретение металлических пробок для бутылок почти совсем разорило; теперь у них было сколько угодно свободного времени, и они могли сидеть в кафе, делая вид, что их дела обстоят неплохо. Брились они через день; уголки их крепко сжатых ртов были словно подперты снизу невидимыми колышками, и даже на близком расстоянии невозможно было определить, на самом ли деле от них пахнет кожей, или это только кажется.
Старики окинули Пакиту оценивающим снисходительно-разочарованным взглядом, при этом они вытягивали головы вперед, совсем как черепахи, и, казалось, были готовы при малейшей опасности спрятаться под спасительный панцирь.
В кафе забрел пропахший навозом крестьянин, но, сообразив, что не туда попал, нагло хохотнул, побренчав в кармане деньгами. Встретив взгляд цыганки, он еще раз звякнул монетами, повернулся и вышел. Вошли несколько рыбаков и расположились пить вино из глиняного кувшина. Рыбаки любили похвастать и посмеяться, но, когда доходило до дела, норовили уйти в кусты и потому для Пакиты интереса не представляли. Прошло целых полчаса, но за это время появился лишь один новый посетитель — продавец газет, для отвода глаз державший в руках одну-.единственную, будто бы купленную для себя, газету.
Ну прямо сборище скупердяев! Ах, вырваться бы ей из этой нищеты и убожества да вернуться к своим! Пусть люди там бедны, по крайней мере они умеют жить! И угораздило же этого дуралея Пепе попасть в тюрьму! Правда, что ни говори, он был настоящим мужчиной. Только это и ценила Пакита в мужчинах, и именно этого недоставало всем ее случайным любовникам. В ее представлении настоящий мужчина являл собой великолепную смесь всех притягательных для нее пороков. Он должен быть равнодушным, уметь подогревать ее страсть своей холодностью и неверностью, уметь сорить деньгами — в случае надобности и ее собственными — и лишь изредка бросать ей в награду несколько ласковых слов. Она обожала безрассудство и не осуждала неизбежное при этом бахвальство, а также жестокость и лживость. И самое главное — она хотела любить без взаимности. Ей не нужно было, чтобы ее любили и преследовали. Единственным человеком, который соответствовал ее идеалу, был Пепе, сидевший сейчас в тюрьме. А единственной надеждой — Кальес, и, изнывая от тоски по восхитительному убожеству своей прежней жизни с Пепе, она страстно хотела, чтобы лейтенант оказался нормальным мужчиной, уязвимым, как все другие. Она подозревала, что он страдает каким-нибудь физическим недостатком или сексуально извращен, а возможно, даже спит с собственным денщиком.
Услыхав, как отворилась и захлопнулась дверь, она подняла глаза. Вошел еще один посетитель. Судя по одежде — иностранец, подумала цыганка, какой-то он дохлый, но все-таки хоть что-то. Уловив, по-видимому, во взгляде женщины искру интереса, он направился в ее сторону и уселся за соседним столиком. Заметив краешком глаза, что незнакомец любуется ее профилем, цыганка внезапно повернулась и одарила его простодушной и приветливой улыбкой, которая обычно действовала безотказно.
— Послушайте, — сказала она. — Я умираю от желания с кем-нибудь поболтать. Давайте выпьем вместе.
Молина встал и пересел за ее столик.
Глава XIII
Молина встал поздно, спал он плохо — то и дело просыпался. Его беспокоили пароходные гудки в море, рождавшие короткое гулкое эхо; один раз его разбудил ночной сторож, обходивший деревню и криками будивший рыбаков; другой раз — шофер автобуса, отходящего в Барселону, когда он дал полный газ, чтобы завести старенький мотор.
Когда Молина проснулся окончательно, часы на церковной башне показывали без двух минут десять. Знойный ветер с юга не дул, а еле дышал, и горы чуть-чуть отступили от берега. Молина оделся и вышел на плоскую крышу, огороженную невысоким резным парапетом из камня. Почти треть крыши занимало небольшое кирпичное сооружение без окон, по углам торчали тонкие железные шесты — между ними была натянута проволока, на которой старуха хозяйка сушила в прежние времена белье.
Дом стоял на пологом склоне на окраине поселка, и, хотя Молине были видны крыши соседних рыбацких домов, самого его могли видеть лишь из окон вилл богачей, располагавшихся на холме позади их дома, и до ближайшей виллы было добрых сто метров. Молина посмотрел вниз на улицу — сейчас там хозяйничали бродячие кошки: они куда-то крались, припав животом к горячей пыли и жадно принюхиваясь. Белые стены отбрасывали свет одна на другую, и во все обращенные на юг окна било слепящее солнце. Бесшумно распахнулось окно, и какая-то женщина выбросила на улицу рыбьи внутренности, на которые сразу же бросились кошки. Из тени появилась на свет компания иностранцев в каких-то странных праздничных нарядах. Торре-дель-Мар был наводнен иностранцами. Их оживленные лица выражали забавную смесь радости и недоверия, словно они искали и не могли найти, где же происходит никогда не прекращающийся в жизни карнавал. «Où est la fête?»[5] — добивались они от всех. Слабая визгливая музыка транзисторов долетала до ушей Молины через четыре квартала. «Чем больше иностранцев, тем лучше», — подумал он.
Молина отступил от парапета, и поселок сразу пропал из виду, в поле зрения осталось лишь несколько печных труб с допотопными, в мавританском стиле заслонками от ветра. Молина вошел в строение без окон. Оказалось, что тут хранили рыболовные снасти. Повсюду лежали аккуратно сложенные, побуревшие от времени сети, лески, различной длины остроги, круглые, со свинцовыми грузиками сети, вышедшие из употребления ацетиленовые фонари, которыми раньше пользовались при ловле сардин, замысловатые верши — разных размеров, форм и назначений. Здесь царил обычный для каталонских домов порядок, который после смерти главы семьи становился незыблемым и священным. На всем лежал налет белой пыли.
Молина спустился к себе в комнату и принес оттуда ящичек с собранным накануне передатчиком, а также моток изолированного провода. Приподняв тяжелый край паруса, с которого посыпалась пыль, он подсунул под него ящик и снова опустил тяжелую парусину. Когда Молина взялся за конец бельевой веревки, она рассыпалась у него в руках. Размотав провод, он отмерил и отрезал нужный кусок и натянул ее между столбиками вместо веревки. На фоне синевы неба ярко-белая нитяная обмотка изолированного провода резко выделялась. Впервые после перехода границы Молина ощутил, что в нем крепнет чувство уверенности. Сегодня или завтра ночью он свяжется со штабом, сообщит, когда и где лучше всего произвести высадку, и возложенная на него задача будет выполнена. После этого он бросит передатчик с ближайшей скалы в море и с первым же поездом уедет из Испании. И уж тогда с полным правом умоет руки: наймется мотористом, осядет в какой-нибудь заброшенной приморской деревушке на Камарге, где никогда ничего не случается; а там, глядишь, отыщется какая-нибудь засидевшаяся в девицах бесприданница, и он на ней женится.
Выйдя в это утро из дома, Молина решил погулять подольше. Он всласть надышится свежим воздухом, погреется на солнце, а может, и взберется на какую-нибудь некрутую скалу. Время действовать приближалось, и он чувствовал, что ему необходимо окрепнуть, чтобы в решительный момент физическая слабость не подвела его. Молине было страшно, что столь необходимое ему сейчас мужество во многом зависит от состояния его нервных клеток, от хорошего состава крови и нормального пищеварения. Дух зависел от тела, он слабел и увядал вместе с ним и с ним старился. В конечном счете трусость проникает в клетки тела, подобно болезнетворным вирусам. Самый стойкий человек признается в любом не совершенном им преступлении, если целую неделю не давать ему спать.
Гуляя, Молина и не заметил, как промелькнул час. Он вдруг почувствовал усталость и скуку и, обнаружив, впрочем не совсем для себя неожиданно, что стоит перед кафе, где вчера познакомился с цыганкой, вошел в него.
«Двадцатый век» был полон рыбаков, веселых и оживленных после ночной ловли. Молина заказал четверть литра красного вина. За одним с ним столиком сидел молодой рыбак. Очень красивое лицо, нос шелушится, левая рука, порезанная нейлоновой лесой, забинтована. Жизнерадостно улыбаясь, он спросил:
— Вы, верно, иностранец?
— Француз, — ответил Молина.
— Француз — это здорово, — кивнул парень. — Я сам бывал в Марселе. Уж там-то умеют облапошить… А в остальном… Вы неплохо говорите по-испански.
— Я родился здесь, — сказал Молина.
— Я так и подумал. Услышал, как вы заказываете четверть красного, и говорю себе: может, костюм он себе купил и не в Испании, но говорит по-испански не хуже моего. Выходит, вернулись на родину. Как в гостях ни хорошо, а дома лучше, правда?
— Да, — согласился Молина, — дома лучше.
— Там зашибают деньгу, это верно, ну а что это человеку дает? Деньги уплывают там так же быстро, как и в других местах, а в придачу и доброго слова ни от кого не услышишь. Вот как побродишь по свету, так и поймешь, где тебе лучше всего.
Молина кивнул, он не раз доказывал в спорах, что люди, достаточно долго прожившие в условиях ненавистной тирании, в конце концов привыкают к ней так же, как привыкают эскимосы к вечным снегам, а бедуины — к своей пустыне. В таких случах, объяснял он, только образование может помочь людям стряхнуть с себя пагубное благодушие, глупое, трусливое долготерпение.
— Значит, по-вашему, лучше жить здесь?
— Само собой! Ну, вначале-то после войны, сами понимаете, было не до того, да только теперь это дело прошлое. Делать нечего — надо привлекать туристов, ну а нельзя же обращаться при них с простыми людьми не так, как в других странах, куда ездят туристы, иначе не видать им этих туристов, как своих ушей. А им главное — побольше туристов. Теперь для них это всего важнее.
Предательский пессимизм, всегда подстерегавший Молину, немедленно поднял голову и стал выдвигать свои коварные доводы. «Вот и исчерпывающий ответ, — подумал он. — Целое поколение самоотверженных революционеров не смогло добиться того, что достигнуто за несколько лет благодаря нашествию туристов. Вовсе не самоотверженные усилия живущих в изгнании преобразователей завоюют для Испании демократические свободы и заставят ее шагнуть в двадцатый век, а необходимость благопристойно выглядеть в глазах тех, кто сорит деньгами, оставляя стране столь необходимую для нее валюту». Молина слышал, что в одном местечке близ Уэски постоянно дежурят охранники в штатском и не дают иностранцам фотографировать жителей пещер; а раз уж властям стыдно за существующее положение, значит, какие-то меры к извлечению людей из пещер и переселению их в дома будут приняты. Молина не обманывал себя: да, он испытывал разочарование, видя, что перемены, пусть даже к лучшему, должны совершаться таким образом; и вдруг он понял, что подобные раздумья приводят к обескураживающему выводу — а так ли уж безупречны побуждения революционеров, как это представляется им самим? Что, если они желают победы революции не ради блага Испании, а ради собственного блага? Молина хотел не думать, хотел призвать на помощь нерассуждающий внутренний голос, который не раз выручал его прежде, — голос непоколебимой убежденности, душивший в зародыше все сомнения, но сейчас этот голос молчал.
— Если уж говорить начистоту, — продолжал рыбак, — что нам тут позарез нужно, так это школы. Да не пейте вы эту дрянь! Выпейте со мной коньяку. Ведь детишки учатся только по два часа в день, и учит-то их один учитель, это на шестьдесят-семьдесят ребят самых разных возрастов. Много ли это может принести пользы? Вы, глядишь, и по-английски знаете не хуже, чем по-французски? Вот это здорово! Мне бы так шпарить по-иностранному, был бы я кум королю!
Молина чувствовал себя посрамленным в своем неверии. Первый же парень, с которым он заговорил, обнаружил искреннюю тягу к знаниям. Позор! Достаточно малейшего толчка, чтобы в нем ожил затаившийся, подспудный цинизм.
— Вам надо собраться всем вместе и организовать занятия. Кто-нибудь наверняка сможет вам помочь. Жаль, что сам я пробуду здесь недолго…
Рыбак пошарил у себя в кармане, извлек помятый, засаленный клочок бумаги, разгладил его на столе ладонью и протянул Молине.
— Я где только могу узнаю заграничные слова. Да вот беда — дело идет туго. Не очень ли я затрудню вас, если попрошу написать, как это будет по-английски?
Молина взял в руки листок и прочел несколько отдельных слов и фраз, нескладно, по-детски написанных печатными буквами по-испански.
«Вы такая красивая». «Прошу вас со мной потанцевать». «Жизнь моряка полна опасностей». «Будьте поласковей». «Целовать». «Обнимать». «Миловаться». «Мне пора». «Может, еще встретимся».
Парень подкупающе улыбнулся.
— В новой гостинице останавливается много английских леди.
Молина написал перевод нужных фраз, и парень, горячо поблагодарив его, вскоре ушел. Торопится пустить в ход свежеприобретенные познания, предположил Молина. В душе он издевался над собой. Если человек позволяет, чтобы на него так или иначе влияли подобные встречи, значит, и впрямь дела его плохи.
Через несколько минут в кафе вошла цыганка; жадные взгляды мужчин устремились на нее со всех сторон; она замерла в нерешительности, словно бабочка, которая не знает, на какой цветок опуститься, потом, словно бы и не взглянув в сторону Молины, направилась прямо к его столику. Упала на стул и в знак приветствия стиснула ему руку. У нее были иссиня-черные, распущенные по плечам волосы (волос, пожалуй, даже слишком много, подумал Молина); все обаяние и привлекательность ее лица, казалось, таились в удлиненных, необычной формы глазах. Ее белые цепкие пальчики напоминали Молине передние лапки землеройки. Она заметила, что Молина бросил взгляд на мужские часы у нее на руке — дешевые часы с модным циферблатом.
— Дружка моего часы, — пояснила она. — Он отсиживает срок. Все, что у меня осталось для продажи. А знаете, сколько мне за них дают? Двадцать песет.
Молина изучал восхитительное своеобразие ее лица. Да, это не какая-нибудь почтальонша из Камарга. Но когда хочется послать все к черту, крайности могут легко сойтись.
— Как дела в театре? — спросил он.
Она прикрыла лицо рукой, словно опасаясь, как бы безмерное отвращение не исказило ее черты.
— И не спрашивайте! Настоящие свиньи. Мы исполнили андалузский танец, а им, видите ли, не понравилось. Мы даже специально разучили каталонский танец, так они и им остались недовольны. К северу от Валенсии всегда так. Им подавай дрессированных тюленей. А на юге мы каждый вечер делаем полные сборы. Я могу показать вам вырезки из газет.
— Почему же вы не остались там, где хорошо?
На этот вопрос цыганка ответить затруднилась. Она даже никогда над этим не задумывалась. Просто надо куда-то двигаться, вот и переезжаешь с места на место. Наблюдая за ее озадаченным лицом, Молина подумал: «Все мы подобны трихинам, гнездящимся в свином легком. Хрюкнет свинья — и угодит часть их в кишечник, и начнет двигаться неизвестно зачем, неизвестно куда… Что это за непостижимая тяга к странствиям, забросившая этих огневых танцоров в столь унылый край?»
— Ну хорошо, а что же мешает вам вернуться туда или поехать куда-нибудь еще?
— Я же говорила вам, — ответила она, — хотя, может, и нет. Дело за моим дружком. Он один умеет чинить наш грузовик. А машина совсем разбита. Да мы и на бензин-то не можем раздобыть денег. Так что мы, можно сказать, застряли тут впредь до особого распоряжения.
Перед их столиком, нетерпеливо покашливая, топтался старик официант.
— Что будем пить? — спросил Молина.
— Что-нибудь покрепче. Хотя подождите минуточку… Платить будете вы? Тогда мне коньяку.
— Два «рикардос», — сказал официант, отходя от них.
Пакита вскочила и вернула его.
— «Рикардос»? Кто это сказал «рикардос»? Я желаю «хайме примеро».
— Не имеется.
— Тогда «педро домек».
— Имеем только дешевые сорта. Хотите чего-нибудь подороже — отправляйтесь в другое место.
— Слыхали? — возмутилась Пакита. — Только дешевые сорта! Я всякой дешевкой сыта по горло, обойдусь и без нее.
Официант, громко ворча, удалился. Чем эта публика беднее, тем больше задирает нос. Подай я ей без лишних разговоров «рикардос», а посчитай, как за «хайме примеро», она и не заметила бы разницы. Да, только такая может еще потребовать, чтобы ей показали бутылку. Сидели бы эти побирушки у себя в Андалузии да дохли там с голоду. И чего их сюда несет?
— А спать мне негде, — вдруг заявила Пакита. — Я не к тому сказала, чтобы вы меня пожалели. Просто, может, вам интересно.
Молина еще раз внимательно посмотрел на нее; античные черты лица, мягкая тень легла от подбородка на плавные, округлые линии шеи; потрепанное дешевенькое платьице с претензией на шик.
— Как же так?
— Тип, который считается у нас антрепренером, липнет ко мне, а у самого в животе резиновая трубка. Лучше мне держаться от него подальше, пока не остынет. Во всяком случае, ночью.
— Где же вы спите?
— Где придется. Обычно на берегу. Там совсем неплохо, только вот москиты. Просто смешно — до чего быстро привыкаешь к хорошему. До десяти лет я ни разу не спала в постели, а теперь меня уже не устраивает хороший чистый песок и несколько москитов.
Ее присутствие возбуждало в Молине тревожную радость — бурную, впервые испытанную радость человека, ведущего затворнический образ жизни; он смотрел на нее и понимал, что должен немедленно, под любым предлогом подняться и уйти. Была в этой цыганке прямота и какая-то отвага, будившая в нем чреватое опасностями сочувствие; Молина понимал, что не должен видеть в этой девушке живого человека; пусть она остается безликим символом народного страдания и нищеты — только в этом его спасение. Одно из суровых правил его профессии гласило: никогда не трать силы на заботу об отдельных людях, не пытайся облегчить чью-то участь, будь далек от этого и в помыслах и в делах! Год назад одна мысль о том, что судьба такой девушки может как-то его заинтересовать, заставила бы Молину поспешно укрыться за щитом подобных рассуждений. Но сейчас его система обороны трещала по всем швам.
— Может, нам пойти и выпить где-нибудь в другом месте? — спросил он цыганку.
— Здесь нет других мест, да мне и не хочется пить. Как подумаю, что ждет меня сегодня днем, так прямо тошно делается.
— А что сегодня будет?
— Представление. Дневное представление… Видели бы вы — вам бы стало ясно, о чем я говорю… Это ужасно, когда они не понимают, в чем дело, и гогочут. Не надоела вам моя болтовня? Так хочется хоть ненадолго забыть про все это.
— Мне тоже хочется кое о чем забыть, — сказал Молина. — Давайте прогуляемся по берегу.
Глава XIV
Дон Федерико Виланова сел на свой двухцилиндровый мотоцикл, взялся за широкий руль с задранными кверху ручками, отчего стал похож на жука-богомола, и медленно покатил с горы в деревню. Он посетил ратушу, купил у бакалейщика кварту бензина, а затем поддался соблазну заглянуть в кафе. Незаметно переступив порог «Двадцатого века», он уселся в уголке на свое место и, осмотревшись, увидел доктора Росаса. Доктор уже успел познакомиться с какой-то супружеской парой — явно иностранцами — и сидел с ними за одним столиком. У женщины были густые бледно-золотистые волосы и тонко очерченное изящное лицо, выражение которого непрестанно менялось. Росас, чрезвычайно ценивший в женщинах сдержанность, восхищенно глядел иностранке в глаза. Чувство досады на доктора после их последней встречи еще не прошло, и дон Федерико поспешно отвернулся, но Росас его уже увидел и, явно желая помириться, быстрым шагом направился к столику Вилановы.
— А вы, как вижу, опять за свое, — ехидно заметил Виланова.
— Она американка и прямо бесподобна, — ответил Росас. — И очень несчастна — только сейчас поняла, что все еще любит своего первого мужа. Постараюсь ей как-нибудь помочь.
— Полагаю, посредством витаминов? — осведомился Виланова.
— Нет, на этот раз прибегну к психотерапии.
Виланова пригубил кофе и недовольно фыркнул. Поставил чашку на стол и с любопытством посмотрел на Росаса.
— Помнится, в тот раз, заинтересовавшись с точки зрения психотерапии чьей-то супругой, вы лишились переднего зуба.
— Нет, я просто выплюнул его в припадке нервического кашля, — ухмыльнулся Росас.
Дон Федерико с неприязнью посмотрел на Росаса — розовые щеки, голубые глазки, хитрая усмешка. «Шкура как у носорога», — подумал Виланова. Доктор положил на стол книгу. Зловещего вида суперобложка сулила убийства и насилия, а перечеркнувшая обложку кричащая красная полоса оповещала, что в одной только Европе уже продано более миллиона экземпляров этой книги.
— Что это вы читаете?
— Недурной образчик итальянской порнографии, о похождениях англосаксов в Неаполе. На эту книгу громадный спрос. Ее не так-то просто раздобыть у книготорговцев. Дать вам почитать?
— Нет уж, благодарствую, — поморщился Виланова. — Я остаюсь при моих запретных классиках. Сейчас опять перечитываю Монтеня.
Росас раскрыл книгу, пробежал глазами какое-то место и, хихикнув, захлопнул роман.
— Удивительные они люди. Я говорю об американцах. Точь-в-точь такие, какими их изображают в кино. Перед самым вашим приходом отсюда ушли две девицы — они предлагали зажигалки нашим парням, любому, кто согласился бы с ними поразвлечься. В поселке таких девиц полным-полно. Подумать только! Вы можете иметь женщину в придачу к зажигалке — и это здесь, у нас, где мужчины по десять лет копят деньги, чтобы соединиться с невестой.
Дон Федерико решил, что появилась возможность оседлать любимого конька.
— Прежде чем мы продолжим нашу беседу, скажите мне, сколько пар в нашей деревне ждут по десять лет и все еще не могут пожениться?
— По-моему, около двадцати…
— И почему же они не могут пожениться?
— Потому что у них нет денег.
— Вернее сказать, потому что все возводимые здесь дома продаются за бешеные деньги городским спекулянтам. Или я не прав?
— Совершенно правы!
— Значит, многие человеческие существа, которые при других обстоятельствах появились бы на свет, не смогли этого сделать?
— Тоже верно, только к чему вы клоните? Или вы хотите, чтобы я признал, что нахожу такое положение вещей нетерпимым?
— А разве вы не находите?
— Нет, — отвечал доктор. — Не нахожу! И я мог бы указать вам на многое другое, что беспокоит меня гораздо больше.
— Жалкий вы человек, — заметил Виланова. — Вас заботит лишь собственная персона. Род человеческий ожидало бы печальное будущее, если бы все рассуждали, как вы.
— Или как вы, — парировал Росас, — брюзга, который копит недовольство, чтобы изливать его на своих верных друзей. Знаете, дон Федерико, давайте раз и навсегда договоримся. Я с вами не согласен, и спорить нам незачем! Я лично верю, что в планы создателя совсем не входило облегчить нам жизнь. По-прежнему выживает сильнейший, происходит, так сказать, естественный отбор — и на мой взгляд, это очень хорошо!
Их беседу прервало появление рыбаков, которых словно занесло в кафе сильным порывом ветра. Рыбаки шумно радовались богатому утреннему улову, переставляли столы и стулья и, усаживаясь, долго суетились и толкали друг друга. Один из них двинулся в глубь кафе — перехватить старика официанта, пока тот не спрятался за батареей кофейников.
— Эй, Хайме! Иди-ка сюда! Ты куда это наладился? Ну-ка, ребята, держи его, пока он не заперся в туалете.
— Принеси нам молодого вина — в чистом кувшине и не позже чем через полчаса, Хайме, если только это тебе под силу.
— У меня и без вас хлопот полон рот, сами принесете, — ответил официант и присовокупил крайне неприличное старинное ругательство. Рыбаки восторженно загоготали.
— Как человек, повидавший иные страны, я самозабвенно люблю Испанию, — заговорил Росас. — Я считаю, что мы самый счастливый, самый удачливый народ на свете.
— Вы сумасшедший, — сказал Виланова.
— Бог наградил нас бедностью.
— Начали с витаминов, а кончили ханжеством. — Возмущенный Виланова возвел глаза к небу.
— А бедность порождает добродетель. Воздержанность, стойкость духа, набожность — все это добродетели нашего народа.
— У вас, я вижу, хватило ума не включить в этот перечень целомудрие.
— Как человеческие существа, мы только выигрываем от того, что у нас плохое правительство. Я не возражаю против того, что мы имеем. Во Франции всем подавай всякие там права, в Америке — свободу. Вы обратили внимание на человека, сидящего вон с той красавицей, с которой я разговаривал?
Виланова проследил за взглядом Росаса.
— Он сказал мне, что он профессор философии и свободы у него хоть отбавляй. Я слышал, он по утрам встает все еще во хмелю — одевает его коридорный.
— И что же, по-вашему, это доказывает?
— Он человек будущего, продукт богатства, демократии и скуки. И в конце концов умрет от тоски. Его ничто не может зажечь по-настоящему. Он напоминает мне раскормленных тоскующих животных, собранных в зоопарке. А тут, у нас, жизнь еще до сих пор рискованное похождение. Вы только послушайте, о чем толкуют эти рыбаки. А ведь они — продукт темного прошлого.
— А теперь шутки в сторону, — проговорил Франсиско, — давайте я расскажу вам, что произошло этим утром. — Он властно опустил руку на плечо соседа. — Утро в заливе было великолепное. И помолчите, пока я буду рассказывать вам, какой улов вы упустили.
Франсиско картинно вперил взгляд в сияющий горизонт, внезапно открывшийся ему сквозь грязные стены кафе. Его голос, слегка приглушенный, окреп и зазвучал более внятно.
— Удача сопутствовала мне… (Слушайте, — зашептал Росас, — слушайте.)
— На заре я спустился к морю и, увидав, что день не сулит беды, взял лодку и уплыл в открытое море, где катились огромные валы…
— Невежествен, как конкистадор или один из королей-католиков, — шептал Росас. — А говорят они все, как персонажи Лопе де Веги, и вообще это самые чудесные люди на свете. И вы хотите меня уверить, что, родись они по ту сторону границы, имей возможность читать спортивные газеты, есть каждый день мясо и имей кучу прав, им бы лучше жилось? Послушайте, куда это вы так внезапно собрались?
Поднявшийся со своего места Виланова сказал:
— Как видите, я уже выпил свой кофе.
— Ах так, прошу прощения. А я и не заметил. И следовательно, вы удаляетесь без дальнейших церемоний!
— Прошу прощения, — ответил дон Федерико. — Вы должны признать, что обычно я как-то мирюсь с вашим присутствием, но сегодня мне хотелось бы побыть наедине с самим собой. Я только что получил известие, которое отнюдь не располагает меня выслушивать бесплодные умствования!
Росас возмущенно посмотрел вслед удалявшемуся Виланове. Высокомерный дурак! Что до меня, то на сей раз между нами действительно все конечно. Пусть теперь побегает за мной, пока его кондрашка не хватит. Лучше уж я перестану ходить в кафе, только бы не встречаться с ним.
— Подайте счет, — сказал он официанту. — Мне не нравятся посетители вашего кафе…
— Вам они не нравятся?! — отозвался официант. — Знали бы вы, что думаю о них я!
Глава XV
Выйдя из кафе, дон Федерико сразу же пожалел о своей несдержанности. Пока не поздно, надо взять себя в руки, не то можно лишиться последнего друга; хотя так ли уж это важно, невольно подумал он. Правда, сегодня я больше, чем обычно, заслуживаю снисхождения. Утром он получил письмо от сына, в котором тот сообщал, что в результате расследования дела о студенческой демонстрации, происходившей более года назад, его отчислили из университета. «А вдруг это из-за меня? — мелькнула тревожная мысль. — Вряд ли простое совпадение, что удар этот обрушился почти сразу после визита полковника. Жаль мальчишку. Карьера его загублена. Если всему виной моя дурацкая задиристость, язык бы мне надо вырвать, вот что!»
Он посигналил и свернул на главную улицу, и сразу же дорогу ему загородил расхлябанного вида гражданский гвардеец.
— Читать умеете?
От неожиданности Виланова вздрогнул и остановил мотоцикл.
— Простите?
— Не видите, что ль, объявление? Что в нем сказано?
Стараясь не терять хладнокровия, дон Федерико поднял глаза и прочел: «Одностороннее движение».
— Правильно! — сказал гвардеец. — А теперь заворачивайте. Да в другой раз постарайтесь за рулем не спать.
— Послушайте, любезный, — запротестовал было Виланова.
Он не понимал, почему ему не дают проехать по совершенно пустой улице, и его взбесило наглое обращение стражника. Но было совершенно очевидно, что тот не задумываясь арестует его, и Виланове пришлось повернуть обратно и направиться по плохой дороге вдоль берега моря.
Злость душила его, он ничего вокруг не замечал и только немного погодя увидел, какие разительные перемены произошли тут за последние три месяца. Раньше прямо на прибрежной дороге валялись брошенные как попало лодки, между ними тихо бродили какие-то люди, и тут же под навесами ветхих сарайчиков для солки сардин чинили сети согбенные старухи в черном. Теперь же дорога уходила вдаль безлюдная и очень чистая, отгороженная от пляжа лавровыми деревцами в разноцветных кадках. На месте вонючих сарайчиков выросли роскошные особняки — при полуденном солнце их ослепительная белизна резала глаза.
Основатели Торре-дель-Мар строили свои дома расчетливо и практично, используя дешевый местный материал — песчаник красивых оттенков — и не забывая о том, что деревушка открыта зимним штормам. Просторные, приземистые, крепкие дома были обращены задней стеной к морю и прятались один за другим, словно следуя хорошо продуманной системе обороны. Тех, кто строил эти дома, заботили лишь грядущие штормы да революции, и только благодаря чистой случайности их дальновидность принесла столь приятные для глаз результаты.
Теперь в деревушку нахлынули спекулянты, которых море и ветры страшили не больше, чем законы, и какие-то черты характера этих людей — бесшабашность, богатое воображение и даже мечтательность — отразились при постройке фешенебельных вилл на участках, открытых натиску всех стихий. Виллы являли собой смесь мавританского стиля с калифорнийским — цветное стекло и электрические колокольчики, дымовые трубы в виде искривленных стволов деревьев, затейливо вымощенные садовые дорожки и вращающиеся разбрызгиватели, орошающие не виданные здесь прежде газоны. Тут, окруженные оравой алчных родственников, обитали добродушно-циничные воротилы черного рынка, вызывавшие чувство завистливого восхищения у жителей поселка, которых они эксплуатировали не сами, а с помощью других, и притом весьма осторожно.
Пораженный этим восхитительным зрелищем, Виланова немного сбавил скорость. В первой вилле происходило какое-то торжество. Стол был вынесен прямо на проезжую часть дороги, и сидевших вокруг него гостей как раз обносили шампанским. Дон Федерико знал, что спекулянты, обожающие пускать пыль в глаза, любят устраивать приемы на открытом воздухе. В человеке, который, по всей видимости, был хозяином, Виланова узнал некоего Альфонсо Валса, головореза с учтивыми манерами и весьма воздержанного в питье; тип этот после нескольких лет отсутствия вновь объявился в деревне. Вале рассказывал что-то забавное. Его окружало плотное кольцо подхалимов, второй круг составляли старенькие, все в трауре, тетушки и троюродные кузины, и, когда великий человек принимался хохотать, смех сначала подхватывали те, кто стоял к нему ближе других, затем он расходился, как круги по воде, охватывая все менее и менее важных родственников, пока, наконец, не начинала хихикать, прикрывая веером беззубый рот, самая старая, никому не нужная тетка.
Виланова совсем сбавил скорость, и машина потеряла устойчивость. Веселая компания заняла почти всю проезжую часть дороги, и Виланова намеревался проехать по узкой полоске песка между столом и обочиной, но тут Вале вдруг заметил его, вскочил, отбросив стул, и кинулся наперерез мотоциклу. Чтобы не наехать на него, Виланова резко свернул. Мотор заглох, и Виланова, выставивший вперед ногу, чтоб не упасть, с размаху повалился на Валса, который заключил его в свои объятия. Двое гостей, испуганно причитая, поспешили на помощь и освободили дона Федерико от мотоцикла.
— Дорогой мой Виланова, — Вале перевел дух, — надеюсь, я вас не испугал. До вас ведь не доберешься. Я не мог упустить такой счастливый случай…
Дон Федерико сбросил со своего плеча руку Валса и сказал:
— Буйнопомешанный!
Глядя на него веселыми навыкате глазами, Вале примирительно улыбнулся и показал крупные, крепкие, чуть желтоватые зубы — пять сверху, три снизу. Это был грузный, раздобревший от успехов человек, не лишенный грубовато-добродушного обаяния, особенно ненавистного Виланове. Стоило улыбке сойти с лица Валса — и оно стало грустным и немного задумчивым.
— Мог ли я рассчитывать, что вы меня вспомните? Ведь когда вы видели меня в последний раз, я был еще совсем мальчишкой. Я Альфонсо. Альфонсо Вале. Это имя что-нибудь говорит вам?
— Как же, — ответил дон Федерико. — Я прекрасно помню. Вас ведь отправили в исправительную колонию для несовершеннолетних?
И снова Вале улыбнулся своей широкой улыбкой, теперь чуть грустной, и сокрушенно покачал головой. Гости, отошедшие на почтительное расстояние, тоже все как один грустно улыбнулись, словно чувства хозяина молниеносно передавались им.
— Что ж, лучше когда тебя хоть как-то помнят, чем позабудут совсем, — сказал Альфонсо.
— Будьте любезны, распорядитесь, чтоб мне вернули мотоцикл.
— Послушайте, — сказал Альфонсо, — вы должны извинить меня, что я устроил вам эту засаду, но что мне оставалось делать, если для посетителей вас никогда нет дома, а на письма вы не отвечаете? Мне надо обсудить с вами очень важное дело. Уверяю, это займет не больше минуты.
Он энергично подталкивал дона Федерико к столу. Все движения его грузного тела были проворны и ловки. Гости сидели потупившись и молча вертели в руках бокалы.
На столе перед доном Федерико появилась карта, и он рассеянно посмотрел на нее.
— Уверен, что она вас заинтересует, — весело заметил Альфонсо.
— Не вижу для этого ни малейшего основания, — ответил Виланова, — ни малейшего!
— Я только что стал землевладельцем, — пояснил Альфонсо. — В честь этого и торжество. Всей землей на несколько километров вокруг владели три человека. А теперь ею владеют двое — вы да я. Я только что купил землю других землевладельцев.
— От души сожалею.
— Ну, полноте, — сказал Альфонсо, — разве так поздравляют новых соседей? Неужели вы не выпьете со мной бокал шампанского?
— Я не люблю шампанское, — ответил дон Федерико. — Раз уж вы стали землевладельцем, желаю вам успеха. И все-таки мне жаль, что тем двоим пришлось эту землю продать.
— Да они ухватились за эту возможность руками и ногами, — сказал Альфонсо.
Мимо них, тяжело ступая, быстро прошли несколько рыбаков, сгибаясь под тяжестью только что окрашенных сетей. Красно-бурая краска, как кровь, стекала по их рукам и ногам. Один рыбак взмахнул свободной рукой, Альфонсо в ответ поднял пустой бокал и сказал: «Желаю удачи». Затем он схватил карту, встряхнул ее, снова швырнул на стол и ласково пришлепнул.
— Я собираюсь набить ваши карманы деньгами, — сказал он Виланове.
— Что вы сказали? — Виланова даже вздрогнул от испуга. Он поймал себя на том, что со страхом смотрит на свой карман — не осквернен ли он уже прикосновением денег. Палец Альфонсо двигался по крупномасштабной карте — вниз по склонам гор, в долины и оттуда прямо к побережью.
— Вы вообще-то знаете, сколько у вас земли?
— Настоящее чудовище! — воскликнул дон Федерико, словно делясь мыслями с кем-то, кто незримо присутствовал за столом.
— Готов держать пари, что вы даже приблизительно не знаете. Те двое тоже не знали. Глядите, граница этих владений доходит вот до этой гряды гор, тянется вдоль нее километра два и затем спускается в долину. До левого берега реки вся земля ваша. — Палец Альфонсо, украшенный бриллиантовым перстнем, не спеша двигался по карте, подобно несущему драгоценную кладь верблюду. — И все это голые скалы. Ни дать ни взять поверхность Луны.
— Вы так считаете?
— Отсюда и до самой Сахары нет земли бесплоднее. Это так, к слову — я на попятный идти не собираюсь. А это ваша так называемая рощица. Подлесок в ней заглушил деревья. Расчистка ее обойдется в кругленькую сумму.
— Обойдется дороже, чем стоит сама роща? — Дону Федерико определенно нравилось направление, какое принял разговор.
Вале примирительно махнул рукой.
— При том, как веду дела я, приходится не только сливки снимать. — Палец двинулся дальше. — Тут вот немного лучше. Здесь у вас клочок земли размером с почтовую марку, на котором лет тридцать назад выращивали дыни.
— Тыквы, — возразил Виланова.
— А на этом вот склоне я вижу несколько виноградных лоз.
— На которых родится кислый виноград величиной с горошину, — добавил дон Федерико.
— Ну, вместо старых лоз всегда можно посадить новые.
— Только не здесь, — заметил дон Федерико. — Уже много лет, как там иссяк родник.
— Счастье еще, что это не повредило пробковым дубам, которые растут вот тут, — показал Альфонсо. — У вас сотни две приличных деревьев.
— На них напал долгоносик. Какой-то новый вид — название я забыл. Эта зараза распространилась и на ту большую плантацию, которую вы только что приобрели, — знаете, ниже, в долине. Надеюсь, при продаже это учли и вам соответственно сделали скидку.
Альфонсо рассмеялся.
— Я обязательно займусь этим попозже. Так о чем же мы с вами говорили? Ах да, известно ли вам, например, что вы владеете золотыми приисками? Правда, насколько я знаю, они никогда не могли соперничать с перуанскими, даже в семнадцатом веке — до того, как последние закрыли. Ну а потом этот чудесный пляж тоже принадлежит вам. А вы знаете, что я тут вижу? Первоклассный отель и при нем заведение, где приезжих иностранцев обдирают как миленьких. Что-то вроде Лидо, а?
— А я не вижу.
— Чего не видите?
— Ни отеля, ни Лидо.
— Ну я говорю, они мне представляются. Я вижу йх мысленно, — пояснил Вале, словно говорил с десятилетним ребенком.
— А я и мысленно не вижу.
— Ваш отец, — продолжал Альфонсо, — покупая эту землю, платил по три сентимо за пальмо[6]. Сегодня продажная цена ей — тридцать сентимо. Я же даю вам пятьдесят. Заметьте — я ничего от вас не утаиваю и, так сказать, кладу карты на стол. Лишние разговоры ни к чему. Я никогда не торгуюсь.
— Я тоже.
— В таком случае…
— В таком случае я, с вашего разрешения, удаляюсь.
— Значит, мое предложение вас не интересует?
— Нисколько.
Вале сложил карту и сунул ее в карман. Философски воспринимая жизнь, он не допускал, чтобы временные неудачи лишали его душевного спокойствия.
— Надеюсь, вы об этом не пожалеете.
— Что же мне жалеть?
— Кто знает. Предложение выгодное. Иногда люди, поняв, что отвергли хорошее предложение, жалеют о сделанном. Мало ли что может произойти. Обстоятельства меняются.
— Не для меня, — сказал Виланова.
— Чем черт не шутит. Так или иначе, ничего не потеряно. Если передумаете, вы знаете, где я живу.
Дон Федерико сел на мотоцикл, резко нажал на стартер, не сразу обрел равновесие, а затем, выпрямившись, дал полный газ с тайным намерением обдать всех пылью.
Альфонсо Вале с минуту смотрел ему вслед, потом подозвал секретаря:
— Закажите разговор! С Мадридом.
Глава XVI
На другое утро после того, как Коста вернулся из Барселоны, его вызвали в полицейский участок. Причем вызов был сделан в очень странной форме. Полный нетерпения, спускался он к заливу, хотелось поскорее сесть в лодку и добраться до Ловушки Дьявола — проверить, не попалась ли на крючок большая меру. Он уже и так потерял целый час, поджидая, когда вернутся первые лодки, чтобы взять для наживки свежей макрели, — и тут его остановил капрал. А затем началось совсем непонятное. Капрал заговорил с Костой, как с равным.
— Вот что, загляните к нам как-нибудь, когда пойдете мимо. Лейтенант хочет поговорить с вами.
Лейтенант! Удивленный Коста смотрел не на капрала — молодого человека в чистом воротничке и лакированной форменной фуражке с черным блестящим козырьком, — а мимо него, на сизое пятнышко, возникшее на безоблачном горизонте. Утро было совсем безветренное. Облачко черного дыма от прошедшего траулера все еще висело над водой. Несколько лодок рыбачило неподалеку от берега. Портится день, подумал Коста, на глазах портится. Еще три-четыре часа продержится погода, не больше. Да и сейчас уж рискованно выходить в море. А как же лейтенант… разве можно заставлять ждать лейтенанта?
Снова пришлось вытаскивать из-под кровати пахнувший плесенью сундук и извлекать из него парадный костюм. Коста побрился, надел жесткую черную с зеленым отливом шляпу и вышел из дома. Взглянув на небо, он увидел, что над вершинами гор уже клубятся и тянутся ввысь рваные серые облака. Все ясно. После визита в полицейский участок выйти в море не удастся. И какого черта понадобилось от него лейтенанту? Одно то, что капрал говорил с ним вежливо, было очень подозрительно.
И опять неожиданность. Коста шел вдоль берега, когда с ним вдруг заговорил рыбак, стоявший прислонясь к низкому парапету.
— Что ты думаешь насчет этого? — Рыбак кивнул в сторону видневшегося вдалеке на небе сизого пятна.
— Ничего страшного, — откликнулся Коста, но, почувствовав в словах рыбака не просто вежливость, а искреннее желание услышать его соображения насчет погоды, добавил: — Посмотри лучше на те вон облака. Часа через два налетит, не иначе.
— Собираешься утром в море? — спросил рыбак, вопросительно оглядывая темный наглаженный парадный костюм Косты.
— Да как тебе сказать… не знаю, — ответил Себастьян. — Еще посмотрю. — Он показал глазами на небо и отважился дружелюбно и немного заискивающе улыбнуться.
— Я тоже подожду, — понимающе кивнул в ответ рыбак, — юго-восточному налететь недолго. Если стихнет, попытаюсь после полудня.
— Что ж, желаю удачи.
— И тебе тоже. Удачи нам всем не хватает.
— Может, еще обойдется, — сказал Коста.
— Может, и так.
Но пока они говорили, горизонт прочертила белая линия, отделившая небо от моря, — далекие ветры уже гнали к берегу волны. На берегу появились рыбаки; они стали по двое, по трое перетаскивать лодки повыше, в безопасное место. Коста снова задержался — стал помогать мужчинам, волочившим одну из самых тяжелых лодок. Все благодарили его, и он почувствовал — благодарили почти дружески. Рыбак по имени Марко в изнеможении опустился на песок, и Коста ухватился вместо него за веревку. Во время гражданской войны Марко сильно покалечило, и все рыбаки считали, что должны ему помогать. Когда лодку подтянули в надежное место, Марко подковылял к Косте.
— Прямо и не знаю, что бы мы стали делать, если б так и дальше пошло. Это я про косяк тунцов говорю. Того и гляди, разбогатели бы.
Марко разорвало шрапнелью щеку, и голос выходил у него сразу и изо рта, и из образовавшейся в щеке дыры. Коста внимательно вслушивался в его мычание, радуясь, что улавливает смысл слов Марко.
— Думаешь, ветром тунцов угонит? — спросил он.
Из дыры в щеке Марко вырвался насмешливый свист.
— А то нет. Показались тунцы — значит, готовься к хорошей буре. Это уж всегда так!
Слушая воркотню Марко, Коста впервые за много лет ощутил надежду: если вместе с тобой сетуют на жизнь, значит, видят в тебе товарища. Холодная, непроницаемая стена неизменной вежливости больше всего страшила Косту.
На улице около полицейского участка никого не было, но, когда Коста хотел войти в ворота, из-за угла показалось двое рыбаков, и он, заколебавшись, прошел дальше. Он и сам не понимал толком почему, но ему не хотелось, чтобы его здесь видели. В полицию вызывали по самым разным поводам, и все же он предпочел бы, чтобы его визит прошел незамеченным. Все трое небрежно, на ходу поздоровались, буркнув себе что-то под нос. Коста при этом не поднял глаз. Он свернул за угол, прошел еще метров сто, осмотрел витрину новой часовой мастерской и повернул обратно. В караулке, куда Коста вошел, сидел на стуле солдат. Он вскочил и показал ему на дверь в канцелярию. Там за столом сидел капрал, которого Коста видел утром, и перед ним стояли те два рыбака, что попались ему навстречу, — он и со спины узнал их. Капрал смотрел на рыбаков сурово и, разговаривая с ними, рявкал, будто командовал на плацу. Увидев Косту, он снял телефонную трубку. Аппарат звякнул, на том конце что-то пискнуло, и капрал негромко сказал: «К вам пришли, сеньор». Один из рыбаков чуть повернулся и искоса взглянул на Косту. Голос в трубке снова пискнул, и капрал сказал:
— Слушаюсь, сеньор. Пройдите на второй этаж, — обратился он к Косте.
Себастьян нашел в коридоре дверь с надписью «Старший офицер» и хотел постучать, но дверь сама отворилась, и из комнаты вышла женщина со шваброй и ведром с водой. По пятам за ней, осторожно ступая по влажному полу, шел лейтенант.
— А, Коста, заходи. — Лейтенант протянул ему руку и улыбнулся своей обычной деревянной улыбкой. К пряжке ремня у него прилип кусочек пасты для чистки металла. — Присаживайся. Хочешь сигарету?
Коста сел на краешек сильно потертого дивана. Лейтенант вышел из-за стола и придвинул к нему свой стул. Над головой лейтенанта в лучах солнца покачивалась закрученная в трубку липучка от мух. Коста неловко достал из туго набитой пачки сигарету — сигареты были испанские. При этом он уронил еще одну на пол и нагнулся, чтобы поднять ее.
— Не беспокойся, оставь, — сказал лейтенант и поднес Косте зажигалку.
Коста нерешительно подался вперед, кончик его сигареты никак не попадал в узкий язычок пламени.
— Мы, друг мой, раньше не встречались, — заговорил лейтенант, — но я о тебе много чего знаю. У меня в столе лежит донесение. Там сказано, что малый ты хороший.
Коста не нашелся что сказать. Он был в смятении. Приветливая улыбка на губах лейтенанта казалась неестественной, словно бы нарисованной на его худом суровом лице.
— Надежные люди сейчас так редки, — продолжал лейтенант. — Расскажи-ка что-нибудь о своих боевых делах. Ты ведь отличился, сражаясь в наших рядах, верно?
Коста нерешительно кивнул:
— Верно, сеньор.
Он был удивлен и немного напуган приветливостью лейтенанта, но в то же время чувствовал, как начинают кружить ему голову слова одобрения, которых он так долго и мучительно жаждал.
— Ведь ты, кажется, даже получил награду? — спросил лейтенант.
— Как же, сеньор, получил. В госпитале, после Тэруэля.
— Тэруэль. — Лейтенант пристально глядел на Косту. — В какой же части ты был?
— В Девятнадцатом Наваррском. — Коста произнес название прославленного пехотного полка с нарочитым безразличием, нередко означающим тайную гордость. Ведь он как-никак, по принуждению или нет, сражался с ними плечом к плечу, проливал вместе с ними кровь и в конце концов имеет право несколько минут порадоваться, сознавая, что это поднимает тебя в глазах других. — Мы тогда защищали горный хребет.
— Поразительно, — тихо произнес лейтенант. — Совпадение прямо-таки знаменательное. Я ведь тоже был там.
— Вы, сеньор? Подумать только! Позвольте узнать, в какой части?
— В пулеметном полку. Девятнадцатый был у нас справа. Они здорово держались. А не то бы нам крышка.
— Я их как сейчас слышу, сеньор, ваши пулеметы. Отобрали тогда нас несколько человек — самых надежных, сами понимаете, — чтоб отбить первую волну контратаки… Небо показалось нам тогда с овчинку, скажу вам…
— Ты, значит, храбрый солдат, — сказал лейтенант. — Там-то тебя, видно, и ранило.
— Только двое из нас уцелели. Обоим, конечно, досталось. Дали нам жару… Уж как водится.
Коста, который столько лет чувствовал себя изгоем, жадно впитывал слова одобрения. И он снова готов был на непростительный самообман и ужасную глупость: готов был приписать своим заслугам то, что столь злорадно подстроила судьба.
Война. Он ненавидел войну. И, трезво размышляя, понимал, что это несусветная глупость, уклониться от участия в которой стремится каждый человек, кроме разве круглых дураков. Но сейчас слова одобрения опьянили Косту — больше всего на свете ему хотелось поговорить о всяких фронтовых переделках, которые любят вспоминать при случае былые однополчане.
Сквозь маску бесстрастия, которая за последние пять лет службы словно застыла на лице лейтенанта, проглянуло что-то новое. Его вдруг охватило нестерпимое чувство одиночества, но, признаваясь себе в этом, он знал, что больше оно уже его томить не будет. Кальес не искал в дружбе ни общности взглядов, ни сходства характеров, его не привлекали в людях ни богатство, ни положение в обществе. Ему довольно было — как в случае с Костой, — что кто-то, как и он, прошел через великие, священные для него испытания. Судьба решила, что они оба должны были оказаться в одном и том же месте, в один и тот же роковой день. Не подозревая о существовании друг друга, они стояли рядом и вместе отражали атаки жестокого врага. Лейтенанту стало ясно, что он не сможет использовать этого человека в своих целях.
— Давно ты мыкаешься в здешних краях?
В последние слова лейтенант ухитрился вложить крупицу презрения, которое испытывал к нищим безбожникам, обитавшим на побережье Средиземного моря.
— Всю жизнь, сеньор, — отвечал Коста, — вот только когда на войне был… — Он скривил рот, понимая, что в ответ лейтенант ждет от него столь же презрительной улыбки. Но он не собирался объяснять Кальесу, каково это — быть единственным победителем среди побежденных.
Лейтенант не знал, что же сказать еще. Он наметил тонкий план — сначала надо было завоевать доверие Косты и уж потом попробовать его завербовать. Но после всего, что он узнал, такой способ действия показался ему нечестным. Ведя служебные переговоры, Кальес никогда не терялся, но он совсем не умел поддерживать обыкновенную пустую беседу, в которой не было места ни допрашивающему, ни жертве.
— Знаешь, Коста, — заговорил он, — временами мне почему-то кажется, что мы все еще находимся на вражеской территории — мы оба. И каждый из нас на свой лад ведет холодную войну с окружающими. Не думай, что я не знаю, как они с тобой обходятся. Сейчас нам нужна взаимная поддержка, и, может, даже еще больше, чем тогда, под Тэруэлем… — Лейтенант оборвал себя на полуслове, почувствовав, что непроизвольно сбивается на привычный официальный тон. Он с беспокойством взглянул на Косту.
— Не сомневайтесь, сеньор, все, что смогу, — отвечал Коста, чувствуя, что от него чего-то хотят, но не понимая, что именно. Лейтенант становился все любезнее, и в душе Косты зародилось подозрение.
«Когда им чего-нибудь надо, они всегда так, — думал он. — Только зря надеется, что я поступлю на службу в его гестапо».
«Вместе были под Тэруэлем, — размышлял Кальес. — Более крепких уз нельзя себе вообразить. Придумать бы что-нибудь, чтоб получилось по-дружески…»
— Вино пьешь? — спросил он. — Я прикажу солдату сходить. — И лейтенант, много лет улыбавшийся лишь мышцами лица, желая подбодрить Косту, вдруг широко осклабился.
Коста весь подобрался. Сомнений не оставалось! Теперь ему хотелось только одного — поскорее да половчее уйти.
— Если не возражаете, сеньор, — заговорил он, — я вообще-то спешу. Еще с утра договорился…
Лейтенант не стал его задерживать.
— Ну конечно, конечно. Понимаю. Тебе надо работать, и работа не ждет… Обещай только, что вскоре опять зайдешь. — Он чуть ли не с мольбой заглянул Косте в глаза. — Нам ведь есть что вспомнить. Когда будешь свободен, я хочу сказать. Безо всяких обязательств. Лучше всего после пяти. Если захочешь, хоть завтра. — Он встал и протянул руку.
Коста поблагодарил лейтенанта и пробормотал что-то невнятное, не связывая себя обещанием прийти еще раз. «За дураков нас считают, — думал он, уходя. — Все их хитрости насквозь видно».
Из окна дома напротив на улицу смотрела прикованная к постели древняя старуха; в полумраке ее сморщенное коричневатое лицо нельзя было разглядеть. В ее лишенной всяких впечатлений жизни даже пробежавшая мимо собака была событием. Поэтому, когда на улице появился Коста, старуха не преминула отметить: «Вышел наконец-то! А вырядился-то как! Долго же он там пробыл. Отец его — вот это был человек, и ведь подумать только, стоило мне тогда лишь сказать словечко! Да вот умер он, а теперь таких людей больше нет. Ни разу такого не встречала. Интересно, чего это его сынок торчал там так долго?»
Коста снова шел вдоль песчаного побережья. Ветер успел сорвать облака с горных вершин, растеребил их и словно пухом затянул все небо. Он позвякивал нитями бус в дверях домов и мел по рынку блестки рыбьей чешуи. Коста с тревогой смотрел на все это; ему не нравился вид потемневших от водяной пыли скал и белые гребни волн там, где горизонт надвинулся на берег. Опасения его сбывались — проверить снасти сегодня не удастся, если же большая рыба попалась на крючок два дня назад — что вполне вероятно, — она сейчас уже засыпает. А если море и завтра не успокоится и на его лодчонке выйти будет опасно, рыба начнет портиться и на четвертый день ее уже не продашь. Это была реальная угроза, риск, которому постоянно подвергались все рыбаки… Все равно что игра в кости, где неожиданности подстерегают тебя на каждом шагу. Ты можешь вступить в игру, только выбросив шестерку, но вслед за шестеркой, еще не успев ей порадоваться, выбрасываешь комбинацию костей, которая аннулирует все набранные очки, и приходится начинать все сначала.
Коста стоял у воды, а из прибрежного кафе за ним наблюдали сидевшие за столиком четверо рыбаков. Двоих из них Коста встретил по дороге в полицейский участок, а потом видел в канцелярии. С ними сидели Франсиско и Симон.
— А почему ты уверен, что он не был там по такому же делу, что и вы? — спросил Франсиско.
— Да потому, как он себя вел. Вид у него был как у побитой собаки. Сам посуди, Франсиско, если тебя вызывают в участок, чтобы оштрафовать или избить, не все ли тебе равно, видел кто-нибудь, как ты туда входил, или нет. Заходишь, получаешь, что тебе причитается, и выходишь.
— Он хотел войти туда и вдруг увидел нас, — заговорил второй. — И заметался туда-сюда. Чем же ты это можешь объяснить?
— Понятно, почему у нас такое творится, — сказал первый. — Теперь все ясно. Капрал говорил с ним так, будто он лейтенанту брат родной. Ты когда-нибудь слышал, каким голосом обращаются полицейские к людям не того сорта, что мы с тобой? «Не угодно ли вам, сеньор, пройти к лейтенанту?» Так и слышу все время эти слова… Что до меня, мне никаких доказательств и не было нужно. Я это и так давно понял.
— Что ты понял? — спросил Франсиско.
— Ты же не станешь отрицать, что в последнее время кто-то нас постоянно выдает. Кто же еще, как не он?
— Надо от него избавиться, — предложил первый. — Дольше такое терпеть нельзя.
Коста, стоявший внизу около мола, зажмурился — в глаз ему попала первая капля дождя. Все вокруг окрасилось в тот же серебристый цвет, что и небо, и ветер, обрывая края надвигающегося ливня, швырнул в мужчин, наблюдавших за Костой, пригоршню капель.
— Против него нет ни одной прямой улики, — сказал Франсиско.
— Ну хорошо, а кто мог выдать Педро в тот раз, когда его взгрели из-за перегруженной лодки? Один только Коста и видел, как тот причаливал.
— А как насчет тех двух парней, что взяли без разрешения на борт туристов? Они еще не захотели ехать с Костой, потому что у него лодка мала.
— И все равно есть одно обстоятельство, которое мне совсем не по душе, — сказал Франсиско, — и тебя, Симон, это касается больше всех. Ты всегда руководствуешься тем, нравится или не нравится тебе человек. А не кажется ли тебе, что пора постараться забыть то, что миновало и с чем покончено?
Симон повернулся к Франсиско, и лицо его вдруг исказилось страшной мукой.
— Забыть, говоришь ты? Подожди-ка, прежде чем продолжить наш разговор, я у тебя кое-что спрошу. Видишь эту штуку там внизу, у дороги?
— Какую штуку?
— Вон ту. Я предпочитаю называть ее так. Памятник погибшим в войну, так сказать.
— Ну и что же?
— Ты хоть раз удосужился прочитать, что на нем написано?
— Читал, и не раз.
— И запомнил?
— Думаю, что да. Не все, конечно!
— А я запомнил — слово в слово. Там сказано: «Павшим за Господа Бога и Испанию». И дальше идет много имен. Есть среди них имена твоих братьев?
На лице Франсиско отразилась досада.
— К чему ты это?
— Нет там имен и моих сыновей, которые умерли в лагере от ран, не получив последнего причастия. А разве они умерли не за Испанию? И не за бога? И какое право имели люди, поставившие этот камень, решать, кто умер за бога, а кто нет? Зачем это за него решать? Пусть бы он сам разобрался, кто отдал жизнь за него! Я так считаю, что мои сыновья отдали жизнь за бога.
«И когда это кончится, все одно и то же», — думал Франсиско.
Симон же сказал:
— Знаешь, порой я боюсь, что у меня затуманится рассудок. Я боюсь забыть. Ведь все мы стареем. И тогда я говорю: возблагодарим бога за то, что у нас есть памятник. Спасибо тем, кто его построил. И пусть никто и никогда его не разрушит. Пока он стоит, я не забуду. Вот ответ на твой вопрос.
Буря оборвала их спор. Дождь хлестнул по лицам рыбаков и оросил их руки, будто слезами боли. Крупные вздрагивающие капли задерживались на кирпичах и оштукатуренных стенах, и юркие ящерицы скользили по камням, ища убежища в расщелинах. Улицы опустели, но вскоре появились ребятишки, они пускали бумажные кораблики в бурных мутных потоках и распевали веселую песенку про какую-то давнюю трагедию, которая теперь вспоминалась как забавное происшествие.
Глава XVII
Коста наблюдал, как постепенно стихал дождь, как выглянуло из-за облаков солнце и ожили вокруг все краски. А потом стих совсем и ветер, побежденный горячим дыханием лета. Остаток дня Коста слонялся по берегу, смотрел, как постепенно успокаивается море, и гадал, насколько сильно будет волнение, которое к утру обязательно достигнет прибрежных вод, и сможет ли он выйти на своей лодке. Косту одолевали дурные предчувствия.
Он долго не шел домой, пока в потухшем вечернем небе не растаяли очертания верхушек сосен. Старуха мать хлопотала во дворике, готовя ужин.
— Вернулся? — спросила она. — Как же все было?
— Да не сказать, чтоб плохо, — ответил он. — Беспокоиться, во всяком случае, нечего.
— Садись. Сейчас все будет готово.
Коста уловил отвратительный запах варившейся в кастрюле араны.
— Да мне что-то не хочется есть, — сказал он.
Только что-нибудь повкуснее араны могло бы пробудить у него аппетит после всех волнений этих дней. Предстоящее томительное ожидание казалось невыносимым. Двенадцать часов отделяли его от завтрашнего утра, когда он выйдет в море, и он не представлял, как убить оставшееся время. Теперь, когда беспокойство, связанное с посещением Полицейского участка, немного улеглось, с новой силой вспыхнула притихшая было тревога за Элену. Сегодня вечером должно было прийти обещанное письмо, и Коста знал, что ему будет страшно распечатать его.
— Чего ему было надо? — спросила мать.
— Кому?
— Лейтенанту.
— Ничего. Захотел поговорить со мной. Только и всего.
— Ну, это хоть что-то новенькое. Впервые кто-то из нашей семьи побывал в полиции и вернулся не беднее, чем был раньше.
— Да правда же, все в порядке, — уверял Коста. — И рассказывать нечего.
— О чем же он захотел с тобой поговорить?
Коста попытался пропустить слова матери мимо ушей и, открыв шкаф, принялся перебирать лежавшие там рыболовные снасти, однако мать не отступалась, и он понял, что кое-что рассказать ей все-таки придется.
— Ну, раз уж тебе обязательно надо знать, ладно, — это все насчет армии…
Коста лихорадочно соображал, что ему сказать и о чем умолчать, прекрасно понимая, что она со своей подозрительностью может вообразить, расскажи он ей все, как было.
— Видишь ли, оказывается, мы оба были под Тэруэлем. Это когда всех парней вроде меня, в которых они не были уверены, отправили на передовую. Я же рассказывал тебе… там меня и зацепило осколком, еще до того, как я ухитрился смыться из пехоты в тыловые части…
Парней, в которых они не были уверены… с которых нельзя было спускать глаз… все те же затасканные доводы в свое оправдание, которым она заставляла себя верить, подобно тому как смышленый ребенок упрямо заставляет себя верить в добрых фей.
— Он не просил тебя шпионить для них? — вдруг спросила мать.
— Конечно, не просил. Просто разговаривал со мной по приятельски — мы же служили в одних частях. — Коста запнулся, почувствовав, что должен в свое оправдание сказать что-то еще. — В конце концов, откуда ему знать, как все было на самом деле? Мне ведь еще как приходилось вертеться, не то бы меня живо пустили в расход.
Старуха, медленно ступая, стараясь не делать лишних движений, пошла за кастрюлькой и снова, в который уж раз, подумала: до чего же странно — незаметно подкравшаяся старость сделала тело таким немощным, а ведь голова по-прежнему ясная.
— Ты бы лучше поел, — сказала она, — завтра у тебя будет нелегкий день.
Она снова ушла и принесла бутылку прошлогоднего вина — слабенького и мутноватого, но и такое было редкостью в их доме. Он удивился. Она села на свое место. Коста взял вилку и ломоть хлеба и отковырнул кусок разварившейся рыбной мякоти.
— А ты разве не будешь есть? — спросил он и посмотрел на мать. Она покачала головой.
Уже почти совсем стемнело. «О чем она думает?» — размышлял Коста. Его беспокоило, почему мать перестала задавать вопросы, не позволив ему пустить в ход отговорки, которые он успел за это время придумать.
Приняв решение, старая женщина почувствовала потребность вдосталь насмотреться на знакомые вещи. Она встала и зажгла в ' доме свет. Все предметы стояли на своих местах, до того привычные, что глаз уже перестал их замечать, но теперь под ее пристальным взглядом они послушно выступали вперед: парадная утварь на верхних полках, до которых было трудно дотянуться, — красивые расписные кувшины и фляги, ни разу не оскверненные употреблением; фотография мужа, на которого фотограф напялил дурацкую шляпу, слишком сильно увеличенная и оттого, как призрак, расплывчатая; икона святого Петра, которого благочестивые последователи решили произвести в испанского рыцаря, облаченного в доспехи; распятие в позолоченном футляре, с упавшим с креста Христом, который лежал, поверженный, среди римских солдат, увенчанных тюрбанами на манер мавров. «Оставь, я поправлю, — каждые два дня говорил ее муж, и так целых десять лет, — завтра же все сделаю». И эта святыня стала для нее вдвойне священной — именно благодаря его привычке тянуть и откладывать, — привычке, превратившейся после смерти в добродетель; всякий раз, увидав на дне футляра пыльную костяную фигурку, она почти физически ощущала присутствие мужа. Да, каждая пустая комнатка дома, где она прожила почти полвека, хранила крупицу священных для нее воспоминаний.
И сейчас, стараясь до малейших подробностей запечатлеть в памяти свой дом, она вдруг услышала щебетание ласточек — птицы тихонько о чем-то переговаривались под застрехой, пока их не угомонила наступившая ночь. Всю ее жизнь ласточки были тут, рядом, они прилетали каждое лето. Но сейчас она впервые выделила их щебетание из всех остальных звуков — она должна была сохранить его в памяти, потому что оно тоже принадлежало к звукам, наполнявшим ее дом.
— Давай соберемся и поедем в Пуэрто-де-ла-Сельва, — сказала мать.
Неслыханная радость охватила Косту.
— Ты хочешь сказать, что тоже поедешь?
— На той неделе годовщина смерти твоего отца. После нее и отправимся. Ну куда ты без меня денешься?
— Ты хочешь сказать, что совсем переселишься туда?.. Навсегда покинешь эти края?
— Я не хочу тут больше оставаться, — сказала мать. — Тебе понадобится несколько дней, чтобы достать все из верхней кладовой. Хорошо, что я починила сети перед тем, как мы их убрали. Твой отец за этим очень следил. Они все почти как новые.
— Ты правда хочешь ехать на той неделе?
— Это зависит от тебя. Подыскивай жилье, а за мной дело не станет. Я хочу пробыть здесь до пятницы…
— Я забыл сказать тебе кое-что относительно Элены. Когда мы обсуждали, что нам делать, мы подумали как раз о Пуэрто-де-ла-Сельва.
— Наверно, теперь-то уж она согласится выйти за тебя замуж, ведь на новом месте никто ни о чем знать не будет.
Старую женщину душила печаль, и она искала спасения в воркотне.
— Не в этом дело, — сказал Коста. — Дело в деньгах. Она бы в любой момент пошла за меня, если б нам было на что жить.
— В деньгах, — проворчала мать, пытаясь совладать с тоской. — В наше время ни у кого не было денег. Помню, однажды четыре года кряду не ловились сардины, и нашим мужчинам в конце концов пришлось идти в батраки. Голодали они так, что даже просили печь для них хлеб с хвоей, не то бы они за один присест съедали всю свою дневную порцию. Так что ж ты думаешь, тогда и свадеб не играли?
— Она за деньгами не гонится, — упрямо возразил Коста. — Еслй уж кто и виноват, то только я.
В этом вопросе Косту и его мать разделяла преграда — привычка скрывать свои чувства. Не по-мужски это — обнажать свои чувства к женщине перед третьим лицом, пусть даже перед матерью. Ровные, граничащие с безразличием отношения — только это полагалось видеть посторонним. Говоря о своих отношениях с Эленой, Коста каждый раз делал над собой усилие, чтобы подобрать самые вялые, самые бесцветные слова, которые никак не отражали бы его пылких чувств. Поэтому сейчас он только сказал:
— Вообще-то, если Элена не захочет ехать с нами, я готов остаться и тут.
Так впервые сказал он матери о своей любви.
Коста отодвинул тарелку и подошел к калитке; пряный аромат герани заглушал здесь неприятный запах араны. Он стоял там, пока над западными горами не погас в небе последний зеленоватый отблеск дневного света. Мимо двигались темные силуэты рыбаков, беззвучно ступавших на веревочных подошвах. С другого конца деревни, где поставили свой балаган приезжие актеры, доносилась легкая мелодичная музыка, слышался лай собак и размеренный глухой шум прибоя. Дома, расположившиеся вокруг залива, светились в темноте тусклыми точками огней. А в горах, где уже сгустилась ночь, выжигали древесный уголь, и огни костров мигали сквозь мрак.
— Сеньор Коста, вам письмо. — Перед ним возникла фигурка почтальонши в капюшоне, словно темный конус на фоне белого паруса. Тихо поблагодарив, Коста взял конверт и, чтобы не увидела мать, сунул его за пазуху. Он чуял недобрые вести. И если предчувствие его не обмануло, расспросы и сочувствие матери будут невыносимы.
У себя в комнате он разорвал конверт и вынул три листка цветной, пахнущей мылом бумаги, исписанные размашистым, с наклоном влево почерком. Опасения его сразу усилились — обычно послания Элены состояли из двух-трех списанных с письмовника фраз, ничего не говоривших и лишь подтверждавших, что она все еще считает себя с ним связанной.
«Уважаемый друг (все без исключения письмовники советовали быть при обращении сдержанными), примите мои извинения — я так редко пишу вам, потому что мои обязанности оставляют для личных дел слишком мало времени».
Коста пробежал глазами стандартные начальные фра* зы письма. Какая ничтожная доля подлинных тревог и опасений может просочиться сквозь частое сито этих избитых фраз!
«Я не могла даже откровенно поговорить с тобой сегодня, потому что у нас было мало времени и наверно тебе мое поведение показалось странным. Теперь я обдумала все о чем мы говорили и хочу поскорее отсюда уехать Хватит с меня. Но я не могу уехать потому что задолжала Мне нужно тысячу песет Я не хотела тебе об этом говорить но ты говорил про переезд в Пуэрто-де-ла-Сельва и пока мы гуляли я все хотела про это сказать».
В этом месте почерк стал совсем неразборчивым, крупные буквы сливались, и слова набегали одно на другое. Коста поднес листок поближе к маленькой лампе и прочел, напрягая зрение:
«Если я смогу получить деньги через курьера в четверг все уладится но не позже Тогда и не хлопочи зря Извини что прошу у тебя взаймы эти деньги ведь у меня нет на это никакого права».
Дальше Элена написала: «Остаюсь вашим преданным другом и крепко жму вашу руку», но потом зачеркнула эту фразу и добавила постскриптум:
«Если ты достанешь эту сумму, к четвергу я вернусь к тебе если хочешь в деревню, а то уедем в другое место как ты говорил Деньги нужны мне в четверг не позднее потому что в пятницу мой единственный за месяц выходной день и они мне обязательно нужны к этому дню Если этого сделать нельзя я может и увижу тебя еще но не знаю».
А в самом низу, в уголке, она приписала: «Крепко тебя обнимаю», чего раньше никогда себе в письмах не позволяла. Подписи, как всегда, не было.
Коста перечел письмо, отыскивая в нем скрытый смысл, и ему стало еще страшнее. Перечел еще раз, и страх окончательно завладел им. Она, верно, обворовала хозяина, подумал он. Может, отец ее опять заболел. Ведь если человек заразится соблазнами большого города, он способен на что угодно. Труженики земли и моря считали, что соблазнам городской жизни нет предела. На людей, которым хоть недолго приходилось жить в городе, находило настоящее затмение, и они избавлялись от него, лишь миновав установленный на городской окраине шлагбаум. И если Элена схватила городскую заразу, размышлял Коста, она в этом так же не виновата, как человек, заболевший оспой. Нужно только перевезти ее в Пуэрто-де-ла-Сельва, в этот чистый, насквозь продуваемый ветрами уголок у подножья Пиренеев, и там она моментально поправится.
Конечно, она прикарманила деньги, решил он в конце концов, и хозяева дали ей сроку до пятницы, а не то заявят в полицию.
А сегодня уже вторник, ночь, и, значит, чтобы раздобыть деньги, у него есть один только день, до того как курьер отправится в четверг утром в Барселону. Тысяча песет! Только два раза в жизни были у него такие деньги. Имея в пять раз больше, можно со спокойной душой жениться, но чтобы, собрать такую сумму, нужно несколько удачливых лет. За половинную сумму человека могли сравнительно прилично похоронить, хотя через двадцать лет, если родственники не сделают дополнительного взноса, прах будет вынут из погребальной ниши, чтобы освободить место для другого, и брошен в общую яму. Тысяча песет! Сколько же времени могли бы они прожить с матерью на такие громадные деньги, питаясь араной и бобами, а зимой еще и желудями, которые он собирает в лесу? Их сосед вот уже три месяца лежит в постели, дожидаясь смерти, потому что у него нет тысячи песет, чтобы заплатить за операцию, в их деревне не меньше десятка красивых девушек сразу же будут сосватаны, стоит только их отцам упомянуть о приданом в тысячу песет.
Как ни стара лодка, продать ее можно и за тысячу песет, быть может, да только на это нужно время. Лодку покупают не каждый день, и, когда люди решаются на такой шаг, они непременно требуют неделю, чтобы на лодке поплавать, а потом еще несколько дней советуются, брать или не брать, со всеми старыми тетками и дядьями, которые ссужают деньги на покупку, входя в долю. Кроме лодки, у него есть еще рыболовные снасти. Если не запросить дорого, их можно продать и в деревне, а в одном из ближайших городков за них дадут почти настоящую цену. Но для этого надо договориться с владельцем грузовика, заплатить ему вперед за бензин, а потом, глядишь, еще несколько дней прождать, пока не подвернется покупатель.
И тут Коста вспомнил про большую рыбу в подводной пещере; в ней по крайней мере фунтов сто, и на рыбном аукционе за нее можно получить не меньше восьмисот песет. Вот и выход, подумал он, и чем дальше, тем больше крепла уверенность в том, что рыба уже попалась на крючок. Суеверный, как все рыбаки, у которых предрассудки неизменно затмевают доводы рассудка, Коста усмотрел в эпизоде с большой рыбой некое предзнаменование, решительное вмешательство судьбы, которая так долго была к нему сурова, целых пятнадцать лет отворачивалась от него и вот теперь явила знак своей возродившейся благосклонности. Завтра он выйдет в море, уверенность в успехе придаст ему сил, он вытащит из пещеры приготовленную ему прекрасную добычу и уж с ее помощью вызволит Элену из жестокого плена города.
И потому в эту ночь Коста спал спокойно и даже не услышал, как обычно, когда вернулся Молина и осторожно скрипнула отпертая и притворенная дверь.
Глава XVIII
Впервые за много месяцев Молина изменил своей привычке засыпать лишь на рассвете. Пакита с полчаса прислушивалась к его дыханию, затем выскользнула из постели, отерла ладонью с кожи пот в том месте, где соприкасались их бедра, и натянула через голову платье. Потом зажгла тусклую лампу и внимательно вгляделась в лицо Молины. Израсходовав много энергии, он стал похож на покойника: щеки ввалились, рот приоткрылся и перекосился, а зубы при желтом свете несколько посветлели. Разум Молины погрузился в подсознательные глубины детских впечатлений, дыхание с хрипом вылетало из горла, а на лбу сидел и спокойно сосал кровь комар.
Привычным движением Пакита сунула руку во внутренний карман висевшего на стуле пиджака, вытащила бумажник и стала считать деньги. Как мужчина он стоит немногого, размышляла цыганка. Но он куда лучше всех этих пучеглазых лавочников, которые, прежде чем лечь с гобой в постель, крестятся, а потом ведут себя как спортсмены-полуфиналисты… не говоря уже о старых петухах, которые ни на что не способны, пока не заставят тебя выламываться, как мартышка в цирке. Конечно, как мужчина он стоил немногого, и, кроме того, инстинкт подсказывал Паките, что у него, как и у нее, не все в жизни гладко. Тысяча двести песет с мелочью. Она положила деньги обратно в бумажник, а бумажник — в карман пиджака. В конце концов, он обошелся с ней так, словно она была его любовницей. «Хочешь лечь? Если нет, не надо. Как-нибудь в другой раз. Не хочу? Конечно, хочу! За кого ты меня принимаешь?» Иной раз просто необходимо сделать красивый жест. Именно умение делать красивые жесты отличает соль земли — таких людей, как Пепе, — от всего прочего человечества. Оставлю ему его деньги. Все, до последней песеты.
Но теперь, когда красивый жест был сделан, возник все тот же вопрос: а на что же она купит себе утром еду? Пакита взяла стоявший у изголовья кровати электрический фонарик и вышла на крышу; она с облегчением вздохнула, выйдя на воздух из душной каморки, где, как и во всем доме, пахло кошками. На крыше она стала частицей ночи, прохладно струящейся ночи, дарующей тем, кого она сотворила, безграничную свободу.
Пакита нащупала в темноте ручку кладовки, вошла внутрь и зажгла фонарик. Она знала по опыту, что рыбаки из поколения в поколение складывают в таких местах ненужные, отслужившие свое вещи. В кладовке можно было найти сломанные стенные часы, испорченную музыкальную шкатулку, гитару с оборванными струнами — дорогой сердцу забытый хлам, которого в случае пропажи никто и не хватится. Однако не было похоже, чтобы ей удалось поживиться здесь какой-нибудь стоящей вещицей, которую можно спустить приятелю-старьевщику за десятую часть цены, но зато с гарантией, что тебя не предадут. Пакита бродила по кладовке, пробираясь мимо ворохов сетей, трогая старые ацетиленовые фонари и острия гарпунов. На мгновенье взгляд ее задержался на отполированном черепаховом панцире. Большое впечатление произвела на Пакиту картина в перламутровой раме, на которой темнолицый испанский святой поражал неверных, а макет шхуны в стеклянном ларце, искусно сделанный из морских раковин и кораллов, привел ее в восхищение. Этим сокровищем — обладание которым до некоторой степени вознаграждало, как она полагала, за неудобство проживания в доме — Пакита пренебрегла, считая, что такая красота вряд ли имеет какую-нибудь ценность. Единственные стенные часы оказались без механизма, и Пакита совсем было прекратила поиски, когда, приподняв край паруса, обнаружила приемник. Сначала она заколебалась, стоит ли его брать. Его украшало несколько больших кнопок, и только. Взяв в руки приделанные к приемнику наушники, она с сомнением осмотрела выгнутые пластмассовые крышки с хромированной отделкой и подумала: уж десять-то песет за это получить всегда можно. Она вытащила приемник из укрытия, обвязала его куском веревки и отнесла к краю невысокого балкона. С одной стороны дома после итальянской бомбы остался пустырь, где сейчас виднелись кучи битого кирпича, черные гладкие отростки кактуса и пятна лунного света. Сюда-то Пакита очень осторожно и опустила свою находку.
Перед самым рассветом, когда покров ночи вот-вот должен был подняться с поверхности моря, Пакита подошла к дому человека по имени Пабло и разбудила хозяина, швырнув в окно его спальни горсть камушков. В прошлом Пабло был политиком; после бесконечных махинаций и интриг он утвердился в парламенте в качестве независимого радикала, поддерживающего программу социального прогресса и реформ. Это случилось как раз перед победой националистов, упразднивших парламентскую демократию. С тех пор Пабло оставил честолюбивые помыслы. Летом он кое-как зарабатывал себе на пропитание, получая три песеты в час за то, что стоял неподвижно, как истукан, у дверей местного ресторана с меню в руках. Кроме того, он промышлял понемногу контрабандой противозачаточных средств и за умеренную плату мог иной раз охолостить коня.
Пабло сошел вниз и впустил Пакиту. Задыхаясь, он торопливо взбирался вслед за ней по темной лестнице, надеясь где-нибудь на узком повороте коснуться бедра цыганки. Когда они вошли в комнату Пабло, он, совсем задохнувшись, упал на стул. Ему уже перевалило за семьдесят; цвет лица у него был землистый, короткие слабые ноги с трудом носили тело, созданное для преуспевающего буржуа.
— Дорогая крошка, как мило, что ты вспомнила старого друга! — Взбираясь второпях по лестнице за цыганкой, Пабло едва дышал и, вытащив из брюк подол ночной рубашки, отер потрескавшиеся темные губы.
Пакита поставила на стол приемник, и Пабло, отдышавшись, потрогал его приплюснутыми кончиками пальцев.
— Это что еще за музейная редкость, позвольте спросить? Машина для электрошока, что ли?
— Это приемник моего дружка, — ответила Пакита, — я вам про него рассказывала — того, который сейчас отсиживает свое. И между прочим, разрешите вам заметить, это новейшая модель. Он только в прошлом году купил его в Кадисе. На нем можно поймать даже Венесуэлу.
— Любопытно, — заметил Пабло, ковыляя вокруг стола к Паките. — Я бы сказал, что это некая древность, как я сам. Насколько я понимаю, наушников у приемников уже лет двадцать пять как не делают.
— Берешь ты его или нет?.. Да отойди ты от меня, старая обезьяна.
Пабло, пытавшийся заглянуть Паките за лиф, отодвинулся с оскорбленным видом.
Презрительно фыркая, Пакита окинула взглядом комнату — заметила картину на библейский сюжет, под которой увядали со вкусом подобранные цветы, грязную посуду с остатками пищи на столе.
— Какая здесь вонь! — заметила она. — Почему ты не открываешь окна?
— Мы достаточно давно знаем друг друга, дорогая, чтобы быть вполне откровенными, — сказал Пабло. — Должен признаться, твоя машинка меня совершенно не интересует. Но как истинный друг я хотел бы тебе помочь.
— О, без сомнения, — скорчила гримасу Пакита.
— Я имел в виду только лишь денежную помощь. Я бы помог тебе из одного только сочувствия — если ты способна понять, что это такое, — но я сижу на мели. Пришлось отказаться от работы в ресторане — ноги так опухают, что невозможно их втиснуть в туфли… Скажи, дорогая, сколько тебе надо?
Старик наклонился и прикоснулся к цыганке, но она резко оттолкнула его руку.
— Сто, и это лишь пятая часть настоящей цены.
Пабло ушел в другую комнату и вернулся с небольшой пачкой грязных банкнот, из которой отсчитал пятнадцать песет. Он клал бумажку одну за другой на грязную скатерть, и они лежали, съежившись, как осенние листья.
— Это еще за что? — спросила она.
— Есть такая вещь, дорогое дитя, как искреннее сочувствие, — ответил старик, — увы, нет смысла объяснять тебе то, что ты понять не в состоянии… Однако я человечен и, пожалуй, дам тебе двадцать пять песет, если ты…
— С кем это? С тобой?! Господи Иисусе! Надо же!
— Раз так, дорогая, забирай свои деньги и уходи с миром. Боюсь, когда-нибудь и ты узнаешь, что такое старость, хотя, поверь мне, я тебе этого не желаю.
Он посмотрел на свое грузное немощное тело, нетвердо державшееся на тонких усталых ногах, и незаметно прослезился.
— Когда-то… да что говорить, сердце все еще тут, где ему быть положено. На месте! Приходи когда захочешь, дорогая. Буду рад тебя видеть — пусть даже только чтоб поболтать.
Пакита сгребла пятнадцать песет и ушла не попрощавшись.
Глава XIX
«Когда же это я ела в последний раз? — припоминала цыганка. — Вчера, кажется. Да, конечно, меня накормил тот худой парень. Вот и хорошо, что я не взяла его деньги. Этого даже Пепе не одобрил бы!» Она вспомнила, как однажды Пепе, рискуя, что его схватят и повесят за прежние дела, остановил грузовик, в котором батраки с окрестных ферм ехали на футбольный матч. «А ну, вываливайтесь! — услышала она, прячась за деревья, голос Пепе. — А теперь выворачивайте карманы и бросайте все, что есть, на землю». У парней нашлось на всех про всех двадцать песет, и Пепе велел им подобрать деньги, а потом дал им в придачу еще сотню, чтобы выпили за его здоровье. Силой заставил их взять! Вот какой! Шикануть — это он любил и тут уж за ценой не стоял… Ей вдруг пришла в голову мысль, что у Молины есть что-то общее с Пепе. Она не могла бы определить, что именно, но Молина положительно напоминал ей Пепе.
Может, сегодня попозже она его еще встретит. Хорошо бы! И хорошо, что она удержалась и не стащила у него деньги!
Итак, у нее в кармане пятнадцать песет, и одному богу известно, когда она раздобудет еще денег. Пакита была голодна. Вечером ей предстояло участвовать в опостылевшем представлении. Придется спеть две песенки и исполнить два танца, а в зале всего и будет народу, что семь-восемь взрослых, да в переднем ряду два десятка чумазых ребятишек, которых отправили в театр, чтобы они не путались под ногами дома. Вся выручка составит песет пятьдесят, да еще два-три человека наверняка потребуют обратно свои деньги, потому что, мол, программа старая и они видели все номера еще неделю назад. А какая бы ни была выручка, за освещение все равно платить надо и двум музыкантам — они же рабочие сцены — тоже надо: не заплати им один день, и они все бросят и уйдут.
А тут еще Кармен, которая любит повторять, что она-то никогда не торгует своим телом (но не прочь перехватить денег у тех, кто торгует), начнет причитать, что у нее пропадает молоко, и тогда Фернандо, от которого все женщины отворачиваются, потому что у него в животе вставлена трубка, чтобы подлизаться к Кармен, пустит шапку по кругу — на сухое молоко для младенца. А потом все начнут спорить, кому за кем выступать и кому сколько раз выходить на аплодисменты, — это при том, что актеров больше, чем зрителей. Одна из девиц поднимет скандал из-за того, что Антонио, исполняющий андалузский танец, опять пудрился ее пудрой или надел ее корсет; тут же пойдут стоны: «Почему, черт побери, мы не уезжаем из этой дыры куда-нибудь в другое место?» («Потому, дурища, что у нас нет денег на бензин, не говоря уже о том, что сломан грузовик».)
«Господи, что же за жизнь! — думала Пакита. — Что за проклятая жизнь! Чтобы выдержать еще один такой день, я должна сытно поесть. Может, когда поем, мне станет получше».
Она отправилась в «Двадцатый век» и, щелкнув пальцами, подозвала угрюмого старика официанта.
Тот нехотя приблизился.
— Вы хотите что-нибудь заказать?
— А ты, может, решил, что я пришла сюда с тобой любезничать? Что сегодня в меню?
— Кролик.
— Советуешь взять?
— Могу обещать только, что это не кошка. А вообще-то всем известно, что кролики чаще других животных бывают разносчиками сифилиса.
— Ладно, — сказала цыганка. — Мне про это тоже известно. Только я что-то сомневаюсь. Почем порция?
— Восемь песет.
— Грабеж. Наглый грабеж. А что я получу?
— Потроха да ребра, — ответил официант, глядя поверх головы цыганки на страшное, изрытое оспинами лицо сатира, смотревшее на него из попорченного зеркала. — Ножки уже все кончились.
В кафе вошла компания иностранцев, и они стали с любопытством и восхищением разглядывать цыганку. Единственная в компании дама — разведенная особа, которая сейчас только обнаружила, что любит своего покинутого мужа, и потому чувствовала себя несчастной, — немного развеселилась и сказала:
— По-моему, она изумительна. Она так спокойна. Я хочу сказать… она ну просто сама безмятежность.
Ей очень хотелось показать свое великодушие и способность похвалить красоту другой женщины.
Ее спутник счел, что будет разумнее высказаться критически.
— Не знаю, дорогая, не знаю. Конечно, если вам такие нравятся… Лично я нахожу, что из присутствующих здесь женщин только одна заслуживает такого определения.
Молодая дама посмотрела ему в глаза и покачала головой — смелая, не признающая условностей, готовая открыть ему весь свой сложный внутренний мир.
— Я отнюдь не безмятежна, дорогой. Может, когда-то и была, но теперь уже нет. Я свою безмятежность утратила. Все мы утрачиваем ее рано или поздно. — И она порывисто взяла своего спутника за локоть. — Понимаете, мне кажется, будто они знают какой-то утраченный нами секрет.
Пакиту, в свою очередь уставившуюся на иностранцев, поразило изящество дамы, ее маленькое, точеное, непроницаемое личико, яркое платье и больше всего ее светлые, коротко подстриженные волосы. «Вот бы мне быть такой!» Самоуверенность ее как рукой сняло. Темнокожая и нечесаная — вот какая она!
— Ну, так что вы закажете? — спросил официант. — В сутках ведь только двадцать четыре часа.
— Вот что, — сказала она, — будь так любезен, принеси мне стакан воды. Мне что-то расхотелось есть.
Пакита вспомнила, что ее ждет Кальес, за эти дни, конечно, он еще больше распалился. Теперь он каждую минуту может прислать за ней — значит, она должна выглядеть как можно лучше, пусть искусство парикмахера сделает ее похожей на одну из этих светловолосых, спокойных, самоуверенных богинь. Она поставит на каргу все свои пятнадцать песет. Игра стоит свеч. Разительная перемена в ее внешности может сыграть решающую роль.
Спустя пять минут она уже была в театре. Там она переоделась — натянула голубые джинсы, подаренные ей кем-то год назад. Потом, обретя почти прежнюю самоуверенность, отправилась к парикмахеру.
— Мне до смерти надоела моя прическа, — пояснила она. — Хочется чего-нибудь помоднее. Чтобы не было такой копны, ну да вы, конечно, сами понимаете.
— Может быть, подстричь вас и слегка завить концы? — предложил парикмахер. Когда он представил себе, какой аккуратной и заурядной станет ее головка, лишившись роскошной шевелюры, взгляд его поскучнел.
— Во сколько это обойдется?
— Тридцать песет.
— А за половинную сумму что бы вы могли сделать?
— Я рекомендовал бы вымыть волосы и сделать укладку с шиньоном.
— Хорошо, сделайте, посмотрим, что получится.
Через час колпак сушуара был снят, и Пакита увидела свою новую прическу сразу в трех зеркалах; свитые в тяжелый жгут волосы лежали на затылке, открывая шею и смуглые плечи. Она и бровью не повела.
— Расчешите.
— Простите, сеньора…
— Распустите волосы, мне так не нравится.
— Вы хотите сказать, сделать, как было раньше?
— Вот именно! Как было раньше.
«Никогда мне не стать такой, как они, — подумала она. — Надо было бы совсем остричь волосы, а потом покрасить, да только все равно кожу-то не перекрасишь…»
— Если вы, сеньора, не удовлетворены прической… — начал было парикмахер, но Пакита оборвала его:
— Дело не в прическе, а во мне самой.
Она отдала мастеру пятнадцать песет и вышла на улицу, снова повеселев, и тут к ней подошел полицейский и сказал:
— Я тебя повсюду ищу. Лейтенант хочет тебя видеть.
— Куда мы идем? — спросила Пакита полицейского.
— В участок, — отвечал он.
— В участок? Я думала, лейтенанту это почему-то неудобно. Разве он не сказал тебе?
— Мне было велено в участок.
«Интересно», — подумала она. Все идет как по маслу. И даже быстрее, чем она предполагала. Она думала, что он еще денек-другой продержится. Только почему же в участок? Во всяком случае, удачно, что она принарядилась и что волосы у нее хорошо пахнут, хоть и распущены, как всегда, по спине. Кальес заплатит ей за все, что от нее получит, — будьте спокойны, она в этом деле понимает: уж если такой святоша оскоромится, он влипает покрепче всех остальных. Ну, а если даже после этого Пепе не выпустят, тогда она умоет руки. Придется ему отсидеть свое. Больше она им задаром работать осведомительницей не будет.
Когда они свернули к полицейскому участку, цыганка вызывающе сунула руки в карманы джинсов. В таком костюме чувствуешь себя уверенно и независимо. «Теперь всегда буду носить джинсы», — решила Пакита. Поднимаясь по лестнице, она напевала «Бубенцы моей лошадки» — в Валенсии после этого номера публика ревела от восторга.
— Ладно, — сказала она сопровождающему, — дальше я и сама найду. Увидимся попозже.
Но полицейский продолжал следовать за ней по пятам, словно вел арестованного.
Когда она вошла в кабинет Кальеса, он сидел за своим столом выпрямившись и выражение его лица было совсем не такое, как всегда. Сильнее обычного воняло дезинфекцией.
— Привет, красавчик! — бросила Пакита. Она уселась на единственный удобный стул и закинула ногу на ногу.
— Встать, — сказал Кальес ровным сухим тоном, словно они обменивались замечаниями по поводу капризов погоды.
— Чего ради? Я устала.
— Встать, — повторил лейтенант.
Она встала и похолодела от неожиданности: массивный предмет, стоявший на столе Кальеса, оказался радиоприемником.
— Ты, я вижу, времени не теряла.
Голос лейтенанта утратил резкость, он звучал почти ласково, но в то же время уверенно. Это удивило Пакиту — в прежние их встречи Кальес всегда, казалось, немного смущался.
— Откуда у тебя этот приемник?
— Мне подарил его один друг. — Она старалась говорить спокойно, но участившееся дыхание выдавало ее. Плохое начало, а она-то собиралась сегодня произвести на лейтенанта впечатление.
— Его фамилия и адрес? — спросил Кальес, не спуская глаз с Пакиты, сам же при этом небрежно чертил что-то на лежавшем перед ним чистом листе бумаги.
— Вот уж не знаю. Случайный знакомый.
— Почему же он подарил тебе приемник?
— Если вам угодно, за некоторые услуги.
Схватив мухобойку, лейтенант прихлопнул опустившуюся на стол муху. Когда он снова повернулся к Паките, ей почудилась в его взгляде жгучая ревность.
— Какие услуги?
— Зачем же уточнять? — Ей было страшно, но она чувствовала, что начинает злиться.
— А знаешь что? Я тебе не верю, — сказал Кальес. Он улыбнулся улыбкой человека, только что перенесшего удачную пластическую операцию.
— Ладно, я нашла его на свалке.
— Нашла на свалке? Ну конечно! Отлично!
Лейтенант кивнул с облегчением и даже, пожалуй, с довольным видом.
— На свалке, — повторил он спокойно.
Протянув руку, он нажал на кнопку звонка, и в комнату вошел полицейский огромного роста.
— Рибас, — обратился к нему Кальес, — эта молодая особа не очень-то желает с нами сотрудничать. Положи ее на стол и всыпь ей дюжину горяченьких.
Рибас с сомнением взглянул на Пакиту. Кальес, казалось, понял его немой вопрос.
— Ах да, это можешь снять, — показал он на джинсы.
Теперь она поняла, что ему было от нее надо. Предлог, чтобы ее истязать. Вот что скрывалось за его неестественным, зловещим спокойствием. Он знал, что она никуда не денется и в любой момент может ее сцапать. А она-то надеялась победить этого зверя своими чарами. Железные лапы Рибаса срывали с нее одежду, он расправлялся с ней, как с пятилетним ребенком.
— Где ты взяла приемник? — Голос Кальеса звучал снисходительно, почти нежно.
— Пошел к черту! — отвечала она, стараясь вырваться, задыхаясь.
Кальес сказал:
— Я думаю, надо сразу внести ясность. Мне нет дела — украла ты приемник или нет. Меня интересует тот, у кого ты его украла, и ты не уйдешь отсюда, пока не назовешь его.
Громадная рука полицейского придавила голую спину Пакиты, он прикнопил ее к столу, как бабочку. Силы совсем оставили ее.
— Хорошо, — услышала она слова Кальеса, — как только будешь готов, начинай!
«Они ищут какого-то беднягу, — подумала Пакита. — Может, как раз того худого парня. Но я его не выдам, пусть бьют меня, пока у них отсохнут руки. Как я их ненавижу! Никого им не выдам, они ни слова из меня не выколотят. Скорей помру. Какую же боль смогу я вытерпеть? Я никогда не рожала. Таким, как я, достаются аборты, и это тоже жуткая боль! Делала аборты, болели зубы, в детстве сломала ногу, как-то порезала себе ножом руку. Не очень-то все это страшно, терпеть можно. Хуже всего аборты. Пусть это будет даже в три раза больнее, я вытерплю, не доставлю им радости, не закричу от боли».
— Давай! — услышала она голос Кальеса и, впившись зубами в руку, стала считать: раз, два, три, четыре… когда досчитаю до двадцати, все кончится, но тут резиновый шланг обрушился ей на ягодицы, рот ее раскрылся, и всеми легкими и внезапно переставшими ей повиноваться голосовыми связками она закричала:
— Мама — мама — мама…
Они калечили ее, она умирала, и жизни больше не было, осталась лишь эта страшная мука… Под градом ударов она теряла сознание лишь затем, чтобы снова прийти в себя от нестерпимой, захлестывающей боли. Ее тошнило, но желудок был пуст, и изо рта текла лишь струйка горькой слюны.
— Подложи ей под рог газету, чтобы не запачкала стол — не люблю грязи, — сказал Кальес.
Если б только они дали ей возможность перевести дыхание, она бы сказала все, что им было нужно. Пакита исходила криками, она задыхалась и стала захлебываться собственной желчью. Вдруг удары прекратились. В звенящей тишине она впала в забытье. И снова проснулась оттого, что голос, принадлежащий — как она с удивлением поняла — Кальесу, произнес:
— Ну, а теперь, когда эти маленькие неприятности уже позади, может быть, мы не будем терять даром времени и сразу же приступим к делу?
Глава XX
Не прошло и часа после звонка Кальеса, как старательно замаскированный под такси автомобиль специальной полиции на полной скорости спустился с горы в деревню и остановился у полицейского участка. Подчеркнуто вежливый шофер вышел из машины и распахнул дверцу перед тремя мужчинами, род занятий которых не вызывал никаких сомнений — темные костюмы, великолепно начищенные ботинки, на лицах всех троих, просидевших всю дорогу в напряженных позах, застыли меланхолические улыбки. Мужчины стряхнули с одежды дорожную пыль, снисходительно посмотрели по сторонам и по знаку облаченного в траур шефа последовали в кабинет Кальеса. Шофер вернулся на свое место, надвинул на глаза обшитую галуном фуражку и, передвинув давивший в бок пистолет, вскоре заснул.
Кальес встретил приехавших настороженно, как фехтовальщик, готовый парировать любой выпад противника. Все трое отказались сесть и искоса наблюдали за лейтенантом, повернув к нему бескровные, как у всех людей их профессии, лица. Они принесли с собой в кабинет атмосферу следственных комиссий.
— Позвольте узнать, какие меры уже вами приняты? — спросил мужчина в черном. Он говорил строго, словно заранее знал, что принятые лейтенантом меры мало чем отличаются от грубых промахов.
— Прежде всего, когда было обнаружено, что человек этот исчез, мы поместили нашего капрала в доме напротив, чтобы держать это место под постоянным наблюдением.
Человек в черном удивленно вскинул брови.
— Надеюсь, капрал в штатском?
— В деревне прекрасно знают всех наших людей в лицо, поэтому мы сочли такую предосторожность излишней.
— Полагаю, вы догадались объявить, что все проживающие на этой улице находятся под домашним арестом?
— Это было сделано немедленно.
— А люди, у кого он остановился… Вы сняли с них допрос?
— Показания хозяйки дома у меня. Сын же ее еще в море.
— А почему вы уверены, что сын ее в этом не замешан?
— Из всей деревни он самый благонадежный человек. Кроме того, мы установили, что интересующее нас лицо остановилось у них в доме по чистой случайности.
Человек в черном нахмурился.
— Если позволено будет заметить, вы, кажется, готовы слишком многое принять на веру. Я полагаю, вы взяли иод наблюдение все выходы из деревни. Я подчеркиваю: все.
— Да, — ответил Кальес. — Все!
— Вы, конечно, понимаете, о чем я говорю. Мы должны быть уверены, что никто не сможет предупредить этого человека, а уж это они обязательно постараются сделать, если у них появится малейшая возможность.
— Совершенно верно, — согласился Кальес. Он бы дорого дал, чтобы узнать, в каком этот человек чине, и раздумывал, не следует ли к нему обращаться как к лицу высокопоставленному.
Допрашивавший его человек взял в руки маленький томик, прочитал название — «Путь совершенства» — история жизни святой Терезы, фыркнул, положил книгу на место и повернулся на каблуках.
— Все лодки задержаны в порту?
Кальес решился на выпад:
— Тут нет порта. Несколько заливчиков, и только.
Человек в черном не скрыл своего раздражения.
— Послушайте, лейтенант, не будем придираться к словам. Вы прекрасно понимаете, о чем я говорю.
— Половина лодок все еще в море. Я послал на берег моих людей. В общем, никто не сможет покинуть деревню или появиться здесь незамеченным, ни по суше, ни по морю.
— Я твердо на это рассчитываю, — кивнул человек в черном.
Один из его подчиненных воспользовался паузой и спросил:
— Нельзя ли взглянуть на регистрационную карточку иностранца?
Кальес раскрыл папку и вынул небольшой продолговатый листок. Пока что он миновал все подводные камни, но по-прежнему был начеку.
Трое приезжих хмуро изучали бумагу, тщетно стараясь найти какие-либо погрешности в заполнении карточки.
— Знаете, лейтенант, — сказал наконец шеф, — убейте меня, но я не понимаю, как это вы умудрились проворонить этого человека: описание его наружности было разослано по всем округам несколько месяцев назад.
Кальес плотнее сжал губы, подавляя усмешку. Из папки была извлечена еще одна бумага.
— Вот оно, это описание: «Мужчина лет тридцати, вес семьдесят девять кило, волосы черные»… читать дальше? Он успел лет на пять постареть, поседел и весит не больше шестидесяти.
— Не подумайте, что я критикую ваши действия. Мы приехали удостовериться, что впредь не будут иметь место никакие упущения. Хотелось бы верить, что это не пустая трата времени; сдается мне, что, обнаружив пропажу передатчика, наш друг сразу же дал тягу. Всего вероятней, кто-нибудь из моих людей перехватит его на пути к границе.
— Вы считаете, что он мог бросить тут свой паспорт и деньги? — осведомился Кальес.
— Признаю, что это дает нам некоторую надежду. Но теперь я хочу подчеркнуть самое главное: человека этого надо взять живьем. Мертвый он нам ни к чему. Труп его нужен нам как собаке пятая нога. Если вы полагаете, что внушить это вашим людям слишком трудно, тогда пусть они патрулируют, вооруженные одними дубинками. Предупреждаю: если кто-нибудь из ваших идиотов прострелит ему башку, неприятностей будет не меньше, чем в случае, если ему удастся скрыться. Вам это вполне ясно?
— Вполне, — сухо ответил Кальес, — по счастью, наши низшие чины имеют привычку выполнять приказы.
— Рад это слышать, — сказал человек в черном. — Поймать его — ваше дело, а уж после этого приступим к работе мы… Между прочим, сейчас я бы хотел поговорить со старухой.
- Ей было разрешено вернуться домой.
Трое приезжих в ужасе переглянулись.
— Вы не задержали ее? — спросил, не веря своим ушам, шеф. — Означает ли это, что вы всегда действуете подобным образом?
— Я счел возможным отпустить ее, учитывая, что женщина эта очень стара и слаба, — натянуто ответил Кальес.
Глава XXI
Когда кончилось детство, мир сжался, а потом, поначалу незаметно, он снова стал расти, пока теперь, в старости, не стал безмерно огромным. И снова дороги, убегая, пропадали за горизонтом, только теперь они уже не манили неведомым. Холмы разрослись в горы, а рощи сомкнулись в непроходимые леса. Камни преграждали путь на прежде ровных улицах. Кактусы выставляли колючки, точно кинжалы, а цветы стали такими высокими, что до них было не дотянуться.
Марта шла по деревенской улице, стараясь не оступиться и по привычке держась, где можно, в тени. Двери домов были заперты, и только носившиеся над головой стрижи пронзительными криками нарушали великую настороженную тишину — подобную той тишине, что предваряет первые выстрелы и крики революции. Одинокий художник в мексиканской шляпе, с облезшей от солнца спиной, пытавшийся запечатлеть на холсте дарованное ему на отдыхе ощущение безмятежного покоя, недоумевал, почему через плечо ему не заглядывают ребятишки. Из-за угла показалось желтое такси, оно приближалось к Марте, мигая на солнце фарами, и она успела разглядеть три резко очерченных профиля сидевших в машине городских мужчин.
Последний бедный домишко дохнул на Марту запахом прогорклого масла, и она оказалась возле первой виллы. В саду ее толстый флегматичный мальчишка подкрадывался с духовым ружьем к щеглу; приостановившись, он с ленивой неприязнью посмотрел на проходившую старуху. Она начала подниматься по одной из пяти тропинок, разбегавшихся из деревни в поля. Тропинка стала уже и круче, чем десять лет назад, когда Марта поднималась по ней в последний раз, и ежевика сильнее цеплялась за платье, но Молина сказал ей как-то, что любит гулять по тропинке, ведущей на вершину скалы, а сейчас, где бы он ни бродил, ему уже пора возвращаться домой, где его ждет отварная рыба, приготовленная ею на обед.
Это все Себастьян, сказал она себе. Стоило лейтенанту похлопать его по плечу, похвалить, и он согласен играть им на руку. Себастьяну всегда хотелось, чтобы его ценили, хорошо к нему относились, хотелось играть какую-то роль. Лестью от него всего можно было добиться. Еще ребенком он осрамил всю семью, объявив, что, когда вырастет, станет мэром. Кажется, скажи он, что хочет стать золотарем, это не произвело бы худшего впечатления. В нежелании сына следовать по стопам отца было что-то дерзкое, трусливое и немного смешное. Из расспросов выяснилось, что Себастьяну нравится, как односельчане стремятся пожать мэру руку и в воскресенье по дороге в церковь всегда снимают перед ним шляпу. В конце концов он упросил родителей продержать его в школе немного дольше, чем других; ему стали предлагать нести знамя во время церковных процессий, и он помогал соседям заполнять налоговые карточки. Но когда место мэра освободилось, новым мэром избрали молчаливого пастуха, который держался со своими избирателями запанибрата, а когда после смены правительства его автоматически сместили, чуть ли не с радостью вернулся к своим прежним обязанностям.
Марта свернула за угол и очутилась перед гражданским гвардейцем, который о чем-то мечтал, укрывшись за стеклами темных очков. Он был в дурном настроении, скучал и прятал в кулаке запретную сигарету. Находившаяся при нем немецкая овчарка неторопливо подошла к старухе, но, не учуяв ничего подозрительного, повернула обратно.
— Ты куда, мать?
Сердце Марты стучало слишком громко, кроме того, она не умела лгать. Она верила, что человеку, надевшему полицейскую форму, нечистый дарует дьявольскую силу проникать в помыслы людей. С трудом отдышавшись, она сказала:
— Иду наверх, взглянуть на пчел.
— На пчел? — спросил стражник. — Сколько же у тебя ульев и где?
Ему все здесь надоело, хотелось домой, и думал он совсем о другом. Он задавал вопросы машинально, по привычке, но Марте, у которой от волнения пересохло во рту и отнялся язык, казалось, что он видит ее насквозь.
— Во всяком случае, пройти туда нельзя. Сходишь завтра. — Он сунул пожелтевший окурок в рот, давая понять старухе, что она может идти, и снова предался своим думам. «О чем это приятном я только что думал? — припоминал он. — О женщинах? Наверно, о них и о чем-то приятном, с ними связанном. Как же это я, черт побери, не могу вспомнить?»
Марта отправилась в обратный путь, осторожно, шаг за шагом, спускаясь по крутому склону. Она попытала счастья еще на четырех тропинках, но каждый раз ей преграждал путь человек в форме; один из них, казалось, считал деревья на противоположном склоне, другой наблюдал за жуком, который, работая задними лапками, пытался вкатить на бугорок комочек навоза, третий грыз еще не созревший инжир, но ни один из них не утратил бдительности настолько, чтобы пропустить человека, захотевшего пробраться по тропке в горы. Силы Марты иссякли, и продолжать поиски в деревне она уже не могла, не то бы она увидела переодетых сыщиков, прячущихся за стеклянными дверями всех кафе и разгуливающих на пляже среди отдыхающих, — их выдавал землистый цвет лица и штатское платье с чужого плеча.
Тень от густых ветвей постепенно передвинулась, и часа в четыре пополудни спокойно спавшего в лесу Молину разбудил упавший на лицо солнечный луч. Он спустился к шоссе, где его вскоре подобрал ехавший в комфортабельном, заваленном чемоданами автомобиле француз и довез до самой деревни. Молину никто не узнал. По сигналу полицейского водитель притормозил, но ему тут же разрешили следовать дальше. Увидев с трудом тащившуюся домой старуху, Молина попросил француза остановиться и вышел из машины.
— Беги, — сказала она ему. — Все бросай и беги. Повсюду полиция.
Он не понял и с улыбкой попросил у старухи извинения за то, что заставил ее ждать с обедом. Она дергала Молину за рукав, не зная, как заставить его понять, что стряслась беда, — на застывшем как маска старом лице не отражалось охватившее ее смятение, а голос у нее и так всегда звучал пронзительно и возбужденно. К тому же Молина не понимал каталонского наречия, на котором от волнения заговорила старуха.
В конце концов одно слово он все же разобрал — «полиция, полиция, полиция» — и, потеряв несколько драгоценных секунд, все понял, но продолжал стоять, парализованный нерешительностью, сразу постаревший и осунувшийся. Грохот башмаков бегущих в конце улицы солдат и пронзительные свистки заставили Молину очнуться.
Он бросился бежать и пробежал метров двадцать, не думая о том, куда бежит — лишь бы оказаться подальше от свистков, но вдруг на углу возник человек в черном, и сразу же крики и свистки окружили его. Он кинулся назад, обезумев, словно животное в воротах бойни, и очутился в узенькой улочке, стиснутой невысокими, но совсем гладкими стенами, взобраться по которым на крышу было бы под силу лишь атлету. Он бежал вперед, сворачивал, снова бежал и сворачивал: распахнулась какая-то дверь, Молина вбежал в нее, нырнул в полумрак дома, очутился в маленьком светлом дворике и через открытую калитку попал на поросший кустами пустырь, отлого поднимавшийся вверх до самого подножия крутой скалы.
Сначала, пока подъем был еще не крутым, Молина шел быстро, с силой продираясь сквозь кусты. Дальше пришлось лезть осторожно, оступаясь, скользя и падая, когда осыпались из-под ног камни и обрывались обнаженные корни, за которые он хватался. И наконец карабкаться выше стало невозможно — перед ним поднималась отвесная скала метров тридцати высотой. Внизу он видел дворики домов; вначале пустые, они постепенно заполнялись людскими лицами, обращенными кверху. Молина стал огибать скалу, пробираясь к морю, до которого было совсем близко.
Снизу раздались крики, затем послышался треск — можно было подумать, что это продирается сквозь частый сухой кустарник корова, — и Молина увидел бежавшую к нему собаку. Она стремительно пробиралась между кустами, пригнувшись к земле и опустив морду, почти точно по оставленному им следу. Появление овчарки заставило Молину остановиться. Им овладела ярость, и это новое чувство придало ему сил. Пес приближался, мощный, как лев, великолепно рассчитанными прыжками преодолевая все препятствия. «Мне нужно время, чтобы сообразить, как действовать, — сказал себе Молина, — хотя бы несколько секунд!»
Справа, чуть пониже того места, где он остановился, лежал обломок скалы с гладкой, ровной поверхностью, вышиной метра в полтора — на него можно было вползти. Не успел Молина встать на камень, как бежавшая по его следу овчарка показалась слева. Крикнув на манер тореадора: «Гей! Гей!», он заставил собаку поднять голову и переменить направление. Теперь она кинулась прямо к камню, на котором он стоял. Подбежав почти вплотную, собака прыгнула, но откос был слишком крут, и задохнувшийся от бега пес не рассчитал прыжка. Он зацепился передними лапами за край камня, пытаясь найти опору задними лапами, но тут Молина изо всех сил ударил собаку ногой прямо в морду, и она покатилась вниз по откосу с пятнадцатиметровой высоты.
— Скажи этому дураку, чтоб он отозвал собаку, — заорал кто-то внизу. — Вы называете это дисциплиной? Дайте мне рупор, я хочу поговорить с этим парнем! Неужели ни у кого нет рупора?
Двое полицейских с веревкой показались на вершине скалы, но им было приказано отойти от края.
Молина осторожно пробирался к тому месту, где скала вертикально обрывалась в море. Он немного успокоился и теперь уговаривал себя примириться с судьбой. «Ничего не поделаешь! Час настал — час, к которому ты так долго готовился, — думал он. — А потому успокойся!» Как часто видел он себя мысленно перед взводом целящихся в него солдат! И был уверен, что не дрогнет. Никаких последних сигарет или пренебрежительных жестов, скрывающих страх. Никаких лозунгов, выкрикнутых себе в утешение и никому не нужных. Умирать надо молча, с полным самообладанием, не теряя достоинства. «Время мое пришло, и лучше умереть в час, выбранный тобой самим, при свете солнца, с несвязанными руками».
«Но почему же я дрожу? — недоумевал он. — Наверно, потому что я бежал от них, а когда убегаешь — на что-то надеешься, и надежда делает тебя трусом». Но на что он мог надеяться? Молина посмотрел вверх, потом вниз. «Нет! Никакой надежды! Все кончено! А раз так, смело посмотри смерти в глаза! Смело! Смело! Покорись неизбежному, только так ты сохранишь достоинство!»
«Еще пять минут! — взывал в нем какой-то голос. — Всего пять минут. В такое время дня не умирают. Умирают ночью или на рассвете, истощенные от долгого заключения, хлебнув хмельного, если кто-то пожалел тебя, умирают в призрачном полумраке тюремного двора, пройдя через все стадии отчаяния, поняв, что мир для тебя больше не существует. Но ведь сейчас белый день и окружающий мир осязаем, как никогда прежде: рыжая земля под ногтями, вьющийся с жужжанием вокруг рой блестящих мушек, запах тлена, который доносится с ближнего выступа скалы, где лежит дохлая чайка, неумолчный прибой, радостно шумящий внизу, наплывающая с юга тучка, ей понадобится больше времени, чтобы закрыть солнце и смягчить зной, чем мне осталось жить. Вот и все!» Не будет деревушки на Камарге и засидевшейся в девушках бесприданницы-почтальонши, не будет могилы, и никто не узнает, что он умер за дело, которое считал правым.
Толпа все увеличивалась.
— Немедленно уберите всех этих людей, — распоряжался человек в черном. — Нашли себе развлечение! Дадут мне рупор или нет? Один наш неверный шаг — и малый этот для нас потерян.
Он и так уже потерян, думал Кальес. Все это мне уже знакомо. Иногда им нужно пять минут, чтобы решиться, иногда — полчаса. Он увидел, что Молина шевельнулся и стал продвигаться к тому месту, где скала обрывалась в море.
— Бери лодку, плыви туда, да поживее, — приказал лейтенант одному из своих подчиненных, — сейчас он прыгнет в море.
«Почему я все еще тут? — раздумывал Молина. — Чего я медлю? Только теряю мужество. Стараюсь сам себя обмануть. Еще через минуту придумаю какой-нибудь благовидный предлог, чтобы позволить им схватить меня, а потом под пытками соглашусь помочь им заманить в ловушку остальных. Нет, это у них не выйдет. Ни за что! Жаль только, если не удастся кое-что закончить, и потом, есть человек, с которым хотелось бы попрощаться. И интересно, долго ли они будут меня помнить? Было б легче умирать, если бы они видели, что я перед смертью не струсил. Смешно думать о таких вещах за минуту перед смертью, когда мало во что веришь. Так ли уж важно, что они подумают и долго ли будут меня помнить… Нет, все-таки важно!»
Он уже сильно удалился от деревни, карабкаясь вверх по утесу, и теперь внизу, прямо под ним, между обломками скал виднелась вода. Нависавший здесь над деревней выступ скалы был взорван, и по ту сторону широкой — метров в пятьдесят — расселины стоял человек с веревкой и смотрел на то место, где перед этим он видел Молину. Несколько крошечных фигурок отделилось от толпы в поисках места, откуда можно было бы все лучше видеть. Два солдата пересекли мыс, добрались до залива, где были привязаны лодки, и кто-то из рыбаков стал по их приказанию нехотя, не спеша спускать свою лодку на воду. Молина понимал, что на лодке сюда доберутся быстро. Минут через десять-пятнадцать. Не больше.
Он посмотрел вниз. Скалы под ним были уродливые и острые, ржаво-красные над водой, серо-бурые в глубине. Вид этих острых зловещих глыб ужаснул его. Он еще раз посмотрел вниз и содрогнулся. Напрягая последние силы, он продвигался все дальше по уступу, пока не добрался до места, где скала нависала над водой. Назад пути не было. Острые мелкие обломки засыпали тропку, по которой он только что пробрался. «Ну и что же? — подумал он. — Я ведь все равно этого не почувствую». Он вынул пузырек и высыпал на ладонь две пилюли. Они были белые, блестящие, без запаха. Кончиком языка Молина лизнул пилюлю. Она оказалась сладкой. Он громко захохотал. Самое забавное в его жизни приключение подошло к концу! Сладкий яд! Эх, если бы эти пилюли еще и страх смерти снимали! Он положил обе пилюли в рот и с усилием проглотил их.
Ветер донес до ушей Кальеса отголоски смеха Молины, и это подтвердило мрачные предположения лейтенанта.
— Что он задумал, сеньор? — спросил его капрал.
— Сейчас увидишь, — ответил Кальес. И в этот самый момент, словно повинуясь его команде, Молина полетел вниз, перевернулся в воздухе и исчез среди нагромождения камней у подножия скалы.
Глава XXII
Наступивший день был совсем безветренный, но в движении моря еще чувствовался ритм забытых бурь. Хорошо отдохнувший Коста сильно налегал на весла, ведя свою лодку от одного мыса к другому, мимо пляжей, которые в синем сиянии утра казались устланными парадными коврами, мимо утесов, выступавших из облаков сверкающей водяной пыли, будто поднятой усердным подметальщиком.
По мере приближения к Ловушке Дьявола Коста начал терять уверенность в своей удаче и стал загадывать на счастье, по-детски подгоняя результат. «Если я увижу трех чаек, прежде чем доберусь до следующего мыса, значит, рыба попалась на крючок…» Вокруг летало много чаек, но как раз в эту минуту он увидел только двух и решил посчитать за третью пролетавшую в отдалении белую птицу, скорее всего голубя. Самая мысль о возможности неудачи и о бедах, которые она за собой повлечет, могла накликать эту неудачу.
Коста родился в среде, где суеверие пустило глубокие корни. На протяжении многих веков рыбаки бессознательно и беспорядочно изучали повадки богов, дарующих удачу и неудачу, имевших обыкновение коварно вмешиваться в их повседневную жизнь, и установили, как можно предотвращать некоторые их козни. Совсем не похожие на добросердечную и отзывчивую мадонну, которой они молились в церкви, боги эти были недоступны мольбам. И нрава они были жестокого и капризного; зажженными свечами и цветочными подношениями их было не умаслить, молитвы на них не действовали, и, только проявляя величайшую осторожность, можно было избежать их губительных ловушек. Три поступка обязательно приносили несчастье: ни в коем случае нельзя было надевать на рыбную ловлю кожаную обувь, свистеть в море и брать на борт священника — запомнить это было не так уж трудно. Но существовала и еще одна, самая дурная примета, говорившая о немилости богов. И тут уж ничего нельзя было поделать. Это была встреча с лисой. Достаточно было увидеть ее поутру, когда она убегала прочь после ночного разбоя, или встретить нарядную иностранку в пальто с лисьим воротником, или даже просто упомянуть лисицу в разговоре. Минувшей ночью лисы явились Косте во сне, они ухмылялись, скалили зубы и, казалось, готовы были проглотить его удачу. Коста изо всех сил старался забыть этот зловещий сон.
Он нашел место, где опустил свою лесу, и бросил якорь. Лодка плавно покачивалась на небольших гладких волнах. Коста перегнулся через борт, подцепил пробковый поплавок, подтянул его, затем вытащил тяжелый камень, служивший якорем для лесы, и бросил его на дно лодки.
Потом он начал нехотя выбирать лесу. Метров шесть она шла совсем легко. Коста тянул все медленнее и, наконец, испугавшись, совсем остановился. Надежда на лучшую жизнь, даже на теперешнее существование, с которым он уже смирился, — все зависело от того, попалась ли на крючок рыба. Ему не хотелось вытягивать лесу дальше. Не думай о лисицах, думай о благословенной мадонне. Коста держал в руке обвисшую лесу и сосредоточился на мысли о милосердной деве, почитаемой покровительнице их деревни. Он старался представить себе ее смуглое доброе кукольное личико, обрамленное складками парчи, когда ее проносили во главе процессии по деревне, или хотя бы вспомнить ее изображение, прикрепленное к задней стенке деревенской шарманки. Но святой лик не желал являться. Зато хитрые морды лис, которых напустили на него жестокие боги, вершившие судьбами людей, так и стояли у него перед глазами — мерзкие, как кошмар наяву.
Он снова принялся выбирать лесу, чувствуя, что слабеет от страха. Но когда страх подкатился уже к самому сердцу, он вдруг почувствовал, что леса ожила: сначала она натянулась, потом снова ослабла, вырвалась внезапно из рук и опять туго натянулась и замерла, встретив упорное сопротивление неподвижного якоря на другом конце. Коста встал во весь рост, открыл рот и чуть было не закричал от облегчения, но устыдился, хотя море было пустынно и до резко прочерченного горизонта простиралась гладкая пепельно-серая пелена воды. И мгновенно день стал совсем иным — наполнился чудесными запахами, электрическими разрядами, сделался легким и радостным. Сквозь нежный плеск и покашливание воды в гротах он услышал пение птичек, гнездившихся в кустах на прибрежных скалах. Они взмывали в воздух и, пропев свою коротенькую четкую мелодию, снова пропадали в листве. Лисы исчезли, и, когда он, воспрянув духом, постарался представить себе мадонну, она явилась ему, милостиво покачиваясь на своем троне над головами толпы.
Коста перегнулся через край лодки и ухватил лесу указательным и большим пальцами. Он тянул очень осторожно, чувствуя, как леса натягивается и где-то в глубине трется об острый выступ скалы. Скала перетирает лесу по крайней мере в двух местах, подумал он.
Он нашел свои очки для подводного плавания, поплевал изнутри на стекла, растер слюну пальцем и ополоснул стекла в море. Надел очки, пояс со свинцовыми грузилами, за который был заткнут нож с пробковой рукояткой, и перевалился через борт лодки. Набрав в легкие побольше воздуха, он наклонился вперед, оттолкнулся ногами, и вода сомкнулась над ним, окутав безмолвием, оборвав крики чаек, и, по мере того как тяжелый пояс увлекал его все дальше в глубину, перед ним все отчетливее вырисовывалась фантастическая красота подводного мира.
За голубой завесой воды медленно, задумчиво шевеля плавниками, уплывали в разные стороны рыбы, а ближе к морскому дну, покато уходившему вниз, другие рыбы, попадавшие в погоне за добычей в золотистый солнечный луч, вспыхивали, словно огни далеких маяков. Коста погружался быстро, головой вниз, следуя за лесой, вода давила ему на уши железными пальцами, а все члены обрели плавность невесомости. Со всех сторон возникали и исчезали скалы, похожие на глухие тюремные стены, то желтые и отполированные морем, то покрытые складками застывшей лавы, пышно поросшей какими-то серыми цветами; у подножия этих скал колыхались чахлые водоросли, среди которых неустанно шныряли рыбы.
Следуя за лесой, Коста доплыл до входа в пещеру. Через трещину в дальней стене пробивался свет и, рассеиваясь, превращался в желтоватую мглу, в которой мелькали похожие на серебряные монетки рыбешки… Он ухватился за выступ скалы и вплыл в пещеру. В узком проходе морские анемоны касались его тела нежными, как у младенца, губами, а острые кораллы небольно царапали кожу. Запомнив, где расположена расщелина, в которую уходила леса, он поджал ноги и, сильно оттолкнувшись, выплыл головой вперед из пещеры. Лицо его было обращено кверху, глаза же устремлены к далекой, покрытой рябью поверхности моря, из порезов струилась темная кровь, а грудь стиснул спазм, словно он тонул. Он всплывал и видел, как, вырвавшись из его стиснутых губ, уносилась вверх струйка серебристых пузырьков. Вынырнув, он уцепился за край лодки и долго жадно вдыхал всеми легкими воздух. Потом перевалился в лодку и вытянулся на дне ее; горячие деревянные доски согревали и утишали дрожь озябшего в воде тела и саднящую боль порезов и царапин от колючек морских ежей. Он в полудреме подумывал, что же предпринять дальше. В прежние времена он натренировал себя так, что мог нырять за кораллами и омарами на глубину до двадцати метров. Но погружение в эту пещеру, глубиной не более десяти метров, показало предел его выносливости. Он был явно не в форме, ему не хватало дыхания, мускулы утратили необходимую крепость и сильно болели уши. С каждым новым погружением сил будет оставаться все меньше; устав под водой, он станет хуже соображать и перестанет чувствовать боль, обдираясь об острые скалы. Но Коста ни на минуту не усомнился, что сегодня, рано или поздно, он поднимется на поверхность моря с большой рыбой.
Ныряя в первый раз, он не ощутил холода неподвижных глубин, но, нырнув снова, уже почувствовал, как проходит сквозь студеный слой воды, лежащий сразу за слоем, прогретым солнцем. Ледяные струйки и ядовитозеленые водоросли оплетали ему руки и ноги, и, когда он проскальзывал в пещеру, поясницу ломило от холода. Черное опахало, закрывавшее расщелину, вдруг сложилось и исчезло из виду. Он запустил в пещеру руку и получил сильный удар по запястью; в следующий момент он почувствовал, что рядом бьется в смятении что-то огромное — казалось, будто это содрогается внезапно затопленная водой мощная машина. Волнение притупило чувствительность. Он больше не ущущал холода и страшной боли в ушах.
Пошарив вокруг, Коста нашел лесу, потянул за нее, и бурное содрогание сразу прекратилось, словно он выключил какой-то источник энергии. Он повел рукой по лесе дальше и обнаружил, что расщелину полностью закрывает нечто большое, скользкое и гладкое. Сначала ему показалось, что он тронул что-то очень твердое, ребристое и неподатливое, но, когда его пальцы наткнулись на пружинистый круг громадного глаза и обвисшую мякоть огромного толстогубого рта, все сразу стало ясно. Раздвинув рыбьи губы, он нащупал лесу, почти перетертую там, где она проходила сквозь тесно посаженные иглы зубов. Он вытащил нож, стараясь нащупать два места, не защищенные панцирем костей. Под таким углом всадить нож в глаз было невозможно, но имелось еще одно незащищенное место — на горле. Он ударил, острие ножа угодило в твердую поверхность, чуть скользнуло, и нож вошел вглубь. Шесть раз вонзал он острие, каждый раз дотрагиваясь костяшками пальцев до неподатливой рыбы, которая, не дрогнув перед оружием, до предела напрягала железные мускулы, удерживаясь в расщелине при помощи растопыренных жабр.
Легкие Косты были готовы лопнуть. В полном изнеможении он начал выбираться из пещеры, из последних сил проделывая нужные движения. На какой-то момент он оказался замурованным в зеленоватом айсберге, на него нахлынула боль, временно заглушенная нервным напряжением, уши почти лопались, и сознание мутилось. В следующий момент он очутился в теплой ванне верхнего слоя воды.
До самого полудня он лежал в какой-то прострации, привычные прибрежные шумы будили и снова убаюкивали его, лодка мягко покачивалась, припекало солнце. Иногда, очнувшись от дремоты, он видел небо; сквозь едва разомкнутые веки оно казалось фиолетовым. Служившие наживкой рачки-отшельники смело карабкались по бортам лодки и, забирая вбок, ползли по тыльной стороне его рук. Жук, известный под названием «фараонова маска», покружил над ним, опустился, как крошечный геликоптер, и отведал выступившую из уха капельку крови.
Разбудили Косту обдавшие его брызги: море разыгралось и потемнело, ветер гнал белые барашки, и волны уже по-новому, нетерпеливо, бились о борт лодки. Чтобы немного согреться, Коста надел фуфайку и рубашку и заправил их под пояс. На этот раз он хотел добраться до пещеры как можно быстрее, чтобы не перенапрягать легкие, и потому, ныряя, прихватил два тяжелых звена старой якорной цепи, чтобы, достигнув дна, их бросить. Он вслепую прошел сквозь бурлящий вспененный слой воды, держась подальше от тех мест, где волны бились о скалы, и погрузился в неподвижные глубины, в леденящий холод и сверкание подводной арктической ночи. Через семь секунд после того, как он покинул лодку, и имея в запасе тридцать секунд, достиг пещеры, где, словно по орбите, двигались любопытные рыбешки, — он просунул руку в расщелину, стараясь найти лесу. Все эти часы из меру непрерывной струйкой вытекала кровь, которой у нее вообще было немного, и сейчас рыба должна была совсем обессилеть. Но и в смертельной агонии, потеряв сознание, она все еще продолжала бороться, по живучести не имея себе равных среди теплокровных земных животных.
Коста нашел лесу, потянул и почувствовал упорное сопротивление. Потянул сильнее — отчего немедленно удвоился расход кислорода в легких, — и леса слегка подалась, чуть вибрируя, готовая лопнуть. Продолжать тянуть ее было рискованно, и Коста обмотал лесу вокруг левого запястья. Упершись в скалу коленями и левым плечом, он нащупал правой рукой глаз рыбы, запустил в него указательный и средний пальцы и, уцепившись за глазную впадину, изо всех сил потянул к себе. Коста почувствовал, что рыба подается — она вышла из расщелины неожиданно легко, словно лежала в смазанном жиром углублении. Громадная, с разинутым ртом, она была прекрасна в своем жабьем уродстве. Тело ее еще раз страшно содрогнулось, едва не переломив Косте запястье. Он был совершенно обессилен — как будто пытался сдерживать разъяренного быка. Рыба сильно ударила его, подтолкнув к выходу из пещеры. В отчаянии он вытянул руку, в которой держал лесу, вонзил пальцы во вторую глазную впадину и, нелепо обняв рыбу, которая ранила его острыми плавниками, увидел прямо перед собой ее огромный, безнадежно разинутый рот и кроваво-красное пульсирующее горло. Сначала сверху находился Коста, а потом меру, колотившая хвостом и напрягавшая все силы, чтобы сбросить его. Но ослепшая рыба позволила вывести себя из пещеры, и как раз в эту минуту у Косты лопнула барабанная перепонка, а море перевернулось, так что, глядя вниз, он увидел его покрытую пеной поверхность, и, продолжая бороться, не выпуская из объятий рыбу, он очутился в бурлящем сиянии бьющихся о скалы волн. Впоследствии ему так и не удалось вспомнить, каким образом он добрался до лодки, как сумел затащить в нее огромную рыбу и взобраться сам.
Глава XXIII
Темнота сгустилась, но Коста мог определить, где находится бухта, по огонькам ацетиленовых ламп на лодках, которые отчаливали от берега и уходили в море на ловлю сардин, медленно прокладывая по черноте воды светящийся след.
Пока ночной мрак не скрыл ее, Коста не спускал глаз с рыбы, с ласковым любопытством наблюдая мельчайшие подробности последних минут ее жизни:-вот уж совершенно поблекли краски, в последний раз вздрогнули жабры, навсегда сжались челюсти и остекленели выдавленные глаза. Она лежала перед ним, чуть запятнанная кровью, сухая и темная, дно лодки под ней побурело, и планки украсила россыпь чешуек — след последних яростных конвульсий. «Ну и рыба», — подумал он. Фунтов сто, не меньше. А может, и сто десять. Никогда уж больше он такой не поймает, да и не увидит. Как жаль будет расставаться с ней, видеть, как она переходит из его рук в руки профанов, не посвященных в трагедию и таинство ее поимки, которые осквернят ее, искромсав на куски. Будь обстоятельства иными, Коста целый день продержал бы ее на рынке в холодильнике, чтобы продлить восхитительное чувство обладания и чтобы дать время всей деревне почтительно подивиться на рыбу… Но времени не было. Как только он доберется до рынка, ему придется сразу же созвать всех трех перекупщиц и устроить аукцион, и через три минуты все будет позади: ему заплатят деньги и драма завершится. Он уже видел лица этих трех закутанных в черное, пропахших рыбой гарпий, которые привычно схватятся друг с другом, набивая цену, но не сумеют на сей раз скрыть за пренебрежительной миной своего изумления.
Семьсот песет. Так он оценил ее. Может, и на несколько песет больше — если учесть наехавших дачников, с которых не грех и содрать за такую редкую рыбу. Перекупщица, которая купит у него рыбу, распродаст ее по кускам, получив триста песет барыша (на эти деньги они с матерью могли бы жить целый месяц), нажившись на том, что раз в жизни Косте привалило счастье. Такую удачу перекупщик всегда с тобой разделит, а уж неудачи предоставит расхлебывать тебе одному. Будь рыбаки поумнее, давным-давно бы надо было организовать кооператив, тогда б этих перекупщиков можно и побоку, размышлял Коста, да где уж там. Как бы то ни было, семьсот-то песет он получит, а когда деньги будут у него в кармане, он разыщет Молину и, сто раз извинившись, объяснит, в каком критическом он положении, и попросит его уплатить за комнату и стол за неделю вперед. Это будет уже девятьсот пятьдесят песет, плюс деньги на ведение хозяйства, которых должно быть уж никак не меньше недостающих пятидесяти песет. И вот в десять вечера, как раз когда муниципальный курьер закрывает свою контору, Коста придет к нему с запечатанным сургучным пакетом, в котором будут лежать деньги и на котором он с двух сторон аккуратно напишет печатными буквами фамилию Элены и ее адрес. Курьер выдаст Косте расписку и на ночь запрет пакет в сейф. Тогда уж Коста сходит к доктору, чтобы тот полечил ему ухо.
До тех пор ухо подождет. Острая, то пульсирующая, то сверлящая боль сменилась болью вполне терпимой, а вечерняя прохлада взбодрила Косту. Силы вернулись к нему, и он греб, пока мимо не проплыл и не потонул во мраке последний темный силуэт, закрывавший от него вход в бухту. Навстречу выплывала лодка с зажженными фонарями, и, повинуясь внезапному порыву, Коста стал грести прямо на нее — ему хотелось, чтобы рыбаки увидели его рыбу. На мгновение его залило желтым светом, а потом лодка в своем светящемся ярко-синем ореоле проплыла мимо, унося в темноту ряд лиц, сначала с интересом посмотревших на него, а потом отвернувшихся;' «Ну, не увидели, так завтра услышат», — подумал Коста.
На берегу у самой воды в свете лодочных фонарей слонялось несколько парней, едва вышедших из школьного возраста.
— Кто хочет заработать пару песет? — крикнул им Коста. — Помогите мне дотащить рыбу.
Ему никто не ответил, и парни исчезли в темноте, словно и не слышали его слов.
Потащу сам, решил Коста, мне же лучше. Он кое-как взвалил рыбу на спину, закинув за голову руки, вцепился пальцами в жабры и стал с трудом взбираться на берег. Ноги вязли в м©кром песке. Где только возможно, он приваливал рыбу к борту лодки и переводил дух. Тонкие гладкие жаберные косточки впивались в суставы пальцев. В ухе что-то лопнуло, и из него потекла струйка теплой крови.
В этот вечерний час деревня, днем казавшаяся сонной и почти безлюдной, оживала. Все, у кого выбиралась свободная минутка, выходили прогуляться по главной улице или вдоль берега моря. Этот короткий прохладный промежуток времени между заходом солнца и ужином отдавался светской жизни. Девушки разгуливали парами и по трое, демонстрируя себя на не слишком бойком брачном рынке. Богатые дачники, ужинавшие поздно, прохаживались энергичным шагом взад и вперед, нагуливая аппетит. Уже отужинавшие рыбаки, которым предстояло встать затемно, чтобы забросить сети, прежде чем рыба на рассвете уйдет на глубину, старались как можно полнее использовать свой недолгий досуг. Они толпились кучками на рыбном рынке возле пустых прилавков, где обычно выставляли на торги только что выловленную рыбу. Случайные уловы поступали сюда в любое время дня и ночи, и таков был интерес ко всему, что касалось их профессии, что рыбакам и в голову не приходило проводить свободное время где-либо в другом месте — ведь здесь каждый сразу узнавал, чем еще может порадовать ловцов море.
Три перекупщицы — Энграция, Лола и Лючия, рабыни своих тридцати трех с третью процентов, — безотлучно находились дома, получая от разветвленной сети агентов сведения о состоянии рынка, и являлись по первому зову. За тридцать три с третью процента им приходилось срываться с постели в любой час ночи и быть на рынке не позже чем через пять минут после доставки туда улова. Говорили даже, будто эти тридцать три с третью процента довели Энграцию, в которой жадность уживалась с набожностью, до того, что она распорядилась вызывать ее из церкви во время мессы, если на рынок поступает улов, превышающий стоимостью десять ящиков сардин.
В этот вечер Энграция проводила досуг за своим любимым занятием — с увлечением вырезала некрологи из газет, которые покупала пачками, чтобы заворачивать рыбу, и вклеивала их в толстую тетрадь. «„Безболезненная и мирная кончина…“ — неплохо сказано… и все же если человек член общины Святого Таинства, то я, пожалуй, предпочитаю, когда пишут „убитые горем“…»
— Кто там? Иду, да иду же. Уже и подождать не могут…
Она распахнула дверь, и тусклый свет упал на лицо человека, стоявшего у порога.
— Вечер добрый, Симон. Что-нибудь стоящее? Если опять полкорзины макрели, я и слышать об этом не желаю.
Симон, не дожидаясь приглашения, вошел в комнату.
— Мне надо кое о чем с тобой поговорить. Ты не возражаешь? — Он закрыл дверь и, не обращая внимания на удивление Энграции, задвинул засов.
Когда Коста дотащил рыбу до рынка, ему снова стало плохо. Небольшая компания стоявших без дела рыбаков расступилась, давая ему дорогу; он сбросил на прилавок рыбу и выпрямился, с трудом переводя дыхание, ожидая возгласов удивления. Но никто и виду не подал, что заметил его. Всего в трех шагах от него стоял Марко, рыбак, который лишь накануне так приветливо разговаривал с ним, но сейчас он не спеша повернулся к Косте спиной. Измученный Коста почти не чувствовал ни обиды, нц удивления. Сквозь толпу равнодушных рыбаков просочилось несколько мальчишек, они заглядывали в разинутую пасть мертвой рыбы и с опаской тыкали в закованную в твердую чешую тушу.
— Ну-ка, Фернандо, — обратился к одному из них Коста, — сходи узнай, идут сюда перекупщицы или нет.
Вообще-то это было излишне — торговки, конечно, уже спешили на рынок. Едва не теряя сознание, он тяжело опустился на прилавок рядом с рыбой. Фернандо растерянно оглянулся и ушел, сунув руки в карманы, подшибая ногой невидимые камушки.
Мимо, как и каждый вечер в течение последних пяти лет, всегда в одно и то же время и в сопровождении тех же двух приятелей, проходил доктор Росас. Он только что продемонстрировал им свое последнее приобретение — украшенную надписью зажигалку.
— Как я уже говорил, меня восхищает в них трезвый взгляд на вещи. Вот, например, возьмите мой случай. Я пытаюсь дать разговору определенное направление, я страстно вздыхаю, беру ее за руку, а потом говорю: «Как тут романтично! Эти места просто очаровывают, где бы вы ни были, вас вечно тянет сюда». — «Было бы еще романтичнее, — говорит она, — если бы в туалете хоть изредка спускалась вода». Вот это я и называю трезвым взглядом. Нам это не свойственно. — Доктор умолк. — Простите, я должен взглянуть на эту рыбину.
Он подошел к Косте.
— Ничего себе! Очень недурна. Дала тебе жару? Похоже, тебе крепко досталось.
— Кажется, я оглох, — сказал Коста.
Росас подошел поближе и заглянул ему в ухо.
— Ну конечно! Лопнула барабанная перепонка. Ничего страшного, если вовремя принять меры. Умойся-ка да приходи ко мне в кабинет.
— Спасибо, — отвечал Коста, — вот только сбуду с рук эту рыбу.
Росас пощупал у Косты пульс.
— Ведь на ногах не стоишь! Пульс еле прощупывается. Лучше пусть рыба подождет.
— Да нет, я ничего, — возразил Коста, — добрался сюда своим ходом.
— Вот, полюбуйтесь, — обратился Росас к своим друзьям. — Ему, видите ли, сейчас не до того. И все они такие. А потом подхватывают какую-нибудь инфекцию, которая укладывает их в постель на месяц, и тут уж другая песня: «Что же вы меня не предупредили, доктор?» Ну как знаешь, — сказал он Косте. — Ты в любой момент можешь потерять сознание, имей это в виду. Дело твое, но ты сам себя доконаешь.
Доктор и его спутники пошли дальше.
— Лечить их — пустое занятие, — продолжал Росас, — они готовы ковылять на сломанной ноге, лишь бы сэкономить десяток песет.
Коста, страдая от боли, с трудом сдерживая нетерпение, увидел мальчишку, которого послал за перекупщицами.
— Ты сказал им, чтобы поторапливались?
Но мальчишка буркнул что-то, чего Коста не расслышал, и, скорчив от смущения рожу, убежал в другой конец улицы, где шумно веселились его приятели.
Коста закричал ему вслед, и от напряжения ухо снова пронзила боль. Он зажал его ладонью, а когда отнял руку, она оказалась в крови.
Кто-то из рыбаков бросил, не глядя на Косту:
— Он сказал, их никого нет дома.
Где-то в пространстве еще чей-то голос произнес:
— Энграцию срочно вызвали к умирающей сестре. Сеньору Лючию увез на машине в Барселону свояк на крестины.
Коста повернул голову, и третий голос произнес у него за плечом, словно поймав его врасплох:
— А у Лолы, похоже, будет выкидыш. — И прибавил, словно продолжая разговор не с Костой, а с кем-то другим: — Бедняжка, ей даже за нуждой не разрешают вставать с постели.
Коста заставил себя подняться и пошел, нетвердо ступая, смущенный тем, что рыбаки сторонились, давая ему пройти. Лола жила наискосок от рынка и поэтому, когда приносили улов, обычно оказывалась у прилавка первой. Обычно дверь ее дома была открыта и днем и ночью. Он подергал ручку, постучал ногой в дверь и громко позвал через замочную скважину. Изо всех окон высунулись головы. Шедшие за Костой по пятам ребятишки опасливо остановились посреди улицы. Рыбаки на рынке оставались на своих местах и только исподтишка наблюдали за ним. Он снова подергал дверную ручку, над головой у него заскрипели, отворяясь, ставни, на балконе появилась разгневанная старуха и крикнула:
— Пожалуйста, потише — ведь в доме больная!
Он повернулся, и ребятишки бросились врассыпную. Он не раз видел, как они точно так же разбегались, услышав ругань идиота, который, убежав с чердака, где его держали взаперти, прыгал по улице, расстегнув штаны и корча рожи.
Коста добрался до прилавка и, взяв рыбу за жабры, поднял ее. С минуту он стоял в полной растерянности, не зная, что предпринять. И внезапно ответ нашелся. Он увидел, что позади толпы движется, стараясь не привлекать к себе внимания, Сервера, заведующий муниципальным холодильником. Снова бросив рыбу на прилавок, Коста направился к нему.
— Эй, Сервера! Слыхал, какую я поймал рыбу? И дала же она мне жару! Вот что, видно, старик, ее сегодня ночью продать будет несподручно, так что давай сунем ее до утра в холодилку, если ты не против.
В худшем случае он получит нужную сумму завтра утром, осилит как-нибудь шесть миль до шоссе, а там уж кто-нибудь подбросит его в Барселону.
Лицо у добряка Серверы вытянулось, перед Костой стоял маленький, грустный, припертый к стене Понтий Пилат.
— Боже ты мой, дело-то ведь в том…
— Мне надо сходить к доктору, чтоб меня немного подштопали. Не стал бы тебя торопить, да ведь сам видишь, что у меня с ухом. Перед глазами все плывет…
— Да дело-то в том… разве ты не знаешь? На заводе поломка, и льда нету. Ведь мы же от завода зависим, а там поломка — вот потому и нет льда. Ни кубика. Короче говоря, завод не работает, и льда нет.
Коста беззвучно шевелил губами, пытаясь что-то сказать.
— Положить ее в камеру мы, конечно, можем, — горестно сказал Сервера. — Безусловно, можем. Ключи-то, вот они, я их всегда ношу при себе. Вот этот большой от холодильника. Отпереть его ничего не стоит. Ты не думай. Да только ведь безо льда она к утру все равно протухнет.
На мгновение голову Косты затопила звенящая тишина, и, словно отвечая на какое-то невысказанное возражение Косты, Сервера добавил:
— Я знаю, что лодки вышли в море за сардиной, но, если, с божьей помощью, улов будет, его повезут продавать в Пуэрто-де-ла-Сельва.
В голове у Косты помутилось: ему вдруг представилось, что где-то в кромешной тьме бурным потоком мчится темная река, унося с собой водоросли и гальку. Мавританская башня как бы осела, стряхнув тонкий слой пыли. И пища в животах у людей, глазевших на него, протиснулась немног о дальше в своем движении по кишечнику. Что-то причиняло ему боль, но что именно, он никак не мог вспомнить.
Слишком много музыки зазвучало вдруг в воздухе, и звуки тут и там падали на землю ленивым летним дождем. Музыка стала громче, и в мозгу у Косты что-то плавно встало на свое место — он узнал Каньядаса, гостиничного слугу, исполнявшего самые разнообразные поручения. Он приближался, наигрывая на гитаре. Каньядас все время играл роль — он усердно изображал из себя испанца, который, по его представлению, отвечал бы запросам иностранных туристов; сейчас он направлялся к вытянутому крылу гостиницы, чтобы развлечь серенадами молодых иностранок, обитавших в пропахших кухонным чадом номерах. Остановившись, он убрал с лица выражение томности и печали и пропел несколько строчек из Верди:
— «Привет, привет всем! Уж полночь наступила! Но что же происходит тут? Ответьте либо смолкните навеки».
Рыбаки смотрели мимо него. Коста был теперь в цирке, где по кругу галопировали белые лошади. Внезапно на спине каждой лошади очутилось по лисице. Он старался собраться с мыслями, но земля по-прежнему уплывала из-под ног.
Сервера, которого мучила совесть, решил воспользоваться случаем.
— Смотри, Каньядас, какая рыба! Может, ты сумеешь с ней что-нибудь сделать? Если б мы могли продержать ее ночь, тогда б и говорить не о чем, да вот холодильник испустил дух.
— Теперь рыба. О господи! — вздохнул Каньядас. — Чего только мне в жизни не предлагали. Но такое — впервые. Что это, молодая китиха, что ль?
Ветер надул маскарадную рубаху Каньядаса, и крошечные тореадоры встрепенулись, готовые отразить нападение врага.
— Да я не тебе предлагаю, — продолжал Сервера, — я про ресторан гостиницы говорю. Можно ведь подработать.
Каньядас прикинул в уме, и его простоватое лицо обрело твердость.
— Извиняюсь, да только бюджет утверждается на неделю вперед. Сразу видно, что ты не больно-то понимаешь, как управляют гостиницей. Вот что я тебе скажу, — повернулся он к Косте, — если ты ее никуда не пристроишь, приходи ко мне. Могу дать тебе за нее сотню. Все лучше, чем ничего. — Взяв на гитаре еще несколько аккордов, он двинулся прочь, но дорогу ему загородил Франсиско. Он был во всем черном и выглядел торжественно, словно собрался на свадьбу или на похороны. Тусклый желтый свет играл на его выдававшихся свежевыбритых скулах.
— Грабежа под каким угодно предлогом мы здесь не допустим, — сказал он. — Если кому нужна рыба, он покупает ее за настоящую цену у торговок, а если торговки не хотят эту рыбу покупать, это их дело. Значит, у них есть свои причины.
Остальные рыбаки стали в замешательстве расходиться, как бы снимая с себя ответственность за происходящее. Коста же, слушая Франсиско, постепенно приходил в себя: ему словно вылили на голову ведро холодной воды. Он понял: это приговор.
— Почему не сказать прямо? Я этого никак не пойму. Незачем ломать комедию. Давайте лучше начистоту. Не хотят торговки покупать у этого джентльмена рыбу — что поделаешь, дело хозяйское. А тут торговать мы ему не позволим. Пусть продает ее где-нибудь в другом месте. Вот и весь сказ. А ты иди с ним и покупай ее там, если хочешь.
Коста убил бы его, если б мог, и с радостью отправился бы за это на казнь, но, хотя в голове прояснилось, силы окончательно покинули его.
«Я все равно убью его, только вот оправлюсь немного, — стучало в мозгу. — Сломаю ему хребет об его же собственную лодку. И с остальными со всеми расправлюсь, до кого успею добраться. А потом уж наложу на себя руки».
Он поднял глаза и, шатаясь, двинулся вперед, зеваки расступились перед ним, и опять в голове у него помутилось, и ему уже казалось, что он стоит среди ветряных мельниц и от поднятого ими ветра дрожит его ничем не защищенное тело. Он что-то искал — лихорадочно, отчаянно, но ему мешала боль в голове, которая все время вытекала наружу и окрашивала красным полевые маки. И времени у него оставалось мало, потому что солнце быстро садилось, и вскоре должно было стать совсем темно.
Коста бежал, спотыкаясь, по улице, а они бежали за ним: впереди ребятишки, трусливые и безжалостные, за ними несколько хулиганов и затем толпа взбудораженных зевак, которые ничего толком не знали, а лишь прослышали, что кто-то сошел с ума. Все добропорядочные рыбаки, члены братства, повинуясь гневным взглядам и жестам Франсиско, разошлись кто куда.
Рынок обезлюдел, и лишь огромная рыба осталась лежать на прилавке, усохшая и бесформенная, при тусклом свете единственной лампочки сливавшаяся с собственной тенью. Пять минут тишину нарушал лишь стрекот цикад да далекий лай собак, а затем со стены легко, как балерина, спрыгнул громадный уродливый кот.
Кошки Торре-дель-Мар резко отличались от своих собратьев: это была особая порода, питавшаяся исключительно падалью, порода выносливая, которая создавалась в течение столетий, с того самого дня, когда рыбаки выкинули за дверь отбросы своего первого улова; их терпели как ассенизаторов. Кошки эти были безмерно прожорливы, но благоразумны; у них развилось какое-то особое чутье, помогавшее им безошибочно определять, что трогать нельзя и что предназначается им. Бесхвостый кот, который сейчас обозревал лежавшую на прилавке добычу, держал под своим началом целую компанию подобострастных молодых кошек, целиком полагавшихся на умение своего вожака разыскивать пищу. Зловещесмиренно принюхиваясь, кот настороженно замирал, и они тоже нерешительно медлили в отдалении. Когда же он, как сейчас, упругим шагом шел прямо к добыче, двигались вперед и они. Наконец, неторопливо и тщательно все взвесив, кот вспрыгнул на прилавок рядом с рыбой. И тотчас со всех сторон к ней ринулись нетерпеливые жадные тени.
Глава XXIV
Очнувшись, Коста с удивлением увидел, что лежит в убежище, почти забытом с детских лет, где давно в минувшие годы они частенько собирались с ребятами. Со скалы по-прежнему падала тоненькая струйка родниковой воды, а внизу темнел заплетенный паутиной водоем, в который он когда-то бросал на счастье монетки, твердо веря, что счастье ему обеспечено. Печурки из кирпича, наполовину скрытые высокой травой, еще были черными от огня, на котором много, много лет назад они готовили себе еду.
Он поднялся на ноги, потянулся, чтобы расправить онемевшие члены, ополоснул руки и лицо холодной ключевой водой. События минувшего вечера медленной чередой проходили перед его мысленным взором и представлялись ему эпизодами нелепой истории, происшедшей с кем-то другим. Он словно как-то отупел, и чувство это отнюдь не было неприятным, потому что одновременно с ним пришло ощущение свободы. Свобода эта далась ему без усилий. Он не рвался из темницы. Он просто вышел на волю через дверь, которая никогда и не была заперта. Его только немного удивляло, почему он раньше не вышел оттуда. Он заметил, что оглох на одно ухо, но боль прошла. Коста выстирал в ручье запачканную кровью рубашку, надел ее мокрую на себя, спустился вниз на дорогу и пошел к шоссе, ведущему в Барселону.
На перекрестке Коста остановил первый же ехавший в город грузовик — подняв руку, он уверенно пошел прямо навстречу машине. Водитель, маленький человек с поджатым ртом, с удивлением смотрел на него. Он открыл дверцу, и Коста залез в кабину. Миль сорок они молча ехали мимо ферм и сосновых рощ. Потом водитель спросил:
— Видать, работу ищешь?
— Нет, — отвечал Коста, — собираюсь забрать кое-кого из Барселоны.
— Вон оно что.
Полчаса спустя водитель спросил:
— Перекусить хочешь? — и протянул Косте половину булки с сосиской. — Давай ешь все. Я-то не могу. Мне только что все зубы выдрали. Они мне организм отравляли. На вот, запей!
Шофер снял одну руку с руля и потянулся за флягой — грузовик резко вильнул влево. Сзади раздался громкий негодующий гудок, и, когда грузовик выровнялся, его обогнал лимузин. Он прошел так близко, что передний бампер грузовика поцарапал ему заднее крыло. Вспыхнули сигнальные лампы лимузина, и водитель грузовика, навалившись всем своим щуплым телом на тормоз, остановил машину почти у самого обтекаемого багажника великолепного лимузина. Рослый молодой человек с черной ниточкой усов над верхней губой и ярким румянцем на щеках вылез на дорогу и подошел к ним, размахивая руками.
— Как я тебе сейчас дам в… — начал он, но, увидя лицо Косты, осекся.
— Вот тебе и Барселона, — сказал водитель, когда они двинулись дальше. — Одно слово, свиньи! Вести себя не умеют.
И тут Коста заметил, что они уже едут по пригороду. Но впечатления это на него не произвело. Барселона и ее жители больше его не пугали. Одно только оставалось непонятным. Как же это он не додумался до такого простого решения раньше? Ведь, казалось бы, чего проще.
— Моя девушка работает тут прислугой, — объяснил он водителю. — Думаю, пора ее забрать домой.
Водитель одобрительно кивнул.
— Правильно. Разве можно, чтобы хорошая девушка болталась долго в таком месте? Где же мне тебя высадить?
Швейцара в роскошном мундире нигде не было видно, а на дверях служебного лифта висела табличка «Не работает». Коста поднялся в пассажирском лифте вместе с двумя неизвестными мужчинами, которые благоухали духами. Один был худощавый и в летах. Он морщился, видимо превозмогая боль, но бодрился, и, хотя Коста был поглощен своими думами, он не мог оторвать глаз от перчаток этого господина, белых, с изящной желтой отделкой. Спутник его был невысокого роста, черноволосый. Он говорил с андалузским акцентом и по-петушиному выпячивал грудь. Ни тот, ни другой не обратили на Косту никакого внимания.
Тот, что был в белых перчатках, вышел из лифта первым. Он позвонил у дверей, подождал и позвонил еще раз. Нетерпеливо прищелкнув языком, он отошел, пожимая плечами, в сторону, и андалузец в свою очередь нажал на звонок. Они услышали, как щелкнул автоматический дверной звонок и бесстрастный голос из микрофона пригласил их расположиться в приемной.
Коста очутился в маленькой комнате с белыми стенами, похожей на приемную недавно появившегося в Торре-дель-Мар зубного врача. Они сели на стулья из хромированных трубок. На столике под стеклом лежала лаконичная записка: «Чеки просим не предлагать — не хотим обижать вас отказом». Коста дважды прочитал написанное и ничего не понял. Низкорослый заговорил шепотом, заполнившим все уголки пустой комнаты:
— Я вижу, у них тут новшества, даже горничную электрифицировали.
Болезненное выражение на лице второго стало еще заметнее.
— Как все это убого, друг мой. Просто невыносимо. От этой белой краски меня мутит. Вот увидите, они еще выложат стены кафелем.
— Лично я не против чистоты, — возразил андалузец. — Мне кажется, что лучшего в Барселоне не найти. — Он говорил, как все южане, глотая слова.
— Всегдашняя история, — пожаловался посетитель в белых перчатках. — Отыщешь местечко. Ну прямо рай. Сболтнешь сдуру одному приятелю, другому и не успеешь оглянуться, как про него уже все знают. И пиши пропало. Цены взвинчивают до небес, а прелести, своеобразия остается не больше, чем в уборной в аэропорту. Стандартное заведение, и только.
— Извините за откровенность, но мне кажется, вы чересчур привередливы, — сказал его собеседник. — Вам никогда не приходило в голову, что при своей разборчивости вы можете иной раз кое-что в жизни и потерять?
— Во всяком случае, я никогда не испытывал желания приходить в такое место в такое время дня. Вы, Педро, бесподобный жуир.
Низкорослый вытянул шею, словно собираясь закукарекать.
— Я жертва своего темперамента — готов в любое время дня, — отвечал он. Оба вдруг заметили стоящего перед ними Косту.
— Это что, бардак? — спросил он.
Приятели уставились друг на друга, подняв брови; низкорослый хихикнул.
— Боюсь, что вас могут исключить из членов, если услышат, как вы отзываетесь об их храме Венеры, — заметил посетитель в белых перчатках. — Сюда… во всяком случае, раньше принимали с большим разбором. Не сочтите за дерзость, вы случайно не ошиблись адресом?
— Где они? — спросил Коста.
— Кто «они»? Те, кто возглавляют заведение?
— Те, что тут работают. Девки.
— По ту сторону двери, — ответил человек в белых перчатках. — Мы, как всегда, пришли слишком рано. Они отопрут, когда будут готовы. — Увидев, что Коста направился к двери, он добавил: — Они не любят спешить, и торопить их вряд ли имеет смысл.
Коста подошел к двери, налег на нее и услышал, как треснуло дерево, когда замок подался. Медленно и неуверенно вступил он в логово дракона, где все сверкало позолотой, искрились стеклянные побрякушки и отовсюду следили чьи-то глаза. Цветник порочных лилий дохнул на него запахом сигар. С потолка игриво улыбались откормленные херувимы, а в тени застыли в разных позах статуи. Он переходил из одной комнаты в другую — везде был полумрак. Раздвинув тончайшую паутину шелка, скрывавшего какой-то альков, он увидел толстопузого восточного бога, сидевшего, скрестив ноги, в облаках фимиама. Он попятился, опрокинул резной китайский столик, а с ним музыкальную шкатулку, которая нелепо затилинькала. Все тут было мягко, как пушистый живот ангорской кошки, и загадочно, как камера пыток. Дневной свет был отсюда навеки изгнан.
Коста растерялся, словно бык, загнанный в лабиринт с обитыми мягкими стенками; кровь стучала у него в висках, а в голове шумело, как будто он прижал к ушам морские раковины. Словно по его велению, отворилась дверь, и он очутился в комнате, где три девицы, усевшись вокруг граммофона, пили кофе. Он уставился на них — одна чашка упала на пол, граммофонная иголка соскочила, оборвав избитый скрипичный пассаж из «Сказок Венского леса». Высокое зеркало свалилось на Косту и разбилось вдребезги, а появившаяся неизвестно откуда седая, похожая на тюремщицу женщина со связкой ключей на поясе в панике схватилась за телефон и стала набирать номер.
Зазвенели сигнальные звонки, кто-то засвистел в свисток, и крошечная белая собачонка, подстриженная так, чтобы казаться мохнатой игрушкой, тявкая, бросилась на Косту… Из кокона сбившихся простынь, разевая рот, высвобождался какой-то мужчина. Две девицы с визгом кинулись от него в разные стороны, путаясь в воздушных струях своих ночных рубашек.
Коста ринулся напролом, обрывая шелковые шнуры, которые пытались накинуть ему на шею, расшвыривая все препятствия, нагроможденные у него на пути. Внезапно он очутился в помещении, где в глаза ему ударил резкий дневной свет; какой-то мужчина в рубашке и брюках с болтающимися подтяжками дергал спуск автоматического пистолета. Коста вырвал пистолет и бросил его на ковер.
Тут он заметил постель и соскользнувшую с нее фигурку. Прошло лишь мгновение, и дверь захлопнулась, но какое-то знакомое движение, волна развевающихся волос и подавленный крик напомнили ему, зачем он сюда пришел.
Человек сорвал со стоявшей у кровати лампы абажур и, когда Коста повернулся, с размаху ударил его по лбу. Комнату осветила голубая вспышка. Коста услышал, как взорвалась лампа, но ничего не почувствовал. Он отер с глаз кровь. Человек теперь стоял спиной к окну, с перекошенным от страха лицом. Но тут внимание Косты привлек звук, долетевший с улицы, которая была где-то далеко внизу. Это была полицейская сирена. В голове у него вдруг все смешалось. «Они за кем-то охотятся, — подумал он. — За кем же? Да за мной, конечно. Ясно без слов. Меня всегда травили. Но почему же непременно меня? Почему всегда меня? Что я сделал?»
Вслушиваясь, он шагнул вперед, и человек снова замахнулся на него лампой. Коста отвел удар. И вдруг почувствовал, что всем своим существом ненавидит этого человека. Это тоже был преследователь, и самый последний, самый подлый.
«Никогда раньше я не думал сопротивляться, — сказал себе Коста. — Всегда позволял себя травить, склонял голову, молчал, держался в стороне, надеялся, что в конце концов отстанут. А конец — вот он какой». Его загнали в угол, окружили: дальше хода нет. Коста снова отчетливо увидел крысиную мордочку этого человека и его оскаленные зубы и понял, что, прежде чем его схватят, он сможет получить хоть какое-то удовлетворение.
Он сгреб человека в охапку и понес к открытому окну.
Глава XXV
— Как видите, кашель у меня наконец прошел, — сказал дон Федерико. — Я сумел взять себя в руки. И вот я — новый человек.
— Как же это вам удалось? — поинтересовался Росас. — Ваш метод может оказаться ценным вкладом в медицинскую науку.
— Диета, только и всего. Я экспериментирую.
— Какое же ваше последнее увлечение?
— Увлечение? Полноте, доктор, всем известно, как огорчается ваш брат, когда жертва ускользает у вас из рук. Я просто решил, что слишком много ем, и теперь живу, питаясь исключительно черными бобами да еще вот этой панорамой. — Виланова повел рукой в сторону моря.
— И вашей экономке пришлось приноравливаться к новому режиму?
— О нет, зачем же. Мы живем каждый своей жизнью. Панораму она переваривает плохо, и ей приходится заменять ее чем-нибудь другим.
— По крайней мере не экономьте на бобах — вот все, что я могу вам сказать. Вы и так совсем уже прозрачный. — Росас отодвинулся в тень глицинии, чтоб солнце не пекло шею. — Собственно, я пришел узнать о вашем сыне. Есть что-нибудь новое?
— Ничего, помимо того, что вам уже известно. Думаю, в ближайшие дни он будет здесь.
— Что же вы намереваетесь предпринять в отношении его?
— Намереваюсь сказать ему, чтобы он снял пиджак, засучил рукава да занялся нашим имением.
Росас обвел взглядом скудные земли вокруг. Этим летом вредители объели на пробковых дубах все листья, и лишенный зелени ландшафт казался покрытым ржавчиной. Сквозь оголенные, искривленные ветви, не приглушаемые листвой, до них особенно четко доносились различные звуки: собачий лай с дальних ферм, мелодичный перезвон козьих колокольчиков, автомобильные гудки в низине. Голые вершины гор, замыкавшие пейзаж, были цвета заплесневелого шоколада.
— Не представляю, что он сможет тут делать, — сказал Росас.
— А может, нет худа без добра. Слишком много развелось на свете паразитических профессий.
И чтобы скрыть свои чувства, дон Федерико взялся за бинокль. Он навел его на видневшуюся вдали деревенскую площадь, где только что выплеснулась из автобуса новая партия туристов — белые домики впитывали в себя яркую кляксу.
Не могу понять, что там у них происходит. Людей не видно, и лодки с утра еще не выходили в море.
— Когда я шел сюда, меня остановил патруль, — сказал Росас. — Кстати, вы замечали, что половина этих патрульных страдает близорукостью? Очевидно, так удобнее бороться с контрабандой. Ну да вот идет и ваш друг, самый осведомленный в Торре-дель-Мар человек. Уж он-то, вероятно, расскажет нам, в чем дело.
Дон Федерико посмотрел вниз на нищего, который остановился и взмахнул палкой.
— Ave Maria!
— Вечно он бубнит себе под нос, — сказал Виланова, ни к кому не обращаясь. — Я и половины не слышу из того, что он говорит. Хотя, конечно, может, я сам глохну. Найдется у тебя сдача с пяти песет? — спросил он нищего.
— Нет, не найдется.
— Ладно, принесешь в другой раз. — Он засунул бумажку в расщепленный конец палки нищего. — Что там у них творится в деревне?
— Облава! — отвечал нищий. — Только это совсем не так интересно, как в кино.
Росас в знак согласия кивнул.
— Без канализационных труб какая же облава? У нас о настоящей погоне и мечтать нельзя… Слишком отсталая страна. Кого же они ловят? Контрабандистов?
— Да нет, — ответил нищий. — Бандитов. Вернее сказать, одного бандита — француза, который совершил несколько зверских убийств. В деревне полно полицейских, во всех домах под кроватями шарят. В первый раз таких дураков вижу. Когда я шел сюда, один из них обшарил меня — оружие, вишь, искал. Между прочим, дон Федерико, я принес вам письмо. Почтальонша сюда идти побоялась.
Нищий сунул письмо в расщепленный конец палки и протянул Виланове.
— А этого бандита, — сказал Росас, — как же они его здесь выследили?
— Да никто его не выслеживал! Надо же было ему поселиться как раз у Косты! Понятно, он его и выдал.
Виланова распечатал конверт. И положил письмо на стол.
— Отчего же это понятно?
— Да ведь всякому известно — Коста заодно с полицией.
— Ничего подобного, — возразил Виланова. — Мне, например, это неизвестно.
— Если он убил француза, так пусть бы французы его и ловили, — сказал нищий. — А Косте нечего было в это соваться… Хотя чего еще ожидать по нынешним временам, когда даже в церковных процессиях хоругви всякие сукины дети носят… Важное письмо?
— Я не могу его прочитать, — отвечал Виланова, — и, позвольте заметить, я не одобряю занятую вами позицию. Вы слишком торопитесь с выводами. — Он взял отпечатанный на машинке лист и, сощурившись, стал его снова тщательно изучать. — «В соответствии с полномочиями, представленными… настоящим уведомляем, что площади, означенные на прилагаемом…» — Виланова передал бумагу Росасу. — Прочтите и объясните мне, в чем дело. Это какая-то официальная бумага. Мне всегда нужно по крайней мере полчаса, чтобы понять, что в них сказано.
Росас взял бумагу и прочитал. Прочел еще раз, нахмурился, взглянул, нет ли чего на обороте, проверил почтовый штемпель на конверте и отложил письмо в сторону.
— Что там? — спросил дон Федерико. — Новый налог?
Росас поджал губы. Потом вздохнул.
— Им нужна ваша земля.
— Кому? — мягко спросил дон Федерико.
— Какому-то министерству. Военному, кажется. — Росас взял бумагу и перечел в ней какой-то абзац. — Не ясно, разрешат ли вам остаться в вашем доме, но во всяком случае всю эту территорию хотят превратить в полигон, так что, если в вас попадут, пеняйте на себя.
— Я землю не отдам, — сказал Виланова все тем же ровным голосом. — И не подумаю.
— Добровольно, конечно, не отдадите. Но боюсь, что так или иначе они ее заполучат. Скорее всего, выйдет так: в один прекрасный день вам придет официальное уведомление с указанием дня передачи земли министерству, и вы, не читая, порвете его. А потом, через месяц-другой, когда вам уже станет казаться, что про вас забыли, они явятся с указателями и колючей проволокой, и на этом дело кончится. Разумеется, что-то вам выплатят в качестве компенсации.
Дон Федерико заморгал, словно ослепленный ярким солнечным светом. Наступило молчание. А потом, как бы поясняя Росасу возникшие обстоятельства, он сказал:
— Они хотят отнять у меня землю.
— Вот именно, — подтвердил Росас.
Дон Федерико испуганно окинул взглядом бесплодную красоту своих владений.
— Ведь это же несправедливо? — сказал он.
И снова наступило долгое молчание. На прощальное приветствие нищего никто не ответил, и Росас только услышал, как тот зашаркал прочь по дороге. Доктор наклонился и дружески взял старика за локоть.
— Не знаю, что и делать, — сказал дон Федерико.
Росасу хотелось сказать что-нибудь, что могло бы отмести жестокую неотвратимость отпечатанных на машинке фраз. И вдруг его осенило.
— Возможно, все обстоит не так уж безнадежно, как кажется. По-моему, я знаю человека, который мог бы вам помочь… Только Нельзя терять времени.
— Я хочу умереть тут, — сказал дон Федерико. — Право, больше мне от жизни ничего не нужно. Просто оставили бы меня в покое. Я слишком стар, чтобы привыкать к новому месту.
— У меня есть один знакомый, некто Вале, — сказал Росас. — Не хочу вас слишком обнадеживать, но уж если кто и может в таком деле помочь…
— Не надо, — сказал Виланова.
— Вы его знаете?
— Да, — отвечал дон Федерико, — я слышал о нем.
— Больше нам надеяться не на кого, — настаивал Росас. — Неприязнь вашу я вполне понимаю.
Негодование заставило старика взять себя в руки, в голове прояснилось.
— Я, между прочим, знаю, что́ Вале может потребовать за услугу, которую сочтет нужным оказать. Уж скорее я дам военному министерству разбомбить мою землю, чем позволю наложить на нее лапу Валсу. — Он с подозрением взглянул на Росаса. — Надеюсь, что вас не подослал ко мне этот выродок?
— Вы старый дурак, — сказал Росас. — Иной раз я просто диву даюсь — и чего я только ввязываюсь? И так уж я у вас единственный друг.
— Единственный, — согласился Виланова. — Что правда, то правда.
Вошла Мария и села за стол напротив них.
— Дождались-таки! — сказала она. — Что же вы теперь намерены делать?
Виланова ласково поглядел на нее. Мария была одной из тех прекрасных редких женщин, которые лишь в несчастье способны обнаружить всю глубину своей любви. К тому же в свое время она была настоящей красавицей и заслуживала участи несравненно лучшей.
— Я неудачник, дорогая, — сказал он, — к сожалению, страдаю от этого не я один.
— Господи, да не хнычьте вы, — сказала она, — тошно на вас смотреть, когда вы так расхнычетесь.
— Не вижу причин, почему вы должны разделять мою печаль, — сказал Виланова. — Вы всегда ненавидели это место.
— Конечно, ненавидела. Да какая женщина могла его полюбить? Тут как в тюрьме. Но если вам нравится жить в убожестве, так это устраивает и меня. — Она быстро отвернулась, чтобы смахнуть слезу. — Я пришла сказать вам, что сегодня утром лисы загрызли еще двух ваших драгоценных кур.
— Душегубы! — закричал он, по привычке впадая в ярость. Но тут же утих. — Двух? — переспросил он удрученно.
— И породистого петушка — того, с мохнатыми ногами. Все, что от них осталось, я сложила в сарае — пригодится для приманки в капкан.
Виланова глядел в пространство; он слышал голос Марии, но смысл ее слов дошел до него не сразу.
— Лисы, — сказал он. — Да, конечно, лисы.
— Да, — подтвердила Мария, — лисы. Если так и дальше пойдет, они за неделю очистят весь птичник. Разрешите узнать, вы намерены в связи с этим что-нибудь предпринять или вы считаете, что, помимо своих дел, я должна исполнять и ваши?
— Что-то надо сделать, — сказал дон Федерико.
— Ну так делайте, чего же тянуть, — не отставала Мария. — Если бы вы меня раньше послушали, ничего бы не случилось. Любой человек скажет вам, что капканы надо ставить у лисьих нор, а не в курятнике. Чего им возиться с дохлятиной, когда кругом полно живых кур?
— Значит, сразу и поставить?
— А почему бы и нет? А то ведь отложите и опять забудете. — Мария быстро переглянулась с доктором. — Я посижу с доктором Росасом.
Дон Федерико поднялся с места.
— Все бы вам меня пилить, — сказал он.
— Если я уйду, не дождавшись вас… — заговорил Росас.
Виланова обернулся.
— Да, разумеется. Вы еще здесь? — Он что-то вспомнил. — Между прочим, Росас, никаких переговоров с Валсом за моей спиной. Ни в коем случае!
Глава XXVI
Дон Федерико отправился в сарай, нашел там подобранные Марией окровавленные останки петушка и бросил их в мешок. Лисьи норы находились в некотором отдалении от дома, они были прорыты у подножия осыпающегося утеса из песчаника, размыв который море образовало неширокий залив.
Он пошел по узкой тропинке, вьющейся среди кустов ежевики и горьких, пахучих трав, с каждым годом все ближе подступавших к дому, прошел шагов сто и остановился. Внизу сквозь узорчатые листья поблескивала морская гладь. Его внимание привлекли два турмана из его стаи, которые одновременно взмывали и падали, словно связанные веревочкой, и трепетали крыльями, будто старались отполировать кусочек неба.
У дона Федерико возникло чувство, будто что-то должно произойти, и действительно, пока он рассеянно наблюдал за птицами, откуда-то из небесной глубины появился вдруг парящий сокол, и в следующее мгновение один из голубей исчез — только перышко, кружась, полетело на землю. Непостижимо, подумал Виланова. Вредители на дубах, лисы, а теперь еще и сокол. Можно было подумать, что животный мир с присущим ему нюхом на чужую беду почуял его близкий конец и пожиратели беззащитной плоти поспешили, дабы не упустить свою добычу. Он забросил свой мешок в кусты. К чему все это? Раз уж они так спешат разделить добычу, он им мешать не станет.
«Вот так и кончается всякий род, — размышлял дон Федерико. — Никчемные, прахом рассыпающиеся останки. Ну что ж, да будет так! Раз наш род пришел в упадок, значит, лучшего мы не заслужили. Испокон веков считали себя аристократами, а на деле ничем не отличались от крестьян, которые умудрялись из века в век жить на одном месте, не оставив после себя ничего, кроме груды черепков, закатившихся куда-то монет, собачьих костей да рассыпающегося праха тайно рожденных младенцев, упрятанных под полом. Отныне мы станем называться крестьянами — людьми, которые не живут, а прозябают. Мой сын станет крестьянином, а сын Валса попробует, каково это — быть аристократом. Желаю ему успеха.
В нашей родословной есть только один человек, оставивший после себя след», — вспоминал Виланова, и мысли его обратились к далекому предку, который однажды, весенним днем 1560 года, нашел свой конец в открытом поле, за стенами Севильи, где устраивали лошадиные ярмарки и сжигали еретиков. О человеке этом было мало что известно, кроме обстоятельств его смерти. Его казнили, потому что он придерживался взглядов, чуточку отличавшихся от общепринятых, и не пожелал от них отречься.
Во время мрачной и торжественной церемонии казни предок Вилановы держался с таким благородным достоинством, что о нем сложили легенду. Молча, с улыбкой покинул этот человек мир жалких посредственностей и навеки занял место главы рода. Своих потомков он безнадежно затмил — они тоже осторожно протестовали, лавировали, выжидали, но то, что у него получалось с блеском, они делали вяло, только в силу семейной традиции. И сейчас, в горькую минуту прозрения, Виланова понял, что его собственный протест против неугодного ему порядка мало чем отличался от ворчания капризного старика. Этот протест уже давно воспринимают просто как чудачество, которое кое-кому, например Росасу, кажется даже милым.
Ноги сами собой несли дона Федерико вперед по неровной тропинке, исхоженной им тысячи раз. В какой-то момент он почувствовал, что стоит на месте, и, вернувшись к действительности, заметил, что дошел до большого удобного валуна, на котором, гуляя в этих местах, имел обыкновение отдыхать. Дон Федерико не без удивления увидел, что на этот раз место его уже кем-то занято. При его приближении лежавший плашмя на плоском камне человек с трудом приподнялся и сел. Виланова увидал землистое, невероятно осунувшееся лицо, на ресницах и в уголках рта запеклась кровь. Потом он с удивлением отметил, что одежда человека совершенно мокра и облипает его костлявое тело. Когда человек попытался встать, в швах его башмаков, булькая, выступила вода, и ноздреватая поверхность камня начала впитывать оставленный им мокрый продолговатый след.
Человек, казалось, был ошеломлен и не желал верить, что это происходит с ним, — такое выражение Виланова уже однажды видел у осужденного на смерть, которого вели на казнь.
Чрезвычайность момента заворожила дона Федерико. Ему почудилось, что он участвует в сцене из апокалипсиса, где льву полагается возлежать рядом с ягненком.
— Je suppose, — спокойно сказал он, — que vous êtes le bandit?[7]
У полузахлебнувшегося Молины голова тоже работала плохо, и дон Федерико показался ему посланцем с того света, чуждого земным страстям.
— Я политический преступник, — сказал он по-испански. — Меня ловит полиция. — Он поднялся на ноги, и ручейки морской воды, чуть окрашенные кровью, потекли по тыльной стороне его рук.
— Вы ранены? — спросил дон Федерико.
— Я принял яд и бросился в воду. Но яд не подействовал.
— А может, еще слишком рано? — с машинальной заботливостью осведомился дон Федерико.
Молина прикинул, давно ли у него стала проходить тошнота, и покачала головой.
— Яд этот если действует, то мгновенно. Меня начало рвать в воде, и, наверное, я его выплюнул.
Он рыгнул, и рот его наполнила соленая жидкость. Молину всего передернуло; оправившись, он сказал до нелепости торжественно:
— Я должен немедленно лишить себя жизни.
От яда и морской воды он опьянел не меньше, чем от полбутылки коньяка.
— Почему немедленно? — осведомился дон Федерико.
— Потому что мне не убежать. Они кругом. Люди и собаки, надежды на спасение нет.
— А вам не приходило в голову, что они могут всего лишь убить вас, и ничего больше? И если даже случится худшее, они, по всей вероятности, сумеют сделать это лучше, чем вы сами.
Молина, пошатываясь, встал и сказал с неожиданной горячностью:
— В этом деле замешано слишком много людей. Если они схватят меня, всем остальным тоже крышка.
— Понимаю, — сказал Виланова, — вы хотите сказать, что не сможете выдержать пыток.
— Вопрос не в этом, — пояснил Молина, — можете вы или нет, теперь это не имеет значения. Они сейчас работают научно. Для них вы помешанный. Вот вас и лечат электрошоком, а в крайнем случае производят операцию мозга. И результаты отличные. Зачем же пачкать руки допотопными пытками?
— Раз так, должен признать, что у вас действительно нет выбора…
Не успел дон Федерико закончить фразу, как оба они услыхали донесшийся издалека и сразу оборвавшийся собачий лай и тут же, когда смолк на мгновение шум прибоя, совсем с другой стороны, снизу, долетели голоса, близкие и отчетливые. Молина вздрогнул и отвернулся.
— Вы можете идти? — спросил дон Федерико и взял Молину под руку. — Мне кажется, к берегу подходит лодка.
Поднимаясь бок о бок с Молиной по тропинке и поддерживая его, дон Федерико сам с трудом удерживался на ногах.
— В некотором смысле мое положение не менее затруднительно, чем ваше, — сказал он, — хотя в моем случае необходимость покончить с собой не столь безотлагательна. Да, не повезло нам с вами, что живем мы в этом веке. Мой дом рассчитан как раз на такие вот ситуации. Живи мы на несколько поколений раньше, все было бы очень просто: мы вошли бы в дом, заперли бы входную дверь и подождали бы, пока наши преследователи не уберутся восвояси… Как вы? Голова не кружится?
— Сейчас пройдет, — отвечал Молина. — Через несколько минут я совсем приду в себя.
— В таком случае давайте прибавим шагу, — предложил Виланова. — Если даже, пренебрегая собственным достоинством, я захочу пробежать последние пятьдесят метров, не уверен, что мне это удастся.
Свернувшая тропинка привела их к полуразрушенным постройкам, возле которых возвышались небольшими желтыми вулканами два стога сена, увенчанные ночными горшками, — скудная доля урожая, причитающаяся арендатору. Сразу за ними поднималась отвесная изогнутая стена, сложенная из обломков скалы, на которой и стоял дом: цемент, соединявший глыбы камней, был похож на слои крема в торте, а выше, метрах в десяти над землей, темнело недремлющее око единственного окошка, заключенного в ободок белой рамы.
Дон Федерико приостановился, чтобы перевести дух.
— В последний раз из-за недоплаты каких-то церковных сборов этот замок осаждал епископ, — сказал Виланова немного назидательно. — Пушка, которую подвезли на корабле, упала при разгрузке в море. Говорят, она и по сей день лежит там. В те дни нападением угрожали либо чужеземцы, либо церковь. Только недавно главной угрозой стало собственное государство.
Они пошли дальше, и дон Федерико поддерживал Молину под руку.
— Еще несколько метров. Кажется, мы добрались вовремя.
Они вошли в замок через двустворчатые огромные ворота, одна створка которых была приоткрыта.
— Боюсь, что без вашей помощи мне их не закрыть, — сказал дон Федерико. — У моего отца желание жить в безопасности было прямо-таки манией. Дубовые ворота в шесть дюймов толщиной казались ему ненадежными, и он приказал оковать их железом. А потому человеку, не обладающему сверхъестественной силой, их просто не сдвинуть с места.
Прямо у них над головой гулко прозвучали по каменному полу быстрые шаги, и они увидели закутанную в черное Марию; обойдя безголовых каменных львов, украшавших галерею, она спустилась по открытой лестнице во двор. Дон Федерико крикнул ей:
— Помогите нам задвинуть засовы, дорогая! Мне все кажется, для этого можно было бы придумать какой-нибудь нехитрый механизм.
Спустившись по лестнице, Мария окинула еле державшегося на ногах Молину быстрым испытующим взглядом.
— Что вы еще придумали? — обратилась она к дону Федерико.
— Насколько я помню, у вас была где-то бутылка отличного коньяка? — спросил Виланова. — Это мой старый друг. Как видите, он промок до нитки и совсем обессилел. И потом, мы собираемся кое-что отпраздновать.
— А позвольте узнать, что именно? — спросила Мария, с неприязнью глядя на Молину — так могла бы смотреть женщина, чей муж испортил семейное торжество, притащив с собой домой какого-то забулдыгу.
— День лисицы.
— Чей, говорите, день?
— Лисицы, — отвечал Виланова, — всяких лисиц, самых разнообразных. Ушел домой Росас? Ну и бог с ним!
— Что-то вы чудите, — сказала она.
— Я имею на это право. Я сейчас в состоянии нервной экзальтации. Ведь у меня как-никак отнимают мое поместье. — Он повернулся к Молине. — Вы, возможно, заметили примыкающую к дому башню. Лет сорок назад я еще вполне бы мог забраться наверх с ружьем и уложить наудачу несколько человек… Хорошо, что я уже стар, потому что когда-то я был метким стрелком и, конечно, кого-нибудь бы убил, да только не тех, кого надо. Ведь тех, кого надо, пулей не достанешь!
— Но они же гонятся за мной, а не за вами, — сказал Молина.
— Да, конечно, — согласился дон Федерико. — Но я хочу как-нибудь помочь вам. Потому мы и пришли сюда. Только как? В этом весь вопрос.
— Мне бы только какое-нибудь оружие, — вымученно сказал Молина. И в эту минуту они услыхали за воротами топот ног. Сморщившись и поманив Молину, дон Федерико пересек двор и через открытую дверь ввел его в напоминавшую келью комнату, где стояли лишь грубо сколоченный стол и несколько стульев да на стене висела картина, изображавшая распятие Христа. Мария принесла коньяк и две рюмки. Она поставила их на стол и застыла, не сводя глаз с Молины. Каждая черточка ее лица дышала негодованием.
— Принесите еще одну рюмку, — сказал ей дон Федерико. — Я хочу, чтоб и вы выпили с нами. Случай совсем особый. — И он обратился к Молине: — Вы что-то говорили об оружии… Правильно ли я понял, что вы все-таки решили покончить с собой?
— Совершенно правильно, — кивнул Молина.
— Не смею вас удерживать. Это было бы противно чести. — Он поднял свою рюмку. — Да здравствует то, за что бы вы там ни боролись. И да не будет у наших врагов ни капли хорошего коньяка, чтобы поднять дух, когда придет их черед.
Осушив свою рюмку, Виланова вышел из комнаты и вернулся с мотком веревки.
— Вот вам оружие. — И бросил веревку на стол.
Молина взял веревку в руки и стал разматывать. Через открытую дверь было слышно, что шум за воротами усилился — теперь уже в них стучали. Молина потрогал жесткие волокна веревки. Пристально глядя ему в лицо, дон Федерико сказал:
— Пеньковой веревкой можно удавиться не хуже, чем шелковой, — и кивнул в сторону арки в дальнем конце комнаты. — В буфетной на потолке есть крюк.
Молина встал, взял веревку и остановился. Провел рукой по лицу, стерев внезапно выступивший пот. И спросил:
— А ружья у вас нет?
— К сожалению, могу предложить вам только два вида оружия, — отвечал дон Федерико. — Одно вы держите в руках, второе — это прыжок с пятнадцатиметровой высоты на камни у подножия башни. Сочувствую вам — я вижу, вы не способны на настоящее отчаяние. А без истинного отчаяния, которое нам ниспослано во спасение, трудно решиться на такое.
В ворота снова забарабанили, и сквозь толщу дерева стали слышны какие-то крики. Дон Федерико снова наполнил рюмки:
— В прежние времена они могли бы три дня ломиться в ворота. Даже сейчас у нас есть еще в запасе несколько часов — пока кто-нибудь не догадается послать за динамитом.
— Несколько часов?
— Если мы решим, что имеет смысл заставлять их ждать так долго. Но как бы то ни было, если весьма проблематичная надежда на спасение может вас заинтересовать, я могу вам кое-что предложить.
Пульс у Молины участился, словно ему сделали переливание крови. Он готов был ухватиться за малейшую надежду на отсрочку — так, вероятно, христианские мученики цеплялись за свою веру в вечное блаженство. В час отчаяния Молина уже не стыдился.
— Я трус, — признался он дону Федерико, — сегодня я уже один раз заставил себя принять смерть. Меня это сломило. Я опустошен. Сейчас это в тысячу раз труднее.
— Вполне понятно, — сказал дон Федерико. — Тот, кто действительно решил умереть, имеет право покончить с этим делом быстро и освободиться. Вам удивительно не повезло с ядом.
Отвращение к самому себе душило Молину.
— Я рад, что остался жив.
— Это доказывает, что вы больны. В таком состоянии трудно умирать. Будь у вас несколько часов, чтобы прийти в себя, вы бы, наверное, снова нашли в себе достаточно сил. Поэтому я решил сделать свое предложение: не думаю, чтобы это дало вам реальный шанс спастись, но по крайней мере вы получите передышку.
В комнату вошла Мария.
— В саду полно полицейских, — сказала она. — Они притащили лестницу.
— Чтоб им провалиться! — воскликнул дон Федерико. — Воображаю, во что эти мерзавцы превратят цветочные клумбы. Только все равно оттуда они в дом не ворвутся. Задняя дверь крепка, как вход в подвалы банка. Разрешите наполнить вашу рюмку. Не могу же я допустить, чтобы этот отличный коньяк допивали профаны, которые даже не способны его оценить по достоинству.
Молина осушил свою рюмку, дон Федерико налил ему еще. Он наполнил третью рюмку и подал ее Марии.
— Мне жаль, дорогая, что нам так и не удалось обо всем поговорить. В шкатулке у меня под кроватью лежит для вас письмо. Ключ куда-то запропастился. Придется вам взломать замок.
— Не впадайте в мелодраму, — сказала Мария и поджала губы.
— Мне надо бы съездить в Барселону и договориться с каким-нибудь антикваром в Кале-де-Паж о продаже мебели. Все они жулики, и выбирать особенно не приходится. Смотрите только, чтобы ничего не попало в лапы Валса… И прошу прощения за мелодраму. Снова сказка про серого волка. Ну, а теперь нам пора уходить, — обратился он к Молине.
Он встал и повел Молину сквозь темную, гулкую пустоту дома, через старинные сумрачные комнаты необычного вида и привел во внутренний дворик, почти целиком занятый массивным основанием дозорной башни.
— Если б можно было своими глазами увидеть минувшее! — сказал дон Федерико. — Как часто, должно быть, в прошлом обитатели этого дома должны были искать здесь спасения от зверей в образе человеческом!
Он толкнул ногой башенную дверь, и из темноты на них пахнуло безмолвием и гнилостью забытых столетий.
— На ваше счастье, в полицию из-за мизерного жалованья идут служить только отъявленные тупицы, — продолжал дон Федерико, — из башни ведет потайной ход, он тянется несколько сот метров и выходит наружу на обращенном к морю склоне вон того холма. В этом нет ничего особенного. Все старые замки имели потайные ходы. Раньше вход в туннель с того конца был замаскирован, теперь же в нем играют дети. Все так к нему привыкли, что совсем забыли о его существовании. Прямо под ним небольшая бухточка, и тут же на берегу полуразвалившийся сарай, и в нем моя лодка. Протекает она или нет, не знаю. В последний раз я рискнул довериться морским волнам год, а то и два назад. Может быть, она камнем пойдет ко дну, но, как бы то ни было, она в полном вашем распоряжении.
Молина ощупью вошел в башню.
— Сейчас ваши глаза привыкнут к темноте, и вы увидите крышку люка. Он открывается довольно легко. Когда вы туда войдете, я запру за вами дверь и брошу ключ в колодец.
Дон Федерико вынул из-за спины руку, протянул ее, и Молина почувствовал у себя в руке большой старинный пистолет.
— Он старый, но стреляет без осечки, — сказал Виланова. — Если не будет иного выхода, стреляйте в рот. Мне известен случай, когда один человек, стрелявший себе в висок, остался жив.
И он пошел прочь от башни, бормоча себе под нос:
— Гнилое место. Меня в эту дыру никакими палками не загонишь.
— А знаете, — сказал он немного погодя Марии, — люди должны иметь возможность умирать, как в кинофильмах — без унизительных подробностей, отсрочек и явных увечий… А теперь, с вашего позволения, я пойду и немного приведу себя в порядок, прежде чем впустить в дом наших друзей. Случай как-никак торжественный, и мне хотелось бы выглядеть как можно лучше.
Глава XXVII
— Ну что ж, — сказал полковник, — вряд ли можно назвать эту операцию успешной.
— Да, сеньор.
— Просто не верится, что этому человеку все-таки дали ускользнуть у нас между пальцами. Я не возлагаю вину на вас лично. Плохо руководили сверху. Слишком много нашлось охотников заниматься этим.
— Да, сеньор, — согласился Кальес.
— Да сядьте вы, бога ради. Просто уму непостижимо, что стало с полицейской службой. Не хвастаясь, скажу, что в те времена, когда начинал свою карьеру я, такого случиться не могло, даже если б нам пришлось искать беглеца во всей Сьерра-Неваде.
Обманщица-память услужливо подсунула полковнику героическую картину давно минувших дней, когда его еще радовали чины и ордена, и он увидел себя не скачущим даже, а летящим на боевом коне по голым, выбеленным солнцем горным перевалам. Полковник грустно вздохнул. Накануне он решил, что пора ему заканчивать свою поэму, и сейчас, когда труд был завершен, он не испытал ничего, кроме скуки и разочарования. Ритм, с которым он сжился, был нарушен, и мысли полковника беспокойно рассеивались.
Он подошел к окну, откуда открывался вид на Торре-дель-Мар, и немного утешился — при вечернем освещении деревушка походила на трогательную картинку, написанную заезжим художником-иностранцем. Внизу, во внутреннем дворике, тесно росли лимонные деревья, и выглядывавший из густой темной зелени плоды походили на только что народившиеся луны.
— Вам понятно, — сказал он, возвращаясь на свое место, — что старик Виланова делает из нас посмешище?
— Мне дали понять, сеньор, что он не отказывается сотрудничать.
— Сотрудничать? Слово-то какое! Пока что его показания под присягой заняли уже пятьдесят машинописных страниц. Мы не в силах заставить его замолчать. Вначале мы были склонны верить его показаниям, но потом он имел наглость заявить, что замешан в преступлении, совершенном на фосской электростанции. Это же означает, что нам придется это дело пересматривать. Я вас спрашиваю, лейтенант, можете ли вы представить себе его главарем какой-нибудь организации? Старый негодяй. Вы бы видели при этом выражение его глаз. Он постарается причинить нам как можно больше неприятностей. Между прочим, о Молине ничего нового не слышно?
— У одного типа по имени Гомес, он же Кабрера, владельца маленькой палатки на берегу, было обнаружено несколько досок от пропавшей лодки. Он показал, что нашел обломки лодки среди скал. — Кальес кое-что припомнил. — В этом месте, сеньор, не раз прибивало к берегу трупы. Наверно, их сносит течением.
— Но на этот раз трупа не оказалось?
— Гомес говорит, что трупа не находил, хотя сам он одет в то, что снимает с утопленников.
— А на него можно положиться?
— Нет, сеньор, он интеллектуал.
— Кто?
— Интеллектуал. Человек с очень темным прошлым. Первым делом, мы выяснили, он дезертировал из рядов националистов и перешел к красным. Он возглавлял у них один из отделов пропаганды.
Полковника передернуло.
— Все это время ему удавалось заметать следы, симулируя потерю памяти. Но мы его живо вылечили.
— Вы добились от него толку?
— Прямо скажу, за всю мою службу в полиции я не сталкивался с бо́льшим упорством.
— В общем, это как раз тот человек, который мог бы помочь Молине скрыться.
— Если бы он имел возможность, сеньор, уж конечно помог бы! Только все здешние говорят, что в таком месте обыкновенному пловцу не уплыть далеко.
«Большего обо всей этой загадочной истории мы, пожалуй, и не узнаем, — подумал полковник. — Потянули сорняк за стебель, он сломался у нас в руках, а корень остался в земле. Он даст первые ростки. Старик Виланова, который относится к своему аресту, как к забавной шутке, сидит в тюрьме, а его затаивший злобу сын сумел выбраться из страны, и в будущем от него еще можно ждать немало неприятностей».
— Угодно ли вам, сеньор, послушать отчет о состоянии текущих дел? — Голос Кальеса нарушил ход мыслей полковника, и он в знак согласия кивнул.
Монотонным, казенным голосом Кальес начал перечислять повседневные ущемления, ограничения в передвижении, штрафы за нелегальное владение имуществом и постоянный надзор, которому подвергались люди, сражавшиеся на стороне красных. Вынужденный прислушиваться, полковник пришел в крайнее раздражение.
«Друг мой, — так и хотелось ему сказать, — ведь ты же продукт коротенького отрезка нашей истории, который уже на исходе. Уясни себе это. Ты отстал от жизни. Сейчас нужны люди — и даже в полиции они нужны, — способные толковать испанские законы на испанский лад. Время осатаневших ищеек миновало. Хватит разговоров о красных, да и о фалангистах тоже. Неужели у нас как у нации недостанет величия признать, что, возможно, не правы были как те, так и другие?» Полковник поморщился.
— Чем это здесь так пахнет? Даже в носу щиплет.
Кальес удивленно вскинул глаза.
— Может, сеньор, это зотал, которым я велел мыть здесь полы? Деревня ведь насквозь провоняла рыбой.
Полковник достал носовой платок и вдохнул запах одеколона. Внезапно он принял решение.
— Возможно, вы удивитесь, узнав, что вас вскоре переведут в другое место.
Лейтенант глотнул, но продолжал смотреть в одну точку, чуть повыше головы полковника.
— Ну, так удивлены вы или нет?
— Да, сеньор.
— И не слишком огорчены?
— Нет, сеньор.
— Если вы думаете, что решение это каким-то образом связано с недавней неудачной операцией, смею вас заверить, что это не так. Дело в том, что полицейская служба теряет от того, что вы работаете среди людей, которых презираете. Это не эффективно.
— Вполне понимаю, сеньор.
«С ним обошлись несправедливо, — подумал полковник, — сделали из него козла отпущения, но ничего не попишешь».
— Может, у вас есть какие-нибудь пожелания относительно места вашей дальнейшей службы? — спросил он.
— Нет, сеньор, никаких.
— И сказать вы, видимо, тоже ничего не хотите?
Кальес собрался с духом.
— Хочу, сеньор. Я бы хотел просить вас об одном одолжении.
— Об одолжении, лейтенант? — Полковник почувствовал облегчение. — Разумеется, если я могу быть чем-либо полезен…
— Прошу прощения, сеньор, я бы хотел… Дело в том, что тут произошла одна неприятная история, и я подумал, может, сверху могли бы чем-нибудь помочь…
— Продолжайте, — сказал полковник.
— В этом деле замешан человек по имени Коста.
— Очень знакомое имя.
— Вы же мне его рекомендовали, сеньор. Может, помните — он был героем нашего движения. Молина, между прочим, снимал комнату у его матери.
— Как же, помню. Он вам помогал, не так ли?
— Очень помогал и содействовал. К несчастью, у него серьезные неприятности.
— Насколько серьезные?
— Его обвиняют в убийстве, сеньор.
— В убийстве? Я что-то не припомню, чтобы об этом упоминалось в вашем отчете.
— Преступление было совершено в Барселоне. Его невеста по глупости поступила прислугой в дом терпимости, и владелец заведения соблазнил ее… Эго известный способ вербовки девиц.
— И что же?
— Коста узнал об этом.
— И?
— Он вступил в пререкания с этим человеком.
— Вы называете это пререканиями? Вы же сказали, что он его прикончил?
— Набросился на него в припадке умопомешательства. Я видел копию медицинского заключения. Преднамеренности тут никакой не было, сеньор.
— Из чего вы это заключаете?
— Он не применил оружия.
— Отчего же наступила смерть?
— Во время ссоры жертва была выброшена из окна пятого этажа.
— Акт самообороны, — заметил полковник, — любопытно. Есть в этом что-то классическое. И с какой же целью вы все это мне рассказываете?
— Если бы этим занялись надлежащие инстанции наверху, возможно, дело удалось бы свести к непреднамеренному убийству.
— Вы так считаете? Мило с вашей стороны, что вы мне об этом сказали. Должен ли я это рассматривать как просьбу употребить мое влияние, как вы выразились, в надлежащей инстанции?
— Коста для меня — товарищ по оружию, — сказал лейтенант.
— Значит, вы меня об этом просите. Ну что же, о делах такого рода, пожалуй, лучше всего говорить начистоту. — Впервые за время их знакомства полковник мысленно одобрил Кальеса. — А где же девушка?
— Она, сеньор, вернулась в деревню.
— С ней все в порядке?
— По-моему, да, сеньор.
— Никаких дурных последствий? Здоровье ее не пострадало? Она не забеременела?
— Насколько я понимаю, что-то в этом роде было, но деревня помогла ей всем миром. О подробностях я не расспрашивал.
— Вы когда-нибудь, лейтенант, изучали обычное право древнего королевства Арагон? — внезапно меняя тон, спросил полковник.
— Нет, сеньор.
— А стоило бы. Законы эти гуманны, терпимы и исполнены здравого смысла. Я упомянул о них только потому, что, по законам Арагона, приговоренному к смерти часто уже на эшафоте предлагали помилование, в случае если он согласится взять в жены падшую женщину. Вас это удивляет, лейтенант?
— Должен признаться, да, сеньор.
— Вы еще больше удивитесь, узнав, как часто такие предложения отвергались.
Кальес изо всех сил постарался изобразить на лице изумление. Он понимал, куда клонит полковник.
— Так вот этот Коста. Представьте себе, к примеру, что мы добьемся смягчения приговора. Как по-вашему, такой ли он человек, чтобы взять девушку обратно?
— Не знаю, сеньор.
— Так узнайте, лейтенант. Узнайте. Почему, черт возьми, мы воображаем, что закон окажется более мудрым, чем люди, которых он призван защищать?
ОТ РУКИ БРАТА ЕГО РОМАН
Я… взыщу также душу человека от руки человека, от руки брата его.
Бытие, IX.5EVERY MAN’S BROTHER
London
1967
Перевод P. Облонской и H. Треневой
1
В самом начале мая Брон Оуэн, отсидев два срока — в общей сложности пять лет, ни дня не скостили ему за примерное поведение, — был освобожден из тюрьмы Хэйхерст в графстве Чешир.
Завтрак — кусок печенки — Брон оставил почти нетронутым, потому что горло и грудь ему сжимала судорога волнения, и в девять часов утра надзиратель повел его к главному врачу тюрьмы.
Надзиратель нажал кнопку, внутри щелкнул электрический замок, и дверь отворилась. Надзиратель заглянул в кабинет.
— Оуэн просится к доктору Далласу, сэр.
Доктор Джеддер раздраженно нахмурился, что уже вошло у него в привычку.
— Доктора Далласа сегодня нет.
— Узнайте, может, он сам меня примет, — шепотом проговорил Брон.
— Оуэн просит, чтоб его приняли вы, сэр.
Джеддер замахал рукой, словно разгоняя облачко дыма.
— А, ну ладно. Давайте его сюда.
Вошел Оуэн, невысокий коренастый валлиец с красивым, южного типа лицом, так и не отвыкший от неприятной манеры глядеть тюремному начальству прямо в глаза. На нем жестко топорщился нелепый костюм с тюремного склада, где ему выдали еще и тесную рубашку из белой бумажной ткани, галстук в ромбах и грубые черные башмаки. Собственная его одежда где-то затерялась при переводе из Уондсвортской тюрьмы в Хэйхерст, когда ему накинули еще два года за оскорбление действием надзирателя. В тюремной канцелярии карточку его уже переложили в картотеку освобожденных. На карточке была синяя полоска — это означало, что он считается неисправимым и опасным. Пока в тюрьме не прошла реформа, предусматривающая смягчение режима, таких арестантов, как Брон, содержали в особом, «строгом» корпусе, где надзиратели действовали по принципу: «Сначала дай в ухо, потом задавай вопросы».
Джеддер смотрел на него с презрением, но к презрению примешивалась ненависть, а ненависти всегда сопутствует смутный оттенок уважения.
— Что вам, Оуэн? — произнес Джеддер. — Я занят.
— Я сегодня выхожу, сэр.
— Вижу. — Оглядев его костюм, Джеддер подумал, что в арестантской одежде малый выглядел куда лучше. Один рукав его пиджака был заметно длиннее другого.
— Доктор Даллас велел, чтобы я непременно зашел к нему перед выходом.
— Ничем не могу помочь, Оуэн. Я же говорю — его нет.
— А вы не могли бы сказать, сэр, он сегодня еще будет?
— Понятия не имею, — ответил Джеддер, разглядывая пятнышко сырости на стене между двумя фотографиями из спортивного журнала чуть левее головы Оуэна. — Планы его мне неизвестны.
Ничего не поделаешь, надо рискнуть. Брон провел кончиком языка по губам.
— Простите, что надоедаю, сэр, но, может, он для меня что-нибудь оставил у вас или у мистера Эрмитейджа?
Мистер Эрмитейдж был тюремный аптекарь.
Джеддер перевел взгляд на Брона и изобразил на лице изумление.
— И что же, позвольте узнать, должен был оставить для вас доктор Даллас?
Брон пожал плечами, оробев оттого, что дело принимает такой оборот, и боясь невольно подвести доктора Далласа, психиатра: ведь Джеддер числится его начальником.
— Оуэн, мне некогда!
— Насколько я понял, он хотел продолжить лечение, сэр.
— Лечение? А, да, помню. Височная эпилепсия, верно? — Джеддер вдруг закинул голову и издал какой-то попугаичий пронзительный и злой смешок. — Височнодолевая эпилепсия, а? Не слишком оригинально, ну да ладно. Так вот, чем бы ни лечил вас по своей доверчивости доктор Даллас, в одном я могу вас заверить: о том, чтобы продолжать лечение, когда вы отсюда выйдете, не может быть и речи. Это противозаконно, и, разумеется, доктор Даллас на это не пойдет.
В свое время между психиатром и главным врачом из-за Оуэна разгорелась борьба, в которой одержал верх доктор Даллас, после чего Оуэн перешел от Джеддера под его наблюдение. Болезнь Оуэна, которую доктор Джеддер объявил чистой симуляцией, Даллас счел серьезной, и Джеддер так и не простил Оуэну своего поражения.
— Нельзя ли мне повидать мистера Эрмитейджа, сэр? — спросил Оуэн.
— Нельзя! И кстати, имейте в виду: вы меня вашими баснями не обманете. Вы прекрасно знали, что доктора Далласа сегодня не будет, и решили на всякий случай попытать счастья у меня — вдруг удастся выманить наркотики. Ведь речь идет о наркотиках, не так ли?
— Вероятно, лучше спросить у самого доктора Далласа, сэр.
— Вы весьма успешно втирали очки доктору Далласу, Оуэн, но меня вы не провели. Я вас раскусил с самого начала. — Джеддер нажал кнопку на столе, вошел надзиратель.
— Вы мошенник, Оуэн, — сказал Джеддер. — Убирайтесь вон, и чтобы я вас больше не видел.
Надзиратель постучал пальцем по плечу Брона и резким кивком указал на дверь; Брон повернулся и вышел, сопровождаемый надзирателем.
В понедельник утром Джеддер зашел в кабинет Далласа. Тот только что вернулся с какой-то конференции.
— Оуэна в субботу выпустили.
— Знаю. Жаль, мне обязательно нужно было повидать его до ухода.
— В самом деле? — Держа руки в карманах, Джеддер сел, вытянул ноги и уставился прямо перед собой, намеренно не обращая внимания на окружающую обстановку. Кабинет Далласа был в тюрьме единственным отрадным местом. Даллас сумел убедить начальника тюрьмы, что в угрюмой тюремной атмосфере небольшая передышка психологически очень важна, и ему разрешили купить мебель, а главное — ковер. Этот ковер не давал покоя Джеддеру и сделал его врагом Далласа.
— Он имел наглость явиться ко мне и наплел, будто вы обещали ему какое-то лекарство. Наверно, хотел выклянчить у меня барбитуратов.
— Я оставил для него у Эрмитейджа немного ларгак-тила.
— Но это же против правил. — Джеддер не сумел сдержать ядовитую улыбочку: он был доволен. Оливково-зеленый бобриковый ковер в четырнадцать футов на девять разделил тюрьму Хэйхерст на два лагеря. В конце концов он породил междоусобицу, в которой никому не удавалось сохранить нейтралитет, хотя почти никто из сторонников Далласа или сторонников Джеддера толком не понимал, с чего пошла вражда. Это он, ковер, убедил Джеддера, когда-то считавшего себя человеком широких взглядов, что психиатрия, в общем-то, жульничество. Это он, ковер, склонил Джеддера в пользу макнафтеновского кодекса, он внушил ему, что все сорок процентов психически ненормальных обитателей Хэйхерста — ловкие симулянты, и заставил поддерживать одного из тюремных чиновников, который требовал снова ввести наказание плетьми. Джеддер, прежде довольно отзывчивый, теперь всегда находил, что заключенный по своему физическому состоянию вполне может выдержать голодный режим или пребывание в карцере. Сто двадцать шесть квадратных футов ковра превращали ошибку или жестокость судьбы в тяжкий грех. Грехи огцов да покарают детей до третьего и четвертого колена, и в эту кару входит тюремное наказание. Грех не лечат, за него наказывают.
Но доктор Даллас и бровью не повел.
— Правила для того и существуют, чтобы их нарушать, когда это необходимо. Оуэн — больной человек. Я лично держал бы его здесь, пока он не вылечится насколько возможно.
— Вылечится! Да вы, оказывается, сверхоптимист. Симулянта барбитуратами не вылечить. Что бы вы ему ни дали, он бы сразу это выменял на две пачки сигарет.
— Минуточку, — сказал Даллас. — Как вас понять? Он что, не получил лекарства?
— Конечно, нет. Вы же мне ничего не сказали, да я и не позволил бы себе потакать нарушению правил.
Даллас зарделся, как девушка. Краска медленно и постепенно разливалась по его лицу, оставляя под глазами белые круги, как бывает у тех, кто загорает в темных очках. Далласу было двадцать восемь лет. Самый молодой врач в тюремном ведомстве, по мнению Джеддера, совершенно желторотый, и вот не угодно ли: сумел как служитель этого дурацкого культа, своей лженауки, внушить благоговейное, почти суеверное уважение к себе.
Даллас изо всех сил старался овладеть собой; краска понемногу сходила с его лица. Он встал, подошел к металлическому шкафчику, вынул папку и протянул ее Джеддеру:
— Быть может, вы посмотрите это, доктор.
Джеддер взял папку с металлическими углами и сложной системой держателей — только Далласу разрешали покупать такие дорогостоящие вещи. На обложке были тщательно выведены чернилами четкие заглавные буквы: ОУЭН БРОН. РОД. В МОРФЕ, 1938. Под именем виднелись следы карандашной черты, проведенной по линейке и стертой потом резинкой. Джеддер открыл папку, пробежал глазами первую из лежавших там страниц и на мгновение заинтересовался не столько содержанием ее, сколько безукоризненной аккуратностью, с какой она была напечатана, — строго соблюденные интервалы, педантичная пунктуация, подчеркнутые с помощью красной ленты слова. Это была работа, сделанная напоказ, — быть может, для экзаменатора, склонного повысить отметку за одну только аккуратность. Во всем, что ни делал Даллас, чувствовалась эта его старательность примерного ученика.
Джеддер начал было читать историю болезни, написанную неуклюжим стилем медицинских учебников, затем перескочил к заголовку «СИМПТОМЫ». «Пациент жалуется, — писал Даллас, — на головные боли, предшествующие приступам, часто сопровождающиеся зрительными и слуховыми галлюцинациями. Сильно выражены фобические симптомы относительно реальных или воображаемых запахов. Бывают изменения индивидуальных свойств личности, резкие переходы от кротости к ожесточению, значительное повышение либидо наряду с замедленным мышлением и неспособностью осознать возможные последствия антиобщественных поступков. Для совершенных пациентом такого рода поступков характерно отсутствие какой-либо мотивировки, преднамеренности и попыток сокрытия своих действий; после приступов наступает полная или частичная потеря памяти».
Даллас, наблюдавший за выражением лица Джеддера, вдруг увидел почти ласковую улыбку и заигравшие на щеках ямочки. Джеддер вынул безупречную первую страницу и отложил ее в сторону. Под ней лежал листок, озаглавленный «Беседа I.I.66, записанная на пленку». Страниц было много, он полистал их и взял одну наугад.
«В.: Давайте вспомним те случаи в первой вашей школе, когда вы набрасывались на мальчиков. Припомните, они вам были чем-нибудь особенно неприятны?
О.: Нет, нисколько.
В.: Из этой школы вас исключили за то, что вы швырнули в мальчика кирпичом и он упал без сознания. Вы помните, как это было?
О.: Как было — не помню. Помню, как потом из-за этого поднялся шум.
В.: Насколько я знаю, из другой школы вас пришлось взять потому, что вы перебили все умывальники в уборной. Можете вы объяснить, чем это было вызвано?
О.: Там очень плохо пахло. Помню, я всегда не выносил вони. Может быть, поэтому. Знаю, что перебил все умывальники, а как я это сделал — не помню».
Джеддеру просто не верилось, чтобы хоть один медик позволил этаким образом водить себя за нос, но, как видно, в этой самой легковерной из всех отраслей медицины такое в порядке вещей. В оправдание этой братии можно сказать только одно: они прокладывают путь в девственном лесу и руководствуются лишь своими догадками да интуицией. Психиатр поверит чему угодно; не было еще такого случая, чтобы два психиатра сошлись во мнениях насчет одного и того же больного. Джеддер сам видел, как два, с позволения сказать, выдающихся психиатра выступали в суде, один на стороне защиты, другой — обвинения, и каждый чуть ли не обзывал другого лжецом.
— Как же лечится эта болезнь? — поинтересовался Джеддер.
— Снотворные и успокаивающие средства. Только и всего. Первые три месяца я пробовал применять чистые барбитураты. Потом решил перейти на ларгактил. Сто пятьдесят миллиграммов ларгактила сделали чудеса. Приступы стали гораздо реже и слабее. Мне думается, нам уже удалось нарушить цикличность. — Даллас твердо решил заставить Джеддера понять, насколько важна его борьба за возрождение Оуэна и как трагично, что ее пришлось прекратить, когда победа была уже близка.
А Джеддер его почти и не слышал. Он глядел в окно, где весна забрызгала солнечными пятнами гранитную стену, а на уступе ее весело и торопливо спаривались воробьи. Зима была долгая, и сейчас ему хотелось плюнуть на все и поехать на рыбалку. Однако последние слова Далласа не прошли мимо его ушей, и он сразу возразил:
— Никакой цикличности вы, Даллас, не нарушили, потому что не в его это интересах. Вот поваритесь с мое в этом вонючем котле — и поймете, что для такого хитрого, увертливого преступника, как Оуэн, легче легкого симулировать симптомы душевной болезни и, когда надо, спекулировать на этом. Я такие штуки сто раз видел. Если завтра этого типа схватят за изнасилование или убийство, ему очень выгодно будет заявить, что в Хэйхерсте он лечился у психиатра. Нет, простите, Даллас, я далек от мысли вас оскорбить, но, как говорят в народе, вы сели в лужу.
Даллас почувствовал, что опять заливается краской.
— Не могу с вами согласиться, — сказал он.
— Никто вас не заставляет. У нас с вами разные взгляды. Вы верите, что большую часть арестантов можно исправить психиатрическим лечением?
— Всех, если только подобрать соответствующий персонал.
— А по-моему, одного из тысячи. Да и то вряд ли. А остальных… — Джеддер покачал головой, и уголки его рта опустились. — Это все равно что волка превратить в овчарку.
Даллас рассказал о случившемся инспектору по работе среди неимущих слоев населения, человеку некогда религиозному, веру которого так изглодали постоянные сомнения и житейский опыт, что она в конце концов рухнула.
— Джон, меня мучит совесть из-за Оуэна.
— Не понимаю почему. Ты сделал все, что мог.
— Все ли? Я не уверен. Уж не говорю о долге перед обществом, но какой это по натуре славный и обаятельный человек!
— Среди таких больных это не редкость. Иногда начинаешь верить, что люди вроде твоего Оуэна способны в порыве исступления изгнать из души все дурное.
— Я опять нарушил правило эмоциональной беспристрастности к пациенту, — вздохнул Даллас. — Неужели ничего нельзя сделать? По моим расчетам, через неделю или дней десять у него опять будет припадок.
— Тут уж ничего не попишешь. Он отбыл срок, выпущен на свободу, и наша ответственность на этом кончилась. Будем надеяться, что он тебя, если нужно, разыщет.
— Сначала его надо было отправить в Бродмур или Нортфилдс, — сказал Даллас. — Подержать взаперти, пока он не станет безопасным, а тогда уже освобождать. Выпускать на волю человека в таком состоянии — это преступление перед обществом.
— Я с тобой, старик, совершенно согласен, но что тут поделаешь? Судьи почему-то предпочитают наказывать преступников, а не лечить душевнобольных. И нам тут перемен не дождаться.
2
На лицах встречных он не видел настороженности. Все, что двигалось, двигалось гораздо быстрее, чем прежде, и порождало несмолкаемый шум. Стоял май месяц, и трава между серыми зданиями горела зеленым пламенем. Земля, камни, ручеек дождевой воды в канаве — все имело свой запах. У всех ходивших на воле мужчин и женщин под кожей розовато просвечивала кровь, из открытых окон душисто пахло их жизнью. Люди бесцельно сновали туда и сюда, на ходу передумывали, сворачивали в другую сторону. Он был невидимкой. Никто не пялил на него глаза. И все было бы просто отлично, если б не страх от сознания своей беспомощности — ведь он будто родился во второй раз, но уже взрослым. Привычка оставила в нем след, как оставляет след вдавившаяся в кожу неровная поверхность. Все хорошо, но куда мне идти? Где я буду сегодня ночевать?
Две молоденькие замужние дамочки по пути откуда-то куда-то подвезли Брона до первого перекрестка милях в пяти. Дамочки были кокетливые и ждали, что их станут развлекать, но он еле ворочал языком, отвечая на их вопросы. Какая-то частичка его мозга, управляющая речью, словно задубела.
Вскоре он перестал что-либо соображать, ошеломленный суетливостью их движений, благоуханием духов. Его слепили их сверкающие глаза и зубы, отраженные в зеркальце заднего вида, их блестящие светлые волосы. Безграничность, все было безгранично. Ландшафт и небо уплывали в нескончаемую даль. Безграничность — и непрерывность времени. У времени, после двух тысяч дней, нарубленных на куски, не было конца.
Дамочки привыкли к ухаживанью и домогательствам и, сами того не сознавая, были задеты его отчужденностью, инстинктивно чувствуя, что их кокетство почему-то на него не действует. Одна из них, болтая, задумчиво рисовала в воздухе дымящейся сигаретой ангелов и лебедей, а сигарета медленно укорачивалась в двух отогнутых назад пальчиках. Поддавшись порыву, Брон тронул изгиб ее фарфорового белого ушка. Но тут выбоина на дороге заставила солнце подпрыгнуть в небе и стряхнула с дерева воробьев. Мысли его переключились вместе со скоростями машины.
«Когда придет время, — говорил ему Даллас, — я бы на вашем месте держался как можно дальше от женщин. Просто на всякий случай. Последите за собой хотя бы поначалу. Вы были не только потенциальным убийцей, но и насильником».
Потом его взял в кабину шофер фургона для перевозки мебели. Степенный шофер любил подсаживать попутчиков на долгих, однообразных дорогах. Брон, оправившись от нервной немоты, напавшей на него в обществе молодых женщин, набросился на шофера с вопросами. Расспрашивал про его жизнь, работу, про трудности дальних рейсов, заодно поинтересовался возрастом машины и ее качествами, потом перескочил на политическую обстановку и рост дороговизны.
Он сам, казалось, не мог справиться с этим потоком слов, и шофер перешел к самообороне, отделываясь, где можно, уклончивым хмыканьем. Что-то было для него непонятное в этом малом, не удавалось определить, кто он такой, хоть шофер и гордился своим знанием людей и думал, что видит их насквозь. Во-первых, уж больно он нежный: один раз, когда впереди из-под живой изгороди на дорогу выпрыгнул заяц и шофер дал газу, чтобы его раздавить, Брон перегнулся к баранке и засигналил. «У меня слабость к зверюшкам», — объяснил он. В конце концов шофер решил, что малый, должно быть, матрос.
Они остановились у придорожного кафе и выпили чаю с пирогом; Брон расплатился одной из новехоньких пятифунтовых бумажек, которые ему выдали в тюрьме. Он дал официантке полкроны на чай, та радостно заулыбалась, приподняла его чашку с блюдцем, протерла под ними стол и поставила обратно. «И деньжата есть? — подумал шофер. — Ну да моряки — они все такие». Брон с удовольствием и любопытством разглядывал посетителей и обстановку кафе. Для него это был веселый, волнующий привал на перепутье, откуда начинаются приключения. Он заметил, что потирает лоб. В глубине левого глаза стала пульсировать боль.
Головные боли для него были не новостью, может, это кончится плохо, а может, и нет, но все-таки он решил позвонить Далласу, который на случай такой вот срочной необходимости дал ему номер своего домашнего телефона. Шофер показал ему, как пользоваться новым телефоном-автоматом, но у Далласа никто не отвечал. Наверно, он еще не вернулся домой; надо будет снова позвонить вечером, подумал Брон. У стойки два подъехавших на мотоциклах полисмена уписывали смородинный пирог; когда Брон шел к своему столику, один из них обернулся и проводил его взглядом.
Вскоре дорога привела их в холодные края Уэльса, кругом потянулись горы, укрытые сосновыми лесами, в дымке дождя, топкие низины под угрюмым пологом нависшего над ними черной тенью леса и плесеннозеленоватые поля. Май остался позади.
Брон сошел с машины в Конуэе, откуда путь его лежал в горы, и здесь в гостинице «Белый олень» выпил первую за пять лет кружку пива. Ощущение его разочаровало. Он даже погрустнел оттого, что пиво для него потеряло прежний вкус. Кружку пришлось допивать через силу. И сразу же дала себя знать притихшая было головная боль.
Брон провел в баре еще полчаса с пустой кружкой в руках, согретый теплым приливом хмельного благорасположения ко всему на свете. В баре стоял добродушный гомон и смех. Зажав губами первую свою сигарету с фильтром, Брон тихонько прошелся взад-вперед по ковру, восхищенно провел пальцем по прохладной кожаной в ямочках обивке высокого табурета, прочел все юмористические уведомления о том, что в кредит не отпускают, попробовал даже присоединиться к какому-то не очень связному разговору у стойки. Но из этого ничего не вышло, и тогда он понял, что от людей, живущих на воле, его все еще отделяет невидимый барьер. Это потому, что от меня тюремный запах, подумал Брон. Он появляется незаметно: реакция кожи и желез на постоянный полумрак, закупорка пор от неправильного обмена. Через несколько дней все пройдет, обнадежил он себя. Но надо выбросить этот костюм.
Из Конуэя Брон поехал автобусом в Морфу, рыночный городишко, где он родился, незыблемый, как Иерусалим. В Морфе он решил зайти к их прежнему домашнему врачу, надеясь убить сразу двух зайцев.
Доктор Эмлин Гриффитс тотчас провел его в приемную, где по-прежнему пахло ароматическими свечками и от старинной мебели было тесно, как в антикварной лавке.
Это был человек медвежеватый с виду, весь в морщинах, но не подвластный годам, полный кипучей энергии и обаяния, но растравленный тайными обидами.
Гриффитс был озлоблен полууспехом. Когда он с великим трудом одолел подъем на гору благополучия, оттуда ему открылись столь недоступные вершины богатства и влиятельности, что это зрелище омрачило всю его жизнь. Всегда находились люди богаче и удачливее его, которые стояли на общественной лестнице ступенькой выше. Одинокие старухи, умирая, оставляли в наследство красивому доктору свои дома, мебель и акции, но к этим небольшим милостям судьбы он относился равнодушно и, сидя среди китайских ваз и чиппендейлской мебели, с тоскою мечтал о картинах импрессионистов. Закат его карьеры начался после ссоры со старшим братом Брона — Ивеном, который пригрозил донести в Главный медицинский совет о безнравственной связи Гриффитса с его матерью, тогда еще совсем не старой женщиной. Гриффитс злобно захохотал, схватил Ивена за плечи и вытолкал за дверь, но у стен кабинета, оказывается, были уши, и его практика стала сникать. В тот год он провалился на выборах в совет графства, а взнос в Фонд партии консерваторов не обеспечил ему желанного места в списке лиц, получивших почетное звание.
«В моем лице, — готов был крикнуть Гриффитс, — вы видите человека, способного на любые свершения. Я мог достать рукой до царства небесного. Но — не вышло. И тем, что со мной сталось, я обязан лишь одному человеку. Трудно поверить, что один-единственный человек может так изломать чью-то жизнь».
В те времена, когда Гриффитс еще сохранял способность любить, он был близок к тому, чтобы полюбить Брона. У доктора были основания подозревать, кто настоящий отец мальчика. Теперь это ему стало решительно все равно. Внешне он оставался тем же грубоватоласковым, обаятельным Гриффитсом, но в его душе уже не было места ни для чего, кроме маневров и контрманевров в войне с внешним миром.
— Мальчик мой, ты не представляешь, до чего я тебе рад! Ты ни капли не изменился! Не постарел ни на день. Хотел бы я про себя сказать то же самое! Должно быть, тяжко тебе пришлось. Я часто думал о тебе и твоей участи.
— Да, в общем, было не так уж страшно, — сказал Брон. — Я очень старался притерпеться, и это помогло. Родятся же люди без рук и без ног. Если заставить себя примириться с тем, что есть, тогда ничего. Вы же знаете, я всегда любил книги, ну, мне и дали работу в библиотеке. Я даже пробовал писать. Нет, было не так страшно, как вам кажется.
— Плакаться ты никогда не умел, — сказал доктор. — Это я в тебе ценю больше всего. Очень жаль, что теперь мало у кого встретишь такую великолепную житейскую философию. Уж кто-кто, а я знаю, как трудно сохранять душевное спокойствие, когда все настроены против тебя.
Он заставил Брона выпить одну за другой две рюмки виски и затем пустился рассказывать о недавних своих неприятностях.
— Начать с того, — сказал он, — что они строят в конце моего сада высоченный забор. Зачем? Да просто чтоб вид мне испортить. Это часть широкого наступления. Всякие другие пакости — что мне отключают воду, отказываются вывозить контейнеры с мусором — я считаю булавочными уколами. Один мой сосед опрыскивает сорняки какими-то дьявольскими химикалиями — так он всегда дожидается, чтоб ветер подул в мою сторону. В результате у меня в этом году не будет роз. В пятьдесят четвертом я провалил его на выборах в совет графства, и теперь он сводит со мной счеты. Чтобы человек мог опуститься до таких мелких подлостей — мыслимо ли это?
Брон сочувствовал и недоумевал. Он помнил, доктор и прежде жаловался, что его травят, но то, что раньше было облачком величиной с ладонь, теперь заволокло все небо.
— Ну, а какие у тебя планы? — поинтересовался Гриффитс.
— Надо бы повидаться с братом. Вы случайно не слыхали, куда переехала наша семья?
— На юг, недалеко от Бринарона. Неужели ты не знал?
— Знал, что они уехали, и слышал, что Ивен наконец-то женился. Кто-то прислал мне газетную вырезку с извещением о смерти мамы. Вот и все.
Гриффитс покачал головой.
— Честно говоря, у меня это как-то в голове не укладывается. Прости, пожалуйста, но от твоего братца ничего другого и ждать было нельзя.
— Я его не виню. Должно быть, у него уже не было сил терпеть.
— Мало ли что: кровь родная — не водица речная. Так по крайней мере положено считать. Если помнишь, мы с Ивеном порвали всякие отношения много лет назад. Но я рад тебе сообщить, что твоя матушка оставалась мне верным другом до самой своей кончины.
Итак, Гриффитс устоял, несмотря ни на какую травлю. Наверно, страстная любовь с годами переродилась в такую же страстную корысть, подумал Брон. Сколько он себя помнил, в доме всегда присутствовал доктор. Где-то на заднем плане маячил отец, фигура незначительная, а весь домашний мирок вращался вокруг энергичного и подчас даже сурового доктора. Мать вечно твердила Брону, что Гриффитс очень привязан к нему, а он к Гриффитсу, и мальчик поддался ее уверениям, но теперь ему казалось, что и в детстве он был так же равнодушен к доктору, как сейчас.
— Матушка твоя скончалась, упокой, господи, ее душу, — сказал Гриффитс. — А брат женился на какой-то особе вдвое моложе его. Говорят, стояла где-то за прилавком. Признаться, дальнейшее меня не слишком интересовало. В конце концов начинаешь понимать, что от этой жизни многого ждать не приходится. Вот за тебя, мальчик мой, мне обидно. Там осталась порядочная сумма, и половина должна была бы отойти к тебе. Я-то знаю, что говорю: твоя мать советовалась со мной, когда составляла первое завещание. К сожалению, в последнюю минуту она его изменила. Так уж сложились обстоятельства, это было неизбежно. Разве могла твоя мать в ее годы устоять против постоянного нажима? С тобой поступили постыдно, мой мальчик. В этом я твердо уверен.
— Сколько бы Ивен ни получил, пусть все ему и останется. За деньгами я никогда не гнался.
— Это я прекрасно знаю, но мне горько видеть, что тебя обобрали.
Зазвонил телефон; доктор со вздохом протянул руку, поднял трубку и сразу положил ее на рычажок.
— Я теперь отвечаю только в приемные часы: мне все время кто-то звонит, и стоит мне ответить — сразу вешает трубку. Это война нервов.
И он опять принялся вкрадчиво увещевать Брона, почуяв возможность сделать его орудием мести.
— Словом, мальчуган, если ты решишь отстаивать право на наследство, можешь рассчитывать на меня. Вот все, что я могу сказать. Как врач, да еще знакомый со всеми обстоятельствами, я тебе заявляю: я нисколько не сомневаюсь, что твой брат действовал уговорами, а это незаконно.
— Пусть все, что он получил, останется у него.
Доктор Гриффитс приостановил наступление.
— Ну а что нового с тех пор, как мы виделись? Ты знаешь, о чем я. Есть улучшение?
— Мне кажется, я выздоровел. Я принимаю новое лекарство. И вот уже два-три месяца никаких припадков.
— Великолепно, — сказал Гриффитс. — Рад слышать. Это очень любопытный случай. Во многих отношениях загадочный. Я даже подумывал написать статью в медицинский журнал. Эти непонятные приступы агрессивности…
— Из-за них я и пострадал в Уондсвортской тюрьме. Мне дали еще два года. Оказалось, не бывать бы счастью, да несчастье помогло: меня перевели в Хэйхерст, и там меня лечил психиатр.
— И в конце концов вылечил?
— Психиатр, видно, считает, что да.
— Ну, это прекрасно. Прекрасно.
И тут-то Брон вдруг почувствовал, что у него опять разбаливается голова. «По возможности, — говорил Даллас, — старайтесь не рассказывать о своей болезни. Тогда словно какой-то загадочный механизм начинает работать сам собой». Боль расходилась кругами из-за уха к виску. С нею пришло головокружение. Крупная докторская голова с грустными и серьезными немигающими глазами словно распухла и дергалась, как на пружинке, на фоне маркетри и золоченой бронзы. Доктор наклонился к Брону — лицо его приплыло откуда-то очень издалека — и положил ему руку на колено.
— Ты что, мальчуган? Тебе нехорошо?
Потом они очутились во врачебном кабинете Гриффитса, было темно, тихо стрекотал аппарат, вспышки света из-под щитка били Брону в глаза.
— Не закрывай глаз, — сказал Гриффитс. — Постарайся сосчитать вспышки. Как ты себя чувствуешь сейчас?
— Голову чуть сжимает, и все. И пальцы как будто занемели.
Они перешли в гостиную.
— Это пустяки, — сказал Гриффитс. — Усталость. Когда думаешь ехать в Бринарон?
— Завтра, — сказал Брон. — Переночую в гостинице и утром двинусь.
Гриффитс вышел в кабинет, насыпал в маленькую коробочку таблеток аспирина лимонно-желтого цвета, изготовленных специально для мнительных пациентов, и вернулся.
— И думать не смей. Останешься у меня. Ты очень обидишь меня, если пойдешь в гостиницу. А пока что прими-ка одну штучку. Новейшие лекарства есть не только в Хэйхерсте. Вот этого еще даже нет в продаже. Принимай по три раза в день в течение четырех дней. Если есть хоть малейшая вероятность припадка, от этих пилюлек все пройдет.
3
— Мы крупные специалисты по убийствам, — сказал инспектор Фенн. — За три года полдюжины бесспорных случаев — и ни единого ареста. Я уж не говорю о пропавших без следа.
Он вызвал подчиненных в свой служебный кабинет в Бринароне на экстренное совещание после статьи в местной газете под заголовком «Нераскрытые преступления — приняты ли меры?» и тяжелого разговора на ту же тему с начальством. Фенн, лондонец, с худым городским лицом и городской экономностью чувств, согласился на ссылку в эту глухомань без особой охоты и лишь потому, что то был его первый инспекторский пост. Он понимал, что барахтается в трясине на чужой земле, среди людей, прячущих свои потаенные мысли за неимоверным многословием, что он целиком зависит от того, пожелают ли эти люди нарушить ради него местный заговор молчания.
— С нынешнего дня, — продолжал Фенн, машинально распаляя себя, — хватит ковырять в носу, подымайте зады и беритесь за дело, и чтоб были результаты. Меньше трепа, донесения покороче, действия — вот что требуется!
Его подчиненные — два сержанта и семеро констеблей — не нашлись что ответить. Джонс, главное горе Фенна, глядя в псевдотюдоровские окна с частыми свинцовыми переплетами, определял прохожих по росту. Те, что пониже, — рудокопы, хороший народ, хоть на них всех собак вешают; те, кто достает головой до второго оконного переплета, — фермеры, тоже славные ребята; долговязые — эти, конечно, паршивцы англичане, всякое начальство и высшие служащие здешних фабрик.
Если и попадется среди местных пигмеев верзила, то он непременно тощий, как не в меру вытянувшийся ребенок. Идет и цепляется ногой за ногу. А ноги как спички. Все мы — уцелевшие. Мы — те, кому удалось остаться живыми и невредимыми на черном рудничном поле боя. Вот главное, что можно о нас сказать.
— Черт возьми, слушайте, что вам говорят, Джонс! Доложите о деле Робертсов, если есть, что доложить.
— И он и она зарыты где-то на поле в тридцать акров, засеянном брюквой. Чтобы их найти, надо перекопать все поле.
— Констебль Джонс целый месяц возился с этим делом, сэр, — вмешался сержант Гаррис. — Потом прекратил поиски по моему распоряжению. Единственное средство — пустить на поле бульдозер, но полицейский юрист не советует.
Фенн, прослуживший два года в военной полиции в Адене, вспомнил слова одного старшего сержанта, довольно зловеще определившего, что такое туземец: «Он тебя любит. Он твой друг. Он будет жать тебе руку. Все, что угодно, он тебе предоставит. Холодное пиво, родную сестру — только пожелай. У него на все один ответ: «Хорошо, сэр». Но смотри, чтоб темной ночью он не оказался у тебя за спиной». Здешние люди — не англичане. Они гоже туземцы. Лица у Джонса и Гарриса — словно с восточного базара. Одно из потерявшихся племен[8]? Фенн мысленно одел их в халаты и посадил на корточки возле лотков с неаппетитными фруктами. «Покушайте мушмулы, мистер Фенн. Какие деньги, разве можно брать деньги у дорогого друга…»
— Людей не хватает, — пояснил Джонс.
— Это я и без вас знаю.
Фенн взял в оборот другого констебля, а Джонс опять засмотрелся в окно. Он радовался поводу побывать в полицейском управлении после долгих темных месяцев зимы и ранней весны. Бринарон — городок, который пленял своим уродством. Джонса завораживали эти пахнущие пивом туманы, далекие звуки хриплых шарманок и пыхтенье маневровых паровозов, жалобно стонущие чайки на общественных зданиях, беременные женщины в очереди за жареной картошкой — подернутые дымкой фигуры с гравюр Блейка, но в платьях из универмага «Маркс и Спенсер». Почти что кольцом окружала городок река, готовая в любую минуту устремить свои воды на ступеньки домов в нижней его части. Здесь во все времена года стоит туман, и легкие вбирают в себя мягкий кельтский воздух, пронизанный мельчайшими капельками влаги.
Инспектор опять обратился к нему:
— Так что же, никаких соображений, Джонс? Вы ведь родились и выросли в этом медвежьем углу.
— На ферме в сто акров неограниченные возможности для сокрытия, — сказал Джонс. — Особенно когда тут на каждом шагу заброшенные рудники. Прямо кроличий садок.
— Речь уже не о деле Робертсов, — оборвал Фенн. — Мы с ним покончили, пока вы изволили дрыхнуть.
— Море еще хуже, — продолжал Джонс, — а до него всего полчаса ходу. У нас было несколько случаев, когда к телу аккуратно привязывали груз и таким образом надежно от него избавлялись. Перед вашим приездом у нас один рыбак, промышлявший омарами, так расправился со своим напарником. Даже кровь с лодки не потрудился смыть. А мы ничего не могли сделать.
— Теперь будем работать по-другому, — сказал Фенн. — Мы много можем сделать — и сделаем. Над первым же случаем будем биться, пока не добьем. Все как один. И мы в лепешку расшибемся, но засадим кого-то за решетку. Понятно?
Он оглядел полукруг ничего не выражающих лиц, начиная догадываться, что за бесстрастием этим прячется не только упорная решимость подавить все его попытки пассивным сопротивлением, но и затаенное презрение.
Совсем как туземцы, подумал он.
После совещания Фенн позвал Джонса в «Дракон» и отыскал спокойное местечко в неуютном баре, где пахло политурой и порошком для чистки металла. Старший инспектор поручил ему осторожно прощупать констебля Джонса — как он работает и как настроен. «Мне просто любопытно знать, — пояснил старший инспектор, — на что он тратит свое время».
— Вот, к примеру, случалось ли вам засадить валлийца? — спросил Фенн.
Джонс, тихий человек с типичной внешностью полисмена, в тридцать восемь лет почти совсем облысевший, явно обиделся.
— Насколько я знаю, мистер Фенн, у меня нет расовых предрассудков.
— Я проверил имена и адреса ваших жертв — все они из таких городов, как Рексем или Сток. Теперь возьмем ваши приводы. В июне прошлого года у вас было одно нарушение общественного порядка — кто-то из Маклсфил-да — и сознательная порча общественного имущества — парень из Уитчерча. В июле вы привлекли к ответственности англичанина с тяжелыми телесными травмами за то, что он в кросс-хэндской пивной стукнул ирландца разбитой бутылкой. Август был у вас месяцем пик. Два привода за овец, покалеченных огнестрельным оружием, один — за хулиганство в кемпинге и пять — за браконьерство. И все это приезжие из других краев. У вас прямо какая-то мания ловить браконьеров.
— Не люблю, когда охотятся не по-спортивному, — сказал Джонс. — Например, стреляют дробью в лосося.
— Значит, во всех нарушениях виноваты только приезжие, так надо понимать? А валлийцы в Кросс-Хэндсе никогда не преступают закон?
— Очень редко, — ответил Джонс.
— Почему же это?
— У них не хватает духу. Сотню лет уже этот край в забросе. Тут требуется только дешевая рабочая сила. Пять поколений, ползавших под землей, вырастили человека, который держится от греха подальше.
Фенн хмуро уставился в кружку с пивом, разглядывая подымающийся со дна осадок — крохотные частички, похожие на плесень или бурый мех.
— Пиво мерзкое. Настоящая моча.
— Делается специально на потребу рудокопам, — сказал Джонс. — Ничего покрепче они пить не могут, а когда у тебя рот и глотка забиты рудничной пылью, уже не разбираешь, кислое оно или нет.
— Вам никогда не приходило в голову, что вы туг не на своем месте? — спросил Фенн.
— Приходило, — сказал Джонс, — и не раз. Должно быть, так оно и есть.
— Вы, наверно, стихи пишете? — осведомился Фенн, вооружась всем своим терпением и самообладанием, чтобы выслушать ответ.
— Нет, — сказал Джонс, — не пишу. Я их перевожу.
— Вам не кажется, что наша работа для вас малость мелковата? — Фенну вспомнились некоторые донесения Джонса, написанные длинно и учено, в одном было даже латинское изречение.
— Да нет, не сказал бы. Иногда может показаться, что образование тут излишне, но это неверно. Работа полисмена дает возможность заглянуть в человеческую душу. Она помогает лучше понять человечество и самого себя.
— И это все, что о ней можно сказать, а?
— С чисто эгоистической точки зрения — да, — ответил Джонс. — У полисмена есть время побыть наедине со своими мыслями.
— Тут вы, конечно, правы, — сказал Фенн, — но, к сожалению, у нас над душой стоит старший инспектор, и он уже подумывает, не слишком ли много времени вы проводите наедине со своими мыслями. Вот вчера, например, чем вы занимались?
— Могу сказать точно: я прошел восемь миль по горе до Пенлана.
Это даже на Фенна произвело впечатление. Пенлан был 'подведомствен им, но дорога через гору относилась к соседнему округу. Не проходило и года, чтобы кто-нибудь не заблудился в тумане на крутых горных склонах и не погиб от холода и голода.
— А что случилось?
— Двое парнишек заявили, что видели привидение, деревенские жители перепугались.
«Боже, пошли мне терпения», — подумал Фенн.
В тихий уголок бара ввалилась компания фермеров, визгливо и возбужденно они несли какую-то пьяную чепуху. Щеки их ярко рдели пивным румянцем. Фенн выждал, пока они прошли мимо, хлопая друг друга по спине и жестикулируя, точно греки.
— Что вам известно об Ивене Оуэне с «Новой мельницы»?
— Он откуда-то с севера. Очень набожный. И работяга.
— Деньги у него есть?
— Да нет, не много. Его изрядно нагрели на покупке «Новой мельницы» пять лет назад. Почти всю весну и осень на его земле стоит вода. Есть только один сухой участок на горе, да и тот зарос папоротником.
— Еще что вы знаете? — спросил Фенн.
Джонс подумал.
— Непонятно, что он делал до переезда к нам. По слухам, у него в семье была какая-то беда. О своем прошлом ничего не рассказывает. Женился на девушке много моложе его. Она работала в универмаге, здесь, на этой же улице.
— По-вашему, мог он нажить себе врагов?
— Да там у всех есть враги. На этих горных фермах каждый живет в своей скорлупе. Кого-нибудь ненавидеть — для них отдушина.
— Мы получили анонимное письмо насчет Оуэна.
— В наших местах это вид литературного творчества, — сказал Джонс. — Как-то я получил три штуки в один день.
Фенн вынул из кармана сложенный листок и передал Джонсу; тот развернул бумажку, разгладил на столе и прочел:
«Спросите Ивена Оуэна что он сделал с 2 ящурными коровами и кому сбыл мясо ОТ БЕЗЗАКОННЫХ ИСХОДИТ БЕЗЗАКОНИЕ».
— Почерк детский, — сказал Джонс, разглядывая старательно выведенные округлые буквы.
— Возможно, — ответил Фенн. — Либо кто-то подделывался под детский почерк. Что у него за жена?
— Недурна собой, — сказал Джонс.
— Хорошенькая?
— Очень хорошенькая. Знаете, как с конфетной коробки.
— Она тоже из богомольных?
— Ну, до замужества она этим не отличалась. По воскресным вечерам обычно торчала где-нибудь на углу.
— А теперь?
— Теперь ее словно подменили. Участвует во всех церковных делах.
— А вы не думаете, что она потихоньку наставляет мужу рога?
— Сомневаюсь. «Новая мельница» — место очень уединенное. Искушений там, прямо скажем, маловато. — Джонс сложил листок и протянул его Фенну.
— Оставьте у себя, — сказал Фенн. — Разузнайте и доложите мне, кто писал и почему.
— Простите, мистер Фенн, но вы уверены, что дело стоит хлопот? На «Новой мельнице» ящурных коров нет. И не было никогда. На таких фермах ящура не бывает.
— Меня интересует не ящур. Я хочу знать, кто и почему это написал.
Джонс сунул листок в карман.
— Если мы положим конец анонимным письмам, мы вдвое сократим доходы почты в наших местах.
— Все равно, разберитесь. Это будет для вас хорошей практикой, — сказал Фенн.
Час спустя у себя в кабинете он отпечатал на машинке докладную записку старшему инспектору. Вывод из «прощупывания» констебля Джонса заключался в последней фразе: «Хотя он и не проявляет особого усердия в исполнении своих обязанностей, но знает местность и ее обитателей настолько, что было бы нелегко найти ему замену».
С тех пор как закрылись последние рудники, две силы господствовали над поселком Кросс-Хэндс и жизнью его обитателей. Одна из них — Британская металлургическая компания, в просторечии «Металл», построила здесь завод, владела всеми домами в поселке, давала работу его жителям и удовлетворяла их насущные нужды. Другой силой была гора Пен-Гоф, или просто Гора. До высоты Сноудона горе Пен-Гоф не хватало нескольких сотен футов, зато у основания своего она была необъятна. Спокон веку обреченный класс земледельцев старался вырвать себе пропитание из ее склонов, гонимый загадочной, самоубийственной тягой к земле, которая как будто только и ждала, чтобы к ней приложили руки, но оказывалась совершенно никчемной, когда ее начинали скрести плугом. Колдовская сила Горы превратила пен-гофских фермеров в особую породу. Они были так приучены к тяжким лишениям, что почти не замечали физической боли. Они жили замкнуто, женились поздно, детей рожали мало, разговаривали, как смотрители маяков, — знаками и односложными словами и мечтали о царствии небесном. Несколько художников пытались передать суровую красоту Горы акварелью, но тщетно. Что-то совсем не валлийское, скорее японское есть в ее силуэте, в ее атмосфере — будто быстрыми мазками кисти нарисованы ее облака, и туман, и скупые детали: несколько сосен и сплющенных ветром дубов, зубчатый утес, расселина, водопад и вершина, как у Фудзиямы, выскобленная и отшлифованная снежными бурями. Тех, кого окончательно сломила Гора, внизу подкарауливал «Металл» Один из служащих «Металла» мерил Кросс-Хэндс своей особой меркой: качеством яиц. Он побывал в разных краях и на опыте убедился, что чем цивилизованнее страна, тем хуже в ней яйца. Единственным местом, где яйца могли сравниться по вкусу с кросс-хэндскими, была одна захудалая республичка в Центральной Америке, где половина населения вымирала от голода.
Джонс относился к своей работе как фаталист. Он считал себя лишь наблюдателем, который едва ли может хоть что-то изменить в событиях и человеческих судьбах. На следующий день он почти все утро преспокойно составлял безупречный по слогу доклад об устройстве стоянки машин в Кросс-Хэндсе, где было восемьсот жителей и пять улиц. К нему зашел посоветоваться сослуживец, который вместе с Джонсом занимался делом Робертсов. Понукаемый инспектором Фенном, он облазил в окрестностях несколько высохших колодцев и в одном обнаружил кости, но настолько ветхие, что, даже окажись они человеческими, они не могли принадлежать пропавшей чете Робертсов.
— Не буди лиха, когда лихо спит, — заметил Джонс. — Я убежден, дело Робертсов умерло своей смертью. Фенн не скажет тебе спасибо, если ты начнешь все сызнова.
Среди дня Джонс пошел встречать автобус из Бринарона, на случай если ему прислали какой-нибудь пакет. Из автобуса вышел незнакомый человек. Джонс обернулся, посмотрел вслед, мысленно отмечая все, что запоминалось во внешности приезжего. Всякий незнакомец в Кросс-Хэндсе редкость и всем бросается в глаза. Чужим здесь делать нечего, только летом сюда заглядывают туристы из кемпинга, да и тех запоминают в лицо и знают наперечет.
С дневным автобусом ему ничего не прислали, но, как только Джонс вернулся к себе, его срочно позвали к телефону. Звонила из автомата возле кемпинга в долине Илен какая-то женщина и почти истерически жаловалась, что вокруг ее домика-прицепа рыщет бродяга.
Джонс сказал, чтобы она ждала его у въезда в кемпинг, сел на велосипед и помчался туда.
Тысячи фургонов — домиков на колесах — вереницами тянулись вдоль речной излуки немного поодаль от поймы, и все они принадлежали англичанам, приезжающим сюда на лето. Впервые англичане нагрянули в эту долину, чтобы опустошить ее недра, теперь они вернулись, чтобы отнять и истребить ее мирную тишину. Сейчас долина еще только пробуждалась, но в августе она станет хрипло орущим городом на колесах и будет изрыгать скрежещущую музыку и неистовый хохот, засорять своими отбросами зеленые поля и наводнять окрестные деревушки толпами озорных юнцов и девчонок, жадных до острых ощущений.
У въезда в кемпинг в малолитражном «остине» его поджидала та женщина — визгливая англичанка с юга в розовых атласных брючках. Она показала Джонсу, куда идти, и дала ключ, и Джонс, не заметив по пути ничего подозрительного, разыскал ее фургон и вошел.
Он ждал целый час, глядя в щелку между занавесками, и уже собрался было уйти, как вдруг под окошком появился долговязый малый лет семнадцати, лохматый, в джинсах — судя по описанию женщины, тот самый бродяга. Он обошел фургон сзади и заглянул в окошко.
Джонс выскользнул в дверь, прокрался между соседними фургонами и неожиданно возник у мальчишки за спиной. В последнюю секунду тот обернулся и, увидев Джонса, метнулся было прочь, но остановился. Его некрасивое прыщавое лицо, обрамленное белобрысыми патлами, ощерилось в испуганной улыбке: обнажились обломки зубов и синеватые опухшие десны.
— Что здесь происходит? — спросил Джонс стараясь напустить суровость на свою до нелепости добродушную физиономию.
— А что, я ничего не делаю.
— Как тебя зовут?
— Дикки Бейнон.
— Ты лазаешь по фургонам? Выверни карманы.
Из карманов появились грязный носовой платок, свернутая трубочкой десятишиллинговая бумажка и серия снимков, сделанных фотоавтоматом, — придурковатое лицо Дикки в различных поворотах.
— В щелки подсматриваешь, а? — сказал Джонс. — Одно похабство у тебя на уме.
— И вовсе нет.
— Часто ты поглядываешь в окошки?
— Только раза два и глянул.
— Знаешь, что за это полагается?
Мальчишка покачал головой.
— Значит, бродяжничество со злостным умыслом и безнравственное поведение, — произнес Джонс, стараясь, чтобы это звучало как покушение на убийство. — Я тебя уже где-то видел, только ты изменился. Что у тебя с зубами?
— Подрался, ну и съездили мне.
— Так тебе и надо. Наверно, застали тебя за хорошими делами. Ты ведь работаешь у Ивена Оуэна?
— Смотрю за коровами.
— Значит, живешь у него в доме?
— Жил раньше. Теперь у меня своя халупа у речки.
— Пойдем, покажешь, — сказал Джонс.
Халупа стояла у берега реки, пониже кемпинга. Она была сколочена из аккуратно пригнанных обломков старых курятников и туристских автофургонов и блестела свежими красками — кремовой и зеленой. В нескольких ярдах внизу на зализанной ночным приливом весенней травке валялся выплюнутый рекой мусор — скользкий плавник, дохлая чайка, пластмассовые фляжки.
— Откуда ты набрал досок и обломков?
— Из речки.
— Будет разлив — смоет твою халупу.
Джонс прошелся по берегу. Река взбухала медлительной желтой водой прилива. Вдали по долине со скоростью восемьдесят миль в час то в лучах проглянувшего солнца, то под короткими ливнями бежал нейлендский экспресс, вспугивая чаек и обращая в бегство овец. Небо было цвета грязной холстины: опять собирался дождь. Если он зарядит на полсуток, да в устье реки ворвется западный ветер, хижину Бейнона, а с ней и десяток других, выросших на никому не нужной земле вдоль реки, снесет в море.
— Давай-ка войдем, — сказал Джонс.
Бейнон вынул ключ и отпер дверь.
Внутри тоже было все свежевыкрашено. Здесь стояла мебель из сосновых досок — два стула, стол, комодик; Джонс подробно, с восхищением разглядывал столярную работу.
— Это ты сам сделал?
Бейнон кивнул.
На столе лежали стопки журналов, на комодике тоже. Джонс прочитал названия: «Пижон», «Секс-откровения», «Стриптиз», «Непутевые девчонки», «Сексуальные забавы». Журналы были аккуратно сложены по названиям и номерам.
— Ты читаешь это? — спросил Джонс.
— Картинки смотрю. Когда вздумается, немножко читаю.
Джонс взял номер «Стриптиза», перелистал и положил на место. Нашел в кармане конверт, протянул Бейнону вместе с шариковой ручкой.
— Напиши-ка свою фамилию.
Бейнон зажал ручку между большим и еще тремя пальцами. Джонсу еще не приходилось видеть, чтобы кто-нибудь так держал ручку. Бейнон кончил писать, и Джонс вгляделся в его почерк.
— Теперь пиши: «беззаконие».
Он смотрел на Бейнона в упор, но в лице мальчишки ничего не изменилось. Кончик шариковой ручки чуть дрожал, когда Бейнон выводил буквы. Джонс следил через его плечо.
— Ты не только эту пакость, но и библию читаешь, да? Зачем ты написал то письмо?
— Никаких писем я не писал, — буркнул Бейнон.
— Ты написал письмо инспектору Фенну, только забыл подписаться. А у нас, между прочим, есть эксперт по почеркам. Я не хочу его затруднять, потому что для тебя это добром не кончится. Ты мне скажи, чего ради написал то письмо? Чем тебе насолил мистер Оуэн?
Бейнон машинально выровнял стопку журналов «Стриптиз» и теперь стоял опустив глаза.
— Ну, выкладывай, — сказал Джонс.
— Он не больно мне нравится. Вот и все.
— Постыдился бы! Он что, тебя обидел?
— Да нет… ну, может, нечаянно.
— В чем же дело?
— Ну, Кэти… его жена.
Джонс с изумлением увидел, что веки парня под длинными рыжеватыми ресницами покраснели.
— Так что же она?
— Я в нее влюбился.
— В твои-то годы? Вот сопляк прыщавый! А она как к этому относится?
— Она не знает.
— И ты написал инспектору Фенну, что мистер Оуэн, который не сделал тебе ничего плохого, продает из-под полы мясо больной коровы? Расстрелять тебя надо.
— Не могу с собой совладать, — сказал Бейнон. — Все из-за Кэти. Я по ней с ума схожу.
— Чем ты занимаешься, когда подоишь коров?
— Прихожу сюда, столярничаю понемножку.
— И читаешь порнографические журнальчики. У тебя приятели есть?
— Нет. Я тут никого не знаю. В Суонси у меня были приятели.
— Там живет твоя семья?
— Только тетя Флорри.
— Как тебя занесло в эту дыру?
— Ивен Оуэн — двоюродный брат моей тети. Он велел, чтоб она прислала меня сюда. Она хотела сбыть меня с рук.
— Одинокий ты, — сказал Джонс. — Вот в чем твоя беда. Надо тебе выбраться отсюда, повидать людей. Выветрить из головы всякую дрянь. Почему ты не живешь, как все мальчишки? Купи себе мопед и все снаряжение и гоняй в свое удовольствие. Тебе надо бы вернуться в Суонси.
Бейнон царапал стол обломанным ногтем и молчал.
— Ну так как же? Может, мы подыщем тебе какую-нибудь работу в Суонси?
— Не могу я от нее уехать. Не могу оставить ее с ним.
Парадоксы жизни никогда не переставали изумлять Джонса. Такие, например, как этот грустный и одинокий, всем чужой мальчишка, упивающийся порнографией в своей ярко раскрашенной келье.
— За такие дела тебя могут упечь в тюрьму. Ты это не хуже меня знаешь. Морочишь полицию заведомо ложными обвинениями против своего хозяина. Хочешь посидеть месяц-другой за решеткой?
— Не очень.
— Ладно, даю тебе последнюю возможность. Я отложу следствие на неделю. Ты придешь ко мне в участок в будущий понедельник утром и скажешь, что ты надумал. Если захочешь вернуться в Суонси добровольно, я, может, уговорю инспектора замять это дело. Иначе как бы нам не пришлось похлопотать, чтоб тебя поместили в исправительное заведение.
4
Автобус высадил Брона возле узкой проселочной дороги, которая вела к «Новой мельнице», а кондукторша, держа палец на кнопке звонка, еще с минуту стояла и смотрела ему вслед. Коренастенькая, в длинной форменной шинели с медными пуговицами, она была ни дать ни взять нескладный новобранец. Тонкая ниточка надежды еще связывала ее с Броном, шагавшим к ферме, что спряталась за деревьями. Среди десяти тысяч счастливых возможностей, хранящихся в тайнике будущего, есть и возможность, что он опять когда-нибудь сядет в ее автобус. Но мечта уже таяла, кондукторша вздохнула, нажала кнопку звонка и начала забывать.
А Брон шагал к дому. Найти брата оказалось не так уж трудно. В первом же месте, где он начал наводить справки, — в бринаронском баре «Дракон» — ему дали не только адрес Ивена, но и существенные сведения о невестке: «В прежние времена она частенько к нам заглядывала». Дождь стучал по его тонкому непромокаемому плащу, надетому поверх костюма, в который словно вшили картон, и белой бумажной рубашки с тесным, резавшим шею воротничком. А вокруг весна раскинула прелестный, пропитанный влагой ландшафт: внизу — река, половодьем заплеснувшая луга; вереницы домиков на колесах; клочья тумана, застрявшие в кустах дрока, словно овечья шерсть; намокшие цветы терновника в лужах, дождевые капли, падающие с листка на листок, и повсюду молодые побеги папоротника — зеленые завитки, будто вопросительные знаки среди бурых останков зимы.
Брон восторженно разглядывал каждый штрих этой картины. Свобода была еще непривычна и окрашена в яркие цвета. Он ехал сюда из Морфы неторопливо, с остановками, и вчерашней усталости, а с нею и головной боли как не бывало. За это время он принял четыре таблетки из тех, что дал ему доктор Гриффитс.
Выглянувший из-за деревьев дом был неказист. В этом краю безобразных построек дом на ферме «Новая мельница» был из числа самых безобразных — серый, приземистый, с подслеповатыми окошками и ветхим крыльцом, которое, точно саван, укрывали растрепанные ветки какого-то ползучего растения. Когда Брон подошел к калитке, нечто лохматое, что он сначала принял за прислоненное к стене пугало, вдруг зашевелилось и оказалось нечесаным, замызганным пареньком, который бросил на него рассеянный, но недобрый взгляд и воровато шмыгнул за угол. Битник, подумал Брон. Он видел это племя на фотографиях в газете, которую выдавали в Хэйхерсте по воскресеньям, но с живым битником столкнулся впервые, и зрелище это ему, одержимому страстью к чистоте и порядку, совсем не понравилось.
Брон открыл калитку и вошел во двор, захламленный обычным для таких дворов старьем: тут валялась негодная шина от тракторного колеса, там — помятая железная бочка из-под бензина. Он остановился, выхватил носовой платок и прижал к носу. Подступившая было тошнота прошла. Так всегда пахнет на фермах — навозом и аммиаком от пропитанной мочой земли. Ничего, привыкну, подумал он. Эти запахи стоят во всем Уэльсе. Он постучал раз, другой — и, не получив ответа, тихонько толкнул дверь и вошел в дом.
Комната была пуста. Лежавший на столе черный кот приоткрыл желтые щелки глаз и лениво вытянул лапы, выпуская когти. Брон подошел и погладил его. Славный кот. Славный, пушистый, холеный кот. Брон запустил пальцы в шерстку и легонько почесал кота за ухом; тот перевернулся на бок, громко, басовито замурлыкал от удовольствия.
Брон пытливо оглядел комнату, мысленно оценивая мебель и утварь. Борьба с нищетой — таково было общее впечатление. Ничего не видно из ценной материнской мебели, ее старинных шкафчиков, стульев и столов. Почти вся обстановка была новая и убогая — дешевое дерево с грубыми узорами древесного волокна, покрытое ужасающим лаком. Переезд из Морфы явно оказался не к добру. Со двора в открытое окно понесло вонью, и Брон закрыл его. Затем подошел к лестнице и призывно свистнул. Позади скрипнула дверь, Брон обернулся — на пороге стоял Ивен.
Сначала Ивен как будто его не узнал. Он открыл рот, потом закрыл, и лицо его исказилось гримасой, в которой сквозил ужас.
— Брон, — произнес Ивен. — Брон. — Он, казалось, готов был бежать, хоть и не двинулся с места.
Брон подошел и, смеясь, схватил его за руку.
— Ивен, дружище! Прости. Я должен был известить тебя, но я узнал твой адрес только часа два назад.
Ивен с вымученной улыбкой пробормотал что-то невнятное. Приглядевшись, Брон был потрясен его видом. Брат сильно постарел за пять лет. Годы проступили на нем как плесень. Это была сморщенная карикатура на прежнего Ивена. Глаза словно вдавлены в орбиты. Мышцы и сухожилия на шее и под подбородком обозначились так резко, что Брону вспомнились рисунки из анатомического атласа. Ему стало жаль брата. «Работа красит человека», — любил повторять отец, но Ивен загнал себя работой до полусмерти. Брон сразу простил ему все, что нуждалось в прощении.
Ивен, обычно говорливый, впервые в жизни не знал, что сказать. Не было ни повода, ни оправданий для каких-то фраз, и некуда податься — какие слова могут загладить огромную обиду, нанесенную брату годами полного отречения от него? Он так жаждал избежать этой минуты, и казалось, все его существо терзается желанием скрыться. Его безвольно повисшие руки трепетали, как мотыльки в плену между оконными стеклами. Даже кожа на голове ходила ходуном под седым ежиком волос.
— Ивен, старина! — смеялся Брон. — Славный старина Ивен.
— Мы от тебя совсем не получали писем, — выговорил наконец Ивен.
Брон опять рассмеялся.
— Вот как? Ну, это меня не удивляет, ведь ты не дал мне своего адреса. Я знал, что ты решил уехать и что мама умерла. А потом — ни весточки.
Ивен поднес руку к глазам и вздохнул.
— Ну ладно, все это в прошлом, — сказал Брон и хлопнул брата по плечу. — Я теперь понимаю, что вы с мамой пережили. Никто, пожалуй, лучше меня не знает, что такое угрызения совести. Но давай об этом не поминать.
— Мы никогда не переставали думать о тебе, — сказал Ивен. — Мы постоянно молились за тебя. Слава богу, ты вернулся, мой мальчик. Наверно, ужас что ты перенес.
— Я выжил, — ответил Брон. — А это самое главное. Как-то вытянул. И по-моему, не стал хуже.
Ненадолго замолчали, и Брон расслышал тиканье часов. Только этот звук и уцелел от прежнего дома в Морфе — звук потихоньку утекающей жизни и времени. Часы, которые он когда-то терпеть не мог, сохранились, но, кроме них, мало что осталось здесь от прежнего. Все в этой комнате было начищено до блеска. Букет колокольчиков увядал в вазе, которую, очевидно, выиграли на ярмарке. На веточку растения в горшке была прицеплена колибри из пластмассы. В бамбуковой рамке — «Господи, Благослови Наш Дом». Комната насыщена усердием и уродством.
— Ну, есть уже у тебя какие-то планы на будущее, мой мальчик?
— Никаких. По крайней мере пока. Сейчас мне хочется одного: побыть денек-другой в тишине и подумать. Осмотреться.
— Брон, я не только рад, я благодарен за то, что ты решил приехать прямо ко мне. Здесь твой дом. Ты можешь прийти сюда или уйти, когда захочешь. Кэти очень тебе обрадуется! Она уехала в Бринарон кое-что купить. Вернется вечерним автобусом. Ты знал, что я женился, да?
— Мне сказал доктор Гриффитс.
Лицо Ивена потемнело.
— Кэти замечательная женщина, — сказал он. — Таких одна на миллион. С тех пор как мы поженились, жизнь для нас обоих стала светлее. Одно горе — детей у нас нет. Сам увидишь, какая она добрая, отзывчивая. Она будет очень, очень рада, что ты с нами.
Кажется, пора пигь чай, подумал Ивен. Он вышел на кухню и через несколько минут принес чашки на дешевом медном подносе с небрежно отштампованным восточным орнаментом.
— Вот только в доме у нас не очень-то удобно, мой мальчик. Пока что мы не можем себе позволить лишних трат. Приходится все вкладывать в землю. Нелегко она нам достается. Но какой ни есть, а все же дом. Наш и твой.
— Дом отличный. Ничего плохого я в нем не вижу. А вот ты мне не нравишься. Ты здорово похудел. Надрываешься на работе.
— Не так все ладно получается, как хотелось бы, — сказал Ивен. — Но худшее уже позади. Мы стараемся относиться к этому полегче.
На него напал приступ кашля, он поморщился и прижал руку к сердцу.
Грохнул такой удар грома, что казалось, будто обвалилась крыша, и в окна забарабанил дождь.
— Только бы ненадолго, — сказал Ивен. — Таких наводнений, как в этом году, никто не припомнит. И осень была плохая, и зима, и весна тоже. Мы уж решили не браться за ту землю, что в низине. Все равно толку не будет.
— Вот так же было и у отца, — заметил Брон. — Помню, какие у нас бывали зимы.
— Да нет, теперь еще хуже. Уж вовсе не угадаешь, какая будет погода. В марте у нас половина овец погибла в снежных буранах. Сугробы в пятнадцать футов вышиной. В марте! Да ты, наверно, читал об этом.
Брон покачал головой.
— Мы в Хэйхерете жили, как за монастырской стеной. События «мирской жизни» до нас почти не доходили.
— В этих краях с землей приходится воевать — кто кого, — пожаловался Ивен. — И это еще мягко сказано. На горах все сплошь заросло папоротником. Его надо выкапывать, пока он не пошел в лист. И опять появились кролики. Их теперь вдвое больше прежнего. И потравы от них больше, чем от овец.
За окном потемнело, словно средь бела дня наступили сумерки. Сквозь сетку дождя сверкнула молния, и опять загремел гром.
— Если гроза надолго, надо будет сходить вниз, посмотреть, как там овцы, — сказал Ивен. — В первый год, когда мы сюда приехали, река изменила русло и с тех пор выходит из берегов. А когда вода поднимается, часто гибнут овцы. В прошлый раз мы потеряли пятнадцать маток.
И при этом лицо у Ивена стало чуть ли не довольное. Несчастья доставляют ему какое-то противоестественное удовольствие, подумал Брон. Если не считать женитьбы, всю жизнь с ним случались одни только беды. Он стал вроде игрока-маньяка, который наслаждается острым ощущением проигрыша.
— Если не вода нас донимает, так огонь, — продолжал Ивен. — В прошлом году один сумасшедший поджег у меня стога сена. И тут оказалось, что срок страховки кончился неделю назад.
— Похоже, ты выбрал неудачную местность.
— На бумаге все выглядело прекрасно. Беда в том, что я уж слишком спешил выбраться из Морфы. Ты, наверно, догадываешься почему.
— Я всегда считал, что из-за меня.
— Ошибаешься, Брон. Сильно ошибаешься. У меня и в мыслях не было бежать из-за тебя, и притом все соседи и друзья были к нам как нельзя больше участливы и внимательны. Нет, я просто решил, что это единственный способ избавиться от зловредного влияния Гриффитса на нашу мать.
— Тебе не кажется, что это вроде как бить из пушки по воробьям?
— Ты не представляешь, как он ее держал, Брон, — мертвой хваткой. И не ее одну. Я советовался с юристами, но ничего поделать не мог. Только и оставалось, что продать дом и уехать из родных мест. Доктор Гриффитс под видом заботы о больных втирался в чужие семьи и в чужую жизнь. Он был злым гением нашей семьи.
— У него, по-моему, винтиков не хватает. Он оставил меня ночевать. И все время твердил об одном: кто и как его травит. Утром я уж не чаял, как от него вырваться.
— Этот человек не вылезал из нашего дома тридцать лет. Я всегда подозревал, что у матери половина болезней от мнительности. Он внушал ей, будто она очень больна, чтобы она не могла без него обойтись, — сказал Ивен.
— Насколько я понял, он добивался ее денег и чуть не отхватил себе хороший куш. Мне пришлось без конца выслушивать какую-то чепуху насчет переделанного завещания. И ты, конечно, тоже один из многих, кто старается его погубить. Порой он нес сущий бред, как настоящий сумасшедший. Удивительно, неужели хоть кто-то ему вериг?
Ивену разговор явно становился невмоготу. Он подошел к окну и сквозь каскады витых струй, падавших из сломанного желоба, стал глядеть на клубившиеся тучи. Уйти, скорее уйти, хоть на полчаса, один на один выдержать последнюю битву со своей совестью, даже зная, что исход ее уже предрешен.
— Что-то мне беспокойно за овец, Брон. Сбегаю вниз, посмотрю, что там творится.
— Ты делай что нужно, — сказал Брон. — Я не хочу отрывать тебя от работы.
— Все дело в том, сильно ли льет выше по долине. Если не очень, тогда не страшно.
— Лучше, конечно, проверить. На меня не обращай внимания.
— Я возьму машину и только взгляну, все ли там в порядке. А потом поедем с тобой к автобусной остановке встречать Кэти. Сделаем ей приятный сюрприз.
Брон прождал час, дождь прекратился, и выглянуло солнце, бледное, но уже пригревающее. Он отыскал клочок бумаги, написал: «Пошел пройтись. Скоро вернусь» — и положил записку под вазу с колокольчиками.
После грозы воздух стал свежее и сильней чувствовались запахи земли. Брон зашагал по дороге и лишь раз остановился возле бреши в живой изгороди, чтобы посмотреть вниз на реку, которая змеилась по болоту, парчово поблескивавшему под выступившей из берегов водой. У подножия холма, прямо под дорогой, река бурлила и плескалась, унося с собой осколки желтоватого, как масло, заката и все, что она отхватила от стоявших над нею ферм.
У края воды вереницы домиков на колесах дожидались лета.
На перекрестке дорог стоял бар «Привет» — неприветливое строение, незатейливо сложенное из местного серого камня, с высохшими цветами в прибитых под окнами желтых ящиках. Брон вошел в бар. У противоположных концов стойки с заговорщически-замкнутым видом расположились две группки завсегдатаев, между ними сновала сдобная, красивая барменша. Отведя глаза, она подала Брону кружку пива. Он сказал, что сегодня хороший вечер, она ответила, что приятно для разнообразия хоть на минутку увидеть солнце, и отошла.
Брон понял, что здесь он чужой. Это маленькое обособленное общество сплочено в единый фронт узким кругом одних и тех же интересов, теми же предрассудками и той же подозрительностью. Конечно, если он целый год станет сидеть здесь по вечерам за кружкой пива, барменша, может, улыбнется и ему, а эти люди допустят его в свой тесный круг. Но сейчас всякие дружественные подходы были бы встречены с недоверием. А ведь ему как раз и нужно, чтобы его почти не замечали. Этого прежде всего требуют правила, которые он выработал для себя, чтобы спастись. Главное — жить потихоньку. Главное — вести спокойную жизнь. Не нарываться на неприятности. Воздерживаться от спиртного. Держаться подальше от женщин. Научиться жить растительной жизнью. Как говорил Даллас, все-таки не совсем уверенный в своем диагнозе, прогнозах и лечении его обманчивой болезни: «Надо научиться подчинять свою жизнь необходимым ограничениям. Когда выйдете на волю, хорошо бы вам найти тихое, укромное местечко и затаиться там. Очень подошел бы один из славных Гебридских островков».
Здесь, конечно, не Гебридский островок, но очень похоже, думал Брон. Густой, влажный воздух, который вливается в тебя при каждом вдохе, сам по себе отличное успокаивающее средство. Может, я буду помогать Ивену на ферме. За овцами смотреть или еще что-нибудь. Иногда удить рыбу. Ходить на далекие прогулки. Отличные места для долгих одиноких прогулок. Хорошо еще, что мне легко быть наедине с собой.
Брон взял свое пиво, отошел к пустому камину и встал под висевшим на стене стеклянным ящиком, в котором красовалось чучело щуки. Из двери за стойкой вышел низенький человечек с багровым лицом, должно быть хозяин, закивал и осклабился в ответ на приветствия завсегдатаев, стал позади барменши, собственнически потрепал ее по бедру и ушел. Брон дал себе десять минут на то, чтобы допить пиво и уйти на ферму. Прием, оказанный Ивеном, был для него неожиданностью и огромным облегчением. У Ивена явно нечиста совесть, и его это мучит; Брон подозревал, что в бреде этого сумасшедшего Гриффитса насчет завещания матери была доля правды. Но в конце концов, что такого, если Ивен убедил старушку оставить все имущество только ему? Разве не трудами всей его жизни оно добыто? Разве прежняя ферма в Морфе не отняла у него молодость и силы и разве новое хозяйство в Кросс-Хэндсе в конце концов не сведет его в могилу?
Брон подошел к стойке, поставил пустую кружку и хотел было уйти, но вдруг дверь с шумом распахнулась, и в бар ввалились два диковинно одетых юнца. Опять битники, подумал Брон, но эти были другой марки, чем тот малый, что крался вдоль стены на ферме. Эти двое ворвались, гоня к стойке воображаемый футбольный мяч, они толкались, наскакивали друг на друга, притворно переругивались и дико гоготали. Брон скорее ощутил, чем увидел, как испуганно отшатнулись от них завсегдатаи.
Один из битников, долговязый, с крупными женоподобными чертами лица — он походил на негритянку, — был в вязаном шерстяном шлеме, другой, поменьше ростом, — в длинной черной кофте и джинсах, заправленных в высокие сапоги. У битника-коротышки вид был грустный, он беспрерывно хохотал, но от этого унылое выражение его лица почти не менялось.
Они подошли к стойке, и высокий забарабанил по ней огромным костлявым кулаком.
— О’кей, так нас тут обслужат или нет? — крикнул он. Длинные черные волосы падали из-под шлема ему на плечи. Местные жители стали с обоих концов стойки отодвигаться подальше.
Грустный битник, беспрестанно дергая руками, ногами, плечами, запел:
У меня такое чувство, крошка, Будто бы я создан для тебя.— Что ж, обслужат нас или нет? — крикнул долговязый. Он опять хватил кулаком по стойке, и обе местные компании подались еще дальше, хотя заставила их двинуться скорее дрогнувшая стойка, чем собственная воля.
Ты побудь со мной еще немножко, Мы не будем времени терять.Грустный битник вертелся и приплясывал возле своего приятеля, игриво тыча его в ребра.
— Эй, брось, слышишь?
Ты не говори, что я тебя не понял, Может, ты не поняла меня.— Давайте обслуживайте, а?
Барменша по знаку хозяина подошла к ним.
— Удостоила наконец; кофе есть?
— Кофе у нас не бывает.
— Тогда пепси. Пепси есть?
— Кока-кола, — сказала барменша. — Только кока-кола.
— О’кей, но чтоб мигом.
Ты не говори, что я тебя не понял, Может, ты не поняла меня.Барменша принесла кока-колу, грустный битник перегнулся через стойку и схватил ее за локоть.
— Может, пойдем побалуемся, а?
Барменша, извиваясь, старалась высвободить руку. Раздался возмущенный окрик хозяина. Какой-то маленький человечек погрозил пальцем перед самым носом грустного битника и мгновенно очутился на полу. Ему на помощь бросился приятель — и отлетел в сторону. С грохотом упали два высоких табурета. У Брона вдруг возникло знакомое чувство, будто все это уже когда-то было, будто он уже однажды такое пережил и знает, что сейчас произойдет. Ощущение не из приятных. Будто в кино выключили звук и на долю секунды остановилось изображение. В последнее мгновенье общей суеты опрокинулась кружка с пивом, и, как при съемке рапидом, пивная пена свесилась с края стойки, точно кружевная скатерть. Застыли открытые рты — один поющий, другие кричащие. Хозяин, зажав пальцем ухо, протянул руку к скрытому среди бутылок телефону. Барменша метнулась в сторону и замерла на ходу с выпяченным бедром — оно было настолько ниже другого, что фигура ее казалась искалеченной. Щегол в клетке, соскочивший с верхней жердочки на нижнюю, повис в воздухе. Крупным планом надвинулось лицо долговязого битника, в углу его рта, между верхней и нижней губой, виднелся пузырек слюны.
Но вот звуки внезапно вернулись, все задвигалось, и какой-то голос на четырех музыкальных нотах пропел в ухо Брона: «Где они там драка мигом разносят все вдребезги черт бы их побрал звонить констеблю все равно что премьер-министру наверняка отлучился по служебным делам когда он срочно нужен прирос задом к месту и только ждет повышения».
Брон вспомнил о пилюлях. Проглотил две штуки, запил стаканом воды и повернул к выходу.
Высокий битник заступил ему дорогу, на грубо вырезанном лице африканского идола расплылась вялая улыбка.
— Ты куда, туземец?
— Домой.
— Умеешь петь, туземец?
— Когда захочется.
— Ну так спой.
— Мне сейчас не хочется.
— Если ты и петь не можешь, что ж ты вообще можешь?
Его рука опустилась на левое плечо Брона.
— Пошли отсюда, — сказал Брон, — я тебе скажу один секрет. — Он стиснул парню руку выше локтя и почувствовал, как поддаются мышцы под его пальцами. Крупное корявое лицо сморщилось от боли. Брон разжал пальцы.
— Силенки у тебя ушли в рост, малый. Вон какой вымахал, а весу в тебе кот наплакал. Зови дружка, и пошли.
Брон бесшумно закрыл за собой дверь. Они двинулись туда, где полоска вечернего неба синела, зажатая между тучами и туманом, что поднимался с земли. Впереди виднелись тусклые, расплывчатые огоньки Кросс-Хэндса. Где-то, как заблудившийся щенок, тявкал и подвывал кроншнеп.
— Местечко не первый сорт, а? — сказал Брон.
— Жуть, — ответил битник. — Некуда себя девать.
— А вы откуда, ребята?
— Из Бристоля. Сняли тут фургончик.
— Думали, поживем подольше.
— Безнадега. Чего ради тут болтаться.
— Я не хочу, чтоб обо мне трепались, потому и спросил, — сказал Брон. — Но раз вы уезжаете, я, так и быть, скажу вам. Я только что отсидел пять лет. За нанесение тяжелых телесных увечий. Там такой режим — надолго закаешься лезть в драку. Вы меня поняли?
Он пошел обратно, потому что не помнил, заплатил ли за пиво.
Барменша в ореоле полукруглого пятнистого зеркала встретила его улыбкой. Сбоку красный, запыхавшийся от волнения хозяин все еще стучал по рычажку телефона.
— Что вам подать, сэр?
— Спасибо, больше ничего.
— Мы вас угощаем. Выпьете со мной?
— Ну, раз так, отказаться не могу.
Она была миловидная, но уже не первой молодости, тело с годами начало обмякать, черты лица расплывчатые, с нежными тенями, как на фотографии, снятой не контрастно. Ее прическа показалась Брону слишком замысловатой, а губная помада слишком яркой, и на пальцах было слишком много колец, но он вдохнул обволакивающий запах ее духов и все ей простил.
— Виски? — спросила она, изогнув яркие губы в широкой улыбке.
— Вы очень любезны, — сказал Брон.
— Наше счастье, что тут оказались вы. Они, наверно, разнесли бы все вдребезги, как в прошлом году. На тридцать восемь фунтов убытка. В бринаронском «Драконе» на прошлой неделе затеяли драку. Говорят, девчонки еще хуже мальчишек.
Хозяин отчаялся дозвониться до констебля Джонса.
— Не отвечает, как всегда. Только время зря тратишь. Никакого от них проку. На черта мы платим налоги.
— Что этим ребятам нужно? Зачем они затеяли кутерьму? — спросил Брон.
— Да ну их! Я-то знаю, чего им, чертям, нужно. Хорошая порка им нужна. Всыпать бы им розгами по первое число. Эти дуболомы из кемпинга только такой разговор и понимают.
Барменша принесла виски. Подавая стакан, она задержала его в руке, и ее розовые пальцы с серебряными ноготками коснулись пальцев Брона.
— А если такого случаем и задержат, — говорил хозяин, — то что ему будет? Пять фунтов штрафа. От силы десять. А его бы плеткой, плеткой. Чтоб в другой раз неповадно было.
Барменша досадливо и презрительно повела глазами. Она слегка наклонилась вперед, и в зеркале за стойкой, среди бутылок с пивом, отразилась нижняя половина ее тела. Мысленно Брон обхватил ладонями ее ягодицы. Хозяин, продолжая ворчать, ушел в жилую комнату, и его не стало слышно. Лицо барменши с застывшей сияющей улыбкой придвинулось ближе, и Брон разглядел под слоем пудры морщинки, тонкие волоски, родинку на щеке. Там, где начиналась выпуклость груди, подрагивал огромный золотой медальон.
— Как вас зовут? — спросил Брон.
— Уэнди.
— Теперь я вас угощаю, Уэнди.
— Ладно.
— И сам еще выпью с вами.
Она отмерила две тройные порции, и Брон положил на стойку фунтовую бумажку. Уэнди оттолкнула деньги, но Брон положил их ей на ладонь и сжал ее пальцы.
— Можно проводить вас домой? — спросил он.
Она покачала головой, искоса взглянула на стеклянную дверь жилой комнаты.
— Я живу здесь.
— Что вы делаете после закрытия?
— Убираюсь до самой ночи. А потом ложусь спать.
С ним, наверно, подумал Брон. Соображая, как быть дальше, он почувствовал, словно в затылке слегка застучало. Он поставил стакан. Только бы таблетки не перестали действовать.
— А как насчет воскресенья?
— Уж не знаю. У вас есть машина?
Она понизила голос почти до шепота. Дверь открылась, и вошли три человека.
— Извините, — сказала Уэнди Брону.
Она подала посетителям три кружки пива и вернулась. Лицо у нее было озабоченное.
— Так как же?
— Это трудновато, — сказала она. — Надо подумать. Я вам дам знать.
— Когда? — спросил он и накрыл рукой ее пальцы.
Щелкнула дверная ручка, и по лицу Уэнди пробежала тревога. Она отдернула руку. В дверях Брон увидел хозяина.
— Уэнди, можно тебя на минутку?
— Иду, мистер Оукс.
Она пододвинула клиентам еще две кружки пива и не спеша направилась к стеклянной двери.
Оукс отступил к себе в комнату. Он был без пиджака, рукава рубашки засучены. Кулаки сжаты.
— Ну вот что, — сказал он. — Ты брось свои забавы, я ведь все видел.
— Не знаю, о чем это вы.
— Я видел, как этот парень мял тебе ручки. Я видел, как он с тобой заигрывает.
— Что-то не заметила, чтоб он заигрывал.
— Он много себе позволяет. Давай выставляй его.
— Сам выставляй.
— И выставлю, черт подери, — сказал Оукс. Выпятил грудь, шагнул два раза к двери и остановился.
Он повернул назад, и Уэнди рассмеялась. Оукс замахнулся, готовый влепить ей пощечину.
— Полегче, — сказала она. — И если хочешь скандалить, прикрой дверь.
— Вечно тут кто-то околачивается. Вечно кто-то тебя обхаживает.
— Ну и что, это полезно для дела, скажешь нет?
— Шлюха!
— Не ругайся, — сказала она. — А то ведь я терпеть не стану.
— Неужто ты ни капельки себя не уважаешь? — Теперь хозяин чуть не хныкал. — Почему я должен все время тебя учить, как себя вести?
— А это вовсе и не твоя забота. Я человек вольный. Ты мне не муж. Что хочу, то и делаю.
— Не знаю, что бы я с тобой сделал, будь я твоим мужем. Богом клянусь, не знаю. Я бы за себя не отвечал.
— Ты и так за себя не отвечаешь. Ты как большой младенец, а не взрослый мужчина.
— А вот я знаю, что я вскорости сделаю. Я тебе скажу.
— Ничего ты не сделаешь. И вот что: если ты еще раз подымешь на меня руку, я от тебя уйду. Возьму и уйду и уж больше не вернусь.
Она пошла в бар, а он поплелся за нею, встревоженный, готовый умолять о прощении. Но от этого только стало хуже.
Брон нашел союзника и советчика в лице маленького фермера, которого тот верзила сбил с ног и который теперь отважился вернуться назад. Он сообщил Брону по секрету немало интересного.
— Ну прямо кино! Ревнует и глаз с нее не спускает. И так каждый божий день. Наши ребята нарочно начинают ухлестывать за ней, чтоб он завелся. Мы прямо лопаемся со смеху.
— Но если она ему не жена, чего ради она терпит?
— Она хочет выйти за него и в конце концов выйдет. У него тугая мошна. Он у нас богач. Половину доходов с нашего кино получает. Свой дом, то да се…
— Значит, на нее надежды мало.
— Ну, не знаю. Не сказал бы. Все на свете возможно, всяко бывало. Он, случается, уезжает по делам. Не может же он ее на цепь посадить, верно?
— Да, на цепь ее не посадишь.
— Ей надо вести себя поосторожнее, но была бы охота, а возможность найдется.
Брон отодвинулся подальше от фермеров, чтобы поймать взгляд Уэнди, когда она снова появилась за стойкой.
— Значит, в воскресенье? — шепнул он.
Она улыбнулась и пожала плечами.
— Куда же он девался? — недоумевала Кэти.
Она еще не сняла ни пальто, ядовито-зеленый мохнатый балахон, усеянный тысячью мелких капелек, осевших на ворсинках, ни платочка, защищавшего от дождя тугие завитки — только сегодня она побывала у парикмахера.
— Он пошел прогуляться, голубка. Не понимаю, где он мог задержаться. Оставил записку, что скоро вернется. Наверно, не надо было мне уходить. Но я боялся, что река опять разольется.
Ивен помог жене снять пальто.
— Ты, наверно, очень устала, — сказал он. — Посиди отдохни, а я приготовлю чай.
— Нет, все-таки сперва нужно немножко прибраться, — ответила Кэти. — Половики в такую погоду ужас как пачкаются. А как же наше молитвенное собрание?
— Боюсь, придется не пойти. Я позвоню мистеру Боуэну и объясню. Не обязательно рассказывать все подробности. Наши друзья и так нас поймут, я уверен. Главное — не пропустить завтрашней службы: это ведь самый важный день празднества.
— Да, — согласилась Кэти. — Пропускать никак нельзя. А какой он, твой брат?
— Ты хочешь сказать — с виду? Не думаю, чтоб он произвел на тебя уж очень хорошее впечатление. Оно и не удивительно, ведь у него такая несчастная жизнь. А вообще я сказал бы, он довольно спокойный и сдержанный. В особенности по сравнению с тем, что было. Я его не видел пять лет и, откровенно говоря, не ожидал, что он будет так держаться. В глубине души у меня такое чувство, что он стал другим человеком. Может, дошли наши молитвы.
— Может, и правда дошли, — сказала Кэти. — Мы ведь всегда за него молились.
— Неисповедимы пути наших молитв, — произнес Ивен.
— Он будет жить у нас?
— Я изо всех сил постараюсь его уговорить.
— А что мы скажем нашим друзьям?
— О том, что он сидел в тюрьме? Если уж зайдет разговор, надо сказать правду.
— Да, — согласилась Кэти, — иначе нельзя.
Он ласково потрепал ее по плечу.
— Куда мы его поместим, в заднюю комнату?
— Пожалуй, — сказал Ивен, — но, может, мы пойдем на маленькую жертву и сами переберемся туда? Ты не будешь против, голубка?
— Конечно, нет.
— В задней комнате непременно нужно все заново покрасить. Как только будут деньги, первым делом этим займемся.
— Из нашей спальни вид куда лучше, — сказала Кэти. — Пойду-ка сменю постель и выну вещи из шкафа. — Она поднялась.
— Подожди, голубка моя, надо бы еще кое-что обсудить, пока мы одни.
Кэти снова села, выжидательно глядя на мужа. К иным важным для себя решениям Ивен порою приходил лишь после внутренней борьбы. Кэти уже научилась угадывать ее по тому, как ходили желваки на щеке, возле рта, — вот как сейчас.
Ивен сказал:
— Я все думаю о Броне — и не только сегодня, когда я его снова увидел, а уже несколько месяцев. Ты, может, и не замечала, но нередко у меня бывало тяжко на душе и я себя корил. Я вижу в его приезде руку провидения. Откровенно тебе признаюсь: меня мучит совесть за то, как я поступил с родным братом. В трудный час я от него отвернулся.
— А что ты мог сделать? — возразила Кэти.
— Да помочь-то, пожалуй, ничем не мог, но надо было поддерживать с ним связь, пока он сидел в тюрьме, убедить его, что я все еще в него верю. А я его бросил в беде, и сейчас для меня его приезд — ниспосланная небом возможность любой ценой искупить свою трусость и небрежение.
— Делай все, что считаешь нужным, дорогой.
— Мне всегда придает силы сознание, что ты меня поддерживаешь, — сказал Ивен. — Я счастливый человек. — Он взял ее руку и крепко сжал. — Меня, по правде говоря, больше всего беспокоит неприятная история с завещанием матери. Гриффитс уже успел рассказать Брону. Ох, до чего досадно, что ему пришлось узнать обо всем от этого порочного старика!
— Ты ни в чем не виноват, — сказала Кэти. — Твоя мать сделала, что хотела. Ты ведь не пытался ни уговорить ее, ни отговорить.
— В том-то и беда. Не пытался, хотя долг христианина обязывал меня повлиять на нее. Когда мать вычеркнула Брона из завещания и сказала мне об этом, я должен был убедить ее, что она не права, а я не стал убеждать. Я не имел права допускать, чтобы она так поступила. И я должен сделать все, что только в моих силах, чтобы исправить эту несправедливость, — ты согласна?
— Согласна, — сказала Кэти. — Я тебя знаю: иначе ты не успокоишься.
— Я надумал, — продолжал Ивен, — предложить Брону стать моим совладельцем. Это все равно что отдать ему половину всего имущества, но, по-моему, дать ему меньшую долю было бы нехорошо.
— Значит, так и делай, милый, — сказала Кэти.
Ее не особенно удивил столь крутой поворот событий. Став женой Ивена, она быстро усвоила покорный тон смиренницы, ибо это входило в условия игры, которую она вела с жизнью. Кэти обладала тихой и неприметной стойкостью — эта главная сила всей ее семьи досталась ей по наследству от канувших в вечность поколений рудокопов, которые научились безропотно строить свое существование на самой малой крупице надежды. Она сознавала маленькие преимущества надежной жизни при муже и спокойно заслонялась ими от физического и душевного одиночества. Этот стоицизм давался ей безо всяких усилий, как без усилий давался он и ее сестре Линде, которая вышла в Кардиффе замуж за студента-иранца, уехала с ним в горы Хорасана и только раз мимоходом обмолвилась в письме, что ходит теперь в чадре. Что бы ни поднесла им жизнь — молитвенные собрания или паранджу в иранской деревушке, — сестрам Томас было решительно все равно. Они строили упрощенный вариант счастья из любых кирпичей, какие удастся отыскать.
Брон пришел только без четверти одиннадцать; Ивен ждал его, терзаясь недобрыми предчувствиями.
— Извини, — сказал Брон. — Я немножко загулял. Заглянул в «Привет» выпить пива, заговорился, ну и пошло.
От него пахло спиртным, но больше ничто не подтверждало опасений Ивена. Ничто не напоминало о подавленности и приступах ярости, нападавших на Брона в годы, когда он начинал взрослеть.
— Мы уж беспокоились, не случилось ли чего, — сказал Ивен. — Я уговорил Кэти лечь спать. Она пробыла целый день в городе и порядком устала. Она просила тебя извинить ее. Ну ладно, садись ужинать. Правда, ужин не бог весть какой. Холодное мясо и маринованные огурцы. Можем поговорить, пока ты ешь.
Брон сел за стол, Ивен пододвинул стул и уселся напротив.
— Говорят, при новом хозяине «Привет» стал уютным местечком. Ты, наверно, встретил там кое-кого из моих соседей. Я-то сам редко бываю в пивных.
— Там два битника начали хулиганить. Но в конце концов утихомирились и ушли.
— Наверно, молодежь из кемпинга. Это становится сущим бедствием. Говорят, в Бринароне девушке опасно одной выйти на улицу.
— Как твои овцы? — спросил Брон. Ивену на мгновенье показалось, что в голосе брата прозвучала насмешка. Но он отмахнулся от этой мысли.
— Оказалось, все в полном порядке. Зря я только промок. Когда луга начинает затоплять, у них обычно хватает соображения перебраться повыше. Иногда я думаю, может, мы недооцениваем овечий ум?
— Наверняка, — ответил Брон.
Ивен опять испытующе взглянул на него, но Брон смотрел в тарелку, и лицо его было непроницаемо.
— Они полагаются на самую умную овцу в стаде и следуют за ней, — сказал Ивен, — но, помнится, и люди склонны к тому же. — Это была его любимая тема; малейшее поощрение со стороны Брона — и он пустился бы философствовать о неразумии рода людского по сравнению с мудростью животного мира.
Брон собирался поддержать этот разговор, но вдруг с ним произошло нечто странное и тревожное. Ивен налил в стакан воды и поставил перед ним; Брон протянул руку, хотел взять стакан, и оказалось, пальцы его хватают пустоту. Его кольнул страх, и неведомо почему вспомнилось, как он однажды загляделся на электрический вентилятор и ему почудилось, что тот вдруг остановился. Согнув пальцы, он осторожно завел руку за стакан, обхватил его сзади и поднял, потом заставил себя взглянуть на Ивена — заметил ли он?
Ивен сказал:
— Брон, мальчик мой, я отослал Кэти спать еще и по другой причине. Я хочу с тобой поговорить спокойно, а ведь даже лучшие из женщин, по-моему, бывают лишними, когда мужчины хотят потолковать о делах. Я тебе скажу без обиняков. Как ты смотришь на то, чтобы жить с нами и стать совладельцем фермы?
Брон положил нож и вилку.
— Больше всего на свете я хотел бы остаться у тебя, Ивен; честно говоря, я надеялся, что ты это предложишь, но о том, чтобы стать совладельцем, не может быть и речи. Мне нечего вложить в хозяйство… У меня только и есть, что на мне. Если я останусь, я отработаю свой хлеб. Не очень-то я смыслю в сельском хозяйстве, но, думаю, кое-чему научусь.
— Постой, ты меня не так понял. Какие могут быть вклады! Я же прекрасно понимаю, что вложить тебе нечего — разве что молодость и усердие. Мы с Кэти, дожидаясь тебя, все обсудили. Не такое уж завидное предприятие эта ферма, но какая ни есть, а половина по праву твоя, так мы с Кэти считаем.
В первую минуту Брон изумился, не поверил своим ушам, но это быстро прошло. Всерьез ли говорит Ивен? Да, конечно. По натуре медлительный, осторожный и ограниченный, Ивен способен на неожиданные широкие жесты и отчаянные поступки. Так получилось у него с доктором Гриффитсом. Никак не удавалось отделаться от этого человека, и тогда Ивен преспокойно распродал имущество и уехал в чужие места.
— Брон, ведь тут и моя корысть. Не стану сейчас объяснять подробно, но мне твоя помощь нужна не меньше, чем моя — тебе. Если станем работать вдвоем, в одной упряжке, на этой земле можно сделать чудеса. Я все это время управляюсь один, и мы только-только сводим концы с концами. А если наляжем вместе да лет пять как следует поработаем, лучше нашей фермы не будет во всей округе.
— Беда в том, — сказал Брон, — что ты веришь в меня больше, чем я сам. Как ни странно, последние пять лет я жил, как в вате. Тюрьма лишает человека права на самостоятельность. Там не приходится ничего решать — только знай соблюдай правила. Там все за тебя уже обдумано. И я не знаю, на что я годен, и надолго ли меня хватит, и сумею ли я работать по-настоящему. Я боюсь тебя подвести.
— Знаю, но я готов рискнуть, — ответил Ивен.
Он поступил правильно. Жизнь, поглощенная умозрительной верой, заполненная механической рутиной благочестия, наконец-то заставила его пройти испытание делом. Он ликовал, не веря такому счастью, точно бесталанный ученик, все же кое-как сдавший экзамен, хоть нисколько на это не надеялся.
Утром во время завтрака Брон почувствовал за столом некоторую натянутость: разговор не клеился, колеблясь между усердной сердечностью Ивена и сдержанностью Кэти. Иногда, прерывая беспокойное молчание, она принималась ухаживать за ним с суетливым участием и подчеркнутой заботливостью, какой люди из лучших побуждений всегда обременяют человека, вышедшего из тюрьмы. Для нее он был страдальцем, перенесшим тяжкие лишения.
После всего, что Брон слышал о Кэти, его поразила ее заурядность. Пожалуй, можно бы сказать, что она недурна собой, но это был местный тип красоты, которая никого не заставит обернуться на улице. Такие рыжеватенькие женщины-малютки с неприметным лицом, голосом, манерой держаться — не редкость в этих заболоченных, богом забытых долинах, думал Брон; они, должно быть, ведут свой род от древних кельтских племен, чья кровь не иссякла лишь потому, что они обладали даром жить незаметно и молча, терпеть без ропота и бунтарства, какой бы гнет веками их ни давил. А Ивен, казалось, не мог оторвать от нее глаз. Он был с ней необычайно предупредителен и нежен.
Ивен резал соленую грудинку и восторженно, без умолку болтал. Они вдвоем впрягутся в работу, купят заброшенное горное пастбище, разберут полуразрушенные строения уже не существующих горнопромышленных компаний, расчистят землю от папоротника и заведут черномордых овец. Овцы будут плодиться и размножаться с благословения господня, как стада израильтян, а получив доходы, Ивен с Броном осушат луга и болота в нижней части долины и укротят губительную силу реки. Можно будет вовлечь в праведную борьбу с природой заводских рабочих из Кросс-Хэндса, ведь бедняги, как правило, работают всего лишь полдня, — и тогда голые, бесплодные вершины холмов покроются зелеными всходами. Ивен иногда приостанавливал поток своих грез, чтобы получить от Кэти улыбку и одобрительный кивок, и Кэти не заставляла его ждать.
Слушая его с нарастающей отчужденностью, Брон понял, что сила Ивена — в его восторженности. Он выглядит почти стариком. Он изможден. Но это только с виду. Он как древний вулкан, в глубине которого еще клокочет огонь. О, жить с огнем в душе! Брон боялся, что в нем самом нет никакого огня и всю жизнь его силы подтачивала какая-то страшная отрешенность. И в ту же секунду у него появилось ощущение, будто он оказался вне происходящего. Он отделился от своего тела, наблюдает со стороны за своими движениями, издали слышит свой голос. Он стал бесплотным духом, и Кэти стала духом, и Ивен тоже. Три духа за столом — дух отрешенный, дух беспокойно хлопотливый и дух восторженный. Брон приказал руке взять чашку, проследил, как рука поднесла ее ко рту, и отпил кофе. Нёбо слабым сигналом дало ему знать, что кофе сладкий и горячий.
Тело и дух его вновь соединились, а Кэти все хлопотала рядом и улыбалась: «Еще чашечку кофе, Брон. Ешьте, пожалуйста, гренки. Сейчас принесу вам еще ломтик грудинки». С другого бока Ивен тоже настойчиво уговаривал его побольше есть и пить.
— Мы с Кэти вечером пойдем на молитвенное собрание, — сказал Ивен. И успокоительно поднял руку. — Не бойся, мы тебя с собой не зовем. Сегодня предпоследний день праздника, и нам неудобно не пойти. Кстати, ты не забыла взять в типографии брошюры, Кэти?
— Какие? «Возложи бремя твое на господа»? С рекламой колбасника Моргана на задней обложке? Нет, не забыла.
— Я думаю, лучше раздать их не перед собранием, а после, как по-твоему?
— Конечно, — согласилась Кэти, — а то потом в суматохе люди их забывают. В прошлую субботу осталось очень много брошюрок.
— Кэти — такой замечательный организатор, — сказал Ивен. — Работает не покладая рук. Это она придумала обратиться к местным лавочникам, чтобы они помещали на наших брошюрках объявления, тем самым они берут на себя часть типографских расходов. Нам повезло: теперь каждый день празднества кто-нибудь финансирует.
5
Гора Пен-Гоф курилась туманами, они струились по склонам во все стороны, будто дым от множества костров. Сквозь туман проглядывали темные, насыщенные дождевой влагой тона — черные, бронзовые, синие, и ниже, где начинались поля, — пронзительно-зеленые, как синтетическая краска. Над всем этим величественно вздымался из тумана отшлифованный купол Пен-Гофа. Ивен, стоя спиной к горе, видел внизу дно долины, где выступившая из берегов полая вода уже впиталась в землю, оставив на ней бледно-желтые разводы, над которыми кружили чайки. До него доносились жиденькие звуки, они вязли в тумане, не пробуждая эха, — церковный колокол отбивал часы, где-то далеко просигналила машина.
Ивен давно уже расчертил нижние склоны на участки более или менее правильной геометрической формы, решив расчистить их от папоротника и засеять травой; сейчас он дочищал один такой участок, надеясь поспеть к весеннему севу. Древний папоротниковый покров, медленно лезший вверх по склонам с тех давних времен, когда вырубили леса, был необычайно стойким. Листья можно было уничтожить опрыскиванием, но корневища приходилось выкапывать, пока не поднялась трава, и вот уже три с половиной года Ивен, один или с подручным, медленно пробивался вверх по косогору, отвоевывая не больше двенадцати футов земли в неделю на пространстве в триста шестьдесят ярдов. Эта борьба день за днем приносила малые, но все же заметные глазу успехи, и они доставляли Ивену глубокое удовлетворение.
К десяти часам знобкие облака тумана разорвались в клочья и растаяли, кое-где сквозь тучи пробились робкие, хилые лучи солнца. Взмокший от пота Ивен остановился и расстегнул ворот рубашки. Выпрямляясь, он почувствовал укол боли под ребрами, где-то возле сердца. Наверно, прострел, подумал Ивен, повальная болезнь в этом климате. Он опустил заступ и подождал, пока пройдет колотье в боку. С удовольствием отметил, что дождя, кажется, не будет. Далеко вверху на крохотный лужок, куда еще не добрался папоротник, из низкого облака, зацепившегося за гору, словно клочок ваты, вышла вереница крохотных овец и скрылась в темно-синей тени каменного выступа. Чуть пониже лужка гонялись в воздухе друг за другом черные вороны. Ивен поднял заступ и снова вонзил его в землю.
Чуть погодя он услышал за спиной какой-то звук и оглянулся — сзади стоял Бейнон. С утра он первым делом гнал коров на пастбище, потом приходил сюда расчищать землю. Для Ивена Бейнон был загадкой. У родителей были какие-то нелады, мать его бросила, он жил по родственникам, которые перебрасывали его друг другу и в конце концов заслали на «Новую мельницу»; Ивен принимал в расчет все тяжелые обстоятельства, находя для малого все мыслимые оправдания, но понять его никак не мог. Первые месяцы Бейнон жил у него в доме в задней спаленке, потом, не сказав ни слова, перебрался в лачугу у реки, отплатив Ивену за доброту тем, что все чаще грубил ему или угрюмо молчал. Кэти не раз упрашивала Ивена отослать мальчишку обратно, к тетке. Но Ивену вовсе этого не хотелось, он надеялся, что Бейнон в конце концов уйдет и сам, без предупреждения — просто в один прекрасный день исчезнет.
Бейнон, как обычно, не произнес ни слова, буркнул что-то невнятное, когда Ивен сказал ему «доброе утро», и принялся за работу. Недавно он купил на собственные деньги очень дорогую новую лопату из вольфрамовой стали, острую, как нож, скорее оружие, чем сельскохозяйственный инструмент, думал Ивен. Он слышал, как лезвие лопаты с ровным свистящим звуком врезалось в толстое корневище, в нос ударял кисловатый запах сока, выступавшего из надрезов. Нынче утром Бейнон работал, можно сказать, яростно. Странно, несмотря на угрюмость и замкнутость, парнишка, видно, не любил работать в одиночку. Все утро Бейнон торчал у Ивена за спиной, совсем близко, и Ивен слышал, как после каждого удара лопаты Бейнон открытым ртом втягивал воздух. В какую-то минуту за спиной Ивена вдруг наступила тишина, и что-то заставило его обернуться: Бейнон глядел на него, держа лопату как топор.
Ивен знал, что нотариуса можно застать в конторе наверняка не раньше одиннадцати, и к этому времени, оставив Бейнона на горе, спустился туда, где стоял его трактор, и поехал домой. Настроение у него было отличное. Посреди дороги, отделявшей его землю от ближней фермы, он встретил соседа, Хьюги Филлипса, тоже на тракторе.
Высоко на горе Пен-Гоф Филлипс владел треугольным участком земли, который вклинился между землями Ивена и другой, более крупной фермы, принадлежавшей семейству Робертсов, и все считали, что Робертс, единственный фермер на Пен-Гофе, который сумел сколотить немного денег, скоро завладеет разоренным хозяйством Филлипса. Но Робертс и его жена пропали без вести — по слухам, были убиты племянником и закопаны где-то на их же земле. И теперь, когда конкуренция Робертсов, видимо, отпала, для Ивена было самое время действовать.
— Мне думается, мы с вами в конце концов столкуемся насчет той земли на Пен-Гофе.
— Так и знал, что, если подожду, вы это предложите, — сказал Филлипс.
— Сейчас не могу сказать точно, но, пожалуй, на той неделе я к вам загляну.
— Когда хотите. Спешить некуда. Когда хотите. — Филлипс был человек набожный, прихожанин Морайеской церкви, надеялся когда-нибудь подняться ступенькой выше — в число прихожан церкви Хебронской — и теперь обрадовался, что, может, его земля достанется Ивену, а не тому язычнику Робертсу.
Кэти спускалась по лестнице: она только что протерла в передней спальне оконные стекла и вымыла рамы. Множество мелких дел, которые она находила себе на ферме, мешали поддерживать в доме такой порядок, как ей хотелось бы.
— Звонил какой-то Дженкинс. Сказал, что он управляющий гаражом «Пенфолд моторе» в Бринароне. Велел передать, что, кажется, нашел машину, какую ты ищешь.
— Первый раз слышу, что я ищу машину. Хотя, может, я и сказал этому Дженкинсу, что рано или поздно придется мне сменить «остин».
— Уж не знаю, но он нашел машину и считает, что она тебе подойдет, и он предложил, чтобы Брон оставил «остин» у них, а новую пригнал бы показать тебе.
— Минутку, дорогая. При чем тут Брон?
— Он заехал в гараж заправиться, и там его увидел мистер Дженкинс.
— Что же ты ему сказала?
— А что я могла сказать? Сказала, что хорошо.
Кэти поднялась наверх и принесла мужу домашние туфли.
— Зря они тратят время, и свое и чужое, — сказал Ивен. — На все что угодно пойдут, лишь бы продать свой товар. А что хоть за машина, он не сказал?
— Какой-то «ягуар», — ответила Кэти. — Лимузин.
— Боже милостивый!
— Он говорит, машина не новая, но была у хорошего хозяина и в прекрасном состоянии.
— Надо бы позвонить ему и сказать, что у меня и в мыслях не было покупать машину. Давно он звонил?
— Полчаса назад. Может, больше. Брона ты, наверно, уже не застанешь.
— Он поедет на этой машине прямо сюда?
— Он хотел кое-что купить себе в городе.
После завтрака Ивен посоветовал Брону купить себе в Бринароне костюм и рубашку и дал ему тридцать фунтов. «Нельзя показываться на люди в таком виде. Можешь считать, что это взаймы. Отдашь, когда мы с тобой заработаем».
— Брон тоже звонил, — сказала Кэти. Замялась, потом прибавила: — Он как-то странно разговаривал.
— Странно? Почему?
— Голос у него был какой-то сиплый. Невнятный.
— Может, это телефон.
— Мистера Дженкинса было хорошо слышно. Как ты думаешь, Брон не мог напиться?
— Ну, вряд ли. Да еще с утра.
— Должно быть, мне показалось, — сказала Кэти.
— Будем надеяться, что так, милая. — Его вдруг пронзила тревожная мысль. — Я вспомнил, ведь у него же, наверно, нет водительских прав! Это я виноват. Совсем выскочило из головы.
— Ну, полиция не станет придираться, если он съездит только в Бринарон и обратно.
— Не говоря ни о чем другом, он ведь нарушает закон. Ну как же это Дженкинс упустил, не проверил, есть ли у Брона права! Вот так оно и делается. Лишь бы продать!
Нотариусу Ивен дозвонился со второго раза.
— Я хотел бы, чтобы это было изложено как можно проще. Обыкновенное товарищество на равных началах. Ну, вы сами знаете. Скот, инвентарь и земля. Можете пометить завтрашним числом, а я к вам утром загляну и заберу документ.
— Пожалуй, с утра я больше на гору не пойду, — сказал он Кэти. — Сейчас не стоит. До обеда у меня хватит дела в коровниках.
Прождав Брона до половины третьего, они сели наконец за стол.
— Ума не приложу, что его так задержало, — сказал Ивен. — Считай, по полчаса туда и обратно, и за час он мог купить все, что нужно. Значит, от силы два часа.
Он снова и снова пытался дозвониться в «Пенфолд моторе», но номер был накрепко занят.
В три часа он собрался было опять на гору, как вдруг зазвонил телефон.
— Мистер Оуэн, это Дженкинс из «Пенфолд моторе». Простите, пожалуйста, за беспокойство. Я только хотел узнать, решили вы насчет машины?
— Мистер Дженкинс, прежде всего, машина мне не нужна. Ни эта, ни любая другая. Я никак не мог вам дозвониться, но дело в том, что ни машины, ни моего брата до сих пор нет. Ведь он давно должен был приехать, верно?
— По-моему, уже часа два назад, мистер Оуэн.
— В котором часу он взял у вас машину?
— Что-то около одиннадцати.
— Очень странно, — сказал Ивен. — Может, где-нибудь на безлюдной дороге у него кончился бензин?
— Это бывает, сэр, но в данном случае вряд ли. В баке было достаточно горючего. Мистер Оуэн, может, вы нам позвоните или попросите брата позвонить, как только что-нибудь узнаете?
— Простите, пока ничем не могу помочь, — ответил Ивен.
Кэти наверху натирала полы.
— Брон словно сквозь землю провалился, — сказал ей Ивен.
— А вдруг он разбился?
— Не знаю. Все может быть. Будем надеяться, что он жив и здоров. Все это так странно. Уже четыре часа, как он взял машину. Даже если бы он угодил в аварию, мы бы уже об этом знали. Не такое уж маленькое движение между Бринароном и Кросс-Хэндсом.
Они молча прождали еще полчаса.
— Надо пойти отнести чего-нибудь Бейнону, — промолвил Ивен. — По-моему, он сегодня еще ничего не ел, разве только захватил с собой хлеба, но это вряд ли.
— Если что-нибудь узнаю, сразу к тебе поднимусь, — сказала Кэти. — Или пришлю Брона.
Бейнон даже не поднял глаз на подошедшего Ивена. Все это время он, видно, работал без передышки — расчищенной земли оказалось куда больше, чем ожидал Ивен.
— Ты уж прости, я задержался внизу. Ел ты что-нибудь? — спросил Ивен.
— Нет.
— Я принес хлеба с ветчиной.
Бейнон не ответил.
— Я говорю, я тебе принес хлеба с ветчиной.
— Не стану я есть.
— Почему?
— Я не голодный. У меня еда в горле застревает.
— Этак ты долго не протянешь. Ведь силы-то тратишь. Ладно, собирайся да иди, пора пригонять скотину.
Бейнон поднял свою лопату, тщательно обтер ее и, вскинув на плечо, ушел, а Ивен принялся копать. Работа шла туго. Подавленное настроение и смутные тяжелые предчувствия словно сковали все тело. С приближением сумерек краски вокруг блекли и сливались в тусклую мертвенную зелень. По краю набухшего неба, смазывая очертания холмов, густели тучи, а на западе уже повисла пелена дождя. В болотах и вересковых пустошах зазвучали унылые голоса кроншнепов и травников — извечные спутники одиночества. Земля Филлипса на серых склонах Пен-Гофа, которая только утром была почти у Ивена в руках, сейчас казалась недоступной, как луна. В семь часов, сделав очень мало, он вернулся на ферму.
— Что слышно?
— Пока ничего, милый, — ответила Кэти.
— По-моему, нужно заявить в полицию, — сказал Ивен. — Может, случилось что-то серьезное.
Дежурный сержант в Бринароне только и мог сообщить им, что «Пенфолд моторе» заявил о пропаже машины. Он стал расспрашивать Ивена о приметах Брона. Ивен слышал, как он отстукивал ответы на машинке.
— А вообще-то ваш брат человек надежный?
— Безусловно.
— Значит, так: мы разошлем эти сведения по другим полицейским участкам в нашем районе и попросим смотреть в оба. А если ваш брат объявится, вы нам, само собой, сообщите.
Ивен и Кэти сидели за столом друг против друга, даже не помышляя об ужине; они выпили кофе, достали карты и рассеянно сыграли три партии в рамми, потом Кэти перелистывала старые журналы, а Ивен взялся было за какую-то столярную поделку в кухне, но скоро бросил.
В четверть двенадцатого на дороге послышался шум мотора, лучи фар расплющились об оконные стекла и скользнули в сторону — машина свернула к калитке и остановилась. Ивен подошел к окну и увидел краешек голубовато светящегося щитка полицейской машины.
— Полиция приехала, — сказал он Кэти. — Иди лучше спать, милая.
Полисменов было двое: тихий и вежливый констебль Джонс, который улыбнулся Ивену похоронной улыбкой, а потом все время старался держаться как можно незаметнее, и сержант Хэнкин из полицейского управления Суонси. С ними приехал Брон. На нем был все тот же нескладный тюремный костюм, и какая-то тяжесть вдруг набухла у Ивена в груди и стала давить на легкие и на желудок, когда он увидел слишком знакомую улыбку, которая — он знал — не выражала никаких чувств.
Хэнкин был сдержан и непроницаем — настоящий полисмен, лицо, вылепленное профессией, казалось безглазым, пока он, войдя в дом, не снял низко надвинутой фуражки.
— Этот джентльмен утверждает, что он ваш брат, мистер Оуэн.
— Да, он мой брат, — сказал Ивен.
— Констебль Джонс, живущий в этих местах много лет, его не знает, поэтому мы были обязаны проверить.
— Брат долго был в отъезде, — сказал Ивен. — Он вернулся только вчера.
— Насколько я понимаю, вы владелец машины марки «остин» номер ДОП-377?
— Да…
— Ваш брат воспользовался машиной с вашего разрешения?
— Да, — сказал Ивен. — Вернее, он хотел поехать в Бринарон за покупками, и я сказал, чтобы он взял машину.
— Вам было известно, что он не имеет водительских прав?
— Вот об этом я не подумал. Как-то не пришло в голову. Я уверен, что и брат об этом позабыл.
— Ясно, сэр. И надо полагать, машина «остин» была оставлена вашим братом в бринаронском гараже фирмы «Пенфолд моторе» в счет уплаты за другой автомобиль тоже с вашего ведома?
— Вообще-то тут вышло недоразумение. Там, как видно, по ошибке решили, будто я хочу купить машину. У нас и речи не было о том, чтобы оставить мою машину в счет уплаты. Разве ты что-нибудь говорил про это мистеру Дженкинсу, Брон?
Брон все с той же бессмысленной улыбкой покачал головой. Он сидел на стуле очень прямо, свесив руки, и разглядывал пространство между Ивеном и констеблем Джонсом.
— Очень странно, что такая солидная фирма делает подобные ошибки, — заметил Хэнкин.
— Простите, — сказал Ивен. — Вы, кажется, сказали, что вы из Суонси, да? Значит, вас зачем-то специально вызвали?
— Автомобиль, о котором идет речь, был найден сегодня под вечер моими сотрудниками на одной из улиц Суонси, — ответил Хэнкин.
— Почему в Суонси, Брон? — спросил Ивен.
Брон только шевельнул губами и опять мотнул головой.
— Вероятно, по ходу следствия нам еще раз придется побеседовать с мистером Оуэном, — сказал Хэнкин. — Это его постоянный адрес?
— Да, да. Теперь он будет жить здесь.
— Полагаю, мы можем быть в этом уверены?
— Безусловно.
— Прекрасно, сэр. Должен сказать, что у нас могут возникнуть и другие обвинения, кроме обвинения в вождении автомобиля без водительских прав, что противоречит Постановлению о движении на дорогах от 1960 года, вследствие чего мы обязаны знать местонахождение мистера Оуэна, на случай если он нам понадобится.
— Скажите, пожалуйста, а что это могут быть за обвинения, если они возникнут?
Хэнкин сделал знак констеблю Джонсу и, направляясь к двери, покачал головой.
— К сожалению, ничего больше сказать не могу. Сейчас ведется следствие. Возможно, завтра или послезавтра вас вызовут в управление, а возможно, и нет. Больше ничего сказать не могу.
— Да что же такое стряслось, Брон?
Ивен знал, теперь последует то, что в прошлые времена повторялось без конца: он услышит безупречную полуправду. Всем поступкам найдутся разумные объяснения, изложенные кротко, рассеянно, ровным голосом.
— Так что же стряслось?
— Видишь ли, дело было так. Я заехал к Пенфолду заправиться, и там мне сказали, что ты, наверно, заинтересуешься этой машиной.
— Разве ты не должен был пригнать ее прямо сюда?
— Мне сказали: можете ездить, сколько хотите.
— Но что тебе вздумалось ехать в Суонси?
— В магазине Бэртона не нашлось подходящего костюма. Мне посоветовали заехать в их отделение в Суонси.
— Долго же они тебя там продержали, Брон.
— Пришлось укорачивать брюки.
— С утра до ночи укорачивать пару брюк! Разве они и вечерами работают?
— Мне сказали, что это займет часа два. Я пошел в кино, чтобы убить время, и нечаянно заснул. Когда я вышел из кино, магазины были уже закрыты.
— Значит, ты так и не получил костюма?
— Нет, было слишком поздно. Девятый час. Уже темнело. Они, наверно, пришлют его по почте.
— А откуда взялась полиция? Что за разговор о каких-то там еще обвинениях?
— Кто-то налетел на машину. Я оставил ее на улице возле кино, и ее помяли.
— А стоянка там не запрещена? Может, в этом все дело?
— По-моему, констебль подумал, что я пьян. Меня отвели в участок. И там сделали какую-то проверку.
— Но ты хорошо себя чувствуешь, Брон? Может, опять прежнее начинается?
Брон отрицательно покачал головой — лицо без всякого выражения, пустой взгляд, бессмысленная улыбка, губы еле шевелятся, послушно, словно по внушению гипнотизера, отвечая на вопросы.
— Наверно, я угорел от бензина. Мне хотелось спать. В машине все время пахло бензиновым перегаром.
Возможно, будут и другие обвинения. Возможно, будут и другие обвинения. Эти слова гулко отдавались в голове Ивена. Нужно знать все, пусть даже самое худшее. Любая неприятность лучше, чем тревожное ожидание и бессонная ночь.
— Надо будет мне самому завтра с утра съездить в Бринарон и поговорить с полицейским инспектором. Пожалуй, это будет полезно. Во всяком случае, не повредит.
Чтобы успеть на первый автобус до Бринарона, Ивен вышел из дому в половине восьмого. Брон еще не показывался.
Кэти пошла проводить мужа до калитки. Ивен сказал:
— Я все продумал и уверен: ничего плохого не будет. Сказать по правде, я порядком струхнул вчера, когда пробило десять, а от Брона ни слуху ни духу, но теперь-то понятно, почему так вышло. Будь это не Брон, а кто другой, я бы вовсе не беспокоился, хотя, если вдуматься, не очень-то хорошо это по отношению к нему. — Ивен очень старался уверить себя, что все кончится благополучно.
Кэти с ним согласилась.
Ивен заехал в гараж Пенфолда за своим «остином», и Дженкинс повел его в мастерские поглядеть на «ягуар».
— Шестьдесят фунтов будет стоить привести его в порядок, — сказал Дженкинс. — Кому послать счет, вам или вашему брату?
Ивен осмотрел помятое переднее крыло и глубокие царапины во всю длину машины, прямые и параллельные, как трамвайные рельсы.
— Она что, не застрахована?
— Страховка действительна, только если у водителя есть права, — сказал Дженкинс. — В других случаях компания не несет ответственности.
— Но ведь вы даже не потрудились узнать, есть ли у водителя права! Разве вы не обязаны были проверить?
— В нашей фирме, сэр, верят людям на слово. Быть может, и напрасно. Но нам кажется, что неловко требовать, чтобы клиент предъявил права, если он сказал, что они у него есть.
— Вы что же, полагаете, что мой брат умышленно вам солгал?
— Я ничего не полагаю. Я просто говорю: он сказал мне, что права у него есть, и я поверил ему на слово.
Разговор с инспектором Фенном также не принес Ивену ничего утешительного.
Он попал к нему в дурную минуту. Утром в местной газете опять появилась передовица о нераскрытых преступлениях, за нею последовал весьма неприятный звонок начальника окружной полиции. Ночью на фасаде участка появилось крупно выведенное дегтем похабное слово, а с первой же почтой пришло анонимное письмо о том, что один из подчиненных Фенна берет взятки. И это было вполне вероятно.
В это утро Фенн испытывал к Уэльсу и валлийцам еще менее теплые чувства, чем когда-либо.
— Право, не понимаю, чего ради вы ко мне явились, — сказал он Ивену.
— Я думал, может, еще можно поправить дело или по крайней мере разобраться…
— Поправить дело? Ничего не понимаю. Как это — поправить?
Ивен нервничал в этой обстановке, ему было трудно собраться с мыслями и высказаться яснее. Его угнетали покореженные судьбою лица трех разыскиваемых преступников, которые мрачно глядели на него с объявлений на стене за спиною Фенна.
— У нас тут жителей немного, все друг с другом связаны… Желательно бы как-то умерить усердие очень молодого констебля. Может, это и похвально… — сбивчиво заговорил Ивен.
— Никак не возьму в толк, что вы хотите сказать.
И снова у Фенна появилось такое чувство, будто перед ним азиат. На аденском базаре был меняла с оливковой кожей, он и разговаривал и держался в точности как этот человек, даже выговор у него был такой же. Потерявшиеся племена? А почему бы и нет? Кожа не могла не посветлеть немного за две-три тысячи лет. «Мистер Фенн, на золотые соверены королевы Виктории у нас большой спрос, потому что у них цвет гуще. Мы с удовольствием возьмем у вас любое количество по вышеупомянутой цене». Восточный человек. Валлиец из Адена, одной ногой стоящий в их лагере, другой — в нашем, туземец, который возводит к небу глаза и простирает ладони, а сам свято верит в людскую продажность.
— Молодой и неопытный констебль, — умоляюще продолжал Ивен, — можно сказать, вчерашний подросток, видит поврежденную и, похоже, брошенную машину и с ходу делает выводы.
У таких вот крестьян порой хватало наглости пробраться сюда и, в расчете совратить правосудие с пути истинного, из-под полы предложить ему — инспектору с семилетним стажем, получавшему одни только благодарности от столичной полиции, — дары: например, четырнадцать фунтов ярко-желтого масла, или кусок солонины, или даже курочку-несушку в проволочной корзинке. «Уж не откажите замолвить словечко где надо, мистер Фенн. Может, есть какая возможность, чтоб помягче отнеслись…»
— Мистер Оуэн, поймите раз и навсегда: я не имею никакого влияния на полицию Суонси, но, если б даже имел, мне и в голову бы не пришло воспользоваться этим.
— Мой брат прекрасно водит машину и ездит очень осторожно.
— Тем не менее вчера вечером в Суонси, незадолго до того как констебль видел вашего брата на Ривер-стрит, произошло столкновение, и скрывшаяся машина соответствует описанию той, которую вел ваш брат, не имея к тому же водительских прав.
— Это не мог быть Брон, — сказал Ивен.
— Да? Почему?
— Потому что он с обеда до самого вечера просидел в кино.
— Так он вам сказал?
— Да.
— И вы ему верите?
— Конечно, верю, инспектор.
Фенна охватила бешеная злость. Пусть бы его разжаловали в сержанты, только бы перевели подальше отсюда! С одной стороны на него жмут начальник окружной полиции и старший инспектор: «Подавай результаты, а как ты их получишь — не наше дело». С другой стороны — полицейский юрист: «Пожалуйста, можешь пустить на поле бульдозер, раз уж тебе так хочется, но предупреждаю: если ничего не обнаружишь, хозяин подаст на тебя в суд и выиграет дело». Вчера утром ему показали страшное кровавое месиво, завернутое в газеты, — кто-то нашел это в урне для мусора среди парка. «И не надейтесь уличить детоубийцу. Не те времена», — предупредил его полицейский сержант. «Ну так выкиньте это к чертям», — ответил Фенн.
Злость все-таки пробилась сквозь броню его профессиональной сдержанности.
— Признайтесь, вашему брату иногда случается хватить лишнего?
— Никогда. Он спиртного в рот не берет.
— И все-таки вчера вечером, когда констебль заговорил с ним на Ривер-стрит, у него заплетался язык. Он еле на ногах держался.
— Тут что-то не так, — сказал Ивен. — Очень возможно, что брату стало нехорошо, но вы напрасно думаете, что он выпил. Этого быть не может.
— Когда его доставили в участок, он не мог даже сказать, кто он такой.
— Ему было плохо, — сказал Ивен. — Судя по всему, у него был сильный припадок. С ним иногда случаются такие припадки.
— Во-первых, закон запрещает садиться за руль тем, кто по состоянию здоровья не может за себя отвечать, а во-вторых, полицейский врач иного мнения о его состоянии, — возразил Фенн. Но это был чистый блеф. Дело Брона было совсем не таким бесспорным, как хотелось бы полиции. Свидетели описали умчавшуюся после столкновения машину «ягуар», но никто не разглядел ее номера, и едва ли Брона можно было привлечь к ответственности за езду на машине в нетрезвом виде. Штатного полицейского врача в тот вечер не оказалось — он был болен, и, пока разыскали и доставили в участок врача, который мог его заменить, у Брона, точно по волшебству, исчезли все подозрительные симптомы. Этот врач, как сообщили Фенну, весьма набожный прихожанин методистской церкви, не пожелал хоть в чем-то пойти навстречу блюстителям закона. «Я делаю анализы потому, что они теперь в моде и от меня этого требуют, — сказал он. — Но я придаю им меньше значения, чем вы. Возможно, этот человек и был пьян час назад, но сейчас он безусловно не пьян, и мне безразлично, сколько алкоголя я найду у него в крови. Я пьяного и так сумею распознать. В таких случаях толика здравого смысла не помешает».
— Со мной такое тоже случалось: я готов был поклясться, что человек крепко выпил, — сказал Ивен. — А потом оказывалось, что у него сердечный приступ. Все-таки нельзя судить о людях наспех, не разобравшись.
Кое-как Фенну удалось его выпроводить. Но когда Ивен шагнул за порог, Фенн вдруг спохватился:
— Ваш брат сказал нашим людям в Суонси, что он только что приехал из Австралии. Это что, правда?
Ивен остановился, круто повернулся к Фенну.
— Нет, — сказал он. — Это неправда. Очень жаль, что он солгал, но, по-моему, его можно понять.
Нотариус протянул Ивену соглашение.
— Надеюсь, тут все так, как вы хотели. Безо всяких ухищрений. Обычные договоры между партнерами мы составляем иначе. Там нужны твердые гарантии. А тут ведь совсем другое дело, сугубо семейное. Все основано на взаимном доверии. Может быть, вы все-таки поглядите?
Соглашение оказалось очень кратким. Ивен прочел его за две минуты, и первой мыслью, лишь на долю секунды задержавшейся в мозгу, было: да разве я и правда этого хотел?
Он был мрачен; слишком крут оказался поворот событий, разрушивших его вчерашний оптимизм. Множество забот, страх перед тем, что история с помятым «ягуаром» может повлечь за собой кое-что похуже, встреча с инспектором Фенном, точно ледяной душ, — все это, увиденное сквозь огромное выпуклое стекло бессонной ночи, наполнило его отчаянием, а старания оправдать Брона, казалось, исчерпали всю его решимость искупить вину перед братом. Ивен уже готов был верить, что Брон и вправду учинил какую-то бессмысленную дикость, врезался в чью-то машину, кого-то ранил, а может, и убил.
В глубине его памяти снова вспыхнули споры и раздоры, бушевавшие десять-пятнадцать лет назад. Не слыша толком голоса собственной совести, Ивен пассивно поддерживал отца, который непременно хотел поместить Брона в специальную лечебницу, а мать при поддержке доктора Гриффитса, тогда еще кутавшегося в лохмотья порядком изношенной гуманности, сопротивлялась отцу изо всех сил и поставила на своем.
«Есть вещи, которые мы так до конца и не поймем, — часто возглашал Гриффитс. — Ради бога, дайте мальчугану возможность справиться самому».
В доме постоянно возникали споры о природе порока, причем отец был ярым поборником одновременно и свободы воли, и теории врожденной порочности, иначе говоря, первородного греха.
«Порочные люди, — утверждал Гриффитс, — это люди неполноценные, либо получившие мозговую травму при рождении, либо жертвы преступлений, совершенных против них в детстве».
«Возможно, но все равно они порочны».
Ивену слышался голос отца из могилы:
«Он порочный или психически больной. Или и то и другое. Если хочешь, и то и другое».
— У вас есть замечания, мистер Оуэн? — осведомился нотариус.
— Да нет, пожалуй. Все просто и ясно. Если можно, я возьму это с собой и покажу брату — вдруг да мы решим вставить еще что-нибудь. Я вам позвоню через день-два.
Ивен сложил бумагу, сунул в карман. Пожал руку нотариусу и вышел. Пока нотариус из вежливости стоял у приоткрытой двери своей конторы, Ивен спускался со ступенек степенным шагом, потом пустился бегом.
Порочный или психически больной. Если хочешь, и то и другое. Он оставил Кэти во власти сумасшедшего.
6
Брон проснулся словно в коконе отстраненности. Он различал вокруг очертания каких-то лишенных смысла предметов на фоне голых белых стен. Он будто находился среди декораций для кинофильма, ему даже на секунду показалось, что все это застыло на экране. Потом над головой зажужжала муха, звенящая ниточка, разматывающаяся где-то в третьем измерении. На вбитом в стену крючке висела вешалка с темным костюмом, на рукаве дрожал солнечный зайчик. Чей это костюм? Кто его здесь оставил?
Брон не помнил, как он тут очутился, и припоминать не хотелось. Во сне перед ним прошла целая жизнь, полная бесконечных, бессмысленных сложностей и козней судьбы, и все это распалось на разрозненные обрывки, а потом и обрывки утонули во мгле. Что-то случилось, а что — он не помнил и вспоминать не хотел. Прошлого не существует, зато перед ним будущее, оно связано с настоящим. Слияние это неполное, но время развертывается, как ковровая дорожка, и он идет по ней и видит на несколько шагов вперед.
Незнакомая комната перестала быть незнакомой. Он здесь бывал, и не раз. И уже вырисовывался план действий, хотя очередность их прояснялась постепенно, по мере того как он, осознав одно, предугадывал следующее. Сейчас я встану с кровати, я надену этот кем-то забытый костюм, я открою окно и спугну голубей с подоконника, я увижу кошку на низкой стене, огораживающей прудик с зеленой тиной по краям, который наполовину укрыла плакучая ива.
Солнце зашло было за облако, но пробивается сквозь него. Человек с плугом вырезает на выступе горы инициалы и два пронзенных стрелой сердца. В окно потянуло дурным запахом. Этот запах — запах смерти. Он исходит от кошки и не исчезнет, пока не исчезнет кошка.
Я — это я. Мой мир — это мой мир. Вне меня ничего не существует. Я поворачиваю голову, зная, что увижу краснощекую почтальоншу, которая едет по дороге на велосипеде. Она существует только для меня и только потому, что существую я. Мой мир — это человек с плугом, почтальонша, голуби, которые кружат в воздухе, лающая где-то собака, затуманенное солнце, кошка — она разлеглась поверх сухого папоротника на каменном заборе и лижет лапу. И одной лишь кошке я приказываю исчезнуть.
Через мгновение Брон стоял у каменной стены и гладил кошку, зная, что сейчас она поведет головой, как ребенок, которому приятна щекотка. Я нащупаю складки кожи под шерстью, осторожно, чтобы она не испугалась, возьму ее за шиворот и брошу в зеленую тину. Кошка начнет загребать передними лапами, как пловец, протащится несколько дюймов, но задние лапы станут все глубже увязать в тине, зияющей черными провалами там, где расступается ее зеленая поверхность. А теперь я выломаю из стены крупный камень и кину в пруд. Он шлепнется почти рядом с кошкиной мордой, захлестнет ее тиной, и я услышу свистящее дыхание кошки — она ловит ртом воздух и втягивает в легкие вязкий ил. Она только раз всхлипнет, потому что второй камень угодит ей в голову, и рот и ноздри ее уйдут в тину.
И я уже свободен. Я снова дышу чистым воздухом, и улыбаюсь, и машу рукой почтальонше, которая развернула велосипед и катит по дороге обратно. Человек с плугом на склоне горы переделал пронзенные сердца в тигриную голову, и это я тоже знал заранее.
А теперь нужно войти в дом. Я открываю дверь и оказываюсь в комнате с полированным столом, накрытым на одного, меня ждут тарелка, чашка, нож, вилка, судок для уксуса и соли, корзиночка с поджаренным хлебом и четыре штуки тикающих часов. Стрелки на всех часах показывают без пяти десять, хотя несколько секунд назад, когда я взглянул на свои часы, было ровно двенадцать. Я слышу, как наверху открывают кран и в ванну льется вода. Я снова смотрю на свои часы, но теперь на них то же время, что и на тех четырех, и я понимаю почему. Те часы спешат. Их механизмы стрекочут в футлярах, как швейные машины, минутные стрелки так и кружат по циферблатам. Есть только одно средство прекратить это убийство времени, и я беру все часы по очереди, отношу к двери и швыряю их в пруд — туда, где кошка. Что-то заслонило свет в боковом окне, и я вижу: в комнату заглядывает мальчишечье лицо. Я бросаюсь к нему, мальчишка поворачивается и удирает, ноги его мелькают так быстро, что сливаются у меня в глазах; он скрывается из виду под горой, с которой пахарь перед уходом все стер начисто, как с грифельной доски.
Льющаяся наверху вода забулькала в сточной трубе. Меня наверху что-то ждет. Что-то такое, что привело меня сюда. Я всхожу по лестнице и поворачиваю в темный коридор, в конце его низенькая дверь с медной ручкой. Я делаю три шага и знаю: то, зачем я сюда пришел, находится за этой дверью; еще через три шага понимаю: это женщина, а положив руку на медную дверную ручку, уже знаю: женщина будет голая.
Я нажимаю на ручку и вхожу, и тиканье часов в пруду становится медленнее и стихает. Спиной ко мне стоит женщина, у нее очень белое тело, отчетливо видное при свете из окошка, а все остальное в этой маленькой комнате заволакивает туманная мгла. Тело видно до мельчайших подробностей, как на картине, перед которой я долго простаивал в галерее. Женщина сбросила купальный халат на пол и нагнулась, чтобы взять со стула сорочку. Она неподвижна, написанная красками на темном фоне, из-под протянутой руки виднеется одна грудь, пальцы чуть растопырены. Я тоже неподвижен.
Вдруг опять начинают тикать часы, мы оба делаем движение, она круто оборачивается ко мне, я подхожу к ней. Она, чуть присев, пятится к стене, ложбинки ее тела в тени, она прикрывает живот зажатой в руке сорочкой. Мы оба разыгрываем свои роли четко, как много раз репетировавшие актеры, ни одного неверного жеста или движения. Оба молчим, только дышим в лад. Я протягиваю руку, трогаю сорочку, женщина разжимает пальцы, и я сорочку отбираю. Теперь надо взять женщину на руки и положить на кровать. Она будет податлива, я знаю, но эта податливость, которая всегда удивляла меня в прошлом, удивляет и сейчас. Между нами крепнет тайный сговор. На мгновение она сумела вместе со мной увидеть краешек будущего и понимает: то, что должно случиться, уже случилось. Я слышу тихие звуки, но это не протест, и, когда я раздвигаю ее колени, она не пытается их сжать. Каждым движением она следует отработанной схеме неизбежного.
А потом я слышу крик и топот ног, и ее тело разом отрывается от моего. Она стала недоступной, я уже не чувствую ее, она ушла, а я, как и должно было быть, остался, в ушах у меня раздаются крики, хлопают двери. Все уходит с ней, и вот ушло, а я очнулся и ничему не могу поверить. Во рту у меня пересохло, в ушах звон, я лежу на кровати, а за окном сумерки. Это дом моего брата, но я отгорожен тишиной и от брата, и от его жены. Уже вечер. Что же случилось?
Ивен спускался с лестницы, как человек, попавший в крушение, точно у него раздавило все нервные окончания, порвало связки, раздробило кости и перерезало вены и артерии. За секундой беспамятства последовал короткий общий паралич, и вот он беспомощно смотрит на свое вышедшее из повиновения тело, зная только, что он жив. А потом, когда организм снова начинает свою работу, он, прислушиваясь, как где-то внутри вытекает кровь из порванных сосудов, ждет, когда же нахлынет неизбежная боль.
Все вытеснили у него из памяти глаза Кэти, глядевшие на него с кровати за секунду до того, как она метнулась к противоположной двери и заперлась в ванной. И внезапно, как в фильме при быстрой смене кадров, он увидел брошюрку на столе в общей комнате «Возложи твое бремя на господа, и он укрепит тебя». К брошюрке приколота была записка из типографии: «Уважаемый мистер Оуэн, мы глубоко сожалеем о том, что, как мы и полагали, ввиду малого срока Ваш заказ не мог быть набран вестфальской готикой, которой, как Вам известно, у нас нет в наличии. Чтобы не вызвать Вашего неудовольствия задержкой заказа, мы взяли на себя смелость использовать кунабулу, шрифт, наиболее сходный с выбранным Вами, и выражаем надежду, что Вы одобрите наше решение». Словно обрывок нелепого фантастического сна, Ивен вспомнил, как они волновались, что типографу придется заменить один шрифт другим, и это отняло целые сутки той жизни, что сгинула безвозвратно. Он изорвал брошюрку и записку в мелкие кусочки и бросил на пол.
Надвигалась ледниковая эпоха горькой утраты, и еще живые нити нервов, как провода под током, начинали заряжаться страданием. Ему бросился в глаза валявшийся на полу длинный лоскут бумаги, на котором выделялись слова: «…поддержит тебя…» Ивен наступил на него ногой и стал растирать по ковру, пока полоска бумаги не превратилась в грязный ошметок. Он не сейчас только перестал верить этой грубо размалеванной лжи — он ей никогда не верил. Если отбросить притворную благостность, то, когда дело касалось бремени, о котором говорилось в Писании, такие люди, как Ивен, были реалистами. Либо они сами тащили на себе свое бремя, либо оно ломало им хребты. В этих кельтских пустошах земледельцы признавали двух богов, и ни тот, ни другой не имел ничего общего с христианством. Первый был Бог Церковный — что-то вроде провинциального врача-терапевта, клубного распорядителя или даже солдата-красномундирника: одиноким, разобщенным людям он давал поводы собираться вместе, он не разрешал ссориться за картами, на гуляньях и на хоровых спевках. Этот бог уже отживал свое, а в больших городах его, в сущности, и вовсе не стало. Второй бог был воистину вечен — Властелин природы, моровых поветрий и смерти, которого люди страшились в душе испокон веков. Этот бог давал о себе знать действием: молнией, поразившей в укрытии стадо овец и спалившей стога сена, юго-западными ветрами во время весеннего половодья, снегом в апреле и заморозками в разгар лета. Картофельный грибок, плодожорка, воспаление копыт у овец, куриная чума, сап, ящур, чесотка, всякие паразитические черви, выкидыши, рождения уродцев — все это был он.
Этого второго бога, надменно, равнодушно и неприступно стоявшего за спиной у ласкового, улыбчивого maître de cérémonies[9], которому якобы поклонялись валлийские крестьяне, никакими способами нельзя было ни умилостивить, ни разубедить, но Ивен и ему подобные научились искусно бороться с ним его же оружием: они воспитали в себе извращенный вкус к его наказаниям. Они научились искренне любить уродство, любить горести, лишения, тяжкий труд, отречение от плотских радостей. Ни одному фермеру — как бы ни был он, по местным понятиям, богат — не пришло бы в голову просто жить, как живут другие, и пользоваться радостями жизни, ибо высшей радостью для него было хоть в чем-то перехитрить и одолеть бога. Стоит кому-то прослышать, что некое предприятие сулит небывалый успех и может немного облегчить жизнь, и он тотчас же засуетится и вложит все, что успел накопить, в какую-нибудь затею, которая наверняка принесет только нужду, еще более тяжкую борьбу за существование. В своей игре в пятнашки с богом Ивен прежде оставался победителем, потому что ему нечего было терять, и он ничего не просил у жизни. Но, женившись на Кэти, он отбросил щит и латы и стал таким же уязвимым, как самый изнеженный из гедонистов[10]. И вот пришло время богу свести с ним счеты.
Ивен встал. У него было такое ощущение, будто все тело прошил электрический ток, и от этого дрожь — не только в руках и ногах, но и в горле, глазах, во всех внутренностях. Ладони его взмокли и влажно блестели.
Он прошел в кухню, снял и повесил куртку, развязал галстук, расстегнул рубашку и стал мыть под краном руки и лицо. Под ногтями у него чернела торфяная земля «Новой мельницы», и Ивен чистил их щеткой снова и снова, пока не исчезла последняя крупица земли. Полотенце, висевшее у раковины, оказалось грязным; он подошел к бельевому шкафу, нашел чистое и вытерся.
Потом Ивен поднялся в переднюю спальню, открыл шкаф и вынул все, что нужно, чтобы переодеться с ног до головы, — белье, белую рубашку с крахмальным воротником и манжетами, плотный темный воскресный костюм и черный галстук. Он переодевался медленно и тщательно. Аккуратно снял двумя пальцами какие-то приставшие к костюму пушинки. Наконец пришло время надеть черные ботинки, которые он всегда носил с этим костюмом. Ботинки были важнее всего в его одежде. Он заплатил за них в лучшем обувном магазине в Суонси шесть с половиной гиней, и они были единственной роскошью, которую он себе позволил за всю жизнь. Эти старательно начищенные ботинки стояли в шкафу, смазанные особым кремом, с деревянными распорками внутри для сохранения формы, и надевались только в особо торжественных случаях; для Ивена они были тем же, чем для его деда — цилиндр.
Двустволка хранилась в чулане для инструментов; Ивен с его дотошной аккуратностью во всем, что бы он ни делал, еще в прошлом году, после того как ему пришлось стрелять, смазал вазелином все металлические части и убрал ружье в чулан. Тут же на полке лежала стопка тряпок, но, стирая вазелин, Ивен нечаянно посадил на рукав пиджака синеватое пятнышко. Он отложил оружие, принялся счищать пятнышко метиловым спиртом и тер его до тех пор, пока от жирной капли на рукаве не осталось и следа. Потом он зарядил оба ствола дробью и вернулся в общую комнату.
Его ждали там четыре пары глаз, смотревших с фотографий, которые висели в рамках по стенам. На первой по порядку фотографии был снят его отец. У него был смелый и живой взгляд, но за этим только и скрывалась насмешка, печаль да горечь неудачного супружества. Мать, еще молодая, со жгучими глазами, гладким лицом и прямым носиком, глядела на Ивена с каким-то суровым удовлетворением. Центральное место на соседней стене занимала старшая сестра матери, женщина с характерным для 1910 года лицом, по которому не определить, из какого она класса и какой расы, — такие лица были в ту пору и у тевтонок королевского рода, и у дочерей забитых кельтских фермеров. Четвертым членом семьи была сестра, умершая, когда Ивен был еще ребенком, а от чего умерла, в доме умалчивали; она в матросском костюмчике позировала фотографу у подножия рисованной мраморной лестницы, которая была символом высшего великолепия для людей, влезавших по стремянке в темные свои конурки-спальни.
По очереди разглядывая эти фамильные святыни, Ивен сильнее чувствовал свою близость к предкам, чьи никогда не виданные им лица мерещились ему за теми, что на портретах, — лица тысячи пращуров, чья кровь течет в его венах и по чьему подобию были вылеплены лица на фотографиях. Это чувство невозможно было бы сохранить навечно в безжизненных словах символа веры, но оно было подлинно религиозным чувством, Ивен испытал его впервые в жизни. Он почувствовал: родные смотрят на него не с осуждением, а с участием. Тщательная подготовка к тому, что должно произойти, вызвана уважением к ним, понял он — и из уважения к ним повернул каждый портрет лицом к стене.
Потом он выдвинул кресло на середину комнаты и сел лицом к лестнице, положив ружье на колени.
Он не знал, сколько времени длилось ожидание; в какую-то минуту за окном возникло ничего не выражающее лицо Бейнона с отвисшей челюстью, и в мозгу Ивена судорожно, как лапка дохлой лягушки под электрическим током, шевельнулась досада. «Что это он не работает? Стоит мне отойти, как он начинает бить баклуши!» И снова сказалась еще не угасшая сила привычки, когда острая боль ударила его между ребер. «Опять я забыл про лекарство!» Машинально он уже привстал с кресла.
Но наверху открылась дверь ванной, быстрые шаги прошелестели по коридору к передней спальне, и в двери щелкнул замок. Опять настала тишина, и вдруг оказалось, что за окном уже темнеет. У Ивена затекла нога, и он переменил положение. А внутри, ко всему равнодушные, продолжали безмятежно делать свое дело его органы. Начал наполняться мочевой пузырь. Забурчало в животе, и пришлось выпустить немножко газов. Невыносимо зачесалась ляжка, и понадобилось снять руку с ружейного ствола. Внутренности и кожа не желали считаться с постигшей его катастрофой.
В спальне опять щелкнул замок, и Ивен услышал, как Кэти идет к лестнице. Сначала показались ее ноги; он поднял ружье и прицелился. Кэти появлялась постепенно, он увидел ее до колен, потом до талии, потом до груди и плеч, и, наконец, вот она вся. Увидев нацеленное на нее ружье, она остановилась. На ней было платье, напоминавшее Ивену то, в котором он впервые увидел ее, когда она стояла в последнем ряду в хоре Бринаронского общества розничных торговцев и милый, слабый и тоненький голосок ее заглушали мощные меццо-сопрано и колоратуры других хористок. Простенькие голубые платьица с глухим воротом, продававшиеся кипами с пятнадцатипроцентной скидкой в магазине «Си энд Эй», в ту пору стали форменной одеждой хористок, и Ивен, впервые в жизни пронзенный любовью, потом не раз говорил жене, что, сколько бы она ни покупала новых платьев, это голубенькое всегда останется ему всех милее.
Готовый спустить курок, Ивен ждал, что сделает Кэти. Если она бросится бежать, Ивен будет стрелять так же бесстрастно, как молодой летчик бомбит невидимые деревни в тропических джунглях. Сейчас чуть подрагивающая мушка ружья была нацелена прямо в грудь Кэти, и внезапно между Ивеном и Кэти встало мучительное видение — то, что случилось в последний раз, когда Ивен стрелял. Год назад в капкане, поставленном кем-то из туристов, бился чудом угодивший в него самец косули; Ивен разрядил оба ствола почти в упор, но животное, выкатив глаза и захлебываясь алой кровью, все рвалось, подскакивало, корчилось, пока Ивен, перезарядив ружье, не выстрелил в третий раз.
В нем пробудилась острая жалость. Ясно представились ее развороченные груди, обнажившиеся ребра, изрешеченное дробью сердце под клочьями голубенького платья — нет, это выше его сил. Казалось, чья-то рука легла на ствол ружья и давит его книзу.
Кэти шевельнулась. Она спускалась с последних ступенек прямо к Ивену. Он поставил ружье, прислонил к ручке кресла — приклад скользнул, и ружье грохнулось на пол. Лицо у Кэти заострилось, стало маленькое, некрасивое, глазки, как щелочки, почти незаметны между розовыми опухшими веками. Ивен заметил, что она сняла обручальное кольцо.
Она прошла мимо него к двери и отворила ее. Лил дождь, и струи его ворвались в комнату, как вздутая ветром занавеска. Молния внезапно высветила дворовые строения — четкие силуэты на фоне раскаленного добела неба с огненными прожилками, и, когда ударил гром, показалось, что рухнула гора Пен-Гоф.
Кэти отпрянула от двери. Только что на волосок от смерти она стояла спокойная, но сейчас ей было гораздо страшнее, чем под дулом ружья. Она отчаянно боялась молнии. Она стояла у полуоткрытой двери, забрызганная дождем, и вздрагивала каждый раз, когда молния слепила ей глаза.
Ивен сказал:
— Что ты теперь будешь делать?
Она покачала головой:
— Не знаю.
7
День у констебля Джонса прошел без особых хлопот. Был гневный звонок от инспектора Фенна насчет решения начальства не предъявлять Брону Оуэну никаких обвинений, кроме нарушения правил езды. Нашли овцу с выбитым пулей глазом. Обнаружилось первое из обычного для весеннего сезона потока нарушение приличий. Еще только четвертая часть домиков на колесах была заселена дачниками, а уже пошел слух, что некая приезжая девица принимает у себя мужчин за деньги. Профессионализм в этой области был хуже ножа острого для множества вольных пташек в Кросс-Хэндсе, и тут, конечно, неприятностей не оберешься. И не то чтобы местные женщины были с предрассудками. Муж той самой, что прибежала рассказать Джонсу о приезжей девице, шофер, ездил в дальние рейсы, и все знали, что нередко, возвратясь домой среди ночи, он ложился в кровать, уже занятую женой и ее семидесятилетним любовником. Но если не считать таких заурядных дел, Джонс почти весь день проработал над трудным куском эпической поэмы, которую он переводил с древневаллийского.
Он жил одиноко и не прочь был жениться, но ему все не удавалось уговорить ни одну честолюбивую вострушку разделить с ним жизнь. Кросс-хэндские девушки были реалистками. «Получи повышение — тогда пожалуйста» — таков был неизменный их ответ, пусть даже в самой деликатной форме. «Я бы, может, сумела как-то извернуться на восемнадцать фунтов в неделю, скажем в Суонси или вроде этого, но сам понимаешь, каково придется в здешней дыре».
В сущности, кроме мизерного жалованья, Джонс мог предложить только кров — иначе говоря, маленький домик, который полиция взяла в аренду у «Металла». В жилище Джонса с научной точностью был предусмотрен минимум удобств для рудокопов, которым в тридцатые годы платили двадцать восемь шиллингов в неделю. Четыре воздвигнутые «Металлом» стены впитывали влагу, точно губка; в крохотную спальню никак бы не влезла обычная двуспальная кровать; по вечерам, когда на поселок давали электрический ток, в лампочках еле светились тусклые красноватые червячки; утром, когда открывали краны, из них лилась бурая вода; уборная находилась в самом конце сада, и ходить туда было небезопасно, потому что со скалы, нависшей над поселком, градом сыпались камни.
В такой сырой вечер, как сегодня, Джонс охотнее всего посидел бы, вытянув ноги, перед телевизором, если бы не гора Пен-Гоф, начиненная таким количеством минералов, что в Кросс-Хэндсе прием изображения был попросту невозможен. Единственным субботним развлечением здесь были собрания в Хебронской церкви. В Кросс-Хэндсе было восемь церквей и двенадцать пивных — и все это построил «Металл», желавший, чтоб его рабочие насквозь пропитались благочестием и жидким кислым пивом, которое варила одна из подконтрольных компаний. Хебронская церковь, унылое здание из серого камня, похожее на автобусный гараж со стрельчатыми окнами, возвышалась на созданном природой пьедестале над рядами убогих домишек и грозно напоминала поселку о вечности.
Сбоку был пристроен зал для собраний — блочное сооружение казарменного типа; здесь прихожане встречались и толковали о спасении души, угощаясь чаем и мясным пирогом за два шиллинга девять пенсов с головы. Для Джонса ничего лучше этих собраний не было, когда возникала надобность проверить, чем дышит поселок.
Джонс застал Хебронскую общину в полном составе, бросалось в глаза только отсутствие Ивена Оуэна и его жены. Как раз кончились молитвы и пение псалмов, настало время подкрепиться чаем, и констебль, переодетый в почтенно-серого цвета костюм, с чашкой в руке, одну за другой обходил группки жующих пирог прихожан.
В Хебронской церкви собирались сливки кросс-хэндского общества, она была не только религиозным учреждением, но и клубом для избранных, куда входили лавочники из тех, что побогаче, и горстка фермеров, имевших хоть какие-то доходы. Лавочники помельче, конторщики и рабочие с «Металла», а также наполовину разорившиеся фермеры рассеялись по семи менее почтенным церквам — их положение определялось не только степенью достатка, но и многим другим, без чего, по местным понятиям, человека не стоило уважать. Если судить только по доходам, Ивена Оуэна никогда не допустили бы в Хебронскую церковь, но он хорошо владел тем классически правильным языком, на котором говорят на севере, и был незаменим как церковный чтец. Община приняла бы его с открытой душой, если б не Кэти — о прошлом этой хорошенькой женщины здесь кое-что знали или догадывались. За Кэти неусыпно следила тайная полиция общины — кучка стареющих матрон, которые считали себя ответственными за безупречность личной жизни прихожан и истово верили, что паршивую овцу надо гнать, пока она все стадо не испортила. Собственно, здесь происходило то же, что в футбольных командах, — кто проштрафился в Хебронской общине, того могли принять в церковь Эбенезера, а отверженные церковью Эбенезера обычно становились прихожанами Морайеской. Бывало, что прихожане, попавшие под подозрение, и вовсе покидали поселок и переселялись в Соубридж, милях в пяти от Кросс-Хэндса, — там имелась всего одна церковь, и душеспасительная деятельность ее почти иссякла, зато хорошо работал телевизор.
В этот вечер самый воздух, казалось, трепетал от возбуждения, и Джонс быстро понял, что причиной тому была Кэти Оуэн, чья репутация гибла на его глазах. Прихожанам-мужчинам почти всем присуща была сдержанность удачливых дельцов, и они больше помалкивали, зато их незамужние сестры во Христе, главные блюстительницы нравственности, взахлеб выкладывали сплетни, одну ядовитее другой. Джонс на ходу уловил некоторые их высказывания.
— Жила в «Драконе» с каким-то коммивояжером, записались как мистер и миссис Шип. Ничего себе фамилию выбрали, а?
— Я сама, конечно, не имею привычки ходить в такие места, но мне рассказывали, что она околачивалась у них каждый вечер.
— А еще этот темнокожий из Суонси. Она всем плела, будто он — сын принца, а на самом деле он был официант из индийского ресторана.
— Я всегда говорю: не судите и не судимы будете. Но ведь дыма без огня не бывает.
— Уж был ли ребенок, нет ли — сказать не берусь, только об этом тогда много разговоров было.
Айвор Притчард, староста общины и владелец кросс-хэндского магазина самообслуживания, самый рослый и грузный из прихожан, своим медовым, почтительнейшим голосом подвел итоги. Когда-то Притчард был осужден судом присяжных на двадцать пять лег за растление малолетней, но время и тугая мошна все сбросили со счетов.
— Всех нас печалят некоторые слухи касательно одного из членов нашей общины — быть может, это только догадки, предположения, но все же… — Ласково мурлыкающий голос снизился до шепота, и Притчард сконфуженно улыбнулся, будто извиняясь за неудачный кусок мяса. — А теперь и еще одна неприятность…
Еще одной неприятностью было анонимное письмо, которое нынче вечером обнаружил у себя в ящике для почты каждый из четырех старост. В письме говорилось, что Кэти живет со своим деверем. Джонс осмотрел письмо, полученное Притчардом. Слова были вырезаны из газет и наклеены на листок бумаги. Бейнонова работа, подумал Джонс и сунул письмо в карман.
— Но ведь это еще не доказательство, — сказал он.
У Притчарда были необыкновенно выразительные, чуткие, как у хирурга, руки, хотя самым тонким инструментом, которым они когда-либо работали, был нож для нарезания копченой грудинки. Сейчас эти руки как бы собрали воедино все страхи и предрассудки хебронских прихожан и изящно вылепили из них в воздухе фигуру сомнения.
Джонс понял, что суд над Ивеном и Кэти уже свершился и приговор вынесен. Из-за одних только слушков, поползших по Кросс-Хэндсу, они стали отщепенцами и перед ними автоматически захлопнутся двери всех других церквей. Еще несколько дней — и старые знакомые, завидя их, поспешат перейти на другую сторону улицы или свернут в ближайший переулок.
Притчарда больше всего тревожило, надо ли объявить Оуэнам, по какой причине они исключены из церковной общины, и если надо, то не подаст ли потом Оуэн на них в суд за клевету.
— Не беспокойтесь, — сказал Джонс. — Ивен никогда на это не пойдет. У него еще осталась гордость.
«Но так ли это?» — усомнился он про себя.
Джонс пробыл там час и почувствовал, что с него хватит. Стало тоскливо, и, надеясь развлечься, он сел на велосипед и поехал в Соубридж поболтать с квартировавшим там констеблем Эдвардсом.
Хотя Соубридж находился всего в пяти минутах езды на машине, это был совсем другой мир. Особое сочетание ветров и атмосферного давления создало здесь другой климат. Тяжелые дождевые тучи, пригнанные ветром с Атлантического океана, рвались на вершине горы и проливались дождем на западных ее склонах, как раз над Кросс-Хэндсом, а в Соубридже почти всегда было сухо. Через Соубридж не протекала живописная, своенравная река, которая привлекла бы сюда варваров туристов, и зимние разливы не губили коров и овец. Соубридж не обладал ни углем, ни железом, ни бокситами, и потому здесь не было заводов и рудников. А значит, здесь никто не погибал под землей от обвалов, никто не сгорал заживо и никого не разрывало в клочья взрывами газов, как не раз случалось в Кросс-Хэндсе, когда еще работали рудники. Дома — пустые или с обитателями — не проваливались под землю, когда оседали старые выработки, и не тонули в черной вязкой грязи при сдвиге старых отвалов породы. Когда прорывало плотину, выстроенную с преступной небрежностью семью милями выше в горах, на равном расстоянии от обоих селений, то страшной силы поток устремлялся в сторону Кросс-Хэндса, а не Соубриджа, и Кросс-Хэндсу выразил свое соболезнование король, когда однажды в потоке утонули семьдесят два местных жителя (из них сорок восемь детей), а принц Уэльский самолично нанес Кросс-Хэндсу мимолетный визит, постоял, обнажив голову, у края общей могилы и произнес: «Как это ужасно».
Джонс и Эдвардс пили пиво в гостиной, перед огромным телевизором — признаком того, что Соубридж стоит на более высокой ступени цивилизации.
Эдвардс был великий мастер скрывать от полицейского начальства полную свою бездеятельность, а в освобожденное таким образом время изучал естественную историю и собирал коллекцию окаменелостей.
— Зато ты не можешь пожаловаться, что у вас никогда ничего не случается, — сказал он Джонсу. — Как дело Робертсов?
— Да, видно, умерло своей смертью.
— На днях я встретил в пивнушке их племянника. Хорош малый. Пальца в рот не клади.
— Чисто сработано. Нигде ни следа крови.
— Может, он их руками задушил. Или подушками. Тоже верный способ.
— Даже не в том беда, что они прирожденные убийцы, — мне еще отвратительней эта страсть всем скопом травить одного. Возьми хоть последний случай — ты Ивена Оуэна знаешь?
— Знал его жену, когда жил в Бринароне. Тогда она была Кэти Томас. Славная девушка, добрая душа.
— Она спуталась с братом Оуэна. Во всяком случае, так говорят. За это их собираются отлучить от церкви.
— А что ж ты думал? Хорошо хоть камнями не побили.
— Еще, наверно, побьют, — сказал Джонс. — С них станется. Одного не понимаю: почему они так взъелись на него? На Ивена то есть, не на брата. В конце концов, Ивен-то чем виноват?
— Это наследие от предков со Средиземноморья, — сказал Эдвардс. — Рогатый муж приносит несчастье. От него порча урожаю. Или скотине, уж не помню.
— Старухи шипят на жену, но видно, что точат ножи на мужа.
— Наверно, пережиток матриархата. Кто их знает. Тут черт ногу сломит.
— Десять лет я это хлебаю, — сказал Джонс. — Кажется, можно бы и привыкнуть, а я никак не привыкну. Они собираются исключать этого беднягу из своей церковной общины в воскресенье. Не хотел бы я там быть. Занятно, что при этом они не против кровосмешения. Одного из наших почтенных граждан застукали под забором с родной внучкой, и никто его за это не осуждает.
— Кровосмешение — другое дело.
— Я родился в Ните, в премилой трущобе, — вздохнул Джонс. — Все бы отдал за городские огни. Моя подружка работает секретаршей в Суонси, и, говорят, ее часто видят с хозяином. Если уж что-то делать, так надо делать сейчас.
— А что тебе мешает? Почему не попросишь, чтобы тебя перевели?
— Просил. Отказали.
— Почему отказали?
— Фенн говорит, я тут очень полезен.
— Так ты их надуй. В следующий раз, когда приедет окружной инспектор, дерни стаканчик-другой. Да невзначай дыхни на него. Он решит, что тебе лучше работать на глазах у начальства. И не успеешь оглянуться, как очутишься в доках Феррипорта.
— А это мысль, — сказал Джонс. — Право, это мысль, Морис. Пожалуй, ты попал в точку.
8
Три дня Ивен прожил, запершись в чулане, спал на полу, ночью бесшумно выходил по нужде, съедал немного хлеба и запивал водой. Трое живших в доме, каждый в одиночку, словно обязались не нарушать эту новую атмосферу молчания и отчужденности, и все трое, каждый по-своему, были в растерянности. Брон вел какое-то двойное существование, его видения переплетались с реальностью. Бейнон вспоминал, что коровы не доены, только когда из их сосцов начинало сочиться молоко, и по-прежнему бросался в угрюмые, яростные, но недолгие атаки на папоротник на вершине горы. Река, опять выступившая из берегов во время прилива, захлестнула и унесла трех Ивеновых овец. Когда Брон, нарушив молчание, справился об Ивене, Кэти ответила, что у него был сердечный припадок и доктор не велел его беспокоить.
Вечером в субботу слабо напомнили о себе привычные ритмы домашнего уклада, и Ивен сообразил, что завтра воскресенье.
Утром он встал чуть свет, пошел в ванную, сбрил трехдневную щетину и оделся во все праздничное, готовясь идти в церковь, как привык с детства ходить каждое воскресенье. Соблюдать этот распорядок было для него почти так же естественно, как есть и дышать. Около девяти, едва в доме пробудилась жизнь и послышались шаги, он потихоньку выскользнул через черный ход, прокрался задами мимо коровника и напрямик, полями, направился к дороге на Кросс-Хэндс, проходившей в миле от фермы.
Через четверть часа он дошагал до окраины. Перед ним был Кросс-Хэндс, точно такой же, как в давние времена, прежде чем здесь впервые начали добывать уголь, старинное викторианское селение, унылые домишки среди запущенных яблоневых садов. Дальше была часть, выстроенная угольными компаниями; ее точно сплющили на наковальне, а потом отпихнули в сторону от буровых скважин, под самый крутой бок горы. За домами высилась гряда карликовых вулканов — старых терриконов, поросших сорной травой; то тут, то там среди зелени грязно-бурыми пятнами проступала порода, а наверху, как дым настоящих вулканов, струи тумана вились в небо, мутное, как давно не мытое окно.
Одетые в темное фермеры со своими семействами осторожно пробирались по улицам, словно лесное племя, опасающееся ловушек и засад. Они шли медленно, тщательно обходя бесчисленные лужи, и разговаривали вполголоса, словно уже заранее проникаясь торжественной церковной тишиной. Иногда в направлении к Хебронской церкви проезжали маленькие черные машины, из уважения к воскресному дню ограничившие скорость до двадцати пяти миль в час. Перед облезшим от дождей и слегка покосившимся домом с надписью над дверью «Морайе, 1887» Ивен увидел кучку дожидавшихся открытия людей и среди них заметил своего соседа Филлипса, но, когда он подошел ближе, все отвернулись. Ивен замедлил шаг и чуть не остановился: крохотный запас его уверенности в себе мгновенно иссяк. Впереди на вершине холма возвышалась Хебронская церковь, нерушимая крепость самодовольного сознания собственной непогрешимости, перед ней ряд черных лакированных машин, у дверей стоят старосты, а внутри гудит единственный в Кросс-Хэндсе электрический орган.
Ивен свернул в переулок, минут пять походил взад и вперед, потом поплелся обратно. Старосты уже вошли в церковь, и дверь была закрыта. Он приотворил ее, бочком протиснулся внутрь, и в это время прихожане встали и запели гимн. Оуэн на цыпочках направился к своему месту на скамье во втором ряду и, не дойдя до половины прохода, увидел, что оно занято. И тут служитель преградил ему путь, а Притчард, подкравшись сзади, что-то зашептал ему на ухо. Они советовали ему пройти к самым задним скамьям, куда обычно садились случайные посетители. Бесполезно скрывать от себя, что это означало. Все головы обратились в его сторону. Ивен круто повернулся и выбежал вон.
До реки через поля было не больше мили; Ивен, скачками сбегая вниз по мокрому склону холма, скользил, дважды падал, полз, обдирал ладони о ежевику. Эти неприглядные места не привлекали дачников на колесах, стояли здесь лишь несколько лачуг, сколоченных из старых досок и ящиков, где летом селились бродяги, сезонники, кочевое племя вроде цыган, — они предлагали свой контрабандный труд по цене, вдвое ниже установленной для сельскохозяйственных рабочих. Здесь совсем близко, за невысокими холмами и полуобвалившимися трубами разрушенных заводиков, простиралось открытое море, прилив был силен, он катил мутно-желтые валы и, пока не начинался отлив, далеко наступал поверх узкого русла реки на илистые низины.
Ивен подошел к берегу. Ближайшая хибарка стояла ярдах в ста, вокруг не было ни души. Ивен поднял голову, хотел в последний раз взглянуть на небо, но небо закрывал клубившийся туман. Страха он не чувствовал. Он считал, что муки отдельно от сознания не существуют, а раз смерть уничтожает сознание, значит, муки смерти — просто вымысел. Если я не помню, значит, я не страдал. Надо только решиться. Он опустил глаза и увидел внизу одну только поблескивающую грязь. Ожидаемой воды не было. Прилив оказался несильным и весь ушел в обычное русло реки в сотне футов отсюда.
Ивен сел на землю и попытался спуститься вниз по обрывистому берегу, цепляясь руками и ногами за жесткую кустистую траву, росшую на склонах над илистой пучиной. Поскользнулся, угодил в озерцо грязи цвета замазки, из-под ног поднялись пузыри и понесло гнилостной вонью. Он забарахтался, упал на четвереньки, руки и ноги его стала засасывать хлюпающая бездонная трясина. Лицо облепила грязь. Ивен чувствовал ее вкус на губах, она пузырилась в ноздрях при каждом вдохе и выдохе. Он увидел корень, торчавший на обрыве, как иссохшая рука, с усилием вытащил руку из трясины и ухватился за него. И как только он это сделал, повинуясь инстинкту самосохранения, его охватило предательское желание жить. С трудом, с натугой он высвободил другую руку, потом ногу, башмак засосала трясина. Минут десять он не двигался, собирался с силами, потом начал ползти и карабкаться вверх по обрыву. Наверху он лег наземь, дожидаясь, пока утихнет бешеное сердцебиение. Потом встал, но, не успев сделать и шага, почувствовал острую боль в колене и понял, что, стараясь вырваться из топкой грязи, растянул связки. Дрожа от холода и пережитого потрясения, он кое-как протащился сто ярдов до ближайшей лачуги и из последних сил толкнул дверь. В лачуге стояла раскладушка; Ивен повалился на нее и заснул.
Он проснулся через два часа, окоченев от холода и не понимая, как очутился он в этой сумрачной каморке, где на маленьком, покрытом трещинами окошке, точно грязная занавеска, висела паутина. Потом он вспомнил о своей беде. Жить больше нельзя, и, однако, он знал, что обречен жить дальше и уже никогда у него не хватит силы опять пойти к реке. Но Ивен, лежащий сейчас в лачуге, был уже не тем Ивеном, которому река показала, что такое смерть, а затем отвергла его. В минуту предельного отчаянья рухнула его последняя подсознательная самозащита. Все, что его поддерживало, в том числе и гордость, исчезло. С мыслями, которые Ивен считал недопустимыми, он готов был сейчас согласиться.
Он подумал о Броне, и некое странное подозрение, которое он раньше поспешно заглушал и старался выкинуть из памяти, едва оно шевельнется в глубине души, сейчас казалось ему омерзительной реальностью. Конечно же, подумал Ивен, Брон не сын своего отца, его породил ненавистный доктор Гриффитс. Память, уже не сдерживаемая внутренней цензурой, вмиг подкинула ему сотню случаев, подтверждающих эту истину: признаки близости между матерью и доктором, которые Ивен еще мальчишкой чувствовал или подмечал, жесты, которыми украдкой обменивалась эта пара, необъяснимые приступы рыданий у отца; а однажды он видел, как доктор Гриффитс, выходя из комнаты матери, оправлял вопиющий беспорядок в костюме. Примерно в то время был зачат Брон.
Внешнее сходство между Броном и Гриффитсом, которого Ивен раньше старался не замечать, сейчас ошеломило его. Брон — копия старого доктора, только помоложе, он двойник того Гриффитса, какого видел однажды Ивен на фотографии тех времен, когда Гриффитс служил врачом в одном из госпиталей Багора. Брон весь в доктора не только лицом и фигурой, он унаследовал даже его манеру ходить враскачку, неподвижно смотреть в пространство выпуклыми гриффитсовскими глазами и даже привычку задумавшись потирать ноздрю большим пальцем — он словно нарочно всячески старался подтвердить столь долго скрываемую правду о том, чей он сын.
Застарелая ненависть к Гриффитсу слилась в Ивене с ненавистью к Брону. Брон — второй Гриффитс, рожденный матерью на его, Ивена, погибель. И сейчас, когда Ивен дрожит от холода, с головы до ног в грязи, едва не утонувший и бесконечно несчастный, Брон Оуэн, он же Гриффитс, оскверняет его жену, как когда-то доктор Гриффитс осквернил мать, которую Ивен так мучительно любил. Лоно женщины, не принявшее его семени, будет оплодотворено Броном, оно даст жизнь гнусному отродью, точному подобию Брона и Гриффитса. Да, Гриффитс отомстит Ивену полной мерой. И такая ненависть бушевала сейчас в Ивене, что он вдруг успокоился, словно от сильного тонизирующего лекарства.
9
В эту первую ночь, запершись в задней спальне. Кэти до рассвета лежала без сна. Потом, беспокойно продремав какой-нибудь час, поднялась, оделась и уложила в чемодан все, что понадобится ей, когда она вернется к независимой жизни работающей женщины. Прирожденная покорность судьбе взяла свое. Защитный панцирь этот не давал Кэти слишком уж горевать из-за того, что она утратила. Пять лет, проведенных на «Новой мельнице», нельзя было назвать несчастливыми, но и предшествующие годы, когда она делила с подругой комнатушку над булочной на задворках Бринарона, казались ей теперь ничуть не хуже, и она была готова вернуться к той прежней жизни.
Она приехала в Бринарон первым автобусом и до половины десятого ждала, пока откроется магазин «Парижские моды», где она работала до замужества. Потом снова ждала, пока наконец в четверть одиннадцатого не появилась особа, ведающая наймом служащих, тощая, чопорная, с непроницаемым лицом и подсиненными волосами.
Кэти протянула ей рекомендацию, которую получила перед замужеством, уходя с работы — незадолго перед тем ее повысили, перевели на должность старшей продавщицы; начальница, взяв бумажку, не потрудилась скрыть удивления. С тех пор как Кэти здесь служила, магазин перешел в собственность более крупной фирмы. Должность старшей продавщицы упразднили. Ее заменили «консультанты», от которых требовалось не только умение продать товар. Претенденток на эту должность отбирал совет при главной конторе, после того как они заканчивали трехнедельные курсы, а на курсы направляли лишь одну из семи желающих. Кэти дали понять, что вряд ли она может рассчитывать на успех.
Потом Кэти попытала счастья в нескольких магазинах на людной Золотой миле, но всюду разговор кончался примерно одним и тем же не внушающим надежды заверением: «Мы внесем вас в список кандидаток и, может быть, в свое время пригласим». Кэти чувствовала, что никто не принимает ее всерьез. Хотя за пять лет, проведенных в Кросс-Хэндсе, цвет Хебронской общины разве что терпел ее присутствие, у нее все-таки пробудилось робкое чувство собственного достоинства, чувство собственной значимости, которое неведомо продавщицам второсортных бринаронских магазинов и никак там не поощряется.
На взгляд Кэти, Бринарон за эти годы сильно изменился к худшему. Исчезла былая веселость. Хорошеньких, живых, кокетливых девушек, что стояли тогда за прилавками, заменили надутые девчонки, которые еле двигались, словно волоча на ногах кандалы. Магазины, где она когда-то служила, стали меньше, тише, как-то потускнели. Жалкие их витрины требовалось подновить, давно не мытые стекла помутнели. Вечером, когда зажигались огни, было теперь куда меньше блеска. По главной улице не бродили теперь после работы задорные молодые люди, не пересмеивались с девушками. К восьми часам вечера на улицах Бринарона уже не было ни души.
Хотя Кэти ни на шаг не продвинулась по пути к независимости, она по-прежнему была полна решимости не возвращаться на «Новую мельницу». Одиночество, тоска по прошлому привели ее в гостиницу «Дракон». И здесь тоже все стало по-иному — безлико, даже сурово. В прежние времена порядок поддерживался шуточными «правилами», выжженными по дереву. Теперь же таблички на стенах сухо предупреждали: «Не петь», «Чеки не принимаются», «Комнаты надлежит освобождать к 12 часам дня». Цены подскочили. Прежде можно было за тридцать шиллингов приятно провести ночь в двойном номере, теперь одинарный номер стоил двадцать пять шиллингов. Тут Кэти стало ясно, в каких она оказалась стесненных обстоятельствах: когда она заплатила за комнату, у нее на все про все осталось лишь четыре шиллинга шесть пенсов.
Придется, видно, спрятать свою гордость и взяться за любую работу, какую предложат, лишь бы перебиться какое-то время. Десять лет назад Кэти делала первые шаги в магазине дешевых цен Пирсонса, служащие которого из всех городских продавцов стояли на самой низшей ступени общественной лестницы: на них смотрели свысока и из-за плохого качества товаров в этом магазине, и из-за того, что жалованье у них было ничтожное, а условия работы прескверные. Вот здесь, на взгляд Кэти, почти ничего не изменилось.
Некий мистер Хэммит десять лет назад был старшим продавцом, теперь же он стоял во главе всего служебного персонала. Он сидел в каморке за стеклянной перегородкой, и над столом его красовался девиз Пирсонсов: «Потрать, чтобы сэкономить». В углу был устроен своего рода алтарь, украшенный искусственными цветами, а на нем — различные туалетные принадлежности, перевязанные пластиковой лентой, и плакатик: «Удешевленный ассортимент этой недели — продай его!»
— Миссис Оуэн! — воскликнул Хэммит. — Миссис Оуэн, как приятно снова вас видеть!
Хэммит был известен тем, что, злоупотребляя своей должностью, одарял вниманием молоденьких продавщиц в любое время и чуть ли не в любом месте. Как и все в магазине, он несколько слинял. Улыбаясь, он блистал теперь новыми искусственными зубами. Когда-то густые черные волосы отступили далеко к затылку, остался лишь плотный, точно фетровый, венчик да мысок на темени. У него образовался второй подбородок, и дышал он шумно, тяжело.
— Чему же мы обязаны этим удовольствием, миссис Оуэн?
Кэти объяснила:
— Понимаете, у меня остается очень много свободного времени. Ну, я и подумала, не найдется ли у вас для меня местечка. На крайний случай, может, временная работа будет, я тоже не против.
— Какая жалость, что вы не зашли в прошлом месяце, миссис Оуэн, мы как раз набирали служащих на время весенней распродажи. А теперь, пожалуй, придется ждать до осени…
Он окинул ее с ног до головы задумчивым взглядом, в котором, однако, сквозило нахальство — как он убедился на опыте, оно почти всегда окупалось.
— Я бы, наверно, мог что-нибудь для вас подыскать, миссис Оуэн, но придется немножко подождать, ну и, конечно, я не могу обещать ничего, кроме упаковочной. Там вы можете начать хоть сейчас.
— Упаковочная… — сказала Кэти. — Я начинала там десять лет назад. — В этом отделе, как ей помнилось, работали пятнадцатилетние девчонки и усталые немолодые женщины.
— Я знаю, миссис Оуэн. Но с тех пор вы многое подзабыли. — И уже иным, торжественным тоном он произнес старый, знакомый девиз: — Фирма Пирсонса гордится тем, что продвигает своих служащих.
Кэти собралась было подняться, и он поспешил расставить капкан, вложив в него крупинку надежды:
— В дни, когда торговля идет бойко, вы, по всей вероятности, будете помогать за прилавком. А раз уж вы станете нашей служащей, я наверняка смогу что-нибудь для вас сделать. Тут требуется осторожность, чтобы вам не стали завидовать.
Хэммит продолжал разглядывать ее бесстыжими глазами. Когда-то в темном уголке кладовой, где хранились пустые картонки, он разок-другой наспех познакомился с ее формами, но успел их позабыть. Кэти сидела так, что платье впереди немного вздулось. Он подумал, уж не беременна ли она, и от этого она показалась ему еще соблазнительней.
— Уверяю вас, миссис Оуэн, я бы с удовольствием пошел вам навстречу. С истинным удовольствием.
Он испугался, что она ускользнет у него из рук, и в голосе его послышались жалобные нотки:
— Вы ведь, наверно, помните, у нас тут своя политика: ни с кем нельзя портить отношения. Я должен действовать очень осторожно, не то, не ровен час, нарвешься на неприятности. Нельзя, чтоб служащие были тобой недовольны. Лучше всего нам встретиться где-нибудь подальше от магазина и все толком обсудить. Почему бы, например, нам не пообедать вместе?
Кэти встала и сказала, что ей пора домой. Он проводил ее до двери и, остановившись на пороге, как бы невзначай провел рукой по ее ягодицам.
— Я всегда питал к вам слабость, Кэти, вы ведь это знаете, верно? Сами понимаете, тут надо, чтоб подвернулся случай, но я готов сделать для вас все, что в моих силах. Я постараюсь сразу поставить вас за прилавок. Если не передумаете, звякните мне по телефону или прямо заходите сюда. Я всегда на месте. Вы знаете, где меня найти.
Бюро найма послало Кэти в магазин велосипедов («Место уже занято»), в парикмахерскую («У вас нет опыта») и на завод «Металл» («Принимаем только членов профсоюза»), лишь после этого она решилась наконец позвонить своей старой подружке: та преуспела в жизни и, надо надеяться, сумеет приютить ее на несколько дней, пока она не подыщет себе что-нибудь подходящее.
Элси Коллар и Кэти жили в одной комнате, когда им не было еще и двадцати, они дружно противостояли жизненным трудностям, причем командовала всегда Элси. Элси подавала идеи, а Кэти оплачивала почти все расходы, ибо подружка ее чуть не каждую неделю меняла место работы и ей вечно не хватало денег, чтобы одеться. Кэти знала, что она красивее Элси, но та отлично умела себя подать, и почти никто не замечал, что она далеко не хорошенькая. Один помощник директора банка, который как-то повез ее в придорожную закусочную, даже назвал ее gamine[11]. Кэти была правдива, ибо у нее начисто отсутствовало воображение, а вот Элси оказалась немыслимой лгунишкой: ей ничего не стоило убедить кого угодно, что она дочь отставного бригадного генерала и он позволил ей зарабатывать «на булавки». Элси от природы была хитра и находчива. Воскресными вечерами, выйдя из церкви в поисках развлечений, почти все Кэтины подружки прогуливались по дороге, идущей из Бринарона в Кросс-Хэндс, Элси же брала у кого-нибудь машину и, делая вид, будто у нее какая-то поломка, останавливалась как раз в тот час и в том месте, где на выручку ей мог прийти кто-нибудь из высших служащих «Металла», проезжавших здесь в своих роскошных «бентли». Уловка эта помогла ей выйти замуж за молодого, подающего надежды начальника инструментального цеха.
Кэти позвонила по телефону, отозвался женский голос, бесстрастный и отрешенный, точно автомат.
— Здравствуй, Элси. Это Элси, да?
— Говорит Ева Маршалл.
И Кэти вспомнила: незадолго до того, как они разъехались, Элси сменила имя на Еву.
— Ева, это Кэти. Кэти Оуэн. Ты меня помнишь?
— Кэти… какой приятный сюрприз. Как живешь, Кэти? Как дела?
— Да так, ничего. Все как всегда. Приехала на денек в город и вот решила тебе позвонить.
— Я очень рада, Кэти. А то от тебя сто лет ни слуху ни духу. Я уж думала, где ты и что с тобой.
Все слова Элси произносила теперь строго на английский лад, а не так, как принято в Уэльсе, и от этого ее голос трудно было узнать.
— По правде сказать, я несколько раз тебе звонила, да всегда то телефон занят, то еще что-нибудь.
— Да, ужасно неприятно. Мне все говорят, что до меня не дозвонишься. То Генри разговаривает по делам, то Ненни — со своими мальчишками, то одно, то другое. Теперь, знаешь, ухаживают все больше по телефону.
— Так у тебя уже дети, Ева? Я и не знала. Как славно!
— Двое сорванцов. Четыре года и два. Мальчик и девочка. А у тебя?
— Нет, пока никого. Как бы не сглазить…
— Счастливая. А я иногда чувствую себя старухой.
— Это не из-за детей, Ева… просто время летит. С тех пор как мы с тобой жили над булочной, кажется, сто лет прошло, правда?
— Целая вечность. Много воды утекло.
— Хорошее было время, правда, Ева? Я часто его вспоминаю.
— Чудное.
— Жалко, что нельзя навсегда остаться молодой.
— Вот я и говорю, надо бы родиться старой, а потом с каждым годом молодеть.
— Вот бы хорошо, а?
— А знаешь, Кэти, когда становишься старше, это тоже неплохо. Разные обязанности — это даже интересно.
— А помнишь, Ева, мы были на вечеринке у Мэри и Стива и там полно было этих… чокнутых, Мэри тогда еще напилась, и мы посадили ее в ванну? А потом Дики Дарк уговорил нас прокатиться на его «крайслере» в Эберистуит, и с нами был тот цветной парнишка, помнишь?
— Вряд ли я была на этой вечеринке. По крайней мере не помню.
— Но Дики Дарка-то ты помнишь? Неужели забыла Дики Дарка?
— Что-то припоминаю… только смутно. Имя как будто знакомое.
г — А мне казалось, ты была к нему неравнодушна, Ева.
— Столько знакомых, Кэти. Всех не упомнишь.
— Это да. Что верно, то верно. Тогда ты, пожалуй, позабыла и…
— Знаешь, у меня сейчас все немножко перепуталось. Память, к сожалению, никудышная. Много воды утекло с тех пор. И потом, семья, дети, всякие светские обязанности, то одно, то другое, прямо с мыслями собраться некогда.
— Слушай, Ева, я бы так рада с тобой повидаться. Правда. Как бы хорошо, ведь столько лет прошло.
— Да, хорошо бы, Кэти… Вот что, давай как-нибудь встретимся где-нибудь и посидим за стаканчиком.
— Я бы с радостью, Ева.
— Только, видишь ли, эта неделя у меня пропащая. Каждый день по гостям, скучища, но надо, а вот на той неделе я, кажется, могу в любой день… Вот что, в четверг Генри не будет, я останусь одна. Давай встретимся, пообедаем и сходим в кино. Что ты на это скажешь?
— Чудесно.
— Погоди-ка… что же это я? В четверг мне торговать шляпами на благотворительном базаре. Может, тогда в следующий четверг?
— Я все время свободна. В следующий четверг тоже хорошо.
— Замечательно.
— Хорошо.
— Просто великолепно. А сейчас я лечу, Кэти. Машину Генри мы поставили на профилактику, и я, понимаешь, обещала заехать за ним на своей машине в его контору на руднике.
— Тогда пока, Ева, до следующего четверга.
— Пока, Кэти. Очень будет хорошо тебя повидать.
Отчаявшись найти в золе старой дружбы хоть искорку тепла, Кэти прямиком отправилась в «Дракон» и спросила Виктора — он стал теперь управляющим и редко показывался на глаза посетителям. Кажется, только вчера появился он здесь, едва окончив коммерческий колледж, сразу же стал помощником администратора, и успех этот приучил его скрывать мальчишескую физиономию с дерзкой мальчишеской ухмылкой под маской осторожного недоверия.
— Виктор, — сказала Кэти, — я скажу тебе все как есть, выложу все свои карты. Я поссорилась с мужем и ушла. Первые несколько дней у меня не будет, наверно, ни гроша, пока не подыщу себе какой-нибудь работы. Но мне нужно где-то ночевать.
Она ждала, что он скажет, пытаясь угадать, что скрывается за этой невозмутимой маской, но Виктор теперь привык слушать, а говорить — лишь когда сочтет нужным. Он вывел ее из своего кабинета, прошел к конторке администратора и взял ключ.
— У тебя все при себе? — спросил он Кэти.
Она кивнула.
Виктор поднялся с ней на лифте на пятый этаж, они прошли коридором, в конце его поднялись по узкой лесенке и остановились у низкой двери под крутым скатом крыши. Виктор отпер дверь, кивком предложил Кэти войти и, пригнув голову, шагнул за ней.
Кэти очутилась в темной, без окон каморке, где пахло линолеумом и изъеденной древоточцем мебелью.
— Здесь спит одна из горничных, — сказал Виктор. — У нее заболела мать, и она уехала дня на три. Можешь здесь жить до ее возвращения. Годится?
— Ты даже не знаешь, как я тебе благодарна, — сказала Кэти.
Она ждала, что он сейчас уйдет.
— Ты, наверно, будешь лучше себя чувствовать, если сможешь за это отработать, — сказал он. — Хочешь помочь на кухне?
— Конечно, — сказала она. — Только я не мастерица стряпать… разве что-нибудь попроще…
— Стряпать не придется, — возразил Виктор. — Только мыть посуду. После обеда и после ужина. Часа четыре, и все.
— Понимаю, — сказала Кэти.
Он посмотрел на часы.
— Уже восемь. Сейчас и начинай.
10
Из темной пропасти Брона вынесло на гребень новой волны, и теперь он был во власти неистовой, бьющей ключом беспричинной радости.
Он быстро обошел всю ферму — если только правильно определил ее границы, — и ни болота, ни пропитанные водой поля, ни папоротник, ни можжевельник, ни обнаженные, размытые склоны не омрачали его надежд. Среди бесчисленных книг, прочитанных в Хэйхерсте, одна была посвящена научному ведению фермерского хозяйства, и Брон перечел ее дважды — не для каких-либо практических целей, а так, как читают учебник высшей математики, просто из желания приобщиться к серьезным задачам. Теперь ему уже виделось, как на голой вершине Пен-Гофа при содействии Комиссии по охране лесов вырастают молодые сосны, а склоны его удобрены и сплошь распаханы. Потом надо по всем правилам осушить землю; застоявшиеся поверхностные и болотные воды будут отведены, и вот уже среди здешних мхов радостно зазеленеют хлеба. Дальше следует принять все необходимые меры, чтобы обуздать реку, и тогда костлявых горных овец, единственную породу, сумевшую прижиться в здешнем убожестве, можно будет заменить мясистыми и тонкорунными, которые станут щедро плодиться в новых условиях. И еще одна картина представлялась Брону: все прочие фермеры, вдохновленные примером Оуэнов, пойдут по их стопам, хозяйства их станут процветать, и найдутся деньги, чтобы по всей кросс-хэндской долине расчистить старые, засыпанные шлаком пустыри и тем самым положить начало золотому веку в местном сельском хозяйстве.
Брон без размышлений принял установившийся в доме новый ритм жизни. Казалось, заведенный порядок нарушился раз и навсегда, но его это ничуть не удивило. Он давно уже привык не искать причин необъяснимых на первый взгляд действий и поступков. Механизм забвения был у него не тот, что у вполне нормальных людей. Архивы нормального мозга навечно сохраняются в подсознании. А у Брона жизненный опыт подчас не откладывался ни в сознании, ни в подсознании. Он был точно слепой по сравнению со зрячим, который и закрыв глаза все же видит тьму. Брон не видел тьмы, он не видел ничего. И полное забвение каких-то кусков пережитого было для него естественно. Он был точно сновидец, не способный усомниться в случайных, не связанных меж собой обрывках сновидений. Даллас спросил его однажды, не кажется ли ему иной раз, что люди ведут себя странно и нелогично, и он ответил — да, бывает. Человек, который сегодня был ему другом, назавтра, непонятно почему, становится врагом. Наш мир в какой-то мере безумен. И Брон делал на это скидку. Вот сейчас, например, ему казалось странным необъяснимое отсутствие Кэти, когда Ивен неизвестно чем болен и лежит один, без всякого ухода. И почему он лежит в чулане? Это тоже совершенно непонятно. В то первое утро Брон трижды стучался в дверь чулана, но Ивен не отозвался. И Брон больше не стучал.
Среди дня во двор фермы въехала полицейская машина — явился сержант из Суонси. У него были новые вопросы к Брону по поводу помятого «ягуара», и, отказавшись от предложенного ему чая, он тотчас приступил к делу.
— В Суонси вы заявили, что всю вторую половину интересующего нас дня провели в кино «Ритц». Полагаю, вы помните названия фильмов?
— К сожалению, нет.
— Там шел основной фильм, короткометражка и кинохроника, — сказал сержант. — Что-то из всего этого вы должны были видеть дважды.
— Наверно.
— Кто же в них участвовал? Вы должны помнить хотя бы двух-трех актеров.
— Нет, не помню.
— Что вы видели — комедию или ковбойский фильм? Английский, американский? Где происходило действие? Если вы провели в кино пять часов, должны же вы были что-нибудь запомнить!
— Понимаете, я пошел в кино, потому что лил дождь и мне некуда было деваться, — сказал Брон. — Наверно, я сразу как сел, так и уснул. Кино наводит на меня скуку.
— Здорово же, видно, вы разоспались, — грубо сказал сержант. — Что-то это непохоже на правду.
— Разве? Мне очень жаль, но так оно и было.
Сержанту явно не хотелось уезжать. Он принялся листать свой блокнот.
— Ваш брат, мистер Ивен Оуэн, дома?
— Он нездоров, лежит.
— А миссис Оуэн?
— Ее нет дома.
— А когда она вернется, не знаете?
— К сожалению, не знаю.
— Это теперь будет ваше постоянное местожительство?
— Да, я уже вам говорил.
— Род занятий в настоящее время?
— Фермер, — весело ответил Брон. — Буду вместе с братом хозяйничать здесь на ферме.
Ни слова больше не сказав, сержант спрятал блокнот и вышел. Слышно было, как он отъехал. Теперь Брону захотелось есть. Но в доме было хоть шаром покати, и он решил пойти в «Привет», съесть сандвич и выпить стакан пива.
За стойкой стоял Оукс; при виде Брона он немного пригнулся, как боксер, готовый встретить удар, и помрачнел. Уэнди не было в зале. Оукс что-то угрюмо пробормотал в ответ на Броново «доброе утро», не глядя на него, подал все, что тот заказал, и сразу же отошел. Уэнди уехала за покупками, должна была вернуться примерно через полчаса, и Оукс надеялся, что к этому времени Брон уже уйдет. Имя Брона всплыло во время неистовой ссоры, которая разыгралась у него накануне вечером с Уэнди.
«Если он пригласит меня погулять, — заявила тогда Уэнди, — я пойду, черт побери. Почему бы мне и не пойти? Нет у тебя на меня никаких прав!»
Оукс ушел в свою комнату, сердито захлопнул какие-то дверцы, с шумом выдвинул ящики стола, сорвал листок календаря, смял в комок, швырнул за окно и в сердцах сплюнул. Потом вернулся, схватил стакан и стал свирепо его протирать под самым носом у Брона.
Брон взял пиво и сандвичи и отошел к другому концу стойки, там к нему подсел коротышка фермер, которого тогда у него на глазах свалил битник, и Брон поделился с ним своими видами на будущее «Новой мельницы».
— Заманчиво, что и говорить, — сказал фермер. — И денежки для этого вы, конечно, уже добыли. Тысчонок десять для начала, не меньше?
— То-то и беда, — сказал Брон. — Нужны средства. А Ивен говорит, банки сейчас ни гроша не дадут.
— Так вам надо бы обратиться в городскую казну. У них такая система: купят у вас ферму и вам же сдадут ее в аренду. Отвалят вам деньжат за ваше хозяйство, а потом сдадут в долгосрочную аренду. На эти деньги можно прикупить землю и машины. А так уж больно маленькое у вас хозяйство. В наших краях все фермы больно маленькие. Хозяйство должно быть втрое больше, тогда оно окупится.
Брон согласился. Если верить учебнику, от хозяйства меньше двухсот акров толку не жди.
— А вы им позвоните, вас от этого не убудет. Телефон ихний в книжке. Можете сослаться на меня, если хотите. Биллингз моя фамилия. Я и сам хочу к ним обратиться, если, конечно, в цене сойдемся.
— Так и сделаю, — сказал Брон. — Позвоню.
Бринаронский автобус остановился у бара, из него вышла Уэнди и юркнула в дом с черного хода, надеясь избежать встречи с Оуксом, пока она еще не припрятала своих покупок. Но Оукс услыхал за окном знакомый визг тормозов, скрип шин, а затем тяжкий вдох автоматически закрывающихся дверей, все бросил и кинулся вон из бара, чтобы ее перехватить.
— Вернулась, значит.
— Вернулась, — сказала Уэнди. Руки у нее были заняты пакетами и свертками.
— Ты не спешила. Я ждал тебя с одиннадцатичасовым.
— Дел было по горло.
— Видала кого знакомого? — не удержался от вопроса Оукс.
Она поджала губы, загадочно на него поглядела и покачала головой.
— Чего накупила?
— Много чего. И платье тоже.
— За этот месяц третье, так, что ли?
— Сейчас весенняя распродажа, — ответила Уэнди. — Теперь только и покупать задешево. Я ведь о твоем кармане забочусь.
Оукс насмешливо кивнул:
— Как же, как же.
— Многие женщины дождутся, пока платье позарез нужно, тогда уж и покупают. А по-моему, это глупость. Я покупаю, когда цены дешевые, все равно когда-нибудь понадобится. Ясно, это умней.
— Еще бы, — сказал Оукс.
Уэнди прошла в комнату за баром, отложила покупки, небрежно кинула пальто на спинку стула, стала перед зеркалом, поправила прическу и принялась подмазывать губы. Оукс остановился между нею и дверью, ведущей в бар.
— Я поглядел, ни одна постель сегодня не застелена, — сказал он. Он решил нипочем не горячиться, но при этом дать ей ясно понять, как он относится к тому, что она пренебрегает своими обязанностями.
— Это забота миссис Паф.
— Миссис Паф нынче выходная. Мы с тобой уговаривались, что в ее выходной ты будешь ее подменять.
Уэнди подкрашивала веки.
— А кому они нужны до вечера, эти постели.
— Не годится, чтоб они стояли незастеленные, — сказал Оукс. — В такую комнату и заходить противно. Постояльцы вправе требовать, чтобы комната была прибрана не позднее десяти. Охота им до обеда сидеть в свинюшнике.
— Неохота сидеть в комнате, пусть идут гулять.
— Не зубоскаль ты, сделай милость. Мне и самому противно заходить в комнату, когда среди дня постель не застелена. Даже тошно становится.
— Да ладно, хватит тебе, — сказала Уэнди. И вдела в уши безвкусные, кричащие серьги. — Хороши? — спросила она.
— Глядеть страшно.
— Извините, если не угодила. Последний крик моды.
— Ты бы поменьше модничала, а побольше думала о деле… Опостылел мне весь этот беспорядок, вот что я тебе скажу.
— Коли так, сам бы и занялся.
— И займусь, — сказал Оукс. — Вот увидишь.
— Ты опять? Опять за свое? Ну, чего теперь надумал? — Уэнди видела, что Оукс по обыкновению себя распаляет. А она любила эти стычки, если, конечно, они не заходили слишком далеко. Чутье ей подсказывало, что они ослабляют его и усиливают ее власть над ним.
— Для начала я нынче утром сам пригляжу за баром. А надо будет, и вечером тоже, и завтра. Так что придется тебе прибрать в доме, нечем будет отговариваться.
— Я не нанималась мыть полы.
— А ты и не моешь.
— Все равно, выходит, я уборщица.
Оукс напыжился, вид у него был самый непреклонный. Пришло время объясниться начистоту. Сейчас должно решиться — быть Уэнди и впредь служанкой или она станет госпожой.
— Будь любезна делать, что я говорю, — сказал Оукс. — Сказано, поди наверх и принимайся за работу, тебе за это деньги плачены. Иди, сделай милость.
Она попыталась проскользнуть мимо него в бар, но успела лишь заглянуть туда через застекленную до половины дверь — Оукс схватил ее, оттащил назад, на середину комнаты, сунул ей в руки все пакеты и свертки и вытолкал через другую дверь.
— И не показывайся внизу, пока не приведешь дом в порядок! — крикнул он ей вслед.
Победа, подумал он. И ему захотелось выпить. Он вернулся в бар и наскоро опрокинул двойную порцию виски. В дальнем конце стойки Брон с Биллингзом толковали о денежных делах, стаканы у них были еще не допиты. Оукс вернулся в свою комнату, он остывал после вспышки, а заодно стало убывать и довольство собой.
Почему это Уэнди ни капельки не сопротивлялась, когда он вытолкал ее из комнаты? Почему она убежала на своих каблучках по коридору, поднялась по лестнице и не только не стала с ним спорить, но даже не попыталась вернуться? А вдруг он перегнул палку? — мелькнула тревожная мысль. Может, она потихоньку пошла наверх, чтоб собрать свои пожитки и уйти — она ведь сколько раз грозилась… Оукс знал, что в Бринароне она мигом найдет себе работу. А он всем нутром был привязан к ней и знал, что мучительную связь эту порвать не в силах. За последние три месяца он удвоил ей жалованье, целое состояние потратил на ее наряды. Но ей все мало. Подавай ей обручальное кольцо. Стоит ей вырваться из дому, и она, конечно, его обманывает, а попытки следить за каждым ее шагом сделали его посмешищем всего Кросс-Хэндса.
— Черт с ней, — пробормотал он, сжав кулаки. — Хочет уходить — пускай уходит. — Но нет, он знал, что сейчас пойдет к ней наверх и постарается ее урезонить, а не поможет, так и прощенья попросит. «Послушай, Уэнди, — скажет он. — Что ж это от тебя ничего не допросишься, не на колени же перед тобой всякий раз становиться, черт возьми. Это ж просто курам на смех».
Дверь отворилась, и горькие мысли его оборвались. Оукс поднял голову — легкой походкой к нему шла Уэнди в новом платье и улыбалась как ни в чем не бывало. Серьги она сняла. Он облегченно вздохнул, даже слезы навернулись на глаза. Хоть раз она решила простить его, не насладившись его унижением. Уэнди, ни слова не говоря, обошла его и вышла в бар. Брон посмотрел на нее, не веря своим глазам. Очень она была хороша. Просто красотка.
Уэнди через стойку протянула Брону руку, и он сжал ее маленькие пухлые пальцы.
— Привет, незнакомец, — сказала Уэнди.
Когда в воскресенье утром Брон спустился вниз, он с облегчением увидел, что Кэти вернулась, но странная холодность, с какой она его встретила, привела его в уныние. Он пошел к себе в спальню за букетиком гвоздик, которые купил для нее в Бринароне.
— От цветов в доме станет повеселее.
Но, к его огорчению, она ничуть не обрадовалась, совсем не заметно было, что ей это приятно. Взяла цветы, пробормотала что-то и положила их на буфет.
Машинально она приготовила ему завтрак — стоило ей очутиться дома, и она но привычке принялась хозяйничать. Так оно и пойдет одно за другим, и, хотя она еще не понимала этого, повседневные хлопоты помогут ей успокоиться. Она пошла в кухню, поставила чайник на огонь, плотнее прикрыла окно, чтоб не заливал дождь, и вернулась к Брону. Ей надо было поговорить с ним, но она не знала, с чего начать. Она стояла, глядя на него сверху вниз, уже не в первый раз отметила, что он хорош собой, и это ее рассердило. Он поднял глаза.
— А сама не будешь завтракать?
Она помотала головой.
— Не голодная?
— Не хочется.
Она села и, отвернувшись, принялась смотреть в окно, и теперь перемена в ней, которую Брон поначалу приписал игре света, стала заметнее. Лицо ее словно бы распухло, глаза казались меньше. И какая-то она угловатая. Будто похудела.
— Ты как себя чувствуешь, Кэти? Вид у тебя больной. Что-нибудь неладно?
— Ничего я не больна. — Неприязнь к нему обратилась в бешенство. Как он смеет так притворяться?
Брон отодвинул тарелку.
— А где Ивен?
— Наверно, пошел в церковь.
— Ну, хоть поднялся. И то хорошо. Он совсем поправился?
— Вроде да.
— Кэти, я тут чего-то не пойму. Вот, к примеру, этот разговор о сердечном приступе. Мне что-то стало казаться, уж не избегает ли он меня.
Он помолчал, ожидая, что она что-нибудь возразит, потом снова заговорил:
— Если я не ошибаюсь и он правда не хочет меня видеть, тогда почему? Я думал, думал, ни до чего не додумался, разве что эта несчастная машина виновата. Может так быть?
— Да, из-за машины он, пожалуй, расстроился.
— Это я могу понять. Еще бы не расстроиться. Я свалился ему как снег на голову, и сразу пошли неприятности — полиция ездит, а теперь еще суд будет. В этих краях все друг у друга на виду. Наверно, здесь теперь только и разговору что обо мне. В Морфе было так же. Всегда так бывало. Кто его знает, почему, ведь я так стараюсь жить тихо-мирно.
На минуту он вновь очутился в Морфе — все вдруг почему-то смотрят на него молча и враждебно, и классный наставник, бледный как полотно, ведет его домой, и мать встречает его слезами и упреками.
— Я как магнит какой-то, всякая беда ко мне липнет. Кто угодно может годами водить машину, и у него не подумают спросить права. А я только поехал — и сразу кто-то налетел на меня и полиция обвиняет меня в семи смертных грехах.
Теперь — и молчание Кэти подтверждало это — Брон был уже совершенно уверен, что расстроил Ивена, но чем больше он думал, тем невероятней казалось, что во всем виновата история с машиной.
— Нет, — сказал он. — Тут дело не в машине. Чтобы из-за такой ерунды… не может этого быть. А, вот оно что, ясно!
Кэти в тревоге ждала, что же он теперь скажет.
— И как мне раньше не пришло в голову. Это все его затея, чтобы я стал совладельцем фермы. Просто он испугался, и я нисколько его не осуждаю. Ну что ж, если он передумал, настаивать я уж никак не собираюсь. Скажи честно, Кэти, он передумал брать меня в совладельцы — все дело в этом, да?
— Мне он ничего такого не говорил, — сказала Кэти.
— И, наверно, не скажет. Никому не признается. Раз уж он предложил, он от своего слова не отступит. Ничего, скоро узнаем. Как только он придет, я спрошу его напрямик. Если он не против, чтоб я здесь остался, буду только рад работать у вас на ферме за жалованье. А не захочет — уеду и подыщу себе другую работу. Прямо так ему и скажу. Послушай, скажу, давай забудем про это совместное владение. Ты не думай, я очень благодарен, что ты такое предложил, но просто это ни к чему. Правильно я придумал, как по-твоему?
Кэти упустила подходящую минуту, чтобы сказать ему то, что хотела, и теперь у нее уже не хватило мужества.
— Не знаю, — ответила она. — Право, не знаю.
Эта прелюдия омрачила даже радость предстоящей встречи с Уэнди, и по дороге в «Привет» Брону вдруг остро захотелось обратно в Хэйхерст: там за него решали другие, там было точно известно, как себя вести, как с кем держаться, и главное — там был Даллас, наставник и доброжелатель, с которым он отваживался пускаться в путь по лабиринтам подсознания.
Брон шел своей дорогой, и, знай Даллас, как живет его подопечный, он покачал бы головой, разочарованный и встревоженный, — видно, Брон не умел обойти ухабы стороной. Вне стен Хэйхерста Брону все время чудилось, словно он в любой час может снова стать опасным для общества. В Хэйхерсте он был членом общины, где всех свела и сравняла одна и та же беда. На свободе же он всюду не к месту. Ну и понятно, даже не зная, что он бывший заключенный, — он ведь не совершил ничего такого, из-за чего полиция могла бы заинтересоваться его прошлым, — его сразу же взяли на заметку.
Даллас отчасти предвидел это, предостерегал его, что приверженность к тюремному укладу чревата опасностями, и объяснял, что вспышки непокорства были рождены в глубинах подсознания, вызваны страхом, как бы ему не скостили срок и не выпустили раньше.
«Я понимаю, — говорил Даллас, — вы, вероятно, впервые в жизни обрели душевный покой. Но не оставаться же вам здесь вечно».
«Мне кажется, Оуэн очень одинок, — записал для себя Даллас. — Он жаждет быть среди людей, жаждет их одобрения и, когда одобрения не встречает, чувствует себя глубоко уязвленным. Заключенные, как правило, относятся к нему хорошо, так как он изо всех сил старается быть им полезным и благодаря полученному в юности образованию ему это в какой-то мере удается. Предпочитает сближаться с теми заключенными, у которых ярче выражена психическая неполноценность. Способен к состраданию. По-видимому, ему необходимо чувствовать, что есть люди, чье состояние хуже его собственного. Нормальная жизнь постепенно сведет на нет целительное действие подобного окружения».
«А женитьба не выход для таких вот одиноких натур?» — спросил однажды Далласа его коллега.
Даллас в этом сомневался.
«Оуэн вполне способен сойтись с проституткой и будет с ней мягок и добр. При всякого рода психопатических синдромах люди его склада часто так поступают. Просто уму непостижимо, как такой человек ухитряется увидеть в своей подружке личность, прямо противоположную той, какова она на самом деле. Чистейшая идеализация. Все недостатки в их представлении оборачиваются достоинствами. У меня был пациент-шизофреник, художник, до того сидевший в тюрьме. Он писал только проститутку — свою подругу жизни — и всегда в образе мадонны».
«И женщина платит тем же?»
«Вы хотите сказать, отвечает ли взаимностью? Нечасто, разве что и она тоже душевно больна. Просто диву даешься, скольких преступников выдают полиции именно их подружки. У мужчины и женщины совершенно разная направленность поведения. Мужчина жаждет искупления, пытается заключить мир с обществом через женщину, и она становится для него первым человеком в мире. Своим антиобщественным чувствам он дает выход по иным руслам, к которым она не имеет никакого касательства. Женщина же стремится отомстить обществу и не только вымещает все на полюбившем ее мужчине, но зачастую прямо способствует его гибели. Наказывая его за любовь, она сводит счеты с обществом».
Она словно прелестный зверек, попавший в капкан, подумал Брон. Она — жертва, мишень для соленых шуток этих угрюмых, богобоязненных фермеров и раба исступленной ревности Оукса. Брон сразу почувствовал, что между ними с первого взгляда вспыхнула искра понимания и сродства. И еще ему почудилось, будто в ту минуту в глазах ее он прочел мольбу вызволить ее отсюда. Но как? Впервые в жизни почувствовал он, что лишен могущества, которым наделяет собственность, и нет у него будущего, которое он мог бы с кем-то разделить.
Было воскресенье, и считалось, что бар закрыт, но сладкая возможность преступить закон привлекла сюда сегодня еще больше народу, чем в будни, и Брон с черного хода последовал за другими. Едва он вошел, Уэнди почувствовала, словно между ними пробежал электрический ток. Она вышла из-за стойки, и они отошли в угол. Как хотелось ему ее обнять! Она улцбалась, и, казалось, глаза у нее повлажнели. С минуту они стояли молча.
— Уехал? — спросил наконец Брон.
— До завтрашнего вечера. Я совсем одна.
— Где увидимся? Здесь?
— Нет, не здесь. Потом скажу почему. Встретимся, когда закрою бар, в половине одиннадцатого. Жди меня на дороге у водокачки. Можем куда-нибудь съездить на машине.
— На машине? — встревоженно переспросил Брон.
— Да, — сказала она. — Если повезет, будет светло, сейчас ведь полнолуние. Разве только нагонит тучи.
11
Брон с самого утра старался не показываться Кэти на глаза, и, только когда в окне ее спальни зажегся свет и он понял, что она собралась спать, он тихонько пробрался к гаражу, где стоял «остин», и отпер его. Проверив, достаточно ли бензина, и осмотрев покрышки, он включил и тотчас выключил зажигание. Хорошо, что Ивен еще не возвращался. У Брона язык бы не повернулся сказать брату, что он опять поедет на машине, не имея прав. Надо будет вести ее как можно осторожней и далеко не уезжать — заехать за Уэнди к водокачке, потом найти какой-нибудь укромный уголок поблизости и там остановиться. Поразмыслив, он решил привести себя в порядок и сразу же ехать к месту встречи, пусть даже придется ждать там целый час.
Он вымылся и едва успел взяться за бритву, как погас свет. На «Новой мельнице» это случалось нередко, но на сей раз света не было долгих полчаса, и, только когда он снова загорелся, Брон смог достать свежее белье и рубашку. В окне за стремительно бегущими облаками то вспыхивала, то меркла луна, словно и она тоже подключена была к ненадежной электрической станции «Металла». В кои-то веки ночь, кажется, выдалась погожая. Зря он все-таки не уговорил Уэнди обойтись без машины. На него вдруг напал суеверный страх — как бы не навлечь на себя беду.
Еще одеваясь, он услыхал внизу какое-то движение. В трубах зашумела вода — кто-то открыл кран. Из кухни доносились негромкие звуки. Это могло означать только одно: вернулся Ивен. Брон взглянул на часы — до встречи у водокачки остается двадцать минут. Как же быть? Он спустится вниз и посмотрит, чем там пахнет, и, если, как он опасается, Ивен будет не слишком приветлив, он сразу же отправится пешком, чтобы не опоздать.
Брон надел куртку, наскоро провел по волосам гребенкой и спустился вниз. В общей комнате горел свет, дверь во двор открыта настежь. И тишина. Брон остановился, прислушался. Прошла минута, и из-за кухонной двери снова донеслись звуки — там что-то чистили жесткой щеткой. Брон повернул ручку, осторожно отворил дверь кухни. Ивен стоял там — спиной к двери, в одном белье, он склонился над кухонным столом, на котором были разложены брюки. Когда Брон вошел, он собирался обмакнуть щетку в тазик с водой.
— Ивен, — позвал Брон. И с улыбкой шагнул было к нему, но сразу остановился: спрятав руки за спину, Ивен круто обернулся. Брону стало страшно. Ивен сошел с ума, подумал он. В лице брата ни кровинки — восковое, глянцевое лицо трупа. Нос заострился, точно клюв, рот как щель, губ не видно, в углах собрались восковые складки. Позади него с потолка свешивалась тусклая лампочка без колпака, и глаза его совсем утонули в тени глубоких, будто у черепа, глазниц. Ноги босы и в грязи.
— Ивен! Что случилось? Где ты пропадал?
Только что на столе, за тазиком, стоял электрический фонарь в виде длинной металлической трубки и вдруг исчез. Озадаченный Брон снова неуверенно шагнул к Ивену, и тут Ивен взмахнул заведенной за спину рукой. Что-то мелькнуло над левым глазом Брона, треснуло, точно яйцо, он вдохнул воду и на миг захлебнулся. В провале рта у Ивена блеснули зубы. Рука с фонарем снова взметнулась — Брон отдернул голову, и тяжелый удар пришелся в плечо. До сих пор Брон был скован изумлением, но вот Ивен снова замахнулся, на нижней губе у него вскипела слюна, рыбьи глазки выкатились из темных глазниц — и Брон очнулся, схватил его за руку, выкрутил ее, рывком завернул за спину. Хилое, почти невесомое тело Ивена повернулось, ноги подломились. Между братьями очутился угол стола, и, когда Ивен, падая, ударился о него лицом, Брон услышал, как что-то хряснуло.
Ивен лежал на полу, точно тряпичная кукла, — длинные тощие ноги в перепачканных кальсонах подергивались, как у лягушки, голова откинулась вбок под каким-то немыслимым углом, на переносице наливалась кровью ссадина, из ноздри на желтый воск верхней губы струйкой бежала кровь, затекала в угол рта и вновь сползала по щеке. Дышал он тяжело, прерывисто, хрипло.
Гнев Брона угас. Ему стало жаль Ивена. И он не на шутку встревожился. При больном сердце такое опасно. Он подошел к раковине, налил в чашку воды и сбрызнул Ивену лицо. Ивен тотчас заскреб по полу ногами и руками, точно пытался подняться со льда. Наконец перевернулся, стал на колени. Брон обхватил его за плечи, хотел помочь, но Ивен оттолкнул его руку.
— Ивен, дружище, сядь, приди немного в себя. Ты болен.
Ивен отмахнулся. Его качало и шатало, вот-вот снова упадет, Брон не спускал с него глаз, готовый кинуться и поддержать его. Но Ивен вдруг рванулся к черному ходу и, прежде чем Брон успел его схватить, распахнул дверь и исчез во тьме.
Брон с минуту постоял на пороге, вглядываясь в пляшущие по двору пятна теней и лунного света. Ивен как в воду канул. Брон вернулся в кухню, постоял в раздумье, понурив голову. На линолеуме появились два алых пятнышка, от них разбегались острые лучики брызг. Брон потрогал рукою бровь, посмотрел на пальцы — они были в крови. В зеркале он увидел, что бровь рассечена, и не успел он промокнуть ее носовым платком, как рана снова налилась кровью. Надо поскорей заклеить, подумал он. Ведь через пять минут встреча с Уэнди.
И тут — не впервые с тех пор, как он поселился на «Новой мельнице», — ему вдруг почудилось, что за ним кто-то следит. Уголком глаза он уловил за раскрытой дверью общей комнаты мимолетное движение. Прижав к брови платок, он подошел к двери, распахнул ее пошире, но никого не увидел. И скрип шагов обернулся ветром, что рвал и терзал отодранный край толя на крыше сарая. Померещилось, подумал Брон, просто я не в себе.
Теперь он уже рад был бы отложить встречу с Уэнди. Грудь рубашки забрызгана кровью, а переодеться некогда. Он только и успеет, что обтереть лицо мокрым полотенцем, вывести машину из сарая и домчаться к ней.
Когда на следующее утро Кэти спустилась на кухню, Брон сидел за столом и на блюдце перед ним стояла пустая чашка. Он сосредоточенно пристраивал чайную ложку, точно коромысло, на край чашки. Кэти сразу бросилось в глаза, что бровь у него заклеена пластырем, грудь рубашки вымазана и он не брит. Наверно, его не было всю ночь, решила она, и он только что вернулся. А в доме как-то непривычно, какое-то беспокойство разлито в воздухе. Ах вот оно что — тишина. Она еще не привыкла, что здесь теперь нет часов.
Брон привстал. Улыбка его показалась Кэти неестественной.
— Где Ивен? — спросила она. — Ведь вечером он, кажется, приходил?
— Он уехал в Эберистуит. Первым автобусом. Час назад.
— В Эберистуит? Что это вдруг?
— Как я понимаю, — повидать какого-то мистера Дигби. Насчет денег на постройку церкви.
— В жизни не слыхала ни про какого мистера Дигби, — сказала Кэти. — И что нашей общине нужны еще деньги, тоже в первый раз слышу.
— Так он мне сказал, — ответил Брон.
Она встревожилась, пристально на него посмотрела. Глаза у него прикрыты. Лицо измученное.
— Что у тебя с бровью?
— Это Ивен, — ответил Брон. — Ударил меня фонарем. Надо было зашить, но теперь, наверно, уже поздно.
— Господи, — выдохнула Кэти.
— Такого, как вчера вечером, со мной еще не случалось. Вхожу на кухню, вижу — стоит Ивен в одном белье и чистит свой костюм. Я подошел было, хотел сказать, мол, наконец-то ты вернулся, а он вдруг как даст мне фонарем по голове.
— Я слышала шум, да так испугалась, что не стала спускаться.
— Это еще не все, слушай дальше. Он несколько раз с маху ударил меня, потом я наконец заставил его выпустить из рук фонарь, тогда он выбежал с черного хода, прямо как был, в одном белье, и только его и видели. Точно с ума сошел. Ну я, конечно, решил, что оставаться мне здесь больше нельзя, надо сегодня же уезжать. Но утром он вышел как ни в чем не бывало. О вчерашнем ни слова. Я ему говорю: я подумал и решил, что лучше нам отказаться от этой затеи насчет фермы, а он и слышать не хочет. Пошел, достал подписанное соглашение и тут же мне его отдал.
Что-то тут не то, подумала Кэти. Поди разберись, что у них стряслось, ничего не поймешь.
— Когда же он вернется?
— Он сам толком не знал. Либо завтра, либо послезавтра — как потребует дело.
— Деньги на постройку церкви?.. Как, ты говоришь, зовут этого человека?
— Дигби, — ответил Брон.
— В первый раз слышу. А он мне всегда все говорит. Я должна была бы знать про этого Дигби.
— Ивен пошел к поезду десять десять на Эберистуит, еду, говорит, повидать своего старого друга мистера Дигби. Так и сказал «старого друга», это я хорошо запомнил. Он еще как-то связан с Советом свободных церквей.
— Но почему нашей общине вдруг понадобились деньги на новую церковь, ведь прихожан день ото дня становится меньше?
— Откуда я знаю?
— А чудного ты в нем ничего не заметил?
— Какой-то он был тихий, а в остальном как всегда. Велел заботиться о тебе, пока его не будет. Сказал слово в слово: «Я знаю, Кэти остается в хороших руках».
— И он был просто тихий — и все?
— Тихий, — ответил Брон. — Я бы сказал, подавленный. Да оно и понятно: ведь всего несколько часов назад он ни с того ни с сего огрел меня по лбу.
— А насчет денег ничего не говорил? — спросила Кэти. — В доме нет ни гроша. И по счетам заплатить нечем, и еды купить не на что. Бейнону тоже полторы недели не плачено.
— О деньгах он только одно сказал: что сегодня придет представитель фирмы сельскохозяйственных машин за очередным взносом и чтоб либо ты, либо я — кто окажется дома — попросили его подождать недели две. Сам, мол, уехал отдохнуть.
Кэти покачала головой:
— Быть этого не может.
— Почему?
— Да потому что это все равно что соврать, а он, по-моему, в жизни не врал.
— Когда кредиторы хватают за горло, чего не сделаешь.
— Все равно врать он не стал бы. Уж не повредился ли он в уме? Что на нем было сегодня надето?
— Да что всегда.
— Неужели рабочая одежда?
— Ну да, в чем он все время ходит.
— Ни за что бы он так не сделал. Разве он бы поехал в Эберистуит или еще куда в рабочем? Да ни за что на свете.
Хотя между ней и Ивеном разверзлась пропасть, у Кэти было такое чувство, что само предположение это бросает тень и на нее.
Брон кивнул:
— Верно, это совсем на него не похоже.
— Кстати, — вдруг спросила она каким-то уж слишком ровным голосом, — ты ночью уезжал на машине, да?
— Мне надо было кое с кем повидаться. А что?
— Да нет, ничего.
— Вот что, — сказал Брон. — Хоть я и говорил Ивену, что согласен стать совладельцем фирмы, я потом передумал. Как на это ни посмотри, может, Ивен сейчас и раскаивается и винит себя за то, что вел себя вчера не по-христиански, а все равно в душе он, видно, настроен против меня. Я пока останусь, помогу тебе на ферме, а когда он вернется, надо нам будет подумать, как быть дальше.
12
В пять минут девятого зазвонил телефон, и Джонс, который встал еще на заре и переводил стихи, сейчас же взял трубку.
Звонил Фенн.
— Приятно, что вы уже на ногах в такой час, Эмрис. — По телефону Фенн обычно разговаривал сухо и отрывисто, но сейчас голос у него был довольный: из утренней почты он узнал, что выиграл в лотерею тридцать три фунта.
— Навожу порядок в своих бумагах, — сказал Джонс.
— Только что кто-то позвонил и сообщил, что на «Новой мельнице» ночью совершено убийство, — весело объявил Фенн.
— Опять «Новая мельница»!
— Звонивший, как обычно, не пожелал назваться и повесил трубку. К телефону подходил Прайс, говорит, что тот явно пытался изменить голос. Как мы выяснили, звонили с кросс-хэндской дороги, из автомата, что на повороте к «Новой мельнице». Я этому звонку значения не придаю. Только за последнюю неделю у нас было уже две ложные тревоги. Но вы все-таки туда наведайтесь. — Он помолчал. — Если не выясните ничего определенного, можете не являться с докладом.
Хитрит, подумал Джонс. Значит, письменного доклада ему не нужно. Потрачу целое утро впустую и даже отчитаться будет не в чем. А время потратить придется — с толком или без толку.
— Что ни говори, занятный оборот, — сказал Фенн. — Вы получили копию выписки из дела Брона Оуэна?
— Разумеется.
— Думаю, рано или поздно нам не миновать с ним крупных неприятностей. Неплохое начало положил он на днях в Суонси.
— Не беспокойтесь, я за ним приглядываю, — сказал Джонс.
Сразу же вслед за Фенном позвонил Хьюи Филлипс, сосед Ивена Оуэна, живущий на восточном склоне Пен-Гофа. Это был один из множества разорившихся фермеров, что перестали возделывать неблагодарную почву и жили на арендную плату, сдавая участки дачникам на колесах. Участок Филлипса, расположенный в самой высокой части Пен-Гофа, куда можно было добраться на машине, назывался «Большой телескоп»: в редкие ясные дни отсюда открывался вид на далекий треугольник моря. Участок был самый выигрышный в здешних местах, и, хотя на нем размещалось всего шесть фургонов, он приносил немалый доход, и Филлипс начал уже подниматься по общественной лестнице: был он теперь прихожанином не самой жалкой в Кросс-Хэндсе церкви, известной в округе под названием «Грош на тарелочке», и надеялся возвыситься до Хебронской.
— Уж не знаю, Эмрис, может, вам это и ни к чему, а только у меня на «Большом телескопе» завелся браконьер.
— А на кого он там охотится, Хьюи?
— Силки ставит на открытых местах, уничтожает фазанов.
— Приезжий?
— Да, и как на грех из постоянных. Стивенс его фамилия. Англичанин. Важная шишка на «Металле». Всегдашний мой постоялец, но такого не могу ему спустить. Больно люблю всякую живность. Капканы все за оградой, между моим участком и лесом.
Новость разозлила Джонса. Он знал, что за народ останавливается на «Большом телескопе» — какой-нибудь богатый лавочник из Вулверхемптона или заносчивый владелец фабричонки. Джонс вывел велосипед и отправился прямиком к «Большому телескопу», решив на обратном пути заехать на «Новую мельницу».
Ему были сильно не по вкусу эти кемпинги, и все же он поневоле восхищался деловой хваткой Филлипса. Фермером Филлипс был никудышным, а вот в этом новом предприятии у него оказался редкостный нюх. Он содержал свой участок в наилучшем виде. Засыпал колеи на неширокой дороге, ведущей к «Большому телескопу», обсадил участок живой изгородью, чтобы избавить своих богатых клиентов от тягостного зрелища, которое представляли собой приехавшие отдохнуть бедняки и их фургончики, что лепились на каждой мало-мальски ровной площадке по западному склону Пен-Гофа, до самого подножия.
За участком была густая дубрава; в старину губители пен-гофских лесов не тронули ее, считали, что овчинка выделки не стоит: уж слишком трудно до нее добираться. Здесь чудом сохранились фазаны — дичь, в которой чувствуется что-то орлиное, — они нашли здесь прибежище и ухитрились приспособиться к суровому климату. От лис и одичавших кошек спасались на вершинах деревьев, где и проводили большую часть времени.
Джонс прислонил велосипед к воротам и, прежде чем заняться делом, залюбовался открывшимся перед ним отлично ухоженным участком. В разных концах его далеко друг от друга стояли шесть домов-фургонов — таких больших и роскошных он еще не видывал. Жили пока, видимо, только в одном — возле него стоял виннокрасный «роллс-ройс». Фургон окружала лужайка, а прихотливо вымощенная дорожка, вдоль которой со столбов свешивалась гирлянда фонариков, вела мимо электрической печи с вертелами к уборной с соответственно обозначенными отдельными входами для мужчин и женщин.
Раздумье Джонса прервал слабый стон, донесшийся со стороны леса. Джонс пересек участок, нашел лаз в живой изгороди и пробрался за нее. Перед ним было узкое поле, в дальнем конце которого за невысокой стеной грубой каменной кладки начинался лес. И почти сразу же он увидел фазана — тот припал к земле посреди поля, вытянул шею. Джонс пошел к нему, птица не двигалась и, лишь когда человек наклонился и протянул руку, вдруг тонко закричала и вспорхнула, однако Джонс успел заметить, что одной лапки у нее нет.
Тогда Джонс повернулся и пошел вдоль изгороди в ту сторону, откуда несколько минут назад доносился стон. Вскоре он увидел мертвого фазана в капкане, а вокруг на траве — зерна пшеницы. Неподалеку дожидались добычи еще два капкана, а в третий попался лесной голубь, и им, видно, уже лакомилась кошка. В четвертом оказалась сама кошка — она перестала стонать и всхлипывать, только шипела от страха и злости и изо всех сил старалась выдернуть из капкана переднюю лапу, изорванную так, что виднелась бело-розовая кость.
Джонс оглянулся — чем бы ее прикончить? — но поблизости не было ничего, кроме полусгнившего дубового сука. Он вернулся к фургону, позвонил, и ему открыл человек в халате. Человек этот стоял на верхней ступеньке и сверху вниз глядел на Джонса. Он сразу же прикрыл за собой дверь, и Джонс лишь мельком увидел, что внутри — сплошь шелк и полированное дерево.
— Что вам? — спросил тот.
— Извините за беспокойство, сэр, но тут в капкан попала кошка. Не найдется ли у вас чего-нибудь, чем бы я мог избавить ее от мучений?
Человек был очень высокий, лицо крупное, на щеках синие прожилки, под носом короткие рыжие усики, и смотрел он не на Джонса, а куда-то поверх его головы.
— Погодите, — сказал он.
Он вошел внутрь и закрыл за собой дверь. Окно было чуть приоткрыто, из него просачивалась негромкая музыка вместе с запахом жарящегося бекона. Из травы поблизости вспорхнул жаворонок, еще с минуту слышалась незатейливая его песенка. Пробрели две овцы, за ними среди вереска шариками ртути катились ягнята. Джонс уже во второй раз посмотрел на часы, но тут дверь отворилась, и владелец фургона наконец вышел. Теперь он был в офицерской шинели, накинутой на плечи поверх халата, в замшевых сапогах.
— Сюда, — сказал он.
Джонс прошел за ним к «роллс-ройсу». Человек вынул ключ и отпер багажник.
— Вон там, в углу, — сказал он, — сумка с инструментами. В ней молоток. Можете взять.
Джонс нашел сумку, расстегнул ее, вынул молоток, и человек, глядя в сторону, захлопнул багажник.
— Когда сделаете свое дело, положите молоток возле заднего колеса машины.
— Благодарю вас, сэр. Извините, что потревожил.
— Не забудьте вытереть молоток.
Офицер поглядел на небо, презрительно фыркнул, засунул руки в карманы шинели и прошествовал к своему передвижному дому, оставив за собой в застывшем воздухе едва слышный запах одеколона.
Большая, ловкая, совсем обезумевшая кошка отчаянно билась за жизнь, и Джонс, которого одолевала тошнота, прескверно справился с ролью убийцы. Когда все было кончено, он вынул тело из капкана и забросил под куст. Потом пошел дальше вдоль живой изгороди разыскивать остальные капканы. Вглядываясь в заросли ежевики, стараясь не пропустить ни единого капкана, запрятанного среди сухих папоротников и опавших листьев, он увидел что-то блестящее, нагнулся и поднял серебряную зажигалку. Вернулся к фургону, швырнул капканы рядом со своим велосипедом и позвонил в дверь.
На пороге показался высокий офицер. Он поглядел поверх головы Джонса, потом, нахмурясь, взглянул ему в лицо. На сей раз он был в пижамных штанах, вокруг шеи — полотенце, обнаженные плечи и грудь заросли пучками рыжеватых седеющих волос.
— Ну-с?
— Это случайно не ваша, сэр? — Джонс протянул ему зажигалку.
Тот взял ее двумя пальцами, оглядел с одной стороны, с другой. Левую руку сунул под пояс штанов и почесал живот.
— А почему вы так думаете?
— Я подобрал ее вон там, у изгороди. На ней, кажется, какие-то инициалы.
— Представьте, вы не ошиблись. Благодарю. Я уже поставил на ней крест. На днях мы ушли, а дверь не заперли, и кто-то у нас побывал. — По его властному разбойничьему лицу вдруг скользнула хитренькая улыбочка.
— Что же вы нам не заявили, сэр?
Улыбки сразу как не бывало, офицер снова нахмурился.
— Давно убедился, что это пустая трата времени.
— В подобных делах мы все-таки рассчитываем на помощь населения, — сказал Джонс. — Если нам не сообщают о преступлении, мы мало что можем сделать. У нас ведь тогда связаны руки.
— Пожалуйста, не учите меня, констебль.
Джонс с трудом проглотил унижение. Ему был ненавистен этот тип, этот прирожденный повелитель, который, бесстыже почесывая брюхо и даже не удостоив его взглядом, с такой легкостью поставил его на место. Образцовый англичанин, из тех, под чью дудку пляшут все, кто им подвластен, стоит такому слово сказать — и ты превращаешься в ничто, такой и в мятой пижаме — важный барин, а люди вроде Джонса даже во фраке и белом галстуке ухитряются выглядеть деревенщиной; господа эти источают такое могущество, что, когда они останавливают машину, чтобы справиться о дороге, местные полисмены, хоть и терпеть их не могут, помимо воли вытягиваются и отдают им честь.
— Разрешите узнать, сэр, у вас и еще что-нибудь пропало?
— Кое-какие пустяки у жены.
— Не соблаговолите ли их перечислить, сэр?
— Нет, не соблаговолю. Чего ради вам беспокоиться, раз уж я сам не беспокоюсь.
— Вы мистер Стивенс, не так ли? — спросил Джонс.
— Майор Стивенс. И между прочим, член совета графства, о чем, я полагаю, вам полезно узнать.
— Как нам сообщили, тут появился браконьер, который беззаконно расставляет капканы, и предполагалось, что вы не откажетесь нам помочь.
— Кто же это высказал такое предположение?
— Боюсь, я не вправе вам ответить.
— Не вправе? Так вот: тот, кто это предположил, сильно ошибается.
— С тех пор как вы сюда приехали, сэр, вам не случалось видеть или слышать что-нибудь подозрительное?
— Нет, не случалось. Сделайте милость, констебль, избавьте меня от вашего общества.
— По моим сведениям, браконьерством занимается кто-то, кто живет в одном из фургонов на этом участке.
Майор снова устремил взор в небеса и сильнее нахмурился.
— Это что, допрос?
— Не более как обычное расследование, — ответил Джонс. — Насколько я мог заметить, в других фургонах никто еще не живет.
— Что вы хотите этим сказать?
— Предоставляю вам решить самому, сэр.
— Я вынужден просить вас удалиться, да поскорее.
Чуть поодаль от фургона, рядом с печью для сжигания мусора, стояло мусорное ведро; Джонс еще раньше заметил его и теперь подошел и приподнял крышку. Помимо пустых бутылок и консервных банок здесь было полно перьев.
— Я смотрю, у вас нынче к обеду фазан, сэр, — сказал Джонс.
— Вы нарушаете закон, констебль, — сказал майор.
— Я веду обычное расследование, как того требует мой долг, сэр.
— Но вы находитесь на моем участке, а я просил вас уйти. Я арендую участок в тридцать квадратных ярдов, на котором стоит этот фургон. Если я попросил вас покинуть мой участок, а вы все еще здесь, значит, вы нарушаете закон, который касается в том числе и полицейского.
— Раз вы так на это смотрите, сэр, больше нам сейчас говорить не о чем. Мне остается только пойти и доложить начальству.
Джонс направился к велосипеду, и тут майор окликнул его:
— Вы ведь из Кросс-Хэндса?
— Совершенно верно, сэр. Констебль Джонс.
— Прекрасно. Завтра я играю в гольф со старшим констеблем. Не премину сказать о вас словечко-другое.
— Воля ваша, сэр.
Отец Джонса был третьесортный спирит-медиум, и загробный мир в его видениях представал таким жалким, так походил на тупое, безрадостное существование богом забытой уэльской деревушки, что это надолго вселило в мальчика мучительный страх смерти и обесценило в его глазах необъяснимый дар отца. В нем росло отвращение к этой странной способности, которая вроде бы перешла к нему по наследству. Он замечал куда больше, чем ему хотелось, был жертвой изменчивых настроений и предчувствий. Для полисмена все это представляло серьезное неудобство.
Вот и сейчас: он ехал на велосипеде по ухабистой, размытой дождями дороге, что спускалась по южному склону Пен-Гофа, и, едва завидев «Новую мельницу», ощутил в себе нежеланный дар Джонса-старшего. Приземистая, уныло-серая, нескладная постройка эта, казалось, источала едкий дух несчастья и заражала им все окрест. Да здесь все фермы такие, пытался уверить себя Джонс. Здесь не меньше десятка ферм, на которых живут убого, нищенски, лишь тем, что удается взять у горы Пен-Гоф. Пять, шесть, десять поколений вырастали здесь в таких условиях, при которых истинная добродетель оказывалась непозволительной роскошью, а мелкие пороки, такие, как скаредность и толстокожесть, приходилось возводить в добродетели, именуемые бережливостью и стойкостью. Медиум malgré-soi[12]. Джонс ощущал в воздухе этих мест запах злосчастья и тщетности всех усилий, столь же явственный и неистребимый, как запах выгребной ямы. Подъезжая к «Новой мельнице», он старался не замечать взлетевшую сороку — предвестницу беды, и ворону на коньке крыши, и букет цветущего терновника, выставленный в одном из окошек нижнего этажа, словно бы для того, чтобы умилостивить злые силы.
Колеи стали глубже, и он снова слез с велосипеда и обошел пруд. В жидком иле под ветвями плакучей ивы, усыпанной желтыми пушистыми сережками, что-то привлекло его внимание. Из грязи всплыл раздувшийся труп кошки, и в придачу к запаху стоячей воды потянуло падалью.
Джонс вкатил велосипед во двор, стукнул разок в дверь, слегка побарабанил по ящику для писем и не успел еще отнять руку, как дверь отворилась, хотя шагов он перед тем не слышал, и на пороге показалась Кэти.
— Миссис Оуэн?
— Да. Заходите, пожалуйста.
Губы ее при этих словах сложились в подобие улыбки, но глаза из-под опухших, покрасневших век глядели отчужденно. На ней был халатик из плотной дешевой ткани. Волосы ее, неуложенные, впервые за много лет оставленные без ухода, напоминали выцветший нерасчесанный парик. Кажется, только вчера она стояла за прилавком в магазине «Маркс и Спенсер» и он покупал у нее шерстяные с нейлоном носки. Она изменилась до неузнаваемости — и далеко не к лучшему. Уподобилась здешним обитателям, в которых Пен-Гоф задавил душу живую. В предвоенные годы, до того как прекратился экспорт людей из Уэльса в Англию, стоявший на втором месте после экспорта угля, она уехала бы в Лондон и стала бы служанкой либо проституткой. И еще вопрос, жилось ли бы ей хуже, чем сейчас.
— Прошу прощения за беспокойство, миссис Оуэн, — сказал Джонс, — но нынче утром кто-то позвонил по автомату в бринаронский полицейский участок и сообщил, что на «Новой мельнице» что-то стряслось. Мы не очень-то верим таким звонкам, но все-таки должны наведаться, посмотреть, все ли у вас в порядке.
— Нет, у нас ничего не случилось, мистер Джонс. Вы ведь мистер Джонс, да? Но все равно, спасибо, что заехали.
Из кухни вышел Брон.
— Это мистер Джонс, — сказала Кэти. — А это мистер Брон Оуэн, мой деверь.
— Мы уже знакомы, — сказал Джонс.
— Не хотите ли чайку? — предложил Брон.
— Нет, спасибо. Вы очень любезны. Но у меня еще много дел.
С новым интересом и со всей возможной осторожностью Джонс приглядывался к Брону. Когда они встретились в прошлый раз, Брон был просто мелкий нарушитель закона. А теперь он, выходит, опасный преступник. На вид парень тихий. Чуть ли не робкий. Такого трудно представить с револьвером или с ножом.
Джонс увидел в нем себя, только помоложе и покрепче, — молодой человек, на чьем лице обнаружится печать интеллекта, когда волосы поредеют и отступят от лба. Но сейчас он вовсе не отличался привлекательностью, какую разглядел в нем Джонс, — длинная наклейка над левой бровью придавала ему даже некоторую вульгарность. Должно быть, он нравится женщинам: едва он вошел, и в Кэти, и в самой атмосфере комнаты что-то изменилось. Надо думать, она с ним спит.
— Да, пока не забыл, — сказал Джонс, — этот парень, Бейнон, все еще работает у вас?
— Работает, мистер Джонс. Наверно, он сейчас в коровнике. Он вам нужен?
— Пожалуй, нет, миссис Оуэн, большое вам спасибо. Просто я хотел знать, здесь ли он, вот и все. Кстати, вы его давно видели?
— Полчаса назад был тут, возле дома.
— Странный мальчишка, — сказал Джонс. — Такие вроде всюду не ко двору. Как вы с ним ладите?
— Да что ж, — сказала Кэти, — по правде говоря, жаловаться нечего. Работает на совесть. Это главное. Ивен говорит, нам нипочем бы не найти ему замену.
— Да, наверно, он прав. Нынче всем подавай веселую жизнь. Кегельбаны да бары. Ни до чего другого им, похоже, и дела нет. Кстати, Ивен дома?
— К сожалению, нет, мистер Джонс. С самого утра уехал.
— Жаль. А я хотел было повидать старого приятеля. Нам уж сколько времени не удается посидеть потолковать. А когда ждете его обратно?
— Завтра, на худой конец послезавтра. Он будет жалеть, что вы его не застали. Что-нибудь ему передать?
— Да, пожалуй, нет, миссис Оуэн. Просто скажите, что я был и спрашивал про него. Наверно, поехал на север, в свои края?
— На этот раз — в Эберистуит, мистер Джонс. По делам церкви, — сказала Кэти. Голос ее зазвучал оживленнее, с едва уловимой толикой гордости.
— Может, из Эберистуита он и заедет в Морфу, раз уж будет там поблизости, — заметил Брон. — Это ведь рукой подать.
— Да, наверно, заедет, — сказал Джонс.
Он собрался уходить. Но почему же здесь все пронизано печалью, она ощущается, словно стойкий запах старых чехлов и занавесок, неотделимый от этих викторианских ферм? А может, тоска эта исходит вовсе не от Оуэнов, может, они получили ее в наследство, так же как зловещих птиц, наводнения, кровавые зори и угрюмый Пен-Гоф, что хмуро глядит в окна, выходящие на север. Джонс изо всех сил старался поверить, что красные от слез глаза Кэти и наклейка на лбу Брона тут ни при чем.
Они проводили его до калитки, и он снова оседлал свой велосипед.
— Спасибо, миссис Оуэн. До свидания, мистер Оуэн.
Ему нечего сказать Фенну, уверял он себя. «Если не выясните ничего определенного, можете не являться…» — сказал Фенн. Все в порядке. Все объяснено. Анонимные звонки не врут разве что в одном случае из десяти, и это не тот случай.
Джонс решил вернуться на «Большой телескоп» — вот там и правда есть чем заняться. Он там обмерит стоянку и все вокруг, потом поедет к себе и засядет за план — возьмет самую лучшую чертежную бумагу, кронциркуль, угольник, стальную линейку с сантиметровыми делениями и красиво все расчертит чернилами двух цветов. Скрепкой приколет план к своему докладу на четырех или пяти страницах и отправит его завтра в Бринарон инспектору Фенну.
Чтобы приступить к этой операции с чистой совестью, надо было разрешить оставшееся крохотное сомнение, и Джонс заехал в придорожное кафе в Кросс-Хэндсе, куда в этот час во время третьего рейса на пути в Бринарон забегала перекусить Эгнес, романтически настроенная кондукторша местного автобуса.
— Доброе утро, Эгнес, голубушка. Скажите, мистер Оуэн ехал с вами сегодня рейсом семь десять?
— Нет, мистер Джонс.
— Так я и думал. Должно быть, поехал на машине.
После этой заминки, естественно, пришлось обратиться к Томасу Ллойду, который проверял билеты на Бринаронской станции.
— Ты Ивена Оуэна знаешь, Томас?
— Их у нас трое, — ответил тот.
— Который с «Новой мельницы».
— Мы с ним приятели.
— Между нами, Томас, дружище, ты когда его в последний раз видел?
— На праздник, в сентябре.
— А сегодня утром он случайно не ехал в Эберистуит?
— Нет, не ехал.
— Точно?
— Уж куда точней — в Эберистуит ни одна душа сегодня не ездила.
Заходить к Айвору Притчарду, этому субъекту без возраста, с елейным голосом и извращенными наклонностями, который еще в воскресной школе отбил у него, мальчишки, всякий вкус к религии, и проверять басню насчет денег на церковь не имело никакого смысла. Ивен не уехал в Эберистуит. Он вообще никуда не уезжал. Прячется где-нибудь у себя в сарае, стараясь оправиться от удара, который обрушился на него в воскресенье в Хебронской церкви.
13
Прошло два дня, три, а от Ивена не было ни слуху ни Духу.
Агент фирмы сельскохозяйственных машин заходил, как и предполагалось, в понедельник и, казалось, не слишком удивился, не получив ожидаемого чека. Брон стал извиняться, но он отмахнулся.
— Я приезжаю вовсе не за деньгами. Цель моих ежемесячных визитов — помочь, если возникают затруднения с машинами. Ваш брат обычно давал мне при этом чек на очередной взнос, но он вполне может послать его по почте на адрес компании, когда найдет возможным. Передайте ему, что я загляну, как обычно, через месяц.
В понедельник же среди дня заехал молодой бойкий мистер Эммет, судя по лицу, эдакий пронырливый деляга, — Брон вызвал его по телефону в конце прошлой недели, когда полон был радостной готовности всерьез приняться за работу; от порыва этого теперь не осталось и следа. О своем звонке он просто забыл. Эммет разъяснил ему суть нового проекта: владелец земли сперва продает ее городской казне, а затем арендует ее у нового владельца — это, на взгляд Эммета, истинное спасение для таких оскудевших ферм, как «Новая мельница». Он настоял, чтобы ему разрешили осмотреть подворье, заверив Брона, что это не накладывает на него решительно никаких обязательств. Брон дал согласие, и Эммет занялся делом. Часов в пять он снова появился, лицо его и руки, исхлестанные ветрами, что гуляют на Пен-Гофе, стали багрово-синими. Он сбросил резиновые сапоги, смыл с них грязь и принялся выкладывать свои расчеты. Вежливо, но равнодушно слушал Брон посулы Эммета: на деньги, полученные от казны, Оуэны смогут превратить свой участок на склоне горы и в болотистой долине в сущий рай; любая культура, произрастающая в умеренном климате, принесет им богатые урожаи. Эммет полагал, что казна заплатит им тысяч шесть-семь. Если он и ошибается, то на несколько сот фунтов, не больше. Брон с трудом заставил себя выслушать Эммета, но счел, что из вежливости надо спросить хотя бы, много ли времени потребует заключение сделки, если они на нее решатся.
— Ну, я думаю, мы уже через неделю сможем вручить вам чек.
Обострявшееся безденежье, помимо воли Кэти и Брона, постепенно сближало их, и пришлось им, осаждаемым материальными затруднениями, заключить союз, хотя для Кэти союз этот был вынужденным.
Неоплаченных счетов с каждым днем становилось больше. Кэти совсем растерялась, когда пришлось отказать булочнику, попросившему с ним расплатиться. Ведь это подорвет доверие всех поставщиков, и скоро ей перестанут давать в кредит. Она не смогла принять посылку с химическими удобрениями, посланную наложенным платежом. Но особенно она смутилась, когда, сказав Бейнону, что ему придется немного подождать денег, услышала в ответ: «А на вас, Кэти, я могу работать и задаром», причем впервые он назвал ее просто по имени.
— Мне кажется, этот парень терпеть меня не может, — сказал Брон.
— Да нет. Просто он боится людей.
— И вот еще что: не нравится мне, как он на тебя смотрит. Что до меня, я предпочел бы с ним расстаться.
— Мы без него совсем увязнем. Можешь мне поверить.
Они кормились только тем, что давала ферма, ничего не прикупая. Утекли последние несколько шиллингов Брона. Теперь он уже не мог открыто зайти в «Привет» выпить пива. Так прошла неделя.
— Нет ли в доме чего-нибудь, что можно заложить? — спросил он.
Кэти отперла шкаф, стоявший в спальне, где все еще спал Брон, и достала немного почерневшего столового серебра, которым долгие годы не пользовались. Брон взглянул на старинные поблескивающие приборы, и ему смутно припомнилось, как они красовались на празднично накрытом столе, когда мать приглашала к воскресному обеду доктора Гриффитса. Там же нашлись и уродливые старомодные золотые часы с тяжелой цепочкой.
— Почему бы тебе заодно не прихватить их тоже? — сказала Кэти. — Ивен все равно не станет их носить. Прошлый год он велел мне их отдать на благотворительный базар, да я не захотела, они ведь не ходят. А у Тэннеров на Торговой улице за них, может, что и дадут.
Кэти почистила серебро и ловко его завернула — недаром она полтора года работала упаковщицей, а Брон завел часы, потряс их, приложил к уху, потом опустил в карман.
Оказалось, что Тэннеры с Торговой улицы не только ювелиры и серебряных дел мастера, но еще и ростовщики.
— Договаривайся с ними как хочешь, только не называй нашего имени, — сказала Кэти. — Не то сразу пойдут толки. А это Ивену нож острый.
Главная лавка Тэннеров, витрина которой сверкала всевозможными драгоценностями, красовалась среди магазинов на Золотой миле, однако тех, кто приходил что-нибудь продать или оставить в заклад, направляли в заднее помещение, куда можно было попасть только с Голубой улицы.
Голубая улица была закулисной стороной Бринарона — кривой, узкой улочкой этой пользовались, когда спешили и хотели сократить путь или без помех справить ночью нужду. В единственной здешней лавчонке торговали сеном и конской упряжью. Здесь же была городская контора коммунальных услуг и бюро найма рабочей силы, а рядом, в бывшем товарном складе, стояли грузовики, вывозящие мусор. Множество переулков соединяло Голубую улицу с Торговой и Лэммас-стрит, так что, неся на продажу или в заклад какие-либо семейные реликвии, сюда нетрудно было проскользнуть незамеченным и юркнуть в затаившуюся под вывеской с тремя медными шарами дверь Тэннеров.
Брон, в новом костюме из магазина Бэртона, вошел в комнату, увешанную всяческими уведомлениями и предупреждениями, где стоял всего-навсего один пустой прилавок, и принят был мистером Сторсом, человеком с рассчитанно осторожными движениями и мягкими, точно у врача, манерами.
Ловкими, уверенными пальцами хирурга Сторс разворачивал серебро и выкладывал каждый предмет в ряд, на одинаковом расстоянии друг от друга, а чайник поставил носиком от себя, под углом девяносто градусов к разложенному на прилавке серебру. Еще не сняв последнюю оберточную бумажку, он уже определил наивысшую цену и ту, которую назовет для начала, прикинул их в уме и вывел окончательную цифру, но сперва надо соблюсти кое-какие правила игры. И он сделал вид, будто ищет пробы, а Брон с уважением наблюдал, как он священнодействует. Сторс достал лупу, поднял соусник и невидящим глазом уставился на его дно. Потом, казалось, заинтересовался часами, ловко раскрыл заднюю крышку и острым ногтем постучал в нескольких местах по механизму. Закончив мнимый осмотр, он вопросительно поднял глаза и, печально и сочувственно улыбаясь, ждал, чтобы в оправдание своего прихода Брон привел одно из тех привычных объяснений, которые постоянно приходится выслушивать от клиентов.
— Что толку держать дома все это старье, ведь им никто больше не пользуется, — сказал Брон.
Сторс ждал продолжения. Теперь клиент должен бы сказать: «Да и где сейчас сыщешь прислугу, чтобы чистила серебро». Но Брон молчал.
— Вот именно, вот именно, — сказал Сторс.
Сорок лет у Тэннеров не пропали для него даром. Он стал своего рода философом, на опыте убедился в справедливости некоторых истин. Если копнуть поглубже, все люди одинаковы. Он любил свое занятие — покупать и принимать в заклад, — важнейший бизнес на важнейшей бринаронской улице. Искусство покупать, полагал Сторс, куда тоньше искусства продавать.
— Ну и как, по-вашему, сэр, сколько вам следует за эти вещицы?
— Я хотел бы сначала услышать вашу цену.
Брон внутренне подготовился к маленькому обману, на который его толкала Кэти, и, усмехаясь про себя, заметил, что в речи его слышится неопределенный заморский выговор сущего мошенника: его можно принять и за горожанина-австралийца, и даже за американца.
— Вы хотите сказать, что у вас нет на уме никакой своей цены?
— Нет, почему же, но вам лучше знать, сколько вы платите за такие вещи.
Сторс с самого начала решил не давать больше ста фунтов.
— Мы можем дать фунтов семьдесят пять, — сказал он.
— Не больше?
По тому, как Брон спросил, Сторс понял, что он готов согласиться, и покачал головой.
— Я бы рад, но…
Быстрый кивок, означавший согласие, несколько насторожил Сторса. Чрезмерная доверчивость при таких сделках свойственна обычно людям, далеким от обыденной жизни, — солдатам, смотрителям маяков, преступникам, но едва ли можно причислить этого клиента к одной из двух первых групп. Вот если бы он предлагал драгоценности или дорогой фотоаппарат, Сторс понизил бы голос, как на похоронах, и попросил бы доказать, что вещи принадлежат ему, но серебряное блюдо и старые часы, пусть даже они и представляют кое-какую антикварную ценность… нет, тут опасаться нечего.
— Чек вас устроит, сэр?
— Мне удобней было бы наличными. Раз я в городе, хотелось бы кое-что купить.
— Видите ли, сэр, так уж у нас заведено. Не знаю, удастся ли мне уговорить мистера Тэннера изменить своему правилу. Пойду попробую.
— Был бы очень признателен, — сказал Брон.
Сторс вышел в другую комнату и достал с полки бухгалтерскую книгу покупок. Отпер шкафчик, налил себе очередную порцию хереса, отпил половину пищеварения ради, посмаковал и проглотил, потом достал чистый полотняный платок и тщательно утер рот. Очень мало вероятно, чтобы закладчик где-то стащил это старье, притом уже больше года ни одному вору не удавалось обмануть проницательность Сторса и всучить ему краденое.
Победно улыбаясь, он вышел к Брону.
— Я переговорил с мистером Тэннером, он согласен сделать для вас исключение. Вас не затруднит записать в книгу вашу фамилию и адрес?
Пока Сторс ходил за деньгами, Брон написал: «Герберт Лоуренс, Роузмаунт, Хейверфордуэст».
Миновала неделя, а от Ивена все не было вестей.
— Придется заявить в полицию, — сказала Кэти.
— Подождем еще денек-другой.
— По-твоему, он мог заехать в Морфу?
— Неужели он не позвонил бы или не написал? И вообще я не вижу, чего ради ему туда заезжать. Он мне говорил, что, когда они с матерью переехали, у них все связи оборвались.
— А я вот боюсь, вдруг у него сердце схватило, и он лежит где-нибудь в больнице.
— Если бы он попал в больницу, нам бы уже давно дали знать.
— Одного никак не пойму, с чего это он во всем рабочем поехал, — сказала Кэти. — Просто ума не приложу!
Брон чувствовал, что ему необходимо чем-то себя занять. Он позвонил в бюро найма, сказал, что у него есть опыт бухгалтерской работы, и ему назвали несколько фирм, где нужны люди. Но когда дошло до дела, Кэти собралась с духом и попросила его пока не уезжать.
— Не могу я оставаться на этой ферме одна-одинешенька, — сказала она. — Что-то здесь не так. А что — сама не знаю. Но только боязно мне.
Мало-помалу в Кэти росла уверенность, что Ивен не вернется, а заодно родилась надежда, в которой она и самой себе стыдилась признаться. Жизнь стала совсем другая. Даже заслонивший полнеба Пен-Гоф уже не мог помешать приходу весны. Каждый год в эту пору что-то в душе Кэти начинало потихоньку бродить, пыталось вырваться наружу и всякий раз бывало задавлено. И в этом году вновь шевельнулось — сперва осторожно, потом сильней, настойчивей. Оказывается, она не совсем закаменела и еще способна чувствовать и радоваться. Она помолодела, сбросила с плеч пятилетний груз безропотного смирения и вновь надеялась, а ведь рядом веселый, приятный, заботливый молодой человек.
Брон чувствовал, что Кэти переменилась, но отчего — не догадывался. Он не знал, куда себя девать, жаждал найти применение своим силам и под конец решил потолковать с враждебно настроенным Бейноном — отыскал его в коровнике, и тот, застигнутый врасплох, уже не мог удрать от разговора. Сигарету, предложенную Броном, он взять не пожелал.
— Как у тебя с расчисткой того участка от папоротника?
— Я его уже расчистил. И засеял.
Брон поразился, услыхав, какой у парня глубокий бас.
— А что у тебя за дела на сегодня?
— Коровы.
— Знаю. А еще?
— Дел всегда хватает.
— Ладно, я тебе помогу.
Брон пошел за Бейноном и, когда тот отвел коров на луг, снова перехватил его.
— С чего начнем?
Бейнон пошел под навес, где хранились инструменты, взял лопату и кирку.
— Если вы к такой работе непривычны, только время зря потратите.
— Там видно будет.
В перерывах между ливнями Бейнон рыл канаву, чтобы отвести воду с небольшого плоского болотистого участка на склоне горы: Ивен надеялся, что там удастся что-нибудь вырастить. Брон взял заступ, лопату, надел старый прорезиненный плащ и вслед за Бейноном поднялся на гору.
Принялись за работу.
— Только будем путаться друг у друга под ногами, — сказал Бейнон.
— Я начну пониже, — предложил Брон, — и пойду тебе навстречу. Какой глубины делать канаву?
— Чем глубже, тем лучше.
Брон вонзил лопату в землю, поставил на нее ногу, налег всей своей тяжестью, поднял фунтов пятнадцать хлюпающего торфа и откинул в сторону. Бейнон поглядел и криво, презрительно усмехнулся губастым ртом.
И покачал головой:
— Тут не силой надо, а сноровкой. С лопатой надо умеючи.
— А я на днях к тебе присматривался, — сказал Брон. — Кое-что усвоил.
Он снова вонзил лопату в землю и отбросил новую груду дерна и торфа. Он рад был случаю поразмяться.
Бейнон принялся копать выше по склону, а часом позже, когда мелкий дождичек смыл с его лица пот, он, тяжело дыша от усталости, отложил кирку и пошел поглядеть, как дела у Брона. Брон успел вырыть канаву почти вдвое длиннее, чем он, по обе ее стороны тянулась аккуратная насыпь. Бейнон недобро, по-кошачьи оскалился, обнажив синие, беззубые десны.
— Небось заранее приглядели местечко без камней, верно?
— Такая нынче жизнь, что зевать не приходится, — ответил Брон.
Немного погодя им пришлось вдвоем выворачивать большие валуны, и тут едва не случилось беды. Кирка Бейнона сорвалась с палки и просвистела над самым ухом Брона. Брон не мог сказать наверняка, небрежность это или кое-что похуже, но с этой минуты старался не поворачиваться к Бейнону спиной, внимательно к нему приглядывался и держался от него подальше.
Все та же почтальонша принесла Брону повестку — вызов в суд за вождение машины без водительских прав и за нанесение ущерба владельцам «ягуара» на сумму в 55 фунтов 10 шиллингов.
Накопились еще и другие немалые счета, по которым необходимо было заплатить не откладывая. Такие, например, как за распылитель для уничтожения сорняков — на 27 фунтов, и на 36 фунтов — за семена трав. Ни без распылителя, ни без семян никак не обойтись, и нужны они сейчас же. Начинается весна, и после долгой зимней экономии не миновать больших трат.
— Просто не знаю, что и делать, — сказал Брон.
Деньги, вырученные за семейное серебро, частью разошлись, частью предназначались на самые неотложные нужды. А снять что-нибудь со счета Ивена и думать было нечего, без его распоряжения банк не даст ни гроша.
— Надо продать несколько овец, — сказала Кэти. — Иначе не выкрутимся.
— Вряд ли это придется Ивену по вкусу.
— А нам выбирать не из чего, если не продадим овец, хозяйству пропадать. Ивен заказал пятьсот недельных цыплят, их вот-вот доставят. А чем платить будем? Да еще скоро очередной взнос за машины. В конце концов хочешь не хочешь, но Ивен взял тебя в совладельцы, так что, я думаю, ты можешь поступать по своему разумению.
Брон позвонил на рынок аукционистам.
— Дело хозяйское. Вы сейчас без труда возьмете свою цену. Даже с легкостью. В эту пору овец обычно не продают, но вам лучше знать. Нам, конечно, потребуется письменное распоряжение.
На следующее утро отобрали дюжину овец и на грузовике аукционистов отправили на рынок.
Второе свидание Брона с Уэнди было накоротке, под покровом множества предосторожностей. Они встретились, едва стемнело, в доме под горой, который стоял в одном ряду с домом констебля Джонса, где находился и полицейский участок. Место встречи было указано в записке, которую передал Брону его приятель Биллингз; провожаемый заливистым лаем собак, Брон вошел в пятый от угла двор и уселся на скатившийся некогда с Пен-Гофа валун; вскоре приоткрылась задняя дверь и зажегся свет.
Уэнди ждала его в крохотной каморке под крутым скатом крыши, где свалена была старая мебель, и в тесноте среди этого хлама они неловко ласкали друг друга. В жилищах, принадлежавших кросс-хэндской компании, люди не ведали уединения, и в нежный шепот Брона и Уэнди поминутно врывались отчетливо слышные разговоры семейства из комнаты под ними и тяжелые вздохи и сопение больной старухи за стеной. Предполагалось, что Уэнди пришла ее навестить.
Времени на объятия было совсем мало.
— У меня всего полчасика, — сказала Уэнди. — Кто знает, Оукс, того гляди, заявится проверять, вправду ли я здесь. На него опять ревность накатила.
Брон удивился. При первом свидании об Оуксе почти не говорили. Они вообще тогда почти не разговаривали.
— Да я тебе и десятой доли не могу рассказать, милый. У меня не жизнь, а каторга. Чистая каторга. Представляешь, ему не лень за мной шпионить по комнатам гостей. Он даже что-то пристроил к телефону, подслушивает мои разговоры. Учинил за мной настоящую слежку — по двадцать пять гиней в неделю выкладывает.
— Не говори сейчас о нем, — сказал Брон. — Не надо.
— Вот еду я, к примеру, за покупками, так спросит про все магазины, куда заходила да сколько времени где пробыла. «Хорошо, говорит, значит, у тебя еще целый час оставался. Чего в этот час делала?» Ну, я скажу — в парикмахерской волосы укладывала, — так спросит, у какого парикмахера, и еще позвонит ему и проверит.
— Что же ты терпишь?
— Да кто его знает. В жизни таких загадок хоть отбавляй. Сама попалась в сети — самой, видно, надо и вылезать. А как ругаемся, ужас. Бывает, такой фонарь мне под глазом посадит — целую неделю не могу на люди показаться.
— Нет, никогда мне не понять женщин.
— Так ведь… ну, как тебе объяснить… поначалу-то он совсем был ничего. А потом вот все хуже, хуже. Он еще и сейчас на свой лад бывает добрый, если только на него ревность не накатывает.
— Но нельзя же тебе так жить.
Она чуть отстранилась от него на постели и протянула руку к тумбочке за своими часами.
— Господи. У нас только десять минут осталось… Я когда в последний раз сказала, что ухожу от него, так он даже вены себе вскрыл на руке. Доктор и уговорил меня остаться, не то, мол, он опять что-нибудь над собой сделает. Вот я и осталась.
Каждая минута была на счету, и Брону вовсе не хотелось тратить их на разговоры об Оуксе, но он никак не мог отвлечь Уэнди. Сегодня она была не такая веселая, как в первый раз, а в иные мгновенья казалась совсем подавленной.
— В общем, теперь уж все вот-вот разрешится — в пятницу он получит развод и считает, что я за него выйду.
— Не надо об этом, — сказал Брон. — У нас осталось всего пять минут.
Он снова попытался ее обнять, но она отстранилась.
— Ах, милый, знал бы ты, чего я натерпелась. У меня была не жизнь, а каторга. По сравнению с другими Оукс — прямо джентльмен. Ну почему я такая несчастная? Скажи, почему?
— Потому что добрал, — ответил Брон. — Ты не умеешь себя защитить. Так всегда в жизни — кто помягче, тому и достается.
— Ты не попадал в исправилку? Или в школу для малолетних преступников?
— Да, вроде этого, — ответил Брон. Он уже отказался от попыток ее отвлечь.
— Если какая-нибудь богатая дамочка зайдет в лавку и стибрит пару чулок, которые ей и не нужны вовсе, ей это сходит с рук. А меня за такое дело восемнадцати лет безо всяких разговоров заперли в Холлоуэй. Чего я только не натерпелась, Брон. Не дай бог.
Больше всего ему нравилось в ней, что она не пыталась ничего скрыть. Любая другая непременно утаила бы по крайней мере половину. В глазах Брона это ее только возвышало. Любой бездомной девчонке, которую в восемнадцать лет засадили в холлоуэйский исправительный дом, на его взгляд, можно было после этого все на свете простить.
— С тобой мне хорошо, — сказала она. — Тебе можно говорить все как есть.
— Так почему бы тебе не остаться со мной?
— Я тебе скажу по правде, — ответила Уэнди, — женщина я слабая. Очень слабая. Мне одной никак нельзя. Верно, потому я и держусь Оукса, какой он ни есть. Так ли, эдак ли, я всегда попадала в беду, всю жизнь, и мне надо, чтобы обо мне кто-нибудь заботился. Не умею я стоять на своих ногах, вот оно что. Если бы ты мог увезти меня отсюда, не знаю… может, я с тобой бы и поехала.
Но Брон думал и об Оуксе тоже. И жалел его. Вот если бы Уэнди сама решила его оставить, тогда другое дело.
— Если ты надумаешь от него уйти, я тебе всегда буду рад, так и знай, — сказал Брон.
Едва Уэнди переступила порог «Привета», Оукс схватил ее за плечи. Только дай ему повод, и пойдет настоящее следствие. Захочет и платье оглядеть, и бельишко.
— Где была?
— Сам знаешь где.
— А с кем?
Она вырвалась от него. Если дойдет до драки, она за себя постоит. В ее руках, по-женски округлых и полных, куда больше силы, чем у него.
— Не твоя забота.
— Я тебя убью, — сказал Оукс.
Уэнди рассмеялась.
— Давай-давай, а то как бы не опоздал, красавчик. Ты знаешь, о чем я. Так что давай решайся, другого случая у тебя уж не будет.
14
Репортер бринаронского «Наблюдателя» застал Кэти одну. Этот честолюбивый молодой человек, успешно делавший карьеру, знал подход к людям, особенно к женщинам, и умел так ловко и незаметно передернуть их слова, чтоб сказанное пришлось по вкусу большинству читателей его газеты.
— Скажите, сколько прошло времени с тех пор, как исчез мистер Оуэн?
— Исчез? — переспросила Кэти. — А мы вовсе не думаем, что он исчез.
— Ну, с тех пор, как его нет дома.
— Да вот уже девять дней.
— Вы о нем беспокоитесь, миссис Оуэн?
— Ну а как же!
— Мистер Оуэн не болен? У него не бывало потери памяти или каких-нибудь других приступов?
— У него сердце слабое, но если он не забывает про лекарство, то ничего.
— Вы уже что-нибудь предпринимали? Я хочу сказать, вы пытались его отыскать?
— А что ж мы могли?
— Ну а полиция? Вы заявили в полицию?
— Нет еще.
— Почему? Вам не кажется, что это следовало сделать?
— Сама не знаю. Как-то неловко было их беспокоить. Вроде еще рано.
— Вам кажется, что они не любят, когда их беспокоят? Так?
Он сочувственно и понимающе покачал головой. Этот репортер намеревался заработать себе имя, сыграв на неповоротливости полиции.
— Не знаю, что и сказать. Им ведь покоя не дают со всякой пустяковиной.
— Не думаю, чтобы исчезновение мужа могло показаться им пустяковиной. Возможно, я ошибаюсь. — Он что-то записал в блокнот. — Правда, в подобных случаях они не всегда были достаточно расторопны. Слишком заняты, гоняются за нарушителями правил уличного движения. Вот люди и перестают на них надеяться. Как вы справедливо заметили, обращаться к ним — только время терять. Что толку? — Он доверительно улыбнулся и пожал плечами, всем своим видом стараясь утвердить и ее в этой мысли.
— Что толку? — послушно повторила вслед за ним Кэти, и он опять что-то записал в блокнот.
А назавтра в «Наблюдателе» появилось сообщение под заголовком «Исчез из дому», и ниже мелким, но броским шрифтом читателям предлагалось прочесть на следующей странице редакционный комментарий.
ЕСТЕСТВЕННО ЛИ ПРОПАДАТЬ ИЗ ДОМУ?
Известие о том, что исчез еще один местный житель, вызывает вполне понятную тревогу и своевременно напоминает, что только за последние два года в нашей округе пропало семь человек, причем ни в одном случае расследование по сей день ничего не прояснило.
Вчера наш корреспондент беседовал с местными полицейскими властями и не без удивления узнал, что им решительно ничего не известно об исчезновении мистера Оуэна. Представитель полиции имел смелость заверить нашего корреспондента, что восемьдесят процентов подобных исчезновений впоследствии объясняются самыми естественными причинами.
К сожалению, мы не можем разделить благодушия полиции. Даже если согласиться с сообщенной нам весьма неправдоподобной цифрой, мы не в праве не поинтересоваться, что же происходит с теми злополучными двадцатью процентами, исчезновение которых нельзя объяснить естественными причинами. И с какой, в сущности, минуты исчезновение человека следует считать неестественным? Уж наверно, если человек исчез из своего дома на месяцы, а то и на годы, это неестественно?
Когда наш корреспондент заехал на ферму миссис Оуэн, он увидел там обезумевшую от горя женщину, которая не сообщает в полицию об исчезновении мужа, потому что, по ее словам, «это пустая трата времени».
Мы призываем полицию принять самые срочные меры, чтобы вернуть себе доверие граждан, которое она по вполне понятным причинам столь быстро начала терять.
Сержант сыскной полиции Бродбент был заброшен в Кросс-Хэндс бурей, разразившейся после статьи, — вихрем грозных предписаний, гневными звонками в Бринарон из Окружного полицейского управления и из Лондона, личной беседой члена парламента от Бринарона с главным констеблем, намеками на перемещения и понижения в должности. Сержант Бродбент недавно окончил полицейский колледж и потому на место происшествия прибыл в собственной спортивной машине, имея при себе рентгеновскую установку, все необходимое для фотографирования, множество справочников и новенькую походную лабораторию в черном кожаном чемоданчике.
Когда он явился на «Новую мельницу», Брон был в Бринароне.
— Значит, вы считаете, миссис Оуэн, что обращаться в полицию — пустая трата времени? — спросил Бродбент.
— По-моему, я ничего такого не говорила, — сказала Кэти. — Это в газете так напечатали!
Перед нею был приятный молодой человек, держался он совсем просто и в своей спортивной куртке с откинутым капюшоном и фланелевых брюках ничуть не походил на полицейского. На ее слова он явно не обиделся.
— Наверно, и в самом деле вы так не говорили, — сказал он с улыбкой, желая ее успокоить.
— Я поглядела, что они там написали, и подумала: а ведь я ничего такого не говорила.
— Известно, что за народ газетчики: так все переврут — и не узнаешь, — сказал Бродбент. — Да вы не волнуйтесь! Вы не возражаете, если я закурю?
— Пожалуйста, — сказала она.
Бродбент достал трубку и принялся набивать ее табаком.
— Одиннадцать дней уже, да? — сказал он. — Вы мне не покажете, где мистер Оуэн хранит свои бумаги?
Кэти открыла ящик стола, что стоял в углу общей комнаты. Страховые полисы, но жизнь не застрахована; паспорт на автомашину; копии договоров на покупки в рассрочку; пачка старых рецептов; несколько писем (надо будет их просмотреть на досуге); чековая книжка, на ней 112 фунтов, ага, за три дня до исчезновения он снял 55 фунтов — это важно. В блокноте почтовой бумаги — неоконченное письмо, и на нем дата — то роковое воскресенье.
«Дорогая Мэри, спасибо за быстрый ответ. Я знаю, я всегда могу на тебя положиться. У нас тут с каждым днем все хуже…»
— Это почерк вашего мужа?
— Да.
— А кто такая Мэри?
— Какая-то родня, он с ней переписывается. Я ее не знаю.
— Можно мне на денек-другой взять эти письма?
— Берите.
Бродбент вырвал листок из блокнота и вместе с остальными письмами положил в картонную папку, лежавшую у него в портфеле.
— Интересно, что имел в виду ваш муж, когда писал, что тут с каждым днем все хуже? Как по-вашему?
— Кто его знает, — ответила Кэти. — У нас в последнее время туго с деньгами. Может, он про это думал.
— Мистер Оуэн ушел из дому рано утром в понедельник. Не было при этом ничего необычного, обстоятельств, которые вас бы удивили? Ну, кроме, конечно, самого факта, что он ушел.
Кэти задумалась.
— Было, — ответила она наконец. — Он ушел во всем рабочем. На него это совсем не похоже.
— Откуда вы знаете, что он ушел в рабочем?
— Брон видел его перед уходом.
— Ах да, конечно. Брон был последним, кто его видел.
Ушел в рабочей одежде, подумал Бродбент. Интересно, как это укладывается в схему таких же загадочных исчезновений, о которых он читал ради этого случая…
— Давайте-ка вернемся к событиям того воскресенья, миссис Оуэн, не возражаете? Итак, когда точно вы видели вашего мужа в последний раз?
— Я слышала, как он утром пошел в церковь.
— Так, но когда все-таки вы в последний раз видели его своими глазами?
— Да, наверно, за день или за два до того, — сказала она. — Меня не было дома. Я в Бринарон ездила.
Бродбент явно удивился.
— Устроили себе отдых?
— Искала работу.
— Вот как?
Он, видно, ждал, чтобы она это объяснила.
— У меня много свободного времени, вот я и решила подыскать какую-нибудь работу.
— Понятно. А когда вы вернулись?
— В субботу.
— Ив субботу вечером вы не виделись с мужем? Разве у вас не общая спальня?
Теперь уже ни к чему было скрывать от него правду.
— Перед тем как мне уехать, мы малость поссорились. Я-то ночевала в спальне.
— А ваш муж?
— Ивен ночевал в чулане.
— И вы твердо уверены, миссис Оуэн, что в воскресенье утром из дому выходил именно ваш муж, а не кто-нибудь другой?
— Да, конечно.
— Почему вы так уверены?
— А он кашлял, — ответила Кэти. — Кашель его всегда выдает… У него, знаете, такой сухой кашель. Никак не спутаешь. Я слыхала, он кашлял, когда спускался по лестнице.
— И когда же он вернулся?
— Только вечером.
— В этом было что-то необычное? Или вы так и думали, что он ушел на весь день?
— Нет, — ответила Кэти. — Я ждала его к обеду. Я держала для него обед наготове до полтретьего, но он не пришел.
— А как вы думаете, почему?
— Наверно, еще не остыл после ссоры, — сказала Кэти.
— А прежде ничего такого не случалось?
— Нет, никогда. Он любил порядок, чтоб все минута в минуту.
Она сказала о муже в прошедшем времени, подумал Бродбент. Это выдает ее с головой. Совершенно ясно, что она не рассчитывает увидеть его снова.
— Почему вы так уверены, что в воскресенье вечером мистер Оуэн действительно вернулся?
— Ну, его видел Брон, а потом опять же я слыхала, он кашлял. Лежу в постели и слышу, кто-то вошел через парадную дверь, а потом слышу — кашляет. Немного покашлял, а потом прошел на кухню.
— В какое примерно это было время?
— Скоро после десяти. Я легла рано, у меня голова разболелась, и, когда он пришел, я лежала уже около часу.
— А Брон вернулся скоро?
— Да, наверно, через полчаса.
— Что он стал делать?
— Я слыхала, он тоже пошел на кухню.
— И они разговаривали?
— Не помню. Вроде нет.
— А если бы они разговаривали, вам было бы слышно?
— Да, наверно. Только, может, слов не разобрала бы.
— А как по-вашему, им было о чем поговорить?
— Не знаю. Не думала про это.
Она начинала медлить с ответами.
— А вообще вы что-нибудь слышали, из кухни доносились какие-нибудь звуки?
Теперь она обдумывала каждое слово, пыталась предугадать, о чем он спросит, услыхав ответ.
— Никаких звуков не слышали? — мягко, но настойчиво переспросил Бродбент, в упор глядя на Кэти.
Она поняла, что, мешкая с ответом, вызывает подозрение.
— Какой-то шум вроде слыхала. Но что это было — не знаю. Шум был не громкий.
— А что же это все-таки могло быть?
— Может, ящик свалился с полки, а может, что другое.
— Тяжелый ящик?
— Ну, в каких мы семена держим. Деревянный.
— Деревянный, — повторил он. — Значит, какой-то грохот.
— Так бывает, когда ящик опрокинешь.
— А после этого вы слышали что-нибудь еще?
— Вроде нет.
— Постарайтесь вспомнить. Мне очень неприятно вам докучать, но это важно.
— Я стараюсь.
— Никто потом не выходил из кухни?
— Наверно, выходили. Ну да, конечно. Кто-то вышел через черный ход. Наверно, муж, потому что Брон, я слыхала, вышел через парадную дверь.
— А откуда вы знаете, что через парадную вышел именно Брон?
— Он мне утром сам сказал. Я слышала, кто-то пошел к гаражу и завел машину, а Брон мне утром сказал, что брал ее.
— Значит, он уезжал на машине?
— Да, — ответила Кэти и тотчас подумала: «Какая же я дура, опять будут неприятности из-за прав».
— И надолго он уезжал?
— Да порядком.
— На час, на два?
— Не знаю… Я уснула, а потом, слышу, он вошел в дом. Часа через два, а может, больше. Я правда не знаю.
— Простите, что так прямо вас спрашиваю, миссис Оуэн. Ваш муж и деверь ладили друг с другом?
Лицо у нее стало упрямое. Теперь ему предстоит иметь дело с враждебно настроенной свидетельницей. Что ж, по крайней мере понятно, на каком мы свете. Пора ставить ловушку.
— А чего ж им было не ладить? — сказала Кэти.
— У них не вышло недоразумения из-за машины? Прошу извинить, но я обязан задавать эти вопросы.
— Не знаю я ни про какие недоразумения, — ответила Кэти.
— Быть может, я ошибаюсь, но, насколько мне известно, ваш деверь одолжил машину и помял ее и ваш муж был очень этим недоволен.
— По-моему, нет, — сказала она. — Был такой разговор, чтоб поменять машину, и вроде муж поручил это Брону. Чего тут быть недовольным?
Так или иначе, чтоб муж вернулся, ей вовсе не хочется, подумал Бродбент. Одно не ясно: знает она, что его нет в живых, или только желает ему смерти?
Теперь ловушка готова.
— Насколько мне известно, миссис Оуэн, ваш муж страдал расстройством сердечной деятельности? Как по-вашему, может быть, с этим и связано его загадочное исчезновение?
Перед тем как отправиться на «Новую мельницу», Бродбент побеседовал с доктором, пользовавшим Ивена. «У него оказалось несварение желудка, — сказал доктор. — Газы, если можно так выразиться, давят на сердце. Мы на всякий случай сделали электрокардиограмму, она показала небольшую сглаженность T-волн. Ничего серьезного».
— Что-то я не пойму. Извините.
— У него было больное сердце. Мог он, скажем, внезапно умереть?
Сейчас капкан захлопнется.
— Мог, — сказала Кэти. — Он, бывало, беспокоился, вдруг разволнуется да тут же и помрет.
— Значит, он мог забрести куда-нибудь в глухое место, и, предположим, там случился у него сердечный приступ. Не исключено, что он мог свалиться в реку?
— У него, бывало, голова кружилась, — сказала Кэти. — Иной раз пойдет работать на гору, а я все думаю, не надо бы его пускать. И лицо у него, смотришь, серое.
Бродбент сочувственно кивнул.
— Ну понятно, больной человек.
С этой минуты он почти не сомневался, что Ивена нет в живых.
Он поднялся, вынул изо рта трубку и с таким видом, будто это ему только что пришло в голову, спросил:
— Вы не возражаете, если я все осмотрю, раз уж я здесь? Такой у нас порядок.
— Чего ж тут возражать? Глядите.
— Это у вас кухня? — Он пропустил Кэти вперед и сам прошел следом.
Ему впервые представилась возможность самостоятельно начинать расследование. Во всех прочих случаях, которыми он занимался, сотрудники уголовного розыска налетали на место происшествия, точно археологи-любители на неожиданно найденную стоянку древнего человека, и, горя воодушевлением, бодро уничтожали все улики, которые специалист свел бы в единую картину. Кто предостережен, тот вооружен, и перекрашенные стены и переставленная мебель могут быть весьма красноречивы.
Жители этих отдаленных ферм ведут арьергардные бои с природой, противопоставляя строжайший уклад ее всегдашнему непостоянству и беспорядку. На кухне, где Оуэны проводили четыре пятых времени, остающегося от сна, место каждой вещи было раз и навсегда определено, будто в казарме. На полках в кухонном буфете, как на параде, выстроились по ранжиру тарелки, ровными рядами стояли чашки, слева красовались кувшины. Каждый предмет занимал свою собственную территорию, стоял под определенным углом по отношению к незримым линиям, рассекающим комнату. Точно посередине стоял стол, ножки его постепенно вдавились в линолеум, и четыре стула, выпрямив спинки, хмуро взирали друг на друга поверх его выскобленного деревянного квадрата. За окном в любую минуту, словно плащ фокусника, мог опуститься туман, и под его прикрытием ветер разом все неузнаваемо менял и преображал. Внутри же все прочно и неизменно, каждую вещь можно вмиг найти с закрытыми глазами. Порядок был своего рода утешением, прибежищем.
Стены снизу доверху покрашены желтоватой клеевой краской, все деревянное скромного темно-коричневого цвета, как в церкви. Пол покрыт линолеумом, перед электрическим камином большой ковер. Пахнет свининой домашнего копчения — сколько ни проветривай, ни мой, запах этот неистребим. Кэти все время держалась за спиной Бродбента, рассеянно переставляла и поправляла то одно, то другое, если какая-нибудь вещица, не ровен час, сдвинулась хоть на волос.
— Когда вы вошли сюда в понедельник утром, вы не заметили ничего необычного, миссис Оуэн?
— Да вроде нет.
— Значит, если что-то упало, оно было уже поставлено на место?
— Наверно.
— Все было точно так, как сейчас?
— Точь-в-точь, — ответила она.
Бродбент послюнил палец, наклонился и потер линолеум возле ножки стола, а потом в углу кухни.
— Вы случайно не помните, когда в последний раз мыли полы?
— Третьего дня только шваброй прошлась, — ответила она. — А по-настоящему мыла еще перед тем, как уехала.
Посреди комнаты, где линолеум больше всего протерся, было несколько мелких трещин. Если все пойдет хорошо, надо будет снять линолеум, вырезать серединный кусок, который недавно тщательно мыли, и послать в лабораторию. Пока, правда, для этого нет никаких оснований.
Дальше стояла большая допотопная печь с открытым поддувалом, в подобном случае она может представлять особый интерес.
— Вы давно выгребали золу?
— На той неделе.
— Уже когда вернулись из Бринарона?
Кэти кивнула.
— Что там было?
— Просто зола.
— А куда вы ее деваете? В мусорное ведро?
— Да, но с тех пор его уже выносили. У нас есть место, где мы ссыпаем мусор.
— Это не столь важно, — сказал Бродбент. — Кстати, когда вы в последний раз топили?
— Еще зимой. От нее в доме теплее, да только тяга плохая.
Бродбент открыл дверцу шкафа.
— Что у вас тут?
— Грязное белье.
Под сложенными простынями и приготовленным для чистки твидовым костюмом Кэти оказался какой-то сверток в плотной бумаге.
— Не скажете, что это?
— Наверно, Ивен что-нибудь свое завернул.
— Может, развернем? Не возражаете?
Он развязал тщательно перевязанный сверток, развернул — в нем оказался черный костюм.
— Это костюм Ивена, — сказала Кэти. — Выходной.
Она была явно удивлена.
Бродбент взял брюки и поднес их к свету. Ногтем поскреб материю.
— Похоже, кто-то старался его отчистить, правда?
Он снова сложил костюм, неумело завернул и перевязал.
— Пожалуй, прихвачу с собой, — сказал он. — А теперь мне хотелось бы взглянуть на машину.
Мэри Ллойд — женщина образованная, преподавательница французского и английского языков в женской школе в Билт-Уэльсе — жила одна, в небольшой квартирке, окруженная комнатными растениями и книгами; Брод-бента она встретила в широкой бесформенной вязаной кофте.
— С тех пор как он женился, мы с ним не виделись. Нет, жену его я никогда не встречала. Кузен Брон? Ну что ж, не стану ходить вокруг да около. Он с самого детства не такой, как надо.
— По долгу службы мне пришлось ознакомиться с бумагами мистера Оуэна, — сказал Бродбент, — и, как я понял, вы с ним не теряли друг друга из виду.
— Пока он не женился, мы с ним часто виделись. Мы и сейчас постоянно переписываемся. Мне кажется, ему там одиноко, а у меня сколько угодно свободного времени для писем. — Беспокойно теребя ниточку мелкого жемчуга на шее, она улыбнулась Бродбенту, в улыбке сквозила печаль.
Бродбент показал ей неоконченное письмо, которое нашел в столе у Ивена.
— Он мне тогда позвонил, — сказала она, — так что посылать письмо не было смысла. Я уже легла. Вечерами тут делать нечего, так что, проверив тетради, я обычно сразу ложусь.
— Это было в воскресенье вечером, не так ли?
— В воскресенье вечером. В какое точно время, сказать не могу, но, наверно, было еще совсем рано. Я только успела уснуть.
— Не припомните ли, что он говорил?
— Он был очень взволнован. С Броном все обернулось плохо, да иначе и не могло быть. И еще говорил, близкие предали его. Все его ненавидят. Он чувствует, что жизнь его в опасности, и так далее и тому подобное. Все в том же духе. Просто ему надо было кому-то излить душу.
— И вы приняли его слова всерьез?
— Он ведь с самого начала был уверен, что с Броном у него ничего не выйдет. А в остальном… видите ли, он склонен к истерии.
— И вам не пришло в голову, что следовало бы поставить в известность полицию?
— Ну что вы, конечно, нет. Назавтра я позвонила ему, и жена ответила, что он уехал в Эберистуит. По разным причинам я не жаждала обсуждать все это с ней.
— Вам не показалось, что миссис Оуэн была озабочена его отъездом?
— Нисколько. Я бы сильно удивилась, если бы оказалось, что ее это и сейчас хоть сколько-нибудь заботит. Наверно, мне не следовало так говорить. Но, видите ли, он делился со мной всеми своими горестями.
В следующие два-три дня Бродбент ухитрился втиснуть еще шесть бесед с разными людьми и неизбежные при этом разъезды.
На плодотворный визит в лавку ростовщиков Тэннеров его натолкнул стреляный воробей инспектор Фенн: «Никогда не вредно заглянуть к ростовщикам, посмотреть, не принесли ли им чего в заклад. Что этих негодяев гонит к ростовщикам, понять невозможно, да только они никак не могут устоять перед соблазном. Уж сколько их на этом попалось».
С мистером Сторсом, который по описанию сразу вспомнил Брона, Бродбент разговаривал весьма сурово.
— Вы что же, всегда так делаете — покупаете у первого встречного, не удостоверясь, тот ли он, за кого себя выдает?
— Обычно мы проверяем, — сказал Сторс.
— Но в этот раз не проверили.
— Приходится доверять своему впечатлению. Мы стараемся не обидеть клиента. Но каждую покупку мы, конечно, вносим в книгу, и клиент расписывается.
— Мне надо будет сфотографировать его подпись.
— К вашим услугам, — сказал Сторс. — Я надеюсь, вы по своей картотеке убедитесь, что за все пятьдесят с лишним лет, пока существует наша фирма, мы ошибались чрезвычайно редко.
— Как вы считаете, почему он назвался не своим именем и дал неправильный адрес? Ведь если серебро принадлежало ему, незачем было скрывать свое имя?
— Боюсь, это не совсем так. Тут иной раз гордость не позволяет.
Бродбент ткнул пальцем в одну из записей.
— Блюдо мы продали, — неохотно признался Сторс.
— Вижу. Весьма прибыльно. Сто процентов дохода, а?
— Вещи нередко залеживаются у нас на полках годами. Так что, когда вычтешь накладные расходы, остается на удивление мало.
— А куда девались часы?
— Они в нашей мастерской. Требуется починка.
— Я возьму их с собой, — сказал Бродбент. — И напишу вам расписку.
Не успел брат исчезнуть, он тут же принялся разбазаривать его вещи, размышлял Бродбент. Просто невероятно. Ну что бы ему выждать месяц-другой? Но как раз недостаток воображения, нетерпение, неспособность продумать и предвидеть и отличают преступника.
Брону, безусловно, нужны были деньги, это подтвердил и разговор с аукционистом.
— Обычно в эту пору скот не продают, но иногда и такое случается. Если хотят избавиться от лишних голов, продают обычно по осени, когда скот уже нагуляет жир. В наших краях самое трудное — продержаться зиму. А дальше все уже идет как по маслу. Этим, видно, позарез нужны деньги.
Мистер Эммет из городской казны тоже полагал, что мистер Оуэн очень нуждался в деньгах.
— Будем говорить откровенно, — сказал он. — К нам приходят именно те, кто нуждается в деньгах. Работаем мы по системе: покупаем — сдаем бывшему владельцу в аренду. Тем самым мы делаем таким вот требующим капиталовложений фермам своего рода переливание крови. Мистер Оуэн позвонил нам, и я поехал к нему сам. По-моему, его больше всего интересовало, как скоро он получит деньги, если сделка состоится.
— А если бы он продал вам ферму, мог он положить все денежки в карман и скрыться?
— Мог. Только получил бы он за нее меньше, чем она действительно стоит.
— Но деньги-то он получил бы куда скорее, чем если бы вздумал продать ферму обычным порядком, так?
— Да, разумеется. Через несколько дней, а так ушли бы недели и даже месяцы. На такую ферму охотника не скоро найдешь.
Теперь предстояло разобраться в противоречивых рассказах Брона о том, куда же все-таки отправился Ивен с утра в понедельник, а для начала следовало опровергнуть версию, будто он поехал в Эберистуит по делам церковной общины.
Мистер Притчард, которого Бродбент застал в задней комнате магазина, так замотал головой, что его жирные, обвисшие щеки заходили ходуном.
— О поездке Оуэна по церковным делам в Эберистуит или еще куда-нибудь не может быть и речи, сержант. Нет, нет.
— Вы в этом так убеждены?
— Да, я просто удивляюсь, что такое могло прийти кому-то в голову. Ведь Оуэн исключен из нашей общины.
— Не скажете ли почему?
— Пошли про него разные слухи… Стали поговаривать… — Притчард поджал губы и пошевелил руками, будто тщательно что-то взвешивал.
— Насчет жены и брата, как я понимаю, — заметил Бродбент.
— Сказать больше было бы не по-христиански, сержант.
— Я знал, что он не ездил в Эберистуит, — сказал констебль Джонс.
— Что ж вы молчали? — спросил Бродбент.
— Мистер Фенн к чему угодно отобьет охоту. Пока газеты не подняли шум, он и в ус не дул. А незадолго перед тем мне велено было не соваться не в свои дела.
— А как насчет этой второй версии, которую он рассказал агенту фирмы сельскохозяйственных машин, — что брат поехал недельки на две отдохнуть?
— Признаться, не ожидал от него такой глупости, — сказал Джонс. — Не понимаю, почему такой разумный молодой человек не сообразил, что надо придерживаться чего-то одного.
Бродбент побывал у представителя фирмы.
— Как по-вашему, зачем мистеру Ивену Оуэну могло понадобиться, чтобы вы приехали снова через две недели?
— Право, не знаю.
— Мистер Оуэн когда-нибудь опаздывал со взносами?
— Иногда на день-два. Не больше.
— Кажется, обычно взносы так не собирают?
— Мы приезжаем не за взносами, мы проверяем машины, а в случае нужды ремонтируем. Мистеру Оуэну удобно было вручать мне при этом взносы, но это была его добрая воля.
— Вы не удивились, когда вас отправили ни с чем?
— Очень удивился.
— Прежде такого, вероятно, не случалось?
— Никогда.
На «Новую мельницу» заявились два эксперта из Скотланд-Ярда в сопровождении сыщиков-любителей, присланных Фенном. Они тщательно осмотрели дом, молотками обстукали стены, подняли несколько половиц, сняли посреди кухни девять квадратных футов линолеума, облазили службы, где хранились запасы и всякое старье, и спустили пруд. Увидев на дне короткую железяку, они всполошились, а оказавшиеся тут же на дне четыре пары исправных, дорогих с виду часов привели их в совершенное недоумение.
Было опрошено двадцать три человека — все, кто в то роковое воскресенье мог в разное время оказаться по своим делам неподалеку от фермы, но только одному из них было что сказать: женщине-почтальону.
— Я видела, он кошку топил. А на личность был ну прямо дьявол. Я говорю: я, мол, про тебя сообщу в Общество защиты животных, а он только загоготал.
Письмо, которое пришло в это утро на имя Брона, задержали, с тем чтобы доставить позднее, и уже через несколько минут после того, как оно оказалось в руках у Бродбента, он звонил в австралийское представительство. Полученные им сведения заставили его опять поспешить на «Новую мельницу», где Брон изо дня в день всячески старался помочь следствию.
— Я не знал, что вы собираетесь эмигрировать, мистер Оуэн.
Такой поворот в допросе, казалось, нисколько не смутил Брона.
— Да нет, в общем не собираюсь.
— Но, насколько мне известно, вы писали в австралийское представительство и справлялись о проездных льготах?
— Да, верно. Мне пришло в голову, что это был бы выход, если бы Ивен раздумал расширять ферму, как мы с ним собирались.
— Где вы скрываете свою жену?
— Я не женат.
— Но в письме вы спрашивали об условиях проезда для женатых.
— Может, еще и женюсь. Если я решу эмигрировать, наверно, женюсь.
— У вас есть кто-нибудь на примете?
— Пока нет.
— Позвольте задать вам один вопрос, мистер Оуэн? Вы ладили с братом?
— Отлично ладил. С ним все ладили. Он всегда всем уступал.
— Да, так мне и говорили. Скверная какая у вас над глазом ссадина.
— Надо было сразу зашить. Наткнулся на водосточный желоб, после этой бури он съехал с крыши.
— Опасная штука. Могли потерять глаз.
Весь этот разговор Бродбент обсудил с констеблем Джонсом и с Эдвардсом.
— Интересно, — сказал Бродбент, — классический тип преступника.
Он недавно прочел книги двух авторитетов викторианской эпохи по физиологии преступления — Ломброзо и Ловерня — и находился всецело под их влиянием.
— В чем же это проявляется? — спросил Джонс.
— Во-первых, очень волосатый. Брови почти совсем срослись. И на пальцах волосы. И эта мертвенная бледность тоже характерна.
— Он пять лет просидел за решеткой, сержант, — сказал Эдвардс. — Загореть было негде, не с курорта.
— Нет, тут другое. Совсем другая бледность. А заметили, какие у него глаза? Какой взгляд неподвижный? Ломброзо отмечает неподвижный взгляд у пятнадцати процентов заключенных в миланской тюрьме.
Они сидели в деревенском кафе в трех милях от Кросс-Хэндса, куда их послали, потому что кто-то сообщил, что неподалеку от дороги обнаружили свежую могилу. В могиле оказался труп большого пса, которого, судя по всему, переехала машина.
— Видите парня у конца стойки? — спросил Джонс. — Вон того, в замшевых ботинках, он только что вошел. Что вы о нем скажете?
Бродбент мысленно обратился за помощью к Ломброзо, но ничего у него не почерпнул.
— Не знаю. Кто он? Коммивояжер?
— А преступником мог бы быть?
— Мог бы. Мелким преступником. Как почти все мы. Что-нибудь не очень серьезное — обман, злоупотребление доверием.
— Это знаменитый Робертс, — сказал Джонс. — Укокошил родного дядю и тетю. Ни перед чем не остановится.
— Никогда бы не подумал. А каковы мотивы?
— Деньги. Там было чем поживиться. Хочет купить гору, которая видна с кросс-хэндской станции. Прямо помешался на этом.
— А тип совсем не преступный, — сказал Бродбент. — Разве что слишком развязно держится. Но ведь не бывает правил без исключений. Во всяком случае, навряд ли он убьет еще кого-нибудь.
— Не убьет, — сказал Джонс. — Разве что кто-нибудь попробует помешать ему заполучить эту гору. Не хотел бы я стать ему поперек дороги.
Бродбент доложил о своих успехах Фенну.
— Только что пришли результаты из лаборатории. Положительные. На линолеуме две группы крови — AB и АО. Была драка. Большие пятна крови АО на костюме и следы в багажнике машины.
— Как раз то, чего я боялся, — сказал Фенн.
— Боялись, сэр? — От удивления Бродбент сразу перешел на официальный тон.
— Да, сержант, боялся. От всех клочья полетят.
— Ну уж не знаю, сэр. По-моему, случай ясней ясного.
— Вы уверены?
— Стоило брату исчезнуть, и Брон Оуэн принялся разбазаривать его имущество. Продал часть скота и вступил в переговоры о продаже всей фермы. Нам известно, что разным людям он по-разному объяснял отсутствие брата, и я только что узнал, что он собирался удрать в Австралию. С женщиной.
— Что за женщина?
— Не знаю. Возможно, его невестка. Все знают про их связь.
— Все знают, — повторил Фенн. — Сколько раз я видел, как люди пытались выдать это за улику.
— Что-то вы не рады, сэр.
— Не спешу радоваться, жизнь научила… Как насчет оружия?
— В пруду нашли железяку. Она сейчас в лаборатории. Но там не очень-то надеются что-нибудь обнаружить. Да, вот еще… Вечером накануне исчезновения Оуэн звонил родственнице и сказал, что его жизнь в опасности.
— Итак, это убийство?
— По-моему, да.
— Но тела нет.
— Вот только это нам и осталось. Найти тело.
— Что ж, надеюсь, оно скоро найдется, иначе всем нам будет худо, — сказал Фенн. — Можете мне поверить.
Кто-то, не сообщая своего имени, написал в полицию, что во вторник после исчезновения Ивена был с подружкой на вершине горы в десяти милях от Кросс-Хэндса и видел, как с лодки сбросили в море что-то тяжелое. По описанию, человек, сидевший в лодке, походил на Брона. Место происшествия было указано с такой точностью, что, поднявшись на вершину, Бродбент словно увидел, где именно волны сомкнулись над чем-то длинным, засунутым в мешок; он сразу же поехал в Милфорд-Хейвен, нанял водолаза и вместе с ним вышел на лодке в море.
Водолаз поглядел на скалы, потом на воду.
— Это что, шутка? Я уже тут был.
— Где тут? В этой бухте?
— Нет, тут. На этом самом месте. Прошлый год подозревали одного ловца омаров, будто он прикончил своего напарника и утопил тело.
— Бывают совпадения, — сказал Бродбент.
— Таких не бывает. Море вон какое большущее. Чего делать, говорите.
— Просто посмотреть, что там внизу.
— Я и так знаю. Девяносто футов воды и тьма, как в Лондоне ночью, да еще в туман. Утесы вышиной с дом да ямины, в каких целый автобус уместится. Вы и впрямь хотите, чтоб я туда нырнул?
— Да, да, затем мы и здесь.
— Что ж, деньги казенные, — сказал водолаз. Он надел резиновый костюм, Бродбент помог ему приладить акваланг, и он ушел под воду.
Брондбент ждал, глотая слюну и насилу подавляя тошноту, а черные дельфины волн проносились мимо, и ветер срывал с них белую пену и хлестал ею в лицо. Гребец с трудом удерживал лодку на одном месте.
Показался водолаз, и Бродбент втащил его в лодку. Тот стянул маску, сплюнул кровью и весь передернулся.
— Ну как там?
— Да я ж вам говорил.
— Никаких следов, ничего?
Водолаз показал на громоздившиеся над ними скалы, похожие на груды исковерканного железа, — огромные глыбы, казалось, вот-вот рухнут в море.
— Внизу то же самое. Можно и не нырять. И так известно. Каменюги по тридцать футов вышиной навалены друг на друга. Я их на ощупь знаю. А разглядеть ничего не разглядишь, тьма кромешная.
— Все равно что искать иголку в стоге сена.
— Да еще под водой, — докончил водолаз.
Следующая экспедиция была снаряжена на вершину Пен-Гофа, роль проводника вынужден был исполнять Эдвардс, которого застигли врасплох за плетением коврика.
— Хорошо, хоть денек выдался погожий, — сказал Бродбент.
Эдвардс оглядел небо, голубое и ясное до самого горизонта. Лишь на вершине горы, точно мяч на носу дрессированного тюленя, с трудом удерживало равновесие крохотное облачко, цветом и формой вылитая жемчужина.
— Да, денек подходящий, — сказал он.
Понадобилось полтора часа, чтобы взобраться на вершину и отыскать указанную осведомителем небольшую пещеру. За это время погода резко изменилась, в полусотне шагов уже ничего не было видно, и под мелким моросящим дождем оба промокли до нитки.
— Давным-давно, когда я был еще мальчишкой, здесь жил отшельник, — сказал Эдвардс.
— Наше счастье, — сказал Бродбент.
В пещере оказался ящик, когда-то служивший столом, и остатки стула, так что удалось развести костер.
— Что мы тут ищем? — спросил Эдвардс.
— По слухам, здесь видели чьи-то кости.
— Вон скелет овцы. И птичий. Может, клушицы. Вот это находка!
Бродбент стоял у выхода из пещеры и глядел, как возникали и таяли причудливые образы, порожденные туманом.
— Чуть просветлело, можно идти.
Были и еще столь же нелепые вылазки, для которых вызывали подкрепления из соседних полицейских участков, и, смотря по тому, как долго помощники эти служили в полиции, они относились к поручению кто с надеждой, а кто равнодушно. Подстегиваемые шумихой, которую подняла вокруг этого дела пресса — о нем сообщили уже и воскресные выпуски лондонских газет, — в Бринарон прибывали все новые и новые наряды полицейских. На площади в двадцать пять квадратных миль выкачали и обследовали все колодцы, иные по два и по три раза. Прошли драгой два небольших озера. Золу сгоревшего непонятно почему сарая тщательно просеяли и подвергли анализу. Занявшись раскопками в наиболее подходящих местах, отрыли несколько ребер и бедро, которое, как оказалось, принадлежало девице лет восемнадцати, погребенной еще в древние кельтские времена.
Какие-то разлагающиеся останки, обнаруженные под мостом, были признаны потрохами с бойни. Даже Фенна затянула эта суматоха: его уговорили посетить некую спиритку-медиума, которая написала, что может вызвать дух Ивена, находящийся в потустороннем мире. Весьма смутное, но впечатляющее послание, переданное через сию особу, вынудило Фенна втайне от всех и со стыдом в душе три дня лазить по нежилым разваливающимся домишкам.
После недели неразберихи, нелепых слухов, неудачных поисков Бродбент опять отправился на «Новую мельницу» — и дело наконец сдвинулось с мертвой точки.
— В прошлый раз я, помнится, видел у вас топографическую карту. Не разыщете ли вы ее?
Брон, не раздумывая, направился к ящику стола и достал карту. Он был услужлив, но загадочен. Бродбент ждал, что столкнется с позой оскорбленной невинности или же едкой иронии. Судя по Ломброзо, перед ним был типичный преступник, но только по физическим данным.
— Что означают эти карандашные крестики? — спросил Бродбент.
— Заброшенные рудники на карты не наносят. А брат говорил, у него несколько раз пропадали там овцы.
Пунктирная линия показывала старую дорогу, ведущую к одному такому руднику; Бродбент вернулся домой, собрал все свое снаряжение и поехал на этот рудник.
Дорогой не пользовались уже полвека, она густо заросла терновником, но минувшим летом огонь уничтожил подлесок, и видно было, что здесь недавно проезжала машина. Бродбент поставил свою машину так, чтобы она не бросалась в глаза, и пошел по дороге. У полураскрытых железных ворот, намертво вросших в землю, след шин обрывался. А дальше в грязи можно было различить отпечатки башмаков, и Бродбент поздравил себя: хорошо, что за всю эту дождливую неделю не было ни одного настоящего ливня и их не смыло. Он достал фотоаппарат, навел на фокус и с близкого расстояния под разными углами сделал несколько фотографий отпечатков шин. Потом достал рулетку, измерил следы ног и тоже сделал несколько снимков.
Во дворе стояло старое, полуразвалившееся здание конторы, вокруг все усыпано было обломками кирпича, а сзади вплотную подступали буйные заросли терновника — живая колючая изгородь в двадцать футов вышиной, непроходимые джунгли, поглотившие все следы рудника, кроме разрушенной дымовой трубы. С трудом продираясь через колючий кустарник, Бродбент обошел развалины. В нескольких местах их прорезали тропинки, но все они упирались в барьер из ощетиненных шипами ветвей. Кое-где почва осела, образовались трещины, как после землетрясения. Бродбент подобрался к одной из них и заглянул в пропасть, куда рухнули остатки какой-то постройки. Конечно же, тело здесь, подумал он. Где-нибудь внизу. Но нам никогда его не найти.
15
«Рост около пяти футов восьми дюймов; вероятно, коренастый, обут в дешевые фабричной работы башмаки, отпечатки каблуков свидетельствуют о походке враскачку. Неестественно короткий шаг и глубокие вмятины в местах, где ступал каблук, заставляют предположить, что этот человек нес что-то тяжелое. Отпечатки шин показывают, что они того же типа, размера и ширины, что и шины обследованной легковой машины марки „остин“».
Несмотря на обнадеживающие доклады экспертов и сдержанные похвалы Окружного полицейского управления, Фенн, возвращаясь от полицейского юрисконсульта, был по-прежнему настроен мрачно.
Он созвал подчиненных, чтобы обсудить положение.
— Тело все еще не найдено. Не будем себя обманывать, имеющиеся у нас улики отнюдь не убедительны. Пятна крови — это производит впечатление, но очень часто ничего не дает. Редкий день кто-нибудь не порежет себе палец. Владелец одной местной химчистки каждый месяц непременно присылал нам какой-нибудь костюм. Не проходило месяца, чтобы мы не получали одежду с пятнами крови, насилу уговорили больше нам ничего не посылать. Мелкие пятнышки крови на полу кухни сами по себе ничего не значат. На кухне люди работают и, конечно, могут порезаться. Вот если бы кровью были забрызганы стены и потолок, тогда другое дело.
Фенн перевернул страницу своих заметок.
— Теперь о машине, которая побывала у брошенного рудника, и о парне, который вынес из нее что-то тяжелое. Почему, в сущности, это обязательно должно быть мертвое тело? Мы все понимаем, что сержант Бродбент неплохо поработал, и я вовсе не хочу гасить его рвение ушатом холодной воды, но, как отмечает наш юрисконсульт, нам неизвестно, когда там побывала эта машина. Опять же насчет незначительных следов крови в багажнике. Это могла быть кровь Ивена. Возможно, так оно и есть. Она той же группы. Это мы, во всяком случае, можем установить, ведь Ивен был донором. Кровь той же группы, что на костюме, и часть пятен на линолеуме тоже этой группы. Вы скажете: весьма существенно, а вот наш юрисконсульт пока не видит причин радоваться. И то, что Брон заявил, будто брат ему сказал, что едет в Эберистуит, агенту же толковал что-то совсем другое, он тоже не считает важной уликой. Вполне возможно, что брат и вправду, как говорит Брон, хотел недели на две оттянуть выплату взноса.
Теперь пришел черед сделать публичный выговор констеблю Джонсу, который за последнее время впал в еще большую немилость.
— Нам следует поблагодарить констебля Джонса за то, что он так быстро установил, что Ивен вовсе не уезжал в Эберистуит, но сообщить мне об этом он счел нужным совсем недавно. Я уже говорил прежде и снова повторяю: результаты подобных расследований надлежит докладывать в письменном виде в тот же день, как они получены.
Услышав свое имя, Джонс насторожился. До этой минуты он играл в свою привычную игру: определял по росту проходивших мимо окна жителей Бринарона. К выговору он отнесся спокойно. Он ведь всего лишь последнее звено в длинной цепи тех, кому приходится сносить несправедливость.
— Самое слабое место в этом деле — утверждение жены Оуэна, будто около одиннадцати часов вечера она слышала, как Брон уехал со двора на машине и вернулся несколько часов спустя. Может ли она быть уверена, что это был именно Брон? Конечно, нет, и любой стоящий защитник использует это слабое место и разобьет все обвинение в пух и прах. Не забывайте, миссис Оуэн будет враждебным нам свидетелем. Если она решит, что какие-то из ее прежних показаний могут повредить нашему приятелю, на суде она от них откажется. Не забывайте, если дело дойдет до суда, в него непременно ввяжется кто-нибудь из самых дотошных защитников. При тех уликах, что у нас есть, он сделает из нас отбивную.
Бродбент попросил разрешения задать вопрос.
— Разве не справедливо предположить, что к тому времени, как Брон стал распродавать имущество брата, он уже знал, что тот не вернется?
— Это всего лишь предположение, и не более того. С другой стороны, он пошел к местному ростовщику. Это больше всего говорит в его пользу. Если бы преступник с таким высоким коэффициентом умственного развития, как этот Брон, совершил убийство, у него хватило бы ума съездить куда-нибудь подальше от места преступления. То же и с костюмом Ивена. Если б он убил брата, неужели он прежде всего не запрятал бы этот костюм?
— А как по-вашему, сэр, почему у ростовщика он назвался вымышленным именем?
— Возможно, его вынудили обстоятельства. Но это вовсе не значит, что он убийца. Есть еще вопросы?
— Как считает юрисконсульт — соглашение о совместном владении фермой не вызывает никаких сомнений?
— Юрисконсульт сказал, что просто непостижимо, как человек в здравом уме и твердой памяти может подписать подобное соглашение. Но поверенный Ивена объяснил, что документ составлен в точности по желанию клиента, стало быть, тут говорить не о чем. Ничто не мешает Брону Оуэну завтра же продать ферму, прикарманить деньги, и только его и видели. Соглашение послано эксперту, чтобы он проверил, не фальшивая ли подпись, но это пустая формальность.
Джонс начисто потерял интерес к происходящему. Дело это с самого начала было гиблое, а потому он, как и вся местная полиция, считал, что тут не из-за чего копья ломать. За последние сто с лишним лет из всех случаев убийства, когда труп так и не был обнаружен, только два дела кончились успешно. А на этот раз он, наверно, даже не увидит, как они тут будут барахтаться и все равно пойдут ко дну. Накануне его вызвал старший констебль и потребовал, чтобы он рассказал свою версию стычки с майором Стивенсом. Он показался Джонсу человеком доброжелательным и демократичным.
«Мне кажется, вам не хватило такта, вот и все. Однако, увы, существует такая штука — политика. Так что вы уж сочините извинительное письмецо. Совсем коротенькое. Незачем унижаться, просто напишите, что ваша неучтивость отнюдь не была преднамеренной. Пошлите письмо мне, а я передам его по назначению вместе с сопроводительной запиской».
«Боюсь, я не смогу этого сделать, сэр», — сказал Джонс.
Старший констебль словно не слышал.
«Да смотрите, чтоб я получил это письмо не позднее чем через три дня».
Теперь, когда Джонс больше не сомневался, что вскоре отсюда уедет, перспектива эта вовсе не казалась ему такой уж соблазнительной. Жизнь его в Кросс-Хэндсе была замкнутой и словно бы однообразной, но развивалась она на фоне поистине драматических событий, и постепенно Бринарон стал ему по-настоящему мил. Городок казался ему неповторимым: туманы придавали его облику что-то восточное, и даже здание муниципалитета смягченными контурами напоминало пагоду; в воздухе всегда стоял таинственный запах шеллака[13] от перегретых электрических проводов; на запасных путях, где беспрестанно маневрировали товарные составы, перестукивались буфера. Совсем особенный городок. После совещания он побродит в одиночестве по улицам, подумал Джонс, насладится его неяркой прелестью — быть может, в последний раз. Тут мысли его приняли иной оборот: стоит ли его подруга этой жертвы? Разве не должна она быть готова разделить с ним жизнь, где бы он ни оказался?
Он опять услышал голос Фенна (истинно лондонский гнусавый выговор), сдобренный новой дозой скептицизма:
— Разве то обстоятельство, что этот Брон собирался уехать из Англии, имеет значение? Беру на себя смелость в этом усомниться. В канцелярии австралийского представительства мне сообщили, что они получают сколько угодно праздных запросов. Наш приятель сказал Бродбен-ту, что он хотел иметь запасной план на случай, если их расчет превратить ферму в доходное хозяйство не оправдается. Вполне возможно, что он сказал правду. Он мог также подумывать о женитьбе или прочной связи с какой-нибудь женщиной, и, несмотря на все слухи, это могла быть вовсе не жена его брата.
А Джонс думал о том, что слегка надушенные письма, которые он каждую неделю получает из Нита, становятся все короче и веселее, и это плохой знак. Не сегодня завтра придет еще одно, совсем коротенькое, восторженное, и больше писем не будет.
— Я возражаю против того, чтобы давать ход этому делу, прежде всего потому, что не вижу мотива преступления, — сказал Фенн. — Анонимные письма не улика. Я могу сплошь оклеить стены этой комнаты анонимками, у меня их горы, но, если не считать звонка милой даме в Билт-Уэльс, у нас нет доказательств, что братья не были в хороших, даже дружеских отношениях. Что же до милой дамы из Билт-Уэльса, сомневаюсь в ее показаниях. Тамошняя полиция говорит, что она особа неуравновешенная — из тех одиноких старушек, у которых легко разыгрывается воображение. Теперь о каплях крови на линолеуме, принадлежащей к двум разным группам. Что ж, Брон Оуэн говорит, что поранил голову о водосточную трубу, а брат его мог порезать палец. Брону незачем было убивать брата из-за фермы, он и так бы ее получил. И в заключение хочу вам напомнить, что Брон Оуэн — человек неглупый, смелый и, можно сказать, симпатичный. На присяжных он произведет наилучшее впечатление. Есть еще вопросы?
Джонс поднял руку:
— Вы сами как считаете, мистер Фенн, Брон Оуэн убил своего брата?
— Я-то именно так и считаю, — ответил Фенн. — Но мы ведь знаем, что он за человек, а присяжные этого знать не будут.
Несколько минут спустя совещание кончилось, и Фенн знаком велел Джонсу остаться.
— Так как же насчет письма, Эмрис?
— Боюсь, я не смогу его написать. Прошу меня извинить.
— Так я и думал, — сказал Фенн. — Полагаю, вы понимаете, что это означает.
— Да, конечно, — сказал Джонс.
— Что ж, мне жаль будет с вами расстаться. Никак этого не ждал, но пожалею. Я многому научился, работая здесь у вас. Отличная школа. Хотите поразмыслить еще денек?
— Я уже решил, мистер Фенн. Вернусь к прежней службе.
Фенн похлопал его по плечу:
— Между нами говоря, вы поступаете правильно.
Выйдя из участка, Джонс направился в респектабельную часть городка. Скоро штаб Армии спасения, магазины подержанной мебели, сапожные мастерские, закусочные остались позади. Он миновал гараж «Пенфолд моторе», в витрине которого вновь красовался уже отремонтированный «ягуар». Из распахнутых дверей городских бань его обдало хлорированным паром, а дальше, от кафе самообслуживания, начиналась богатая Торговая улица. Джонс вошел в кафе, стал в очередь, взял чашку слабого чая с молоком, пачку печенья и направился со своим подносом к столику.
Он посидел минут десять за остывающим чаем, изредка помешивая ложечкой, раздумывал о будущем и не видел выхода, а посетители тем временем дожевывали, допивали и, глянув на часы, спешили к дверям.
Один за столиком чуть ли не во всем кафе, Джонс вдруг почувствовал на себе чей-то взгляд. Через четыре столика от него сидел какой-то юнец, и всякий раз, как Джонс поднимал глаза, их взгляды встречались. Немного погодя он сообразил, что юнец делает ему знаки, точно глухонемой, и в конце концов узнал в этом с виду слабоумном парне Бейнона — просто он впервые видел его в пиджаке, при галстуке и не патлатого, а коротко и аккуратно подстриженного. Это был совсем не прежний Бейнон, угрюмый и лохматый, всегда напоминавший Джонсу первобытного дикаря из научно-популярных книжек. Теперь перед ним сидел молодой человек с мордочкой хорька, и, когда Джонс поглядел на него внимательнее, проверяя, не ошибся ли, тот поманил его пальцем.
Джонс поднялся, прихватил свою пачку печенья и пересел к нему за столик.
— Ты ведь, кажется, еще неделю назад должен был ко мне зайти, Бейнон?
— Я и заходил, мистер Джонс. Два раза в участок заходил, да вас не было.
— Любишь приврать, а? Твое счастье, что я был занят, а не то сам навестил бы тебя. А зачем это ты мне сигналил?
Бейнон судорожно улыбнулся, обнажив беззубые десны, и снова стал похож на первобытного дикаря.
— Я вас выслеживал… выжидал удобную минутку. Увидел, вы входите, и решил — повезло. Я знал, к двум часам тут будет пусто.
— Ты, видно, совсем спятил, Бейнон?
— Я хотел поговорить с вами в тихом местечке вроде этого, чтоб нас никто не заметил. Ведь если пойдешь в участок, об этом враз все прознают.
Ну и выдумщик, усмехнулся про себя Джонс.
— У полиции ведь есть свои осведомители, верно? — сказал Бейнон. — И они встречаются во всяких забегаловках. Так и работают.
— Если верить телевизору, то да.
— Мистер Джонс, я больше кого другого знаю, что творится в Кросс-Хэндсе.
— Еще бы, если только тем и заниматься, что заглядывать в окна чужих спален, поневоле что-нибудь да узнаешь.
— С этим я покончил, — сказал Бейнон. — Я не про то. У меня есть кой-что поважнее. Мне за это заплатят?
— Нет, не заплатят.
— Ну и пускай. Я не из-за денег. Для полиции я готов работать и задаром.
— Если ты не возьмешься за ум, как бы тебе не пришлось встречаться с полицией куда чаще, чем хочется. Все еще читаешь порнографические журнальчики?
— Бросил, мистер Джонс. Переключился на преступления. Я теперь выписываю «Настоящий детектив» и «Сыщик-любитель». Когда-нибудь стану детективом.
— Что ж, это лучше, чем подглядывать в замочные скважины.
Бейнону не терпелось выложить свои новости, но он обождал, чтобы какой-то посетитель с подносом прошел и сел в отдалении.
— Могу вам рассказать кой-что очень даже важное, мистер Джонс.
— Тогда лучше приходи ко мне в участок.
— А нельзя сперва поговорить здесь?
— А в чем дело, Бейнон?
— Говорят, полиция ищет мистера Оуэна.
— Ты прекрасно знаешь, что его ищут. Это весь Кросс-Хэндс знает. Разве мистер Бродбент еще не снимал с тебя показаний?
— Нет еще. Покуда он всех опрашивал, я сидел на горе все три дня. Хотел пораскинуть умом.
Пожалуй, тут и вправду что-то кроется, подумал Джонс. Это как раз тот случай, когда недоверием скорей добьешься истины.
— Беда в том, Бейнон, что ты прирожденный враль. Ты мастер выдумывать.
— Не найти им мистера Оуэна. По крайней мере живого. — Бейнон с хитрой ухмылкой почесал нос.
— Почему же?
— Я уж и так вам много сказал.
— Вот сведу тебя в участок, скажешь и побольше.
— Я бы хотел повидать сержанта-сыщика, который разбирается с «Новой мельницей».
— Он тебя и слушать не станет. Я тебе уже говорил. Лучше говори со мной, я хоть слушаю. Давай выкладывай. Почему ты думаешь, что мистера Оуэна не найдут?
— Я главный свидетель, — сказал Бейнон. — Без меня вам ничего не узнать.
— Ладно, парень, значит, без тебя ничего не узнаем. И хватит об этом. — Джонс взглянул на часы и отодвинул стул, будто собираясь встать.
— Погодите, мистер Джонс. Если я скажу все, что знаю, вы замолвите за меня словечко?
— За тебя? Почему? Что тебе понадобилось?
— Если кто-нибудь замолвит за меня словечко, мне, может, дадут рекомендацию, а это ведь очень важно.
— Рекомендацию? За то, что скажешь правду?
— Мистер Джонс, ведь уж так оно получается: если никто за тебя не похлопочет, ничего и не добьешься. Другого такого случая у меня, может, век не будет. Я ведь один на свете.
— Я знаю, что ты один на свете, Бейнон, и, если увижу, что ты стараешься стать человеком, насколько в моих силах, тебе помогу. Так что ж ты хотел сказать?
— Я видел, как Брон Оуэн ударил мистера Оуэна, — сказал Бейнон.
— Когда и где? — спросил Джонс.
— На кухне фермы, в ту ночь, когда он пропал.
— Что именно произошло и где ты был?
— Я был там, в доме. Шел как раз мимо, а парадная дверь отворена, слышу, там какой-то чудной шум, ну и вошел. В кухне горел свет, и вроде там дрались, Я толкнул кухонную дверь и вижу: Брон как ударит мистера Оуэна, тот и упал.
— Чем ударил?
— Таким большим фонарем, электрическим.
— А дальше что?
— Ну, вижу, мистер Оуэн лежит и глаза закрыты, а Брон над ним стоит. Лицо у Ивена было все в крови.
— А дальше? Что еще ты видел?
— Да ничего, потому как Брон обернулся, а я испугался, подумал, он меня увидит и тоже убьет. Ну, я выбежал из дому и спрятался, думал, вдруг он станет меня искать.
Джонс поднялся.
— Ну вот что, пойдем-ка мы с тобой в участок.
16
Дождь шел весь день и всю ночь. Никто и не упомнит в эту пору такого ненастья. Дождь сменялся крупой, крупа дождем, и так без конца. В полях, что повыше, нашли приют тучи налетевших с моря чаек, дно долины превратилось в бурое озеро, а посреди него стремительно неслась река — горбилась, ершилась тревожными гребешками, точно тело могучего змея, извивавшегося под водой. Впервые за все время прудик во дворе фермы вышел из берегов и чуть не к самому порогу вынес вздувшийся шерстистым пузырем труп утопленной кошки. На другое утро вершина горы покрылась снегом, а когда облака рассеялись, темные пятна проступивших из-под снега скал сложились как бы в огромное безглазое лицо, и, пока снег не стаял, оно с тупой ухмылкой глядело на раскинувшийся внизу насквозь промокший Кросс-Хэндс.
Брон заставил себя подняться вверх по склону, но очень скоро вернулся домой. Он ощущал холод уже не только кожей и мышцами — он продрог до мозга костей, в каждый его сустав вгрызалась ноющая боль.
Он уныло улыбнулся Кэти и спросил:
— Бейнон так и не появлялся?
Кэти мыла пол в кухне, временно покрытый линолеумом из чулана. Она весь день не выпускала тряпки из рук, протирала в доме каждую отсыревшую половицу, каждую дощечку.
Она поднялась, вытерла руки, откинула со лба волосы.
— Он ушел, — сказала она.
— Куда?
— Просто ушел. Оставил записку, что уезжает. И все.
— Ну и положеньице, — сказал Брон.
— Пока не найдем кого-нибудь вместо него, нам туго придется.
— Никого нам не найти, — сказал Брон. — Я еще прежде наводил справки. Никакой надежды. Опытного доиль-щика тут ни за какие деньги не достанешь.
— Дождь не век будет лить. Уже середина мая. Да вот мокрядь всюду. Куры перестали нестись, и корм у них кончился.
— Еще трое ягнят пропало, — сказал Брон. — Двух вчера заклевали вороны. Хворь их, видно, свалила. Не то вороны не посмели бы на них кинуться. А один замерз, я его сегодня нашел. И сколько еще овец половодьем унесет, кто знает. Надо бы отогнать их повыше в горы, но там ни травинки. Будто среди зимы. Теперь пойдут у них копыта гнить.
— Нет, долго такая погода не продержится, — сказала Кэти. — Ведь июнь на носу. Только бы дождь перестал, тогда не страшно. С коровами уж как-нибудь и вдвоем управимся. А овцы пускай сами пасутся, тут уж ничего не поделаешь. Как-нибудь протянем, а там Ивен вернется.
— Когда еще он вернется.
Брон чуть отогнул пластырь на правой ладони, заглянул под него.
— Ну, как рука? — спросила Кэти.
— Лучше, — ответил он. — Можно считать, зажила. Но день-два от нее еще мало будет толку. Совсем я изнежился, прямо беда. Часа два-три поработаешь, и уже волдыри. Я думал, легко утру Бейнону нос, когда мы стали рыть канаву, а вон что получилось.
— Сними пластырь, — сказала Кэти. — Я положу чистый. Как бы грязь не попала.
Она достала новый пластырь, сорвала обертку и заклеила ранку у основания пальца.
— С чего же он все-таки ушел? — спросил Брон. — У тебя его записка далеко?
— Я ее сожгла, — сказала Кэти. Брону почудилась какая-то натянутость в ее голосе, и он решил больше не расспрашивать.
— Противный малый, — продолжала Кэти. — Ни капельки мне не жалко, что он ушел. Сказал, хочег жить в городе.
— Я тебе раньше не говорил, — сказал Брон, — но, похоже, несколько дней назад он хотел меня прикончить. У него кирка сорвалась и чуть не угодила мне в голову. По-моему, он какой-то чокнутый.
Пока она собирала на стол, оба молчали. Брон взял обеими руками чашку чая и скоро почувствовал, как застывшие пальцы заныли от тепла.
Кэти заставила себя заговорить о том, что вот уже несколько дней не давало ей покоя.
— Как ты считаешь, почему Филлипс передумал продавать нам землю?
— Не знаю, — ответил Брон. — По-моему, нам просто не везет. Все равно теперь это уже не имеет значения.
— А как же твои планы, если мы не прикупим эту землю?
— Да никак. Одному мне все равно не управиться. Я же не фермер, слишком мало в этом смыслю. Прямо скажем, еще и не начал, а уже провалился. Без Ивена нам теперь не обойтись.
— Просто ты расстроился. На твоем месте всякий бы расстроился. Вот кончатся дожди — все покажется веселей.
— Даже если б я и смыслил в этих делах, еще вопрос, гожусь ли я для этого вообще.
— Конечно, годишься.
— Ты, наверно, знаешь, я был человек не очень надежный… много лет.
— Ивен что-то говорил, — подтвердила Кэти.
— Ну вот, — сказал Брон, — надо думать, это даром не прошло.
— Неправда. Ничего в тебе такого нет. Ты не хуже других людей.
— Понимаешь, это такая штука, что лучше о ней не говорить, — сказал Брон. — Считается, что, когда об этом говоришь, становится хуже.
— И не говори, раз тебе неприятно. Я понимаю.
— Теперь-то все в порядке, — сказал он. — Все прошло. В Хэйхерсте меня все-таки вылечили. Хотя считалось, что это неизлечимо. Очень там был хороший психиатр. Сейчас есть такие лекарства — только мертвого не вылечат.
— Значит, тебя вылечили! — сказала она.
— Вылечили, — сказал Брон. — Едва успели. Окончательно вылечили как раз перед тем, как мне выходить. Когда я вышел, мне даже казалось, вот-вот будет приступ, но Гриффитс дал мне чего-то принять, и все обошлось. Помнишь, была та заварушка с машиной? Если бы мне грозил приступ, он как раз тогда бы и случился. А я принял лекарство Гриффитса — и все в порядке.
— А какие они, эти приступы?
— Ничего не могу тебе сказать, я ведь не знаю. За день, за два перед приступом бывает как-то чудно и не по себе. Какой-то взвинченный становишься. И все видишь будто во сне. Сам не спишь, а все вокруг будто снится. А потом ничего не помнишь. Двух-трех дней будто и не было. Вот тогда-то я непременно что-нибудь натворю. Но потом не помню этого. Говорят, это называется автоматизмом.
— А откуда ты знаешь, что в тот раз приступа не было? — спросила Кэти.
— Трудно объяснить. Просто я знаю, что не было. День-другой меня клонило в сон, а потом все прошло. Потому, наверно, я тогда в кино и заснул.
Брон задумался, напрягая память. Даллас называл это сумеречным состоянием, и он почти ничего не мог вспомнить, лишь кое-какие обыденные мелочи — небрежные мазки на смутном, расплывчатом фоне, точно на полотнах импрессионистов.
— И ведь что удивительно: в это время мне всегда кажется, будто люди ведут себя как-то странно. Например, дня два вы с Ивеном казались мне очень странными. Потому я и думаю, что был на волосок от приступа. Ну с чего бы, например, в те дни, как пропал Ивен, ты словно дулась на меня, была как чужая, а потом опять стала добрая, заботливая? Ответ только один: неладно было не с тобой и не с Ивеном, а со мной.
— И так было всегда? Всю твою жизнь?
— Началось еще в школе, когда я был мальчишкой. Самое скверное, что у меня все протекало иначе, чем у обычных эпилептиков. Настоящих припадков со мной никогда не случалось: я не падал, пена у меня изо рта не шла и я не прикусывал язык. Люди думали, я просто прикидываюсь сумасшедшим. Пока меня не посадили в тюрьму и не сделали там энцефалограммы, никто и не подозревал, что я эпилептик. Даже в Хэйхерсте главный врач сказал мне, что я притворяюсь. В девятнадцать лет меня за что-то высекли, а в чем я тогда провинился, я так и не знаю.
— Вот ужас, — сказала Кэти.
— Это было не так уж страшно, — сказал он. — Порка не так уж страшна. Если потеряешь много крови, тебе дают полпинты крепкого портера.
— И ты не ожесточился?
— С чего же? Мне не повезло, но не больше, чем другим. Ведь психопаты, сексуальные маньяки и прочие, кто сидел со мной в тюрьме, не по своей воле родились такими. Еще оказалось, что моя болезнь излечима. А настоящего психопата не вылечишь, но его все равно наказывают.
— Так, — сказала она. — Значит, твоя болезнь излечима. Твое счастье. А ты точно знаешь, что тебя совсем вылечили?
— Да, конечно. Несколько месяцев попринимал новое чудодейственное лекарство — и все прошло. В Хэйхерсте со мной в камере сидел один парень, он просто уснуть не мог, пока что-нибудь не стащит. Мы нарочно устраивали, чтоб он мог стянуть у нас какую-нибудь мелочь. После он все отдавал обратно. У него мозги были как-то устроены: если не украдет, ему и жизнь не мила. Через несколько лет, наверно, изобретут какое-то лекарство и для него. Там был еще старик, его приговорили к десяти годам, он украл велосипед, а велосипеду цена четыре фунта. Слишком рано он родился. Случись это на несколько лет позже, его вылечили бы какими-нибудь таблетками и не сидеть бы ему в тюрьме до самой смерти.
Он вспомнил, как они шутили с Далласом.
— Это мое второе «я» мы называли «роковой гость» — оно ведь жило во мне, и мне приходилось оплачивать его счета. Даллас так его и назвал. Гость этот вспыльчивый, не то что я. Если кто-нибудь наступал ему на мозоль, он не давал спуску, а в карцер на хлеб и воду сажали мое «я» номер один, тихое и мирное, и у меня уже не было надежды на смягчение приговора. А под конец он совсем зарвался, и мне прибавили еще два года за нападение на тюремного надзирателя и решили, что меня должен лечить психиатр.
Кэти давно уже подмывало задать ему один вопрос, и в какую-то минуту она не сдержалась:
— Как по-твоему, Брон, что все-таки случилось с Ивеном?
Он, казалось, нисколько не удивился.
— Не знаю.
— Он умер, правда?
— Не думаю. По правде говоря, мне тут пришла в голову одна мысль. Я думаю, у него был какой-то приступ, вроде тех, что бывали у меня. Может, это у нас в роду. Ведь вот наша сестра умерла как-то загадочно. Родители нам так и не сказали отчего. Может, и у нее это было. Ивен говорил, мне повредили голову при рождении. Он говорил, доктор плохо принимал роды. Но теперь, когда я думаю о своей болезни, я не уверен, что причина в этом.
— Ивен умер, — сказала Кэти. — Никогда не поверю, что он еще жив. Мне три ночи подряд снилось, что он умер. Снилось, что он где-то зарыт.
— Сны — ерунда. Просто мысли эти не дают тебе покоя и во сне.
— Он умер, — упрямо повторила она. — Это так же верно, как то, что я жива. Как нам теперь быть?
Брон обнял ее за плечи, стараясь успокоить.
— В полиции считают, его убили, — сказала она. — Говорят, мол, все допросы эти — обычная формальность, а все равно считают — убили.
— А что же им еще думать. Тем более теперь, когда они нашли его костюм.
— Все так думают. В Кросс-Хэндсе люди увидят меня на улице и переходят на другую сторону, только бы со мной не разговаривать. В магазине продавщицы на меня и не смотрят. Потому и Филлипс отказался продать нам землю. Все они нас ненавидят.
— Это тебе кажется, — сказал Брон. — Ты просто устала, очень уж много пришлось волноваться. За что им нас ненавидеть?
— Неужели не понятно? Все думают, между нами что-то есть, вот мы и убрали Ивена с дороги.
Брон покачал головой, безмерно изумленный: откуда у нее такие чудовищные мысли, как она могла подумать, будто кто-то способен возвести на них такую напраслину? При первой встрече Кэти показалась ему хорошенькой и желанной, мужчина в нем невольно восхитился женщиной, но он тотчас заглушил это чувство — ведь оно было предательством по отношению к брату. И Кэти перестала быть для него женщиной, он видел в ней только сестру, к которой все сильней по-братски привязывался. У него как-то не укладывалось в голове, что ее соединяют с Ивеном супружеские отношения, и, если бы вдруг оказалось, что она ждет ребенка, это бы его порядком смутило. Неожиданно у него мелькнула престранная догадка:
— Может, из-за этого и Бейнон ушел?
— Да, — сказала она, — из-за этого.
Видно, записка Бейнона и навела ее на такие мысли, подумал Брон.
— Если бы нам отсюда уехать, — вздохнула Кэти.
— Вот тогда-то и поднимется переполох.
— Куда-нибудь, где никто нас не знает, — жалобно продолжала Кэти.
— Об этом и думать нечего. По многим причинам. Во-первых, можно себе представить, что решат в полиции. — Жить с ней под одной крышей почему-то не казалось ему предосудительным, но куда-то вместе уехать (да и куда, собственно?) — нет, немыслимо. — И между прочим, попробуй-ка объясни это другой стороне, — прибавил он, но Кэти словно и не слышала.
Она больше не могла удержаться от вопроса, который так давно ее мучил:
— Брон, а куда ты ездил ночью в машине в то воскресенье? Ты не помнишь?
— Конечно, помню. — И, поняв, что у нее на уме, рассмеялся. — Ты думаешь, наверно, что у меня был тогда приступ? Не беспокойся, этот вечер я прекрасно помню.
— Тебя долго не было, правда?
— Порядком, — сказал он.
— Почти всю ночь, — сказала Кэти. — Когда ты вернулся, я проснулась и поглядела на часы.
— Да, вернулся я поздно.
— Этот сыщик спрашивал меня, и я сказала, что ты уезжал на машине. И очень жалею, что сказала.
— Как же ты могла не сказать, раз он спрашивал? Ты ведь слышала, как я уезжал. Что же еще было говорить?
— Они за тобой следят. Проверяют каждый твой шаг.
— Обычные формальности. Они действуют как положено. Это ровным счетом ничего не значит. Они всех проверяют.
— Я откажусь от своих слов, — сказала Кэти. — Скажу, что я этого не говорила.
— Но почему? — спросил Брон. — Почему?
Она не стала отвечать впрямую.
— Не могут же они заставить меня говорить, если я не хочу. Возьму свои слова обратно.
— Ни в коем случае. Они только заподозрят, что ты что-то скрываешь. Когда не виноват, надо говорить только правду.
— Тогда почему же ты сказал неправду про эту ссадину над глазом? Ты ведь говорил, что сказал им, будто налетел на трубу?
— Да, но теперь я понимаю, что зря так сказал. Я думал, это избавит меня от лишних вопросов, вот и оплошал. В конечном счете ложь только все усложняет.
— А ты можешь мне сказать, куда ты ездил? — Она знала, что ему не захочется отвечать, и как раз это вместе с другими случаями, когда он отмалчивался, окончательно разрешило ее сомнения. Но вместе с подозрением, которое наконец переросло в уверенность, пришла решимость не останавливаться ни перед чем, лишь бы его защитить. А перед собственной совестью и перед всем светом она оправдывала себя тем, что вся их трагедия — дело семейное. Никого это больше не касается. Ивена нет, и его уже ничем не вернешь. Теперь не мешайте нам самим как-то наладить нашу жизнь.
А Брон в эту минуту решил, что можно сказать ей все.
— Я ездил с другом, — сказал он. — С подружкой.
— Вон оно что… Вон что. А я и не знала, что у тебя кто-то есть, — сказала она ровным, бесцветным голосом.
— Я ничего не рассказывал, потому что тут не так все просто, — сказал он. — Она сейчас не свободна. Мы надеемся пожениться, но когда, я пока не знаю.
Как ей хотелось, чтобы это была неправда, как хотелось верить, что он просто старается сбить ее со следа!
— Я ее знаю? — спросила она.
— Навряд ли, — ответил Брон. — По-моему, ее здесь не слишком жалуют. Чего она только не натерпелась на своем веку. Она мечтает уехать из Англии, и, возможно, мы уедем, но пока еще об этом рано говорить. Ведь не известно, как все обернется.
— Надеюсь, для тебя все обернется хорошо, — сказала Кэти. Господи, взмолилась она в душе, пусть это будет неправда. Она тешила себя наивной мечтой: вот ее допрашивают в полиции, она лжет, выгораживает его, и, что бы с ней ни делали, что бы ни говорили, ее не собьешь. Ничего они не смогут доказать, и придется им его отпустить. И тогда он из благодарности полюбит ее. Она еще и теперь по-детски верила: если чего-нибудь очень-очень захотеть, оно сбудется.
Послышался всплеск — эго по глубоким лужам подъехала машина, круто затормозила у ворот, и под шинами заскрипел мокрый гравий.
Брон подошел к окну.
— Опять полиция пожаловала, — сказал он.
17
Как и следовало ожидать, на сцене появился старший инспектор сыскной полиции, один на два округа, — так знатока привлекает слух, будто на провинциальном аукционе объявился не попавший ни в какие каталоги Франс Хальс. Случай оказался интересный, пожалуй, он даже войдет в юридические учебники. Едва Фенн и Бродбент начали допрос, раздался телефонный звонок: им велено было повременить до приезда старшего инспектора. И вот он приехал и взял следствие в свои руки.
Он прочел им лекцию о случаях убийства, когда тело обнаружить не удалось.
— Последний случай позволяет провести несколько интересных параллелей, — сказал он. — Тоже фермеры, совладельцы в недоходном хозяйстве. Обвиняемый обратился в полицию с очень хитрым заявлением, будто его партнера похитили и переправили за кордон. Большая часть улик на удивление схожа, и обвиняемый проявил такую же поразительную небрежность в отношении всех второстепенных обстоятельств.
Техника допроса меняется каждые несколько лет, и нынешний старший инспектор в этом смысле представлял собой целую эпоху. Он придерживался методов, прямо противоположных школе 1939 года, когда считалось, что подозреваемый скажет правду, если его хорошенько припугнуть, и иные следователи всячески в этом усердствовали и старались припереть допрашиваемого к стенке. Старший инспектор учился в иную пору, когда следователи пытались изобразить сочувствие к своей жертве и даже разделить ее точку зрения. Это настораживало подозреваемого, вызывало у него недоверие, а потому от такого подхода скоро отказались, и лишь кое-кто из ветеранов, пользуясь своим положением, упрямо его придерживался.
— Ваша беда в том, — сказал старший инспектор Брону, — что вы впали в старое-престарое заблуждение, будто, пока не найдено тело, нельзя предъявить обвинение в убийстве. — Он готов был милостиво понять эту общепринятую ошибку. — Это, в сущности, естественно и понятно и даже вроде бы разумно, но все-таки неверно. Если имеется достаточно улик, доказывающих, что совершено убийство, закон принимает во внимание эти улики и признает обвиняемого виновным независимо от того, найдено тело или нет.
Они сидели в комнате для допросов в бринаронском полицейском участке, Брон курил длинные сигареты старшего инспектора и слушал удивленно и с любопытством. Пусть говорит сколько хочет, он же будет экономить силы, не станет оспаривать улику за уликой, просто в подходящую минуту выложит на стол свой козырь и единым махом разрушит всю постройку. Ему странно было оказаться в этой роли, и, однако, жизнь его складывалась так, что в ней слишком мало удавалось предсказать заранее или даже просто объяснить.
— Мы, конечно, предпочли бы найти тело, — говорил старший инспектор, — но можем обойтись и без этого, и я постараюсь вам объяснить почему.
За спиной у начальства Бродбент досадливо кашлянул; старший инспектор ничего не услышал, но Фенн услыхал. Бродбенту и Фенну разрешено было делать заметки, но ни в коем случае не вмешиваться. «Мой опыт говорит, — заявил им старший инспектор, — что, если полицейские накидываются на подозреваемого с криками и угрозами, они только все губят. В девяти случаях из десяти таким способом из него слова не вытянешь. А тут главное — вызвать его на откровенность».
— Так вот, если человек придерживается этого самого заблуждения, — продолжал старший инспектор, — он только и думает, как бы отделаться от столь коварной улики. Ищет, куда бы ее понадежней запрятать, и уверен, что потом можно сидеть сложа руки. Кстати, я был поражен тем, как вы справились с этой задачей — как старательно разведали все подходящие места. Вероятно, вы пользовались той картой с пометками, которую обнаружил у вас на ферме неутомимый сержант Бродбент.
Брон молчал.
— Пожалуйста, прерывайте меня, если вам захочется что-то сказать. Если у вас появляется вопрос, спрашивайте, не ждите, пока я кончу. Я вовсе не собираюсь произносить монологи. Карандашными крестиками на карте отмечены все рудники здешней округи. Эти пометки помогли обнаружить отпечатки шин вашего автомобиля… Ну, и, конечно, ваши следы. Вы ведь туда ездили, верно?
— Ездил… и если бы сержант Бродбент спросил меня, я бы так ему и сказал.
— Наконец-то мы до чего-то договорились. Все последующие ваши действия подтверждают мою точку зрения: вы считали, что достаточно спрятать тело — и все будет в порядке. А для этого заброшенный рудник — самое удобное место. Найдя такое великолепное укрытие и придерживаясь все того же заблуждения, вы решили, что вам незачем заметать следы. Вы сбили брата с ног…
— Простите, инспектор, он упал.
— Не будем спорить по мелочам. Он упал… но ведь сперва вы его ударили. По крайней мере таков был ход событий, по словам нашего свидетеля.
Брон был уверен, что старший инспектор берет его на пушку, но решил больше не перебивать. Он достал из протянутой ему пачки еще одну сигарету, и морщинки в уголках инспекторских глаз стали еще отчетливей от благодушной улыбки.
— Я хочу подчеркнуть, что вы не слишком старательно заметали следы. Вы убили брата, кое-как подтерли пол в кухне, раздели труп, засунули в багажник, отвезли к руднику и сбросили вниз. Вам бы следовало сжечь окровавленную одежду брата, но вы и этим не стали себя утруждать. Тут вы окончательно уверовали, будто вам ничто не грозит, и вели себя крайне беспечно. Стараясь как-то объяснить отсутствие брата, вы разным людям рассказывали противоречивые версии, а начав распродавать его вещи, обратились прямо к местному ростовщику, хотя назвались, разумеется, вымышленным именем. Мне кажется также, что было бы куда благоразумнее обождать несколько месяцев или хотя бы недель, прежде чем начинать переговоры о продаже фермы и подготовку к отъезду в Австралию. Но нет, вы вообразили, что это все не важно. Ключ ко всем вашим действиям именно в этом главном вашем заблуждении.
Бродбент чертил в записной книжке концентрические круги и треугольники. Записывать было решительно нечего. Его учили, что цель допроса — вызвать подозреваемого на откровенность. Чем больше говорит он и чем меньше следователь, тем лучше. Подозреваемый не должен догадываться, что у вас еще есть про запас. По этим меркам представление, которое устроил старший инспектор, означало провал.
А старший инспектор всеми силами пытался вызвать Брона на чистосердечное признание, исподволь внушая ему, что, сколь бы это ни казалось невероятным, тут возможна какая-то сделка. Это было для него вдвойне трудно, так как он был человек верующий и, обманывая свою жертву, вынужден был заодно обманывать и себя. Приходилось всячески стараться — пусть оба они верят в этого вызванного им лживого духа, в этот самообман, будто признание выгодно не только ему, но и человеку, которого он допрашивает. И наконец, рано или поздно ему придется сказать: «Мы можем помочь друг другу. Вы поможете мне, я — вам». Он очень старался поверить, будто так оно и есть. Это была некая нравственная акробатика, представление иллюзиониста, которое он разыгрывал не только для публики, но и для себя. Он извлекал надежды и посулы прямо из воздуха, давал полюбоваться ими, потом взмах шелкового шарфа — и их как не бывало. Представление это разыгрывалось многие годы и отработано было до блеска.
— Бывает, — продолжал старший инспектор, — что от полиции получишь куда больше помощи, чем от самого лучшего защитника. В данном случае, как мы знаем, имела место серьезная драка. На линолеуме обнаружена кровь двух групп. Отсюда и ваша рассеченная бровь. Возможно, вас на это вызвали, довели до крайности. Самозащита? Мне пока трудно обещать… но правильно выбранное слово… непредумышленное убийство?.. — Он как бы спрашивал самого себя и произнес это вслух так, что Брон словно бы лишь случайно мог его услышать. Брону же он сказал: — Мы вовсе не хотим быть чрезмерно суровыми.
Весь вопрос в том, можно ли как-то приглушить явную преднамеренность этого убийства. Даже для весьма гибкой совести старшего инспектора это представлялось сомнительным. Но посмотрим, посмотрим. Подобно ранним воздухоплавателям, он из кожи вон лез, только бы запустить в небо свое ненадежное детище из хрупких плоскостей и проволоки. Предумышленность тут несомненна, вот что хуже всего.
— Самое неприятное, — сказал он, — фальшивая подпись на документе о совместном владении фермой, она выдает заранее обдуманное намерение. И однако, может быть, и через это удастся перейти. Была бы только добрая воля с обеих сторон. Нотариус, к которому обращался ваш брат, подтверждает, что клиент просил его составить это соглашение, так что уперся он, видно, только когда дошло до подписи. Подпись вполне могла быть подделана после его смерти.
Брон рассмеялся:
— Извините, инспектор, но вы бы заглянули в мое дело. Подлог не по моей части.
— Да, верно, — чуть разочарованно сказал старший инспектор. А он-то надеялся, что уложил Брона на обе лопатки. — Наш эксперт по почеркам сказал, что это типичная первая попытка. В девяти случаях из десяти, когда подпись подделывают непрофессионалы, они ее просто сводят. Наш эксперт даже не стал прибегать к помощи микроскопа. Углубления на бумаге видны невооруженным глазом. — Он оживился: — Конечно, если бы отбросить мысль о предумышленности, это могло бы нам помочь. — И уже совсем бодрым голосом задал себе новый вопрос: — А может быть, драка была вызвана тем, что в последнюю минуту брат отказался поставить свою подпись? — Про себя же подумал: нельзя ли, если Брон пойдет ему навстречу, вообще не включать этот подлог в число улик? Десять против одного, что присяжные все равно вынесут обвинительный приговор, однако… — Ну, что скажете? — спросил старший инспектор. — Найдем мы с вами общий язык?
— Боюсь, что нет, инспектор, — сказал Брон.
— Жаль. Право, очень жаль. Вы умный человек. Мне казалось, вы должны бы понимать свою выгоду. Могу я спросить, почему вы не согласны?
— Вы очень любезны, что хотите свести обвинение к непредумышленному убийству, но меня это мало волнует. Если моего брата нет в живых, я тут ни при чем.
— Но согласитесь, все улики против вас.
— Согласен, — сказал Брон. — Картина настолько ясная, что тут вполне могла бы совершиться судебная ошибка, если б только не одно обстоятельство.
— Какое?
— У меня есть алиби.
— Вот как? Интересно. И вы скажете какое?
— Да, — ответил Брон, — конечно. Предполагается, что я убил брата в ночь на воскресенье. Так вот, я могу сказать, где я провел эту ночь.
— И в подтверждение представите свидетелей? — спросил старший инспектор.
— Одного свидетеля, — сказал Брон. — Надеюсь, этого будет достаточно.
Центральный архив сообщил основные данные о прошлом Уэнди: приставала к мужчинам на улице, уличена в краже в магазине, в воровстве, участвовала в непристойных представлениях за деньги. Бродбент ожидал увидеть вульгарную, размалеванную девку и немало удивился, когда перед ним оказалась привлекательная, скромная на вид женщина, которая к тому же премило держалась. Она охотно согласилась тотчас отправиться с ним в полицию.
— Вы обождете минутку? Я только переоденусь.
Она быстро и тщательно оделась для поездки в Бринарон. Бродбенту трудно было представить себе, чтобы эта чистенькая, спокойная женщина могла ночь напролет грубо и бурно предаваться любви на заднем сиденье маленькой машины или в разрушенном здании рудничной администрации. «Вы привезли туда тело вашего брата и сбросили его в ствол шахты». — «Нет, — сказал Брон. — Я привез туда женщину». — «Тогда почему же там есть только ваши следы?» — «Она попросила, чтобы я взял ее на руки. Боялась испачкать туфли».
Разыгралась небольшая семейная сцена — Оукс непременно желал отправиться с ними.
— Вы не против, чтобы я тоже поехал?
— Если дама желает, чтобы вы ее сопровождали, сэр, сделайте одолжение, но разговор с ней будет происходить при закрытых дверях.
— Да об чем разговор-то, хоть намекните?
— К сожалению, никак не могу, сэр.
— Будь умницей и посиди спокойно дома, — сказала Уэнди. — Я ненадолго. Ведь правда, сержант?
— Думаю, что да, мисс Фрост.
Старшему инспектору Уэнди тоже пришлась по вкусу. Поразительно, чего может достичь такая женщина, стоит ей только взять себя в руки. Она может далеко пойти. Может даже открывать благотворительные базары. Им бы только еще уметь избавляться от сутенеров. Сутенеры высасывают из них все соки. Но эта сумела развязаться со своим прошлым. Толковая бабенка. С такой и поговорить приятно.
— Вы знакомы с мистером Броном Оуэном с «Новой мельницы»?
— Это тот брат, который пониже ростом? Да, я его знаю. Он бывает у нас в «Привете».
— У вас с ним добрые отношения?
— Как со всеми посетителями. Наша работа такая, надо всех привечать. Стараешься запомнить, кого как зовут. Иначе нельзя. А если кто предложит выпить с ним стаканчик, приходится и выпивать. Сами знаете, так уж заведено.
Старший инспектор сочувственно покивал:
— Да, конечно.
— Всякий тебе рассказывает про свои беды. Человек — он всегда ищет, с кем бы поделиться.
— И с Оуэном тоже так, не больше? Вы и его тоже держали на расстоянии?
— А как же? Да он и был-то у нас всего раз пять-шесть.
— И уж конечно, вы никогда не катались с ним в машине?
— Никогда — ни с мистером Оуэном, ни с другими посетителями. Это не положено.
Инспектору ясно представилось, сколь неприступна будет она в броне своей добродетели лет этак через десять.
— А что, кто-нибудь говорил, что я катаюсь с посетителями? — Она удивленно подняла брови.
— Буду с вами совершенно откровенен. Мистер Оуэн заявил нам, что состоял с вами в близких отношениях.
— Вот еще выдумал, — сказала Уэнди. — Надо же такое выдумать.
— И вы никогда не ездили с ним в машине к Лисьему руднику?
— Я ж говорю, я видела его только у нас в баре, подавала ему выпивку да здоровалась, вот и все. И вообще я скоро выхожу замуж.
— Этого я не знал, — сказал старший инспектор. — Примите мои поздравления. Значит, можно считать, вы готовы заявить суду, что никогда никуда с ним не ездили?
— Ясно, так и скажу.
— Вряд ли это нам понадобится, но вы случайно не помните, что вы делали в ночь на десятое? — спросил старший инспектор.
— В ночь на десятое? — переспросила Уэнди. — Дайте подумать. Какой это был день?
— Воскресенье, — сказал старший инспектор.
— Предпоследнее воскресенье?
— Предпоследнее.
— Как же, помню, — сказала она. — Я ходила в кино с нашей уборщицей. Потом мы вернулись домой и поужинали. Потом, наверно, еще послушали пластинки… мы всегда их ставим. А часу в двенадцатом легли. Все как всегда.
— И вы больше не выходили в тот вечер из дому? Извините, что я так настойчив. Но у нас тут должна быть полная ясность.
Она спокойно улыбнулась ему в знак того, что ничуть не обижается.
— Нет, я легла и сразу уснула. У меня будильник заведен на без четверти восемь, и, пока он не зазвонит, я сплю как убитая.
— Благодарю вас, мисс Фрост. Пожалуй, это все. Спасибо, что приехали, сержант отвезет вас домой.
Когда она уже выходила, старший инспектор задал еще один вопрос:
— Скорее всего, вы нам больше не понадобитесь, но на всякий случай скажите, вы пока никуда не уезжаете?
— Недели две тут еще побуду, а потом у нас медовый месяц, — ответила Уэнди.
18
Брон, который уже больше недели находился под стражей и совсем измучился от бесконечных допросов, при виде веселого лица Далласа сразу ожил. Его снова поразила молодость доктора, которую в Хэйхерсте он уже перестал было замечать и которую сейчас лишь подчеркивала вызывающая острая бородка. А Брон показался Далласу вялым и равнодушным. Едва надзиратель вышел, заперев их в сумрачной комнате для свиданий, Даллас сказал:
— Я здесь неофициально. Мне совсем не полагается тут быть. Вторгаться на чужую территорию опасно.
Они не виделись месяц, и теперь Брон понял, что чувство зависимости от этого молодого человека никогда не оставляло его. В первые же минуты уверенность в себе, которую он, казалось, ощущал все эти недели, рухнула, и он понял, что Даллас необходим ему ничуть не меньше, чем прежде.
— Пока не стану уверять, что мы вышли сухими из воды, — сказал Даллас, — но со здешним доктором мне повезло.
— По-моему, он ничего, — согласился Брон, — добрее многих других.
— Это одна видимость, а сердце у него каменное. Ему нет большей радости, чем подвести человека под обух. Он мне сам рассказывал, что однажды отказался засвидетельствовать душевную болезнь у заключенного, которого разбил паралич. И на казнь беднягу тащили на носилках.
— А в чем же тогда вам повезло?
— Мне удалось нащупать его слабое место. Когда он был студентом, некто по фамилии Уибер разок похвалил его и повел завтракать в ресторан Симпсона. С тех пор доктор Паркинсон питает особое пристрастие к синдрому Стэрджа-Уибера, открытому этим самым его другом. А у вас как раз и есть синдром Стэрджа-У ибера.
Брон рассмеялся:
— А что это значит?
— Я разве вам никогда не показывал рентгеновский снимок вашего черепа?
— Нет, — сказал Брон. — Не показывали.
— Странно. Я ведь хотел. — Даллас забеспокоился, не откажется ли Брон ему помогать. И еще другая трудность: неизвестно, можно ли здесь разговаривать откровенно, а вдруг их подслушивают? Комнате для свиданий постарались придать сходство с клубной гостиной: просиженный диванчик, два сильно потертых коричневых кожаных кресла и парочка писанных маслом темных туманных пейзажей, какие модны были в викторианскую эпоху. На пыльном, закрашенном, как в ванной, стекле дрожало расплывающееся солнечное пятно. Интересно, запрятаны тут где-нибудь подслушивающие устройства? — Вероятно, я все-таки решил, что лучше вам этого не знать, — сказал Даллас. — Ну а сейчас это скрывать незачем. У вас в затылочной области есть обширные обызвествленные участки, отсюда и все прочие симптомы — зрительные и чувственные галлюцинации, внезапные подкорковые разряды, видные на вашей энцефалограмме, и многое другое.
— Все это для меня новость.
В почти пустой комнате голос Брона прозвучал зловеще громко. Стены словно сдвинулись и стали тоньше. Даллас так и видел, как за дверью с полуоткрытым окошечком насторожился притворно скучающий надзиратель. А может, за этим слащавым пейзажем в облезлой позолоченной раме спрятан микрофон?
По коридору, громко топая, промаршировала команда, и, воспользовавшись шумом, Даллас постарался втолковать Брону самое необходимое:
— Замутненное сознание… немота… челюстные судороги…
Ему хотелось крикнуть: «Да сообрази же ты наконец, балда!»
Но Брон улыбался все той же упрямой, недоверчивой улыбкой.
— Доктора Паркинсона, — продолжал Даллас, — больше всего заинтересовали рентгеновские снимки. Он указал мне на небольшое обызвествление в заднетеменной области, которое я прозевал. Я объяснил ему, что условия работы ограничивают мой опыт.
Так как рентгеновские снимки хранились у Далласа, ему ничего не стоило подправить их. Со спокойной решимостью он взял снимки, подтвердившие классический случай синдрома Стэрджа-Уибера, и подменил ими снимки в деле Брона, которые ничего похожего не показывали. Он надеялся, что Паркинсон не настолько подозрителен и энергичен, чтобы заново делать рентген, да и повторять артериограмму слишком хлопотно.
И вот теперь этот уэльский крестьянин не желает, чтобы его спасли. Прирожденная покорность судьбе либо уже одержала над ним верх, либо вот-вот одержит.
Спасая Брона, Даллас в последний раз пытался оправдаться в собственных глазах, прежде чем оставить пост тюремного врача. Неделей раньше он обедал у начальника тюрьмы в Хэйхерсте и упомянул, что хочет уйти с этой службы.
«Вот уже три года я вынужден молча смотреть, как людей наказывают за то, что они больны. Это все равно как если бы мы лечили пневмонию, раздевая больного и выталкивая его на мороз».
Начальник тюрьмы извинился и сказал, что ничем не может помочь.
«Напишите члену парламента от вашего графства. Я всего лишь исполнитель, нажимаю на рычаги этой машины. Хотя неизвестно зачем: они прекрасно могут работать сами».
В коридоре снова затопали. Даллас придвинулся к Брону и почти закричал:
— Да помогите же мне! Без вашей помощи я ничего не смогу сделать.
Хорош психиатр, подумал он. Никому не сумел помочь, а теперь помешался на спасении одного-единственного пациента, как будто этим можно все искупить.
В дверь заглянул надзиратель, он еще не успел подавить зевок, а левой рукой явно только что чесался.
— Вы звали, сэр?
Едва за ним закрылась дверь, Брон сказал:
— Я думал, в Хэйхерсте меня совсем вылечили.
— На это не было никакой надежды, — ответил Даллас.
— Тогда вы говорили по-другому.
— Вам вредно было знать всю правду. Принимай вы лекарство, никакой беды не случилось бы. Но это-то мы и не сумели обеспечить. Я должен был бы после освобождения поместить вас в местный дом для душевнобольных, но мне не дано такого права. Будь вы даже буйнопомешанным, я и то ничего не мог бы поделать. Уверен, что через несколько дней после выхода из Хэйхерста у вас был приступ. Все, что мне удалось разузнать о вашем поведении, соответствует эпилептическому припадку с последующим автоматизмом. Взять хотя бы это ваше знаменитое алиби. Как бы вы сами в него ни верили, это явно плод вашей фантазии.
— Вы попали в самое больное место, — сказал Брон. — История с этой женщиной — вот что меня сбивает с толку. Хоть убей, не пойму, почему она все отрицала.
— А она не могла не отрицать, — сказал Даллас.
Но Брон видел все так ясно, до мельчайших подробностей, словно это случилось только прошлой ночью. Он чуть не плакал, думая о ее предательстве.
— Мы вошли в дом, — сказал он. — Я его как сейчас вижу. Лестница скрипучая, и замок в спальне никак не отпирался. И на стене — изречение из Библии, что-то про любовь господню.
— Но адреса вы не знаете, верно?
— Нет, адреса не знаю. Было темно. Там дорожка по задам, через огород, и мы уговорились, что она оставит черный ход открытым и зажжет свет.
— Пари держу, вас никто не видел, — сказал Даллас.
— Ваша правда. Никто не видел. Она живет не одна, и она не хотела, чтобы он узнал. Я бы мог проводить вас.
— Сомневаюсь, — сказал Даллас. — Мы с вами так основательно исследовали глубины человеческого сознания, что пора бы вам понимать: все это вы видели как бы во сне. Такого рода видения настолько убедительны и подробны, как если бы все происходило наяву. Не скажу, чтобы я уж очень полагался на полицию, но надо думать, показания этой женщины они проверили и перепроверили. И они совершенно убеждены, что она говорит правду.
— По-моему, пора выяснить самое главное, — сказан Брон. — Вы считаете, что я убил Ивена?
— Давайте скажем так: я считаю, что при вашем состоянии вы способны были его убить. А убили или нет, для меня не так важно.
Смелое заявление это далось врачу нелегко, и он искоса глянул на Брона, желая понять, как тот принял его слова.
Брон старательно перебирал в уме недавнее прошлое: он вновь ощущал живую плоть Уэнди, припоминал свои побуждения и поступки. Лишь изредка что-то было не вполне ясно. И только ярость Ивена он по-прежнему совсем не мог себе объяснить.
— У меня же не было на то никаких причин, — сказал он. — Это бессмысленно. Я ничего не имел против Ивена.
— Кроме одного: вы могли подсознательно понимать, что у него есть что-то против вас. Ведь, судя по моим заметкам, против того тюремщика в Уондсворте у вас тоже ничего не было.
— Выходит, я должен вам поверить, — сказал Брон. — Как видно, я уже не могу полагаться ни на свой рассудок, ни на свою память.
— Я вам друг. Я хочу помочь вам выбрать наилучшую линию поведения. Затем я сюда и приехал.
— Вчера я видел человека, который собирается меня защищать, — невесело сказал Брон. — Говорят, он неплохой адвокат.
— Я о нем слышал. Рвется к славе.
— Он как будто рассчитывает меня вытащить.
— Может, ему это и удастся. В том-то и беда. Пять лет назад можно было бы ставить десять против одного, что вас казнят. Вас и теперь с удовольствием бы казнили, но статьи в воскресных приложениях о возможных судебных ошибках лишают их спокойствия.
— Он считает, что меня могут с одинаковым успехом и осудить и оправдать, шансы равные.
— Даже так? — Даллас поморщился. — А вас это не пугает?
— Я не в силах сейчас ни радоваться, ни огорчаться. Так что пока я его разочаровал.
— Ваш защитник хочет во что бы то ни стало сделать себе имя. Об этом нельзя забывать. Процесс может стать сенсацией, и, если ему удастся выиграть дело, он, пожалуй, взлетит высоко. Возможно, вас оправдают, но ведь вы в глубине души этого не хотите, вот в чем соль. Мне кажется, свобода не так уж вас радует. Из наших с вами бесед в Хэйхерсте я понял, что там, пожалуй, вам было лучше, чем на воле.
— Я там привык.
— А вот к жизни на свободе вы так и не сумели приспособиться. В Хэйхерсте все было просто и ясно. Все понятно. Вот почему — сознательно или бессознательно — вы стремились задержаться там как можно дольше.
— Наверно, вы правы. До сих пор вы всегда бывали правы. Так что же мне делать? Сказать адвокату, что я хочу признать себя виновным?
— По тому, как все складывается, я думаю, у нас есть выход получше. Я уже говорил вам, Паркинсон на нашей стороне. Если вы согласитесь, надо будет запастись еще заключением специалиста из Нортфилдса.
— Нортфилдс… это ведь, кажется, для пожизненных?
— Но это не тюрьма, а лечебница Ее Величества.
— Одно и то же.
— Не обязательно. Это будет от многого зависеть. Больше я пока ничего не могу сказать. Вы уж положитесь на меня. Я делаю все, что в моих силах.
— Что это за место?
— Получше Хэйхерста. Со всеми, кроме буйных помешанных, там просто нянчатся. Вас поместят в одно из привилегированных отделений, вы там будете среди молодых людей, склонных к самоанализу, которые заочно проходят курс в колледжах. Через месяц-другой вам разрешат свободно ходить по всей территории. Там ценят людей со сравнительно нормальной психикой.
— В тюрьмах идет о Нортфилдсе недобрая слава.
— Это намеренно пускают такие слухи. Не хотят, чтобы туда попадал всякий сброд. А то, пожалуй, все станут рваться туда, как на курорт. Вы будете чувствовать себя там как рыба в воде. Я помню, вы мне как-то говорили, что не отказались бы пойти в монастырь. Так вот, в Нортфилдсе много общего с монастырем, но, я думаю, вам там больше понравится, не так однообразно.
Из вежливости он делает вид, что слушает с интересом, подумал Даллас, но'ему уже все равно. Он не хочет больше тянуть лямку. Я воюю не с бойким адвокатом, который мечтает прославиться, а с желанием умереть, которое всегда тут как тут, когда надежды и жажда жизни на исходе. Приедет нужный человек из Нортфилдса, и Паркинсон обернется ангелом-хранителем и вступит в бой на нашей стороне. Но удастся ли убедить Брона сделать то немногое, что от него требуется? Если бы угроза смертного приговора отпала, безответственный защитник, озабоченный своей карьерой, отступился бы от Брона, да и им самим овладела бы жажда забвения.
19
Чуть ли не за одну ночь настроение в Кросс-Хэндсе круто переменилось, страсти улеглись и остыли. На пороге лета наконец-то явилась весна, размалевала хмурые долины солнечными бликами, прогнала зимнюю затхлость и зимнюю одурь от сидения взаперти, которые держались долгих полгода.
Высокие мрачные ворота Нортфилдса растворились и захлопнулись за Броном, и он исчез у всех из виду и почти у всех из памяти. Бринаронский «Наблюдатель» потерял к нему всякий интерес, а заодно позабыл и недавнюю свою страсть к нераскрытым преступлениям, и на страницах его воцарилось летнее затишье, которое в Бринароне наступало раньше и кончалось позднее, чем почти повсюду в Англии.
Установили новую ретрансляционную антенну, и прием телеизображения в Кросс-Хэндсе стал куда лучше, а вот на молитвенные собрания приходило теперь гораздо меньше народу. В то лето домиков на колесах стало в полтора раза больше, и временные обитатели портили в окрестных долинах все, что не успели испортить прежде. Еще пять или шесть фермеров не выдержали сражения с землей, пустили свои поля под участки для туристов и присоединились к новому классу праздных бедняков. В это лето дачников пуще прежнего обуял дух насилия, разрушения и распутства, и модным их развлечением стало бить из ружья лососей, которые отваживались заплывать в бегущую по этим участкам речку.
После тяжких зимних трудов полиция почила на лаврах. Сержант Бродбент возвратился в Лондон, увозя с собой благодарственное письмо старшего констебля. Инспектор Фенн попросил о переводе и, получив его, сжег перед отъездом гору анонимных писем. Констебль Джонс в наказание был переведен в поселок Феррипорт — трущобы, которые росли как на дрожжах вокруг нефтеперегонного завода на побережье. Констебль Эдвардс посвятил это бестревожное лето своему труду под названием «Недостаток питания как один из факторов постепенного вымирания клушицы», опубликованному затем в «Британской орнитологии», за что получил четыре гинеи.
В Иванов день в Кросс-Хэндсе погибли пятеро детей — вместе с осевшей землей провалились в заброшенный рудник. Трагедия эта на целых две недели вытеснила с первых страниц бринаронского «Наблюдателя» несовершеннолетних наркоманов и престарелых ныряльщиц: газета справедливо напоминала, что уже не раз призывала обратить внимание на эту опасность. Слухи о государственном расследовании пока не подтверждались.
Местные жители, еще недавно находившиеся на подозрении у полиции, жили припеваючи. Например, Робертс, к которому полиция утратила всякий интерес, стал понемногу процветать. Он почти задаром скупил чуть ли не все земли на Пен-Гофе, обзавелся тракторами и бульдозерами последних марок, и похоже, что на Гору наконец нашлась управа. Никто уже не называл Робертса просто по имени.
Морган, ловец омаров, с тех пор как партнер его исчез, ни разу о нем и не вспомнил. К торговцам омарами впервые явились экспортеры и платили за товар не скупясь. Морган купил часы с календарем, мотор с автоматическим зажиганием и принят был в церковную общину, которая стояла на две ступеньки выше его прежней.
Уэнди вышла замуж за Оукса и, возвратясь из свадебного путешествия на Мальорку, принялась переделывать «Привет» в придорожную закусочную с европейской кухней. А сам Оукс удалился в сарайчик на задах, целыми днями мастерил модели железных дорог и редко показывался на улице, разве что в своем крохотном локомотиве, куда он с трудом втискивался. Однажды летним вечером в «Привет» нагрянули битники из кемпинга, и официант, родом с Кипра, в прошлом гиревик, с такой силой вышвырнул одного из бара, что сломал ему четыре ребра. Дело об оскорблении действием слушалось в бринаронском суде и было прекращено.
Кэти за бесценок продала «Новую мельницу» великодушному, исполненному сочувствия Робертсу — прочих возможных покупателей отпугнула недобрая слава фермы. Часть денег Кэти отдала двум своим бедствующим сестрам, а остальные положила в банк и, не притронувшись к ним, снова пошла на службу к Пирсонсу. Первую неделю она проработала в упаковочной, но мистер Хэммит сдержал слово, и ее поставили за прилавок, а вскоре сделали продавцом-консультантом. Ей часто бывало одиноко, так как другие продавщицы считали ее уже пожилой. Попытка возобновить дружбу с Евой Маршалл потерпела неудачу: муж Евы, оказавшийся почти что карликом, как-то на вечеринке начал к ней приставать. Однажды ночью ей приснился страшный сон: явился призрак Ивена и пытался ей описать свои муки в преисподней. «Меня посадили в кристалл, — сказал он, — что-то вроде камеи с двумя лицами. Увольнительные дают редко, но вот на этот раз дали». Она проснулась в слезах.
Констеблю Джонсу Феррипорт сразу пришелся по душе — мрачный облик поселка оживляло многоязыкое население: здесь было множество восточного люда, и все чувствовали себя как дома, ведь из иностранцев уэльсцы не жалуют одних только англичан. Половина города пропахла неочищенной нефтью и продуктами ее переработки, другая — острой перечной приправой, а едва наступали сумерки, щедрые, неразборчивые в знакомствах уэльские девчонки обнимались с мужчинами в чалмах под сенью местного парка, среди зарослей благородного лавра и пампасской травы. В этом городе сон приятно нарушали заунывные гудки океанских судов. В двадцати семи портовых кабаках люди ругались на десятках языков и наречий. В гавани на отливающих всеми цветами радуги водах плавала вверх брюхом дохлая рыба. Чайки, что кормились отравленными отбросами, нередко замертво падали с неба прямо на мостовые. Словом, в этом вечно продуваемом атлантическими ветрами городке Джонсу не хватало лишь бринаронских туманов.
Сначала он поселился в квартале многоквартирных домов, где жили главным образом индусы из Майсура. Он снимал квартиру пополам с двумя смешливыми автобусными кондукторами — соседи эти играли на каком-то инструменте о восемнадцати струнах, на каминной полке постоянно жгли ароматические палочки и в дни своих праздников угощали Джонса красными и синими лепешками. Джонс написал своей подружке Элизабет и в письме этом вновь заговорил о браке. Элизабет только что отпраздновала свое тридцатилетие и, памятуя о столь серьезной вехе, устроилась секретарем на феррипортский нефтеперегонный завод, а через несколько недель они поженились.
Новое положение пошло Джонсу на пользу во всех отношениях, одно только его огорчало: Элизабет зарабатывала в полтора раза больше его, и потому он не чувствовал себя вправе огорчаться, если она поздно приходила со службы и от нее пахло сигарами. Вскоре они сняли в предместье небольшой домик, у которого была общая стена с другим таким же домиком, из окон открывался захватывающий вид на нефтехранилища и на грузоподъемные краны за ними, подвижные, точно чуткие усики громадных насекомых. Полицейскому, впервые прибывшему в Феррипорт, прежде всего предстояло подумать о собственной безопасности. Сюда присылали обычно тех, кто впал в немилость у начальства, — их, как в старину проштрафившихся солдат, ставили на самые опасные участки фронта. В Феррипорте линией огня была гавань; Джонс быстро научился всему, без чего полицей-’ скому тут не сносить бы головы: искусство это сводилось к тому, чтобы никогда не оказываться на месте происшествия. Здесь были улицы опасные и безопасные, совершать обход опасных мест следовало чуть ли не бегом и, чтобы никому не мозолить глаза, побольше времени проводить в глухих переулках, куда забредали разве что одуревшие от марихуаны головорезы справлять нужду.
Однажды вечером Джонс только что миновал темную часть порта, носящую название «Тигровая драга», где всего месяц назад избили полицейского и в трех местах сломали ему челюсть, и хотел укрыться на старом кладбище, чтобы спокойно выкурить сигарету, как вдруг сзади окликнули:
— Привет, мистер Джонс.
Джонс круто обернулся и настороженно попятился к стене, чтобы встретить того, кто его окликнул, лицом к лицу.
— Не узнаете, мистер Джонс? Это я, Бейнон.
Из тьмы выступил высокий, чуть сутулый парень в черном кожаном костюме мотоциклиста. При свете далекого фонаря поблескивали медные застежки. Лоб, нос и челюсти вызывающе выступали из-под шлема.
— Неужто опять Бейнон? Ты меня прямо преследуешь. Только не говори, что ты прикатил сюда за мной из Кросс-Хэндса.
— Я получил работу на перегонном заводе, мистер Джонс. Вчера вижу, вы идете мимо, вот я и подумал, хорошо бы нам опять встретиться да потолковать.
— А что это у тебя с лицом, Бейнон? Оно совсем другое. Тебя просто не узнать.
— Это зубы, мистер Джонс. Мне вставили зубы. Оттого и лицо не такое тощее. Моя подружка меня заставила.
— Подружка, вот как?
— У нее родители итальянцы. У них тут кафе. Ее папаша обещал принять меня в дело, когда мы поженимся. И мопед у меня есть.
— В общем, я смотрю, ты стал на ноги. Совсем не то, что раньше, на «Новой мельнице», а?
— Это точно, мистер Джонс. Да ведь стоит попасть в колею, так уж не свернешь. Вот в чем беда. Никак не свернешь.
— Но ты-то свернул, Бейнон. Та жизнь была совсем не подходящая для молодого парнишки. Все один да один. Это очень нездорово.
— Я видел, вы проходили мимо кафе, мистер Джонс. Несколько раз видел. Хотел с вами заговорить, да не решался. Все откладывал.
— А почему, собственно? Пусть у нас и было с тобой два-три не очень приятных разговора — что из этого?
— Мне надо бы вам кой-что сказать, да только не знаю, как вы к этому отнесетесь. Я прямо извелся. По ночам не сплю.
— Ну, что еще ты затеял, Бейнон? Выкладывай.
— Я не про то, что я сделал, мистер Джонс. А про то, чего не сделал. Это насчет Ивена Оуэна.
— Почему-то я так и подумал. Ну, что там у тебя?
— Не больно я верю, что он умер.
— Если вспомнить твои показания, странно мне слышать такие слова.
— Может, он и умер. Я не говорю, что нет. А может, и не умер. Сам не знаю. Только лежу иногда ночью и думаю про Брона Оуэна — как он гам в Нортфилдсе?
— Сдается мне, это похоже на угрызения совести.
— Его там долго продержат, мистер Джонс?
— Лет тридцать. Наверно, до самой смерти.
— Я думал, за убийство теперь дают десять лет.
— Это если преступник — нормальный человек. А Оуэн — сумасшедший.
— И его никак не отпустят раньше?
— Мало вероятно.
— Долго-то как… Тридцать лет… даже представить невозможно, правда?
— Да, трудно представить, — согласился Джонс.
— Жуть. Прямо жуть. Тридцать лет. И не хочешь, а пожалеешь.
— Жалостью ему не поможешь, Бейнон. Надо полагать, тогда ты не соврал, что видел, как Брон Оуэн ударил брата?
— Честное слово, видел, мистер Джонс. Но я не сказал, что видел, как Брон его убил. Этого я не сказал. Я не знаю наверняка, что он умер. Потому я и хотел с вами поговорить.
— С точки зрения закона он умер. Вдова унаследовала его имущество, а брата посадили в Нортфилдс за убийство. Что тут еще скажешь!
— Мистер Джонс, мне кажется, я его видел на другое утро после той ночи, когда считается, что брат убил его.
В глухой стене по соседству отворилась дверь, выпустив наружу тусклый луч света и плач младенца.
— Давай-ка пройдемся, — сказал Джонс.
Улица кончалась узким проемом в стене, сквозь него виднелось ночное небо над портом, как всегда отливавшее розовым. В этом воспаленном мареве беспрерывно ныли и дребезжали подъемные краны. Плыли вверх и вниз грузы, хохотали хмельные матросы, гремела музыка — и вдруг все смолкало.
— А почему ты думаешь, что видел Ивена Оуэна?
— Уж не знаю, кто бы еще это мог быть.
— Где это было?
— У дубовой рощи на Пен-Гофе. После того, что случилось на «Новой мельнице», не захотел я там оставаться. Собрал вещички, запер свою будку и пошел напрямик, через Соубридж, к Робертсу, думал, может, у него найдется для меня работа. А когда подходил к дубовой роще, мне показалось, вроде в четверти мили впереди идет мистер Оуэн.
— Так ты видел его или не видел?
— Это был он, мистер Джонс, или уж его призрак.
— А ты, надо полагать, веришь в призраки.
— В Феррипорте — нет, не верю. А на Пен-Гофе верю.
Джонс склонен был согласиться с подобным подходом к потусторонним явлениям.
— Из-за тумана было толком не разглядеть, а все-таки не мог я обознаться. Он вошел в лес, и уж больше я его не видел.
— В это время ты был уже на земле Робертса, так?
— Вроде так, мистер Джонс. Наверняка не скажешь. Там ведь никаких примет нету.
— Одного не пойму, — сказал Джонс, — что же ты до сих пор молчал?
— Я начал было говорить сержанту Бродбенту, да он и слушать не стал.
— И притом ты не слишком огорчался, что Брон Оуэн попал в такую переделку, а?
— Он мне не больно по душе, мистер Джонс. Но это одна сторона, а чтоб его на тридцать лет засадили, такого я вовсе не хотел.
— Ты ревновал к нему. И ненавидел его, да и почти всех ненавидел. Вредный ты был парень, согласен?
— Я теперь не такой, мистер Джонс.
— Лучше поздно, чем никогда.
— Я про себя рассказал родителям моей подружки, все с ними обсудил. Они помогли мне на все поглядеть по-другому. Если я что сделал плохое, в лепешку расшибусь, а исправлю.
— Если ты что сделал плохое, теперь уж не поправишь, поздно. Только мне-то кажется, что ты всегда слишком много фантазировал. Слишком долго жил один, и вечно тебе что-нибудь мерещилось. Случись все это теперь, а не полгода назад, ты бы там, у пен-гофской рощи, никакого Ивена Оуэна не увидел.
— По-вашему, мне все это примерещилось, мистер Джонс?
— Уверен, ведь я тебя знаю. Наверно, тебя мучила совесть из-за тех анонимных писем, а тут еще твое отношение к миссис Оуэн. Вот у тебя нервы и расходились. И стало мерещиться невесть что. Это бывает.
— А тела ведь так и не нашли, верно, мистер Джонс?
— Нет, не нашли и, я думаю, не найдут. И все-таки Брона признали виновным в убийстве. А в дубовой роще на Пен-Гофе тебе привиделся призрак, так-то, приятель.
Джонс пошел в участок и целый час неслужебного времени потратил на докладную записку обо всем, что услышал от Бейнона. Наутро он передал ее по начальству и весь день ожидал, что его вызовет инспектор Фенн.
Вечером, когда он уже собирался домой, сержант вручил ему его докладную записку. Поперек ее инспектор размашисто написал синим карандашом: «Прошу ничего больше не предпринимать». «Прошу» было трижды подчеркнуто.
20
Первый год в Нортфилдсе прошел довольно легко. Брон был пациент тихий, к таким персонал относится благожелательно. Он не доставлял никакого беспокойства, ни на что не жаловался, не писал зажигательных писем, не требовал встреч с начальством, выполнял работу, которую ему поручали. Вскоре ему разрешили свободно ходить по всей территории и перевели в привилегированный блок «А».
Нортфилдс считался не тюрьмой, а больницей для тех, кого к преступлению привела душевная болезнь, но Брон вскоре убедился, что даже и здесь плохо быть явно сумасшедшим. Оказалось, и здесь существует своего рода сословное разделение, почти такое же, что было знакомо пациентам и вне этих стен, одним на радость, другим на беду. На верху здешней общественной лестницы стояли люди сравнительно обеспеченные, спокойные, владеющие собой, внизу — немощные, бедные, безнадежно слабоумные. И те, кто принадлежал к разным слоям, почти не соприкасались. Беспокойные, буйные, «трудные» пациенты жили в плохих условиях, без удобств, точно в казарме, тогда как у привилегированных были отдельные комнаты и им разрешалось иметь кое-какие домашние вещицы. Пролетарские низы смотрели наверх с завистью, аристократическая верхушка относилась к ним со страхом и отвращением.
Но всех их судьба отдала здесь на милость Ее Величества, и все они равно были наказаны безбрачием. Мужчины и женщины (узники и узницы) встречались только на концертах, где были строго отделены друг от друга, а аристократы — еще на балу по случаю рождества. Здесь постоянство выражали взглядами и жестами, обращая их всегда к одному и тому же предмету любви, а непостоянство — обращая те же знаки то к одному, то к другому; этими кивками и улыбками и ограничивалась вся гамма отношений между полами. Во время танцев на рождество, к которым допускались сравнительно нормальные пациенты, можно было осторожно прижаться друг к другу, обменяться записками. Так мотылька любви здесь неукоснительно заталкивали обратно в кокон.
Следуя советам Далласа, Брон быстро освоился, вновь зажил ясной и понятной жизнью, и первое время, которое новички обычно проводят на больничной койке, долгими неделями, а то и месяцами не в силах примириться с тем, что жизнь их так жестоко искалечена, для него прошло незаметно. Одна из первых книг, взятых им в превосходной нортфилдской библиотеке, была «Краткие жизнеописания» Обри; случайно открыв страницу с рассказом о думах и чувствах Джона Хоскинса, заключенного в лондонский Тауэр, он прочел: «… через узенькую щель он однажды увидел ворону, а в другой раз коршуна, и зрелище это доставило ему немалую радость». Брона это ничуть не удивило. Он понимал, что, где бы ни оказаЛся человек, куда бы его ни втиснули, способность радоваться не отнимешь. Свои дни в Нортфилдсе он волен был делить между работой в библиотеке и в саду, и то и другое одаряло его тихой радостью — насколько он вообще способен был радоваться.
В блоке «А» важнее всего было доказать, что ты психически нормален, и оттого многие узники утверждали, будто оказались здесь только благодаря тому, что во время следствия и суда ловко прикидывались помешанными. Считалось так: у человека, который сумеет убедить директора, будто он только прикидывался сумасшедшим, больше надежды в конце концов отсюда выйти, чем у настоящего сумасшедшего, даже если он явно полностью излечился. Брон не скрыл, что он, видно, был жертвой сложных галлюцинаций и, возможно, совершил убийство, в котором он признал себя виновным, но ничего об этом не помнит. Откровенность эта несколько ухудшила условия его жизни в Нортфилдсе, и два доброжелателя, один из которых удавил любовницу, а другой столкнул со скалы незнакомого человека, посоветовали ему передумать и как можно скорее через кого-нибудь из сочувственно настроенных служащих дать знать директору, что на самом деле он ловко провел судей.
Несмотря на лечение, Брону по-прежнему казалось — все, что признали игрой больного воображения, доподлинно с ним произошло. Он не переставал поражаться, как ясно, со всеми подробностями сохраняет его память неправдоподобное приключение с Уэнди. И однако Даллас тогда оставался непоколебим.
«Всего в несколько секунд мозг способен создать иллюзию целой жизни. Вы — жертва самообмана».
«У нее на ноге черная родинка, под самой коленкой. Может быть, полицейский врач осмотрит ее и проверит?»
«Об этом и думать нечего. Ведь она-то не совершила никакого преступления».
«Да, верно. Просто я бы тогда успокоился, вот и все. Ну да ладно».
«Лучше поверьте мне на слово, что никакой родинки не существует».
Даллас приехал к Брону в Нортфилдс.
— Ну, как вам здесь нравится?
— Мы приручаем птиц, работаем в саду, играем в шахматы, пишем письма членам парламента. Я состою в спортивной комиссии. В общем, тут достаточно своих маленьких забот, чтобы быть довольным жизнью.
— Доктор Симпсон говорит, вы делаете успехи.
— Все постепенно становится на свои места.
— А как родинка?
— Пока есть. — Брон засмеялся. — Но теперь уже, того гляди, исчезнет.
— Не поддавайтесь, — сказал Даллас. — Не опускайте руки. Как бы вас снова не затянуло.
— Пока держусь на плаву, — сказал Брон. — Хотя это не так-то просто, и сам не заметишь, как тебя засосет. Похоже, больше пяти лет тут не пробарахтаешься, начнешь понемногу терять разум. Мне одно помогает — стараюсь понять, что волнует людей. Зря болтают, будто стоит исключить из жизни деньги и секс — и все становится легко и просто, не верьте. Даже те, кто вроде совсем уже ничего не смыслит, все равно тревожатся о своих ребятишках.
— Могу я вам чем-нибудь помочь?
— По правде сказать, можете. Я часто думаю, как там Кэти. Написал ей, да она не ответила. Она славная. Очень она мне по душе. Хорошо бы, она оправилась после этой передряги и как-то устроила свою жизнь.
Несколько дней спустя в комнату Брона заглянул служитель и сказал, что к нему пришла гостья.
— Из благотворительного общества? — спросил Брон, подыскивая предлог, чтобы уклониться от встречи.
— Нет, похоже, ваша знакомая, мистер Оуэн. Хотите посидеть с ней на террасе?
Брон прошел за служителем и увидел Кэти — тоненькая, в темном платье, она была едва видна за чахлой пальмой в кадке.
Брон взял ее за руки:
— Я много о тебе думал, Кэти.
Со служителем у него были самые добрые отношения, и тот не стал напоминать о правиле, запрещающем хотя бы кончиком пальца прикасаться к посетителю.
— Ко мне приезжал доктор Даллас, — сказала Кэти. — Твое письмо я получила, раза четыре принималась тебе писать, но все рвала. Просто не знала, что тебе сказать.
Если бы не задумчиво отвернувшийся служитель, здесь, на террасе, все напоминало бы второразрядный приморский отель, когда разгар сезона уже позади, и, однако, в этой обстановке Кэти словно съежилась, стала меньше ростом.
— Давай-ка я угощу тебя чаем, — сказал Брон. — Буфет тут за углом.
Кэти покачала головой.
— Мне не хочется, — прошептала она.
— А мне хочется, — весело сказал Брон. — Сто лет не пил чаю. Ради одного себя хлопотать не интересно.
Подошел служитель.
— Вам что-нибудь надо, мистер Оуэн?
— Хорошо бы чайку и печенья, Питер, — сказал Брон.
Служитель улыбнулся, кажется, даже подмигнул и пошел к буфету.
— С тобой здесь хорошо обращаются, Брон?
— Сама видишь. Питеру полагается не спускать с нас глаз, но он готов услужить другу.
За углом зашипел пар — это в буфете наливали кипяток в чайник. Неподалеку появился высокий худощавый человек в такой же спортивной куртке и брюках, как на Броне; кашне, обернутое вокруг шеи, придавало ему еще более спортивный вид. Мягко ступая, он дошел до угла, сел спиной к стене и вынул из кармана небольшую книжечку. Звали его Бэрроуз, и Брон знал, что эта книжечка — библия, которую Бэрроуз читал, когда никто, кроме благожелательного Питера, не мог заглянуть ему через плечо. Пациенты из блока «А» очень заботились о том, чтобы их не сочли религиозными маньяками.
Кэти все еще тревожно озиралась по сторонам, словно здешний покой казался ей обманчивым и она боялась, что на них вот-вот кинется какой-нибудь буйнопомешанный. Шаркая ногами, подошел Питер с подносом. Обитателей блока «А» он почитал людьми большого ума, восхищался ими и радовался случаю угостить их и их посетителей чаем с печеньем. Он поставил поднос и пошел прочь, пятясь, словно перед ним были особы королевской крови.
— Как здесь тихо, правда? — вымолвила наконец Кэти.
Питер взял распылитель и пошел опрыскивать покрывшиеся ржой пальмы. В уголке худощавый человек в кашне ублаготворенно читал Книгу Бытия, водя пальцем по строчкам.
— Да, — согласился Брон, — здесь почти всегда довольно тихо. — Точно айсберг, подумал он, лишь пятая часть ледяной громады видна на поверхности в мирных лучах полярного солнца. — Иногда это напоминает мне рай, каким он представлялся маме. По крайней мере таким она его изображала нам. Таким, как вот это самое место. Тут никто не женится и никого не выдают замуж. И уже не бывает так, чтобы чего-нибудь хотелось позарез.
Пока он говорил, Питер поставил на место распылитель, потом щелкнул выключателем — и все вокруг заполнилось приглушенной мелодией Мендельсона.
— И все время музыка, — продолжал Брон. — Можно сказать, рай с барбитуратами и регулярным питанием.
На лице Кэти отразились боль и удивление.
— Здесь все равно как в тюрьме, да, Брон?
— Нет, — ответил он. — Нет. Здесь совсем по-другому. Тюрьма ближе к обыкновенной жизни. Она не очень-то похожа на мамин рай.
Тут Брон заметил, что Бэрроуз поднялся, медленно, с трудом выпрямился, вынул затычки из ушей и направился к ним. Походка у него была ленивая, нарочито небрежная, точно у спекулянта на черном рынке.
Он подошел к ним, с улыбкой поклонился Кэти, бросил взгляд в сторону Питера, который бродил со своим распылителем поодаль, среди пальм.
— Извините за вторжение. Можно вас на два слова?
— Ну конечно, Эрик. Одну минуту, — сказал он Кэти и встал.
— Не подходите ближе, — шепнул Бэрроуз. — Мне кажется, Питер сегодня настроен подозрительно. Я могу на вас положиться, Оуэн? Вы меня не выдадите, правда?
— Не выдам, Эрик.
— Я знаю, что Искупитель мой жив, — прошептал Бэрроуз.
Брон кивнул в знак согласия, и тот с облегчением улыбнулся.
— Вы очень добры, Оуэн. Я знал, вы не обидитесь. Не сердитесь на меня, ладно?
Он снова поклонился Кэти, вернулся в свой укромный уголок, достал затычки, всунул их в уши и опять углубился в книгу.
Пластинку сменили — теперь это был Дебюсси.
— Как там «Новая мельница», Кэти? — спросил Брон.
— Я продала ее Робертсу, как только меня ввели в права владения. Теперь работаю в магазине в Бринароне.
— Я рад за тебя. Мне тревожно было, когда я думал, как ты там одна.
— В банке для тебя лежит немного денег, — сказала Кэти.
— Для меня? — удивился он. — Откуда?
— Часть денег, что я выручила за ферму, я отдала сестрам, а остальные — твои.
— Деньги мне тут ни к чему, Кэти. Ты очень добра, но все, что нам нужно, мы и так получаем. Здесь нечего покупать, разве что какие-нибудь пустяки в буфете. Деньги мне теперь без надобности. Нам здесь разрешают каждую неделю заработать несколько шиллингов на карманные расходы, и этого довольно. Правда, Кэти, деньги мне не нужны.
— Что же мне с ними делать? Мне их и тронуть-то тошно.
— Есть сколько хочешь благотворительных учреждений, — сказал Брон. — Сотни. По газетным объявлениям можно целый список составить, а потом закрой глаза и ткни пальцем наобум.
— Мне так хотелось что-нибудь для тебя сделать.
— Я знаю, Кэти. И у меня как раз есть к тебе просьба. Один мой приятель получил сегодня дурные вести, и мне хотелось бы что-нибудь ему подарить, купить для него баночку варенья или там масло для волос.
— Дурные вести… а какие?
— Жена больше не будет его навещать. Директору пришлось сказать ему об этом. Если ты на выходе оставишь десять шиллингов, я смогу что-нибудь купить, чтобы его порадовать. В блоке «А» я самый большой счастливчик, мне нечего бояться, что рано или поздно меня ошарашат вот такой новостью.
— Жена больше не может его ждать?
— Она ждала три года. Это, пожалуй, предел. Поначалу женщина может быть исполнена благих намерений, но муж в Нортфилдсе — это тяжкий крест. Женатому здесь худо, он все время ждет, что на него обрушится удар.
— Я бы ждала тебя до скончания века, Брон.
Он не понял.
— Ты-то, наверно, ждала бы, Кэти. Но таких, как ты, одна на тысячу.
— Если позволишь, я буду тебя ждать. — Глаза ее наполнились слезами. Теперь уже нельзя было обмануться в смысле ее слов. Сквозь безмерное изумление Брона пробилась тревога. Нет, нельзя допустить ничего такого, что грозит нарушить этот редкостный душевный покой.
Он поднялся, снова взял ее за руки, и Питер, почуяв возникшую напряженность, подошел ближе.
— Ах, Брон, — сказала Кэти. — Мне так одиноко.
— Если ты говоришь, что думаешь, тебе пришлось бы стать самой одинокой женщиной на свете.
— Можно, я еще к тебе приду?
— Лучше напиши.
— А прийти не позволишь?
— Я не могу тебе запретить, Кэти, но лучше не надо. Не знаю, как тебе объяснить, — продолжал он. — Очень это сложно. Но надежда — яд. От нее тут столько народу гибнет. Все равно мы до самой смерти отсюда не выйдем, но кто сумеет избавиться от надежды, тому умирать легче. Вот почему мне лучше с тобой больше не видеться.
Миновала еще одна весна и еще лето, и Брон все больше сливался с Нортфилдсом. Он прочел чуть не все книги на исторические темы, какие нашлись в здешней библиотеке, а потом совсем забросил чтение. Открыв в себе способности юмориста, он стал писать мрачновато-юмористические очерки, которые пришлись по вкусу читателям нортфилдского «Аргуса», и взялся вести там местную хронику. Ежедневную газету он перестал выписывать еще зимой. А теперь отказался и от радио. У себя в комнате он включал местный репродуктор, по которому передавали тщательно подобранную главным врачом умиротворяющую музыку, и каждый день волны ее с мягкой настойчивостью часами плескались о берега его души.
У директора он был на самом лучшем счету. Что важней всего — он успокоительно действовал на других пациентов. С англиканским священником он держался вежливо, но неприступно, и представительница благотворительного общества после двух дружелюбных, подбадривающих бесед с ним махнула на него рукой.
В эту зиму в блоке «А» только и разговору было что о возвращении одного из пациентов, который некогда был видной фигурой в лондонском Сити. Случай этот стал заметной вехой в однообразном течении здешней жизни. Бывший делец пробыл в Нортфилдсе пятнадцать лет и вышел лишь для того, чтобы через полтора месяца его привезли обратно и опустили на самое дно, во тьму блока «С». Брон испросил разрешения его навещать и долгими часами утешал беднягу уже тем, что внимательно выслушивал его нескончаемые сетования по поводу каких-то сделок, пересыпанные непонятными биржевыми словечками. Примерно в ту же пору Брон утратил вкус к куреву и охотно раздавал полагавшиеся ему сигареты.
Поздней весной состоялась выставка цветов, а летом наступил и прошел спортивный праздник. Впереди, точно вершины Эвереста, маячили рождественский бал и любительский спектакль, до них оставалось четыре месяца.
В начале сентября Брона навестил доктор Даллас. Он сразу заметил, что в комнате у его бывшего пациента стало еще более пусто и голо, а главное — исчезла маленькая, потрескавшаяся фотография матери в поддельной черепаховой рамке, купленной в киоске.
— Ну как, все еще держимся на плаву?
— Барахтаюсь изо всех сил, — ответил Брон.
— Надо сказать, выглядите вы превосходно. Ну а как родинка?
— Родинки больше нет, — сказал Брон. И улыбнулся. Он правил оттиск своей колонки в «Аргусе», и тут сквозь решетку открытого окна вскочил воробей, присел и оставил на верхнем листе блестящий комочек.
Не хочет меня огорчать, подумал Даллас.
— Я виделся с Кэти, — сказал он.
— Я знаю, спасибо.
— Вам что-нибудь нужно — книги или что-нибудь еще?
— Решительно ничего, спасибо. Все прекрасно.
Даллас собирался пробыть у Брона полчаса, но уже через десять минут простился и отправился к Симпсону.
— Похоже, что Оуэн пошел на поправку, как вы и предсказывали, — сказал Симпсон. — Поразительный случай. Единственный в своем роде, если только диагноз был правильный.
— Что будет дальше?
— Обычный период выздоровления.
— Сколько он может продлиться?
— Порядки мало-помалу смягчаются, так что лет через десять его выпустят. Сейчас в этих случаях раньше чем через четырнадцать лет не выпускают.
У Далласа перехватило дыхание.
— Эрик, когда Оуэна сюда поместили, у меня были все основания надеяться, что для него могут сделать исключение.
— Исключение, Джеймс? — Симпсон посмотрел на него с любопытством.
— Разве в каких-то случаях ты не относился к пациенту… ну, с особым вниманием? Я имею в виду, когда тебе давались определенные гарантии?
— Ни о чем таком не слыхал. По крайней мере в последнее время. При мне этого не бывало.
Слишком поздно, подумал Даллас, он уже не тот, что прежде. Два-три года назад он бы это сделал. Нашел бы какую-нибудь лазейку. А теперь ему приходится думать о своем положении. Возможно, он метит на место главного, когда тот уйдет…
И он снова заговорил, точно в воду кинулся:
— Мы с тобой старые друзья, Эрик. Мне это очень важно… — Он умолк.
— Продолжай, — сказал Симпсон.
— В первый раз в жизни я хочу воспользоваться старой дружбой в своих интересах. Можешь ты мне устроить неофициальную встречу с твоим главным?
— От этого не будет никакого толку, Джеймс. Ты только поставишь себя в неловкое положение.
Даллас не отступался.
— Но должен быть выход. Я готов взять Оуэна на свою личную ответственность. Не спускать с него глаз.
Симпсон покачал головой.
— Об этом не может быть и речи. Прежде еще, может, что-то и удалось бы, а при нынешнем главном и думать нечего. И потом, ты забываешь про министерство внутренних дел. С тех пор как Рэнделл вышел на свободу и задушил ту девушку, все стало гораздо строже. Под нажимом общественного мнения.
— Брону грозит распад личности, — сказал Даллас.
— Как и всем здесь.
— Выходит, эта лечебница губит своих пациентов?
— Неминуемо. Нортфилдс тоже кара, только под другим названием. Унаследованный от прошлого предрассудок.
— А ты не мог бы поговорить с главным?
— Боюсь, толку не будет, Джеймс. Давай смотреть правде в глаза: от меня здесь ничего не зависит.
— Понимаю, — сказал Даллас. — Значит, ничего сделать нельзя. Извини, что отнял у тебя время.
— Ну что ты. Я бы рад помочь. Извини, что спрашиваю, а все-таки почему ты так уверен, что Оуэн стоит всех твоих хлопот?
— Он хороший человек, — сказал Даллас. — Таких, как он, я почти и не встречал. И похоже, я его загубил. Даже пожизненное заключение и то было бы лучше Нортфилдса, там была бы хоть какая-то жизнь.
Главный врач Гуди, человек, вечно мучимый тревогами и огорчениями, стал психиатром потому, что его расстраивало, когда пациенты умирали, душевнобольные же редко умирают от своего недуга, если только не кончают самоубийством. Он казался мрачно-спокойным, но внутри у него все дрожало, как натянутая струна. До пенсии ему оставалось три года, он уже получил орден Британской империи 2-й степени, и весь некогда тщательно отлаженный механизм его тела и разума теперь с бешеной скоростью и напряжением работал вхолостую, порой останавливаясь оттого, что какая-либо часть выходила из строя. Лишь ближайшие его подчиненные умели распознавать такие минуты по кое-каким не подобающим ему мелочам: по тому, как он сонно прищурится или разок-другой зевнет, прикрывая рукою рот.
— Скажите ему прямо сейчас, — предложил доктор Симпсон.
— Дождитесь распоряжения, — посоветовал психотерапевт Беннет.
— Вот уж на этот раз министерство внутренних дел могло бы не сваливать на нас свою грязную работу, — сказал Гуди.
— Существуют какие-нибудь установления на такой случай?
— Никаких. В том-то вся беда. Никаких указаний нет. Ничего подобного еще не бывало.
В Нортфилдсе жизнь пациентов и служащих равно определялась и охранялась всевозможными правилами. В своде здешних законов имелся готовый ответ на все вопросы, сомнения, непредвиденные случаи. Здесь жили словно в пещере, где все окаменело, и вода, сочась по капле, изменяла эти застывшие формы так медленно, что перемены невозможно было заметить. Раз в десять, двадцать, тридцать лет вот так же случалось что-нибудь из ряда вон выходящее, и тогда мучительно что-то изобретали, и вновь изобретенное со временем тоже окаменевало. Во всем своде законов и правил, а Гуди чуть не все их знал наизусть, не было и намека на то, как следует поступить в подобном случае.
— Ну как же быть? — снова спросил главный врач.
— Не пойти ли мне с вами, сэр? — предложил доктор Симпсон.
Гуди надеялся, что Симпсон вызовется заранее поговорить с Оуэном, несколькими продуманными словами подготовит его к нежданному известию.
— Если вы хотите, чтобы я был при этом… — сказал Симпсон.
— Нет, я думаю, не стоит, доктор Симпсон. Надо, мне кажется, чтоб обстановка была по возможности неофициальная. Как бы поосторожнее сообщить ему новость.
— Да разве дело в этом, сэр? В особенности когда речь идет о таком разумном человеке.
— Скажу по совести, я понятия не имею, как он это примет. Как вообще человек может выдержать, если его так ошеломить?
Главный врач нарушил заведенный порядок и послал за Броном не в обычный приемный час, а сразу после обеда, когда двойная порция коньяку творила ежедневное, но недолговечное чудо и предстоящая отставка переставала его угнетать.
Служителю, который привел Брона, полагалось во время беседы стоять за стулом пациента, но на сей раз Гуди велел ему выйти.
— Садитесь, Оуэн. У меня для вас замечательная новость. Скажу сразу, без проволочек. Мне только что сообщили, что найдено и опознано тело вашего брата.
Брон кивнул, принимая неизбежное. Он только слегка удивился, что поиски все еще продолжались.
— Он умер два или три дня назад, причина смерти — коронарный тромбоз. Как стало известно, ваш брат работал батраком под вымышленным именем на ферме милях в двадцати от своего прежнего дома. Найдено письмо, из которого явствует, что его тогдашнее исчезновение не случайность, а тщательно продуманная месть. Не сомневаюсь, что он был душевно болен. Только параноик, одержимый навязчивой идеей, мог замыслить такой невероятный план.
Гуди внутренне напрягся, но то, чего он ждал, не произошло. Пациенты блока «А» не способны на бурные взрывы, но должна же как-то проявиться цепная реакция чувств, которые не могла не вызвать такая новость?
— Представляю себе, что вы сейчас переживаете, хотел я сказать, но нет, ничего я не представляю. Тут воображение бессильно. Право, я не нахожу слов.
У него даже слегка затряслись руки, и он поспешно спрятал их под стол, с глаз долой.
— Я здесь научился принимать все как есть, сэр. Почти все, — сказал Брон.
— Возможно, встанет вопрос о каком-то возмещении, не знаю. Нам нечем тут руководствоваться. Полагаю, что-то все-таки будет сделано.
Сказав это, Гуди почувствовал себя едва ли не униженным.
— Хотите узнать что-нибудь еще, Оуэн?
— Пожалуй, нет, сэр.
— В сущности, теперь вы знаете о случившемся столько же, сколько и я. Полагаю, что приказ министерства внутренних дел о вашем освобождении придет завтра, в крайнем случае послезавтра. Что вы собирались сегодня делать?
— Читать корректуру моей колонки в «Аргусе», сэр.
— Ну, на вашем месте я бы сейчас не стал этим заниматься. Примерно через полчаса группа пациентов отправляется в город за покупками, поезжайте-ка с ними. А впрочем, решайте сами. Что хотите, то и делайте.
Быть включенным в группу, отправляющуюся в город за покупками, означало высшую награду за вновь обретенный рассудок — главное преимущество горстки пациентов блока «А» в последние годы их официального выздоровления. Они прошли все испытания на нормальную психику, и их энцефалограммы внушали куда меньше опасений, чем у любых девяти из десяти первых встречных. Однажды, передавая директору список кандидатов на поездку в город, доктор Симпсон сказал:
— Эти люди душевно здоровее меня. — Ему очень хотелось прибавить: «И вас тоже, сэр».
Восемь человек ехали в Стоук-Бенем в микроавтобусе, их сопровождал служитель, одетый так же, как и они, — спортивная куртка, серые фланелевые брюки, через руку перекинут легкий зеленоватый плащ. Брон отправлялся в такую поездку впервые, он сел на заднюю скамейку рядом с Бэрроузом, который перед отъездом, как всегда, сунул в карман библию. Последние дни он для приличия прятал ее в суперобложку романа о Дж. Бонде «Привет из России». Двадцать два года назад Бэрроуз застрелил свою жену и детей.
— Вы сегодня какой-то очень тихий, — сказал он Брону. — Разве вас не радует поездка?
«Я должен принять и это, принять и это», — снова и снова на все лады билось в мозгу Брона. Вслух же он сказал:
— Наверно, это я из-за своей хроники в «Аргусе». Выдохся я, никаких новых идей нет.
— Нет, скорее такое уж время года, — отозвался Бэрроуз. — Какой-то в воздухе застой. До самого рождества нечего ждать. Я думаю, все встанет на свое место, когда вам будет о чем писать.
У Бэрроуза была тайная причина для этих поездок, не то он предпочел бы, как обычно, тихо сидеть в своем уголке на террасе и читать.
В Стоук-Бенеме они оставляли машину на стоянке, затем, чтобы не бросаться в глаза, делились на две группы по четыре человека, и группы эти на расстоянии трех-четырех шагов одна от другой отправлялись в универмаг Вулворта. Каждому заранее вручали по три шиллинга шесть пенсов из десяти шиллингов, заработанных за неделю, и он мог потратить их по своему усмотрению.
В универмаге Бэрроуз, улучив минуту, тихонько ускользал в отдел украшений, где всегда покупал одно и то же — детский браслет из цветных стекляшек. Перед сном украдкой клал браслет под подушку, иногда в эту ночь видел сны, а наутро спускал покупку в уборную.
Брон отошел от остальных и стоял, словно бы разглядывая витрину «Все для оранжереи», но ничего не видел. Я должен принять и это. Ненависти он никогда не понимал. Откуда она берется, ненависть?
К нему неслышно подошел один из пациентов.
— Оуэн, вы разве не собираетесь что-нибудь купить?
— Мне ничего не хочется.
— Тогда, может, дадите мне взаймы?
— Пожалуйста, если не боитесь нарушить правила.
— До смерти люблю сласти. А в нашем киоске мне все так надоело. Вы случаем не заболели? — Он заметил, что Брон беззвучно шевелит губами.
— Прекрасно себя чувствую. Просто подумал, успею ли кое-что изменить в моей заметке для «Аргуса».
— Вот о чем не стал бы беспокоиться, дружище. Вы слишком к себе строги. А работаете великолепно.
Из универмага все направились в кафе выпить чаю с бисквитом, расплачивался за всех служитель, а потом стоимость чаепития вычитали из заработанных ими денег. Они расселись за двумя столиками, оставленными для них в глубине, и официантка, которая, как и все в городе, знала, кто они такие, с преувеличенным дружелюбием тотчас подала, что требовалось. Это тягостное внимание, которое стеной отгораживало их от прочих людей, всегда было главным их огорчением, насколько они вообще могли позволить себе огорчаться.
После чая Бэрроуз вынул из кармана библию и несколько минут читал и раза два даже усмехнулся, делая вид, будто забавляется приключениями Джеймса Бонда. Служитель посмотрел на старинные часы, тяжко тикавшие в углу, и сказал:
— Не торопитесь, джентльмены, но нам пора.
— Я вас догоню, — сказал Брон.
Он зашел в туалет, вымыл руки, причесался и пристально посмотрел на себя в зеркало. Надо принять и это.
Когда он вышел на улицу, остальные, уже утомленные свободой, без особого порядка ушли к стоянке автобуса, и он увидел только троих. Во время таких поездок их охраняли спустя рукава. Директор полагал, что узников, получивших право на эти прогулки, верней всего охраняет страх лишиться благоприобретенной привилегии.
Стоял один из тех осенних дней, когда вдруг чудом воскресает лето, — день, когда все чувства обострены, в свежем прохладном воздухе все звуки особенно звонки, а солнце, пока еще яркое, золотит чердачные окна, шиферные крыши и вершины деревьев. Город был полон движения, всюду слышались велосипедные звонки, смех торопящихся домой прохожих.
Еще несколько секунд — и последний спутник Брона скрылся из виду в толпе, а он повернул в другую сторону. Городок был невелик, скоро Брон вышел на окраину и очутился на перекрестке, у дорожного столба с указателем: «Бристоль, Запад». Это было почти как приказ, и, едва Брон успел решиться, рядом затормозила машина.
Брон сел в нее.
— Куда держите путь?
— В Южный Уэльс, — сказал Брон. — Буду продвигаться в ту сторону.
Он сидел молча, откинувшись на сиденье, а мимо проносились поля, деревни.
Бринарон. Если повезет, к утру буду там. Хотел бы я знать, где я найду Кэти…
НОРМАН ЛЬЮИС
ДЕНЬ ЛИСИЦЫ
ОТ РУКИ БРАТА ЕГО
РОМАНЫ
ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО
Москва
«РАДУГА»
1985
ББК 84.4Bл
Л91
Предисловие В. Ивашевой
Редактор Н. Шемятенкова
Льюис Н.
Л91 День лисицы. От руки брата его: Романы. Пер. с англ./Предисл. В. Ивашевой. — М.: Радуга, 1985. — 352 с.
В романе «День лисицы» известный британский романист Норман Льюис знакомит читателя с обстановкой в Испании в годы франкизма, показывает, как во всех слоях испанского общества зреет протест против диктатуры.
Другой роман, «От руки брата его», — психологическая драма, развивающаяся на фоне социальной жизни Уэльса.
Л 4703000000—607 КБ—53—7—85.
030(05)—85
ББК 84.4Вл
И (Англ)
Норман Льюис
ДЕНЬ ЛИСИЦЫ
Роман
ОТ РУКИ БРАТА ЕГО
Произведения, включенные в настоящий сборник, опубликованы на языке оригинала до 1973 г.
© Предисловие и перевод на русский язык издательство «Радуга», 1985
ИБ № 2987
Редактор Н. Д. Шемятенкова
Художественный редактор H. Н. Щербакова
Технический редактор А. П. Прянчикова
Корректор Е. В. Рудницкая
Сдано в набор 27.02.85. Подписано в печать 9.10.85. Формат 84×1081/32. Бумага Типографская № 1. Гарнитура Таймс. Печать высокая. Условн. печ. л. 18,48. Усл. кр. — отт. 18, 48. Уч. — изд. л. 21,63. Тираж 300 000 (2 завод 200 001–300 000.) экз. Заказ № 831. Цена 2 р. 60 к. Изд. № 2216.
Издательство «Радуга» Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, 119859, Зубовский бульвар, 17
Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография» имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 113054, Москва, Валовая, 28.
Примечания
1
Дом, о котором идет речь, имеет свою историю, представляющую немалый интерес, в нем все дышит тяжелым историческим преданием. В XVI столетии дом этот, впоследствии перестроенный и модернизированный писателем, был местом заключения жен придворных королевы Елизаветы I, приговоренных ею к смертной казни.
(обратно)2
Вскоре после войны появился роман «Одинокий пилигрим» (1953) — отклик на посещение Лаоса, и в 1957 г. вышел один из лучших романов Льюиса — «Вулканы над нами» — о Гватемале после американской интервенции. Знакомство с Кубой отражено в романе «Малая война по заказу» (1966) и «Бегство с темного экватора» (1972). В 1982 г. появился роман «Дорога Свободы» о Кубе.
(обратно)3
Перевод на русский язык М., «Прогресс», 1972.
(обратно)4
Мнимые больные (франц.).
(обратно)5
Где же праздник? (франц.)
(обратно)6
Пальмо (исп.) — пядь, 21 см.
(обратно)7
Я полагаю, вы и есть тот самый бандит? (франц.)
(обратно)8
Имеется в виду библейское предание о потерявшихся иудейских племенах.
(обратно)9
Церемониймейстера (франц.).
(обратно)10
Гедонизм — направление в этике, утверждающее наслаждение как высшую цель и основной мотив человеческого поведения.
(обратно)11
Проказница (франц.).
(обратно)12
Поневоле (франц.).
(обратно)13
Шеллак — воскоподобное вещество, выделяемое тропическими насекомыми из семейства лаковых червецов. Применяется главным образом при изготовлении лаковых спиртов и политур.
(обратно)





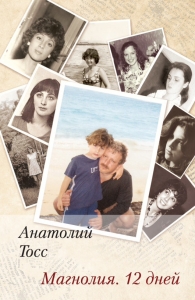
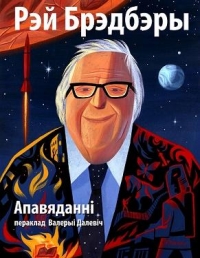
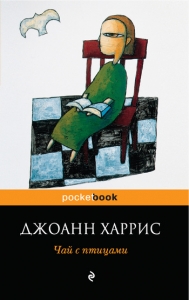



Комментарии к книге «День лисицы. От руки брата его», Норман Льюис
Всего 0 комментариев