Ольга Покровская Рад, почти счастлив…
Жизнь прошла и смерть прошла, он почти забыл их муку и принялся за дела, те же, что и «при жизни». Что именно случилось с ним, он уже и не помнил, и не хотел оборачиваться. Слава богу, главное уцелело: природа, дом, душа и рассудок – всё, что нужно человеку. Иван сознавал своё везение и ему ничего не хотелось добавить к имеющемуся.
За последний год в его городском жилище произошли перемены, которые можно было бы определить, как упадок, если бы не трогательное отношение к ним самого Ивана. Встали настенные часы, поломались электроприборы – посудомойка и чайник, беспорядочно разрослись лимоны, лианы, герани, перестали закрываться разбухшие межкомнатные двери. В этих руинах и зарослях колыхалась жизнь: растения требовали питья, врывались телефонные голоса и просили участия. Иван на «руины» смотрел с удовольствием, цветы поливал и участие проявлял исправно.
Да и вообще, без спешки, лишённый целей, он испытывал хорошее чувство – как будто, наконец, добрался до дома. Оставалось попивать чай да наблюдать за пьесой, в которой с некоторых пор у него нет роли. Нет, он действительно не играет – всё!
Окончательно излечившись за лето от старой тоски, Иван с умилением перечитал свои прошлогодние записи – дневник борьбы за радость, коллекцию волевых актов, которые должны были спасти его из пропасти. Ложиться в одиннадцать, вставать в шесть, бегать, выучить испанский, сочинить фугу, следить, чтобы в плечах не было зажима, жить для людей!
Ускорили вышеназванные меры его выздоровление или нет, до сих пор было ему неизвестно. Он решил, что пустит тетрадку на растопку дачных костров, а жизнь свою прохалявит как-нибудь по-доброму, никаких не поставит целей, и ни о чём не будет жалеть.
Неторопливый день Ивана начинался с утра. При этом утренних часов в его жизни было больше, чем у других людей, потому что он не пропускал их, не отдавал на поживу ни сну, ни работе, а любяще проводил. Позавтракав, мыл свою чашку и направлялся к бабушке с дедушкой. Они жили в квартире напротив – Иван мог проведывать их в тапочках.
Вообще-то, он недолюбливал старость, но после произошедшего с ним Крушения спокойное, крылатое чувство появилось в нём. Как будто нашёлся совершенно новый путь, как, бывает, уже взрослые люди открывают в себе талант художника. Что-то такое произошло с его молодостью, отчего Иван полюбил компанию стариков. Даже то обстоятельство, что бабушка с дедом, как ни крути, умрут, доставив ему немало муки, не портило его хорошего настроения. «Всё-таки вечность – такая штука, – надеялся он. – Раз полюбив, уже не разойдёмся».
Отгуляв утро, Иван приступал к рабочему дню, и вновь мог не торопиться, поскольку в вопросах добычи насущного хлеба имел большие поблажки.
Когда-то его отцом было основано предприятие, занимающееся звукоизоляцией помещений. Оно приносило скромную, но стабильную прибыль. Несколько лет назад, после бегства мамы в Вену к новому мужу, отец переменил жизнь. Он тоже «бежал» – правда, не так далеко, в Питер, а управление делом отдал сыну. С грустью Иван взялся познавать процесс закупок и продаж. Но однажды они с коммерческим директором пошли выпить пива, и как-то так душевно сложился их разговор, что Иван поверил – его участие не обязательно. Работа будет двигаться и без него. С той поры он забросил продажи с закупками, и стал следить за тем, чтобы в офисе не заканчивались печенье, кофе и чай. В случае надобности мог подвезти монтажников на объект или растолковать забредшему в офис клиенту свойства изолирующих материалов.
По будням баловень он садился в машину и ехал в офис, на Большую Татарскую улицу, прекрасную в любую погоду. Впрочем, долго не высиживал никогда. В субботу же и воскресенье выходил из дому без определённых целей. Двигался по улице не торопясь, от души и без разбора интересуясь происходящим, и спокойно мог простоять четверть часа возле торговки зеленью – потому только, что ему доставляло удовольствие наблюдать, сколь разношёрстный народ устремляется к её лотку. Дворник и мамаша с коляской, модница и старик – все мечтали заполучить на хмурый осенний обед зелёного лука. Братство ценителей жгучих стрел прибавляло Ивану бодрости, и он шёл в гараж, за велосипедом, чтоб на холмах между рекой и лесом так же жгуче и весело свернуть себе шею.
Велосипед был единственной дерзостью его нынешней тихой жизни. Сначала Иван просто ездил вдоль грязной, милой Клязьмы, но скоро его потянуло в прибрежный лес. Там, над рекой, берег бугрился, образовывая многоярусные горки. В низинах росли свинушки. Эти трамплины, посыпанные берёзовой листвой, были словно нарочно рассчитаны так, чтобы ловкий и выдержанный велосипедист справился с трассой, а середнячок угодил в гипс. Такие условия оказались неожиданно приятны Ивану. И особенно захватило дух, когда он понял: если упустить поворот или даже просто не точно встать колесом на скользкий грунт, можно улететь в реку.
Прошлой весной в этих самых грибных овражках он сломал себе руку – и всякий страх отступил, как будто переломом был оплачен входной билет в царство горного велосипеда. Действительно, с тех пор Иван не падал, но ничего мистического в своём успехе не находил, а связывал обретённую ловкость с преодолением психологического барьера.
Со временем Иван открыл закономерность: чем крепче становилось его физическое бесстрашие – тем прочнее был душевный мир, а сила, потраченная на холмах и трамплинах, возвращалась ровной бодростью духа.
Вот так, исполняя свои небольшие желания, он проводил дни и удивлялся простоте и покладистости жизни, ни в чём не чинившей ему препятствий. Как будто Иван и его судьба, наконец, объединились, и ни одному из них не хотелось того, чего не смог бы осуществить другой.Сад, в котором он жил, был населён дорогими ему людьми – бабушкой, дедушкой, мамой, переселившейся в Австрию, но не отступившей от сердца. Нового не прибавилось. Да и откуда бы ему взяться? Как мог Иван выиграть, раз давно уже не играл? Зато ко всему оставшемуся он относился с бережностью старика, и себя почитал богатым.
Кроме бабушки с дедушкой, из «остатка» ближе всех к нему была соседка по подъезду Оля. Её муж погиб шесть лет назад. Вышло так, что Иван оказался в ту ночь слишком рядом, чтобы счесть себя посторонним. «А я и не сомневалась! Это же не человек – наркоман, сумасшедший. Плевать, что жена беременная», – раз сто повторила Оля, сидя тогда с Иваном на лавочке у подъезда. А утром, на два месяца раньше срока, у неё родился Макс.
Эти страсти Иван забыл – божьей милостью вытиснилось из памяти. Но осталась связь. Он любил своих странных крестников, ему нравилось быть в курсе их жизни и по мере надобности участвовать.
Иногда Иван звонил Оле и спрашивал, не даст ли она ему Макса – прогуляться на реку? И обычно получал разрешение – но не больше, чем на полтора часа, и с условием: не ходить на обрыв, и следить, чтобы не было ветра! Иван всё исполнял. В особенности ему нравился последний пункт, требовавший от него компетенций волшебника.
Самой гулять с Максом Оле было некогда – она вела сплошь трудовую жизнь. Если день оказывался ей не по силам, после работы она заходила к Ивану, и лицо её мучилось, но слёз не было.
Что мог сделать Иван? Наливал Оле вина, сажал к окну и делился ничтожными новостями своих прогулок. «Шёл сегодня мимо остановки, – улыбаясь, рассказывал он. – Там газетный киоск. Какой-то мужик, средне пьяный, пристал к девчонке. Давай, говорит, я тебе куплю журнал! Только скажи – какой! От души хочу! Девчонка убежала. Тогда он поймал мальчишку и купил ему журнал про футбол. Ну, мальчишка был не против…»
«Это всё сказки для бедных!» – обрубала Оля, и Иван умолкал, ошарашенный пролетарской красотой её лексики.
Иногда им везло – утешение касалось сердца, и Оля оказывалась подключена к счастливому мировосприятию Ивана. С удовольствием она оглядывала стол и окно, и целую жизнь, в середине которой она уютно расположилась со своими родителями, с Максом и добрым приятелем ниже этажом. На час, при сочувственной помощи Ивана, жизнь удавалась. Но сама она не дышала – нет. Тут было нужно радикальное средство.
В сентябре возле Оли появился некий Владимир. Они познакомились на работе. Владимир привёз к ним в офис программный продукт и неспешно обучал ему Олю. Когда же обучение закончилось, стал заезжать на всякий случай, выяснить – всё ли ясно?
Владимир был широкоплечим парнем с честным, отрешённым лицом бойца. Он разговаривал сигаретами. Закуривание было его вопросом, а также его ответом. Иван видел однажды, как, сплетаясь кудряшками дыма, они с Олей идут по двору, и был задет. Не то чтобы ему захотелось любви. Нет, не любви, но намёка, лёгкой раны сердца, которая в соединении с нынешним спокойствием и дала бы ту самую подлинную жизнь, о какой мечтал.
Он понимал, что может позволить себе только очень щадящее чувство. Во-первых, из-за стариков, с которыми надо бывать много, чтоб они не успели затосковать. Во-вторых, Иван и сам был не готов к штормовой погоде. У него не осталось ни смелости, ни корабля. Он всё потерял в бурю и до сих пор не восстановил утраченное.
Потихонечку двигая свою жизнь к соразмерности, он вымел из сердца сожаления и хандру, затушил пустые надежды, даже не курил больше – бросил с такой восхитительной лёгкостью, что многое на свете стало казаться простым.Ну а как же непредвиденный ветер? Хлопки дверей? Форточка, в которую нальёт дождя? И здесь Ивану повезло. У него был Костя, восемнадцатилетний мученик, выросший из вундеркиндов, но ещё не попавший на взрослый чемпионат.
Он прибегал и раскладывал перед Иваном свои карты: игральные, морские и звёздного неба. И каждый раз Иван ждал с любопытным сердцем, что ещё предложит ему этот игрок, путешественник, звездочёт.
При нём был «этюдник» – кожаная котомка с твёрдыми стенками и крышкой, как у школьного ранца. «Тут вся моя механика! – хвастал Костя. – Капот моей души!» В «этюднике» лежал маленький ноутбук, блокнот с рисунками и какая-нибудь живописная книжка. Нынешней осенью это был старый, залитый вином и дождями Гёте. Костя не знал немецкого, но читал в подлиннике. Не знал он и рисования. Его рука была точна от природы, а учиться он не хотел, опасаясь утратить свое крылатое дилетантство. Ноутбук служил ему печатной машинкой. Он любил писать с натуры, засев в кафе на Кузнецком, напротив арки метро. Арка тем была хороша, что, выходя из неё, человек на миг приостанавливался, решая, куда идти. Из позы, жеста, одежды, раздумья на лбу, Костя легко выводил историю.
«Я должен подставить себя миру, как линзу под луч, – чтобы вспыхнуло! – декларировал он свою цель. – Или скажем иначе: я должен поймать мир в зеркало и пустить зайчика!»
В минуты патетики Ивану казалось, что он сам для того только и рождён на свет, чтобы отдать все силы на проверку какого-нибудь винтика в гигантском лайнере Кости.Иван знал Костю давно, любил его сестру Бэллу и был с ней счастлив.
Позапрошлой весной на Бэлку, как проклятье, свалилась вакансия – Венский университет, кафедра славистики. Это было стоящее искушение – удержаться она не смогла. Известие о том, что Бэлла едет в Вену преподавать русский, ошеломило Ивана. Если принять во внимание мамину Австрию, это начинало попахивать роком. «Значит, и мне надо ехать», – удручённо подумал он. И поехал бы, потому что – ну как без Бэлки? Но была одна загвоздка – бабушка с дедушкой. Бросить их на последнем витке старости он не мог.
«Я всё понимаю! Но мы не сумеем построить жизнь, оглядываясь на стариков! – сказала Бэлла, когда Иван попросил её отказаться от предложения. – Конечно, мы будем иногда приезжать. Наймём им, в конце концов, помощницу по хозяйству!» Её голос был звонок и твёрд.
Не дослушав, Иван встал и пошёл в гараж за великом. Ему хотелось спасительного ветра, свиста, целую жизнь хотелось мотаться по берегу холодной реки.
А вечером, возвращаясь домой, он увидел во дворе Костю. Тот нёсся к нему по весенней воде – со стиснутыми кулаками и лицом, накалённым невиданной яростью. Ярость выкипала и конденсировалась в слёзы. Подлетев к Ивану, он с разгону толкнул его в грудь. Ещё и ещё, пока Иван не упёрся спиной в хилый дворовый тополь.
– Ну! Доволен? Рад? – кричал Костя, захлёбываясь. – А я, дурак, поверил – будете вместе! Будет жизнь! Намылился уж к вам в гости летать! Ты можешь мне объяснить, почему ты не едешь?
Проще всего было бы возразить: ну а что же твоя сестра? Не послать бы ей к чёрту эту вакансию? – Но нет, качать права Иван был не обучен.
Молча он посмотрел вдаль, насколько позволяли дома. Повсюду была весна. Она заселилась ещё не явно – намёками. Рассеяла споры по низким облакам и голым деревьям, по дырявым, как старые сети, вороньим гнёздам. Пахло рекой.
– Тебе что, ответить невмоготу? – Костя сильно замахнулся и саданул ногой по льдистой жиже, так что Иван оказался весь в слезах талого снега. – Хотя бы объясни по-человечески!
Иван вытер щёку.
– Костя, у дедушки – мерцательная аритмия. Куда я поеду?
– Так возьми его с собой! И бабушку в придачу! Это же Австрия, а не Африка! – бушевал Костя. – Или вызови свою маму – пусть она с ними сидит! Даю тебе день на раздумье! Если ты из-за своего бреда отречёшься от Бэлки, ты будешь – ноль в моих глазах! Понимаешь: ноль – в моих – глазах!
Не найдя, как ещё заклеймить Ивана, он сорвался и, срезав путь по чёрному снегу газона, исчез за домом.
Чуть покашливая – всё-таки, Костя хорошо саданул его в грудь – Иван побрёл через воду детской площадки к лодке-песочнице и сел на бортик.
Так ли уж страшно оказаться нулём? – раздумывал он посредине мартовского половодья. – Нет, не страшно совсем. Страшно, что не нашёл мудрости поступить верно. А ноль – так и бог с ним. Всё равно без Бэлки – это где-то уже за Стиксом…Но нет, насчёт «Стикса» Иван ошибся. Прошли месяцы, и жизнь, совсем отхлынувшая было от сердца, возобновилась. Костя его простил.
«А что толку дуться! – объявил он. – Когда-нибудь же вы всё равно помиритесь!»
Иван верил и не верил в его счастливый прогноз. А пока что принял Костю, как наследство. Тем более что «ребёнок» давно уже был беспризорен. Родители, спасовав перед темпераментом сына, отреклись от престола, Бэлка прилетала редко. Зато Иван теперь любил зазвать его в гости и накормить!
Красные помидоры, жёлтый перец, зелёный лук – вот были лучшие краски! Из них легко смешивалось какое-нибудь греческое или итальянское жизнелюбивое блюдо.
– Ты опять занимаешься всяким бредом? – вопил подоспевший к обеду Костя и лез под бурлящую крышку, нюхал, совал в кипяток руки. – Ты что, не видишь, у тебя – жизнь! Хочешь отсидеться за чайником?
Иван мог бы оправдаться тем, что благоденствие произрастает в его жизни само, как трава на поляне, где вдоволь солнца. Если исчезнет уют, вероятно, найдутся другие способы, в которых его душевный мир обнаружит себя. Может быть его солдатские сапоги окажутся неожиданно прочны и сухи, или ягоды в партизанском лесу будут спелые?
Но он не оправдывался. И Костю злила, прямо-таки выводила из себя, улыбка Ивана, полная приятельских чувств.
Иван же потому улыбался, что вполне понимал причину Костиной досады.
Во-первых, он не поступил в институт. Это был честный провал: всесторонняя гениальность не позволила Косте отвлечься на освоение школьной программы. Во-вторых, чужие возможности и достижения дразнили его. Силы прибывали и затапливали город, как в сказке «горшочек каши» – Костя плакал от сил. Их можно было бы направить в русло, если б дело не портила преждевременно наступившая мудрость. Ребёнок заранее знал, что стремления обманчивы, а удовлетворение призрачно, и от этого его «заранее» пробирала хандра. «Ну да, – заявлял Костя. – Конфликт духа и крови. Спрашиваешь, что делать? А что тут поделаешь! Дадим высказаться обоим!»
Иван, тронутый Костиной самодиагностикой, уважительно сдерживал смех.* * *
В прошлом году, слегка оправившись от кораблекрушения с Бэллой, Иван решил, что может, наконец, продолжить жизнь и заняться чем-нибудь новым. В сущности, всё, кроме здоровья ближайших родственников, было ему безразлично. Но однажды по бабушкиному радио пленительный голос пропел «Оду к западному ветру» Шелли, и Иван вспомнил, что любит стихи. Любит искусство вообще, и языки, на которых оно создаётся. Любит подмечать, как из мелочей возникает шедевр, снаружи припудренный эпохой, но если сдуть эту пудру – под ней будет вечное. «Вот что-нибудь в этом духе!» – подумал он и вспомнил, как во времена счастья Бэлла просила его не мыкаться со звукоизоляцией, а заняться тем, к чему призван: развить своё лингвистическое образование в какую-нибудь востребованную международную сторону. У неё была мечта – сделать преподавательскую карьеру и вдвоём с Иваном поселиться в небольшом европейском городке, где самый удобный транспорт – велосипед. Например, в Хайдельберге. Конечно, и Костю к себе они выпишут – пусть живёт в цивилизованном обществе!..
Тогда Иван улыбнулся Бэлкиной простодушной фантазии. А год спустя, когда всё было поздно, вдруг принял её мечту как завет, и в память о ней отыскал себе камень на шею – факультет повышения квалификации. Там обычных гуманитарно-образованных граждан переплавляли в культурологов. Параллельная работа над диссертацией приветствовалась.
Это международное предприятие было организованно на базе того самого вуза, куда так и не поступил Костя. Иван почитал материалы сайта и, придумав себе список липовых исследовательских интересов, завалился на кафедру.
Безразличию его в те дни не было предела. Преодолевая рассеянность он принял к сведению, что факультет занимается исследованием культурного ландшафта восточной Европы в целом, и Москвы в частности, и что сотрудники его, несомненно, будут рады приветствовать нового коллегу и окажут всемерную поддержку творческим начинаниям. Оценив рафинированность лиц и речей, Иван подумал: пожалуй, это не то, чего бы ему хотелось. Но всё же сдал полагающиеся экзамены и влился в команду исследователей нематериальных благ.
На осознание своей чудовищной наивности у него ушёл месяц – время, по истечении которого он удосужился заглянуть в Список рекомендованной литературы. Тогда-то, в библиотеке, за чтением избранных работ, Иван растерял окончательно свой культурологический хмель.
Подборку открывали одна за другой две феминистки, за ними следовали: искусствовед, специализирующийся на архитектуре карательных заведений, историк, изучающий публичную казнь и несколько фрейдистски настроенных литературоведов. Этот фантастический «very best» потряс Ивана. Он бродил по словесному аду до сумерек, не чуя времени, а когда выбрался, не смог узнать мир – всё было гадко.
Как человек, намучившийся сам с собою, Иван посочувствовал авторам – всяко может скрутить человека! Но на следующий день всё же пошёл к своему научному руководителю.
Предложение Ивана было такое: если не изъять, то хотя бы уравновесить эти тексты другими – добрыми. Он выразился наивно и был впечатлён тем, как аккуратно, не выйдя за рамки приличий, но внутри этих рамок излупив всего, высмеял его старший товарищ.
Ознакомившись кое-как с теорией духовного разложения, Иван перешёл к практике. Это было легко. К его услугам оказался весь город с магазинами, клубами, ресторанами, выставками, научными семинарами, концертами, со всей печатной и электронной продукцией. Оставалось выбрать, какой именно сегмент «культурного ландшафта» он возьмёт под свою научную опеку.
Видя затруднения Ивана, сотрудница кафедры, специалист по «визуальности», взялась провести его по «актуальным площадкам». В компании знатока Иван осмотрел последние достижения европейской творческой мысли. Прошагал полузажмурившись сквозь кровавую фотовыставку, обозрел таинственные инсталляции, постоял возле скульптуры из засушенных пауков – и ушёл, смеясь.
Помаявшись ещё в поисках темы, он сменил, было, «Город» на «Сетевую литературу», но вникнув, бежал и оттуда.
Слава богу, настало лето. Земля и зелень взяли власть над душой Ивана и вытеснили всю суету. Придя в начале сентября в институт, он твёрдо знал, что больше не хочет участвовать в описании эпохи. Ни словом, ни буквой не желает касаться «духа времени». Толковать его, рисовать с него портрет – много чести!
Приходилось признать – почти всё в его институтской эпопее было глупо и зря. Но оставалось ещё кое-что, что пряталось за «почти» – уют старой московской улицы, что вела к институту, множество юных лиц, среди которых попадались хорошие. И главная радость – в коридорах Иван мог изредка встретить Мишу.
Миша – средне молодой человек с талантом клоуна, одновременно настырный и независимый, был несчастьем кафедры. Когда-то он взялся за диссертацию, но заскучал и плюнул, и теперь, захаживая, держался как независимый шут – бросал крамольные реплики, гримасничал и рассылал эпиграммы на мобильные телефоны коллегам.
Он лучше научного руководителя сумел объяснить Ивану ошибку.
– Условно говоря, они хотят отделить церковь от государства, а вы хотите не отделять! – метафорически мыслил Миша. – Они, голубчик, правы! Культура – это ни черта не духовность. А то, что вы в ваши годы всё ещё путаетесь в определениях – стыдно вам!
– А чего стыдиться? – с удовольствием возражал Иван. – Что мне определения! Я – за красоту.
– А того, – с ещё большим удовольствием растолковывал Миша, – что вы чужды научного подхода! Цивилизация мчится во весь опор. Из-под копыт летят комья грязи. Задача ваших коллег – эту грязь собрать и установить состав. А вы себе о красоте нафантазировали. Пришли как школьник! Хо-хо!
– А вы-то зачем ходите? – удивился Иван.
– В рекламных целях! – отозвался Миша, глянув через плечо в окно фойе. – Вон, через дорогу, видите, роскошная вывеска – «Кофейная». Это наше предприятие. Вы зайдите, а я вам предложу чашечку кофе от заведения.
Иван поглядел в окно. Какая-то невзрачная вывеска и впрямь была.
– Я ещё вожу экскурсии, – с достоинством продолжил Миша. – Но этого вам не надо – вы сами с усами. А вообще тема – по желанию клиента. Кто заказывает экскурсию – тому гарантирована счастливая случайность.
– Тоже от заведения? – спросил Иван.
На этом они простились, и жаль было, что за весь прошлый год их знакомство так и не дошло до приятельства.Придя в институт после летних каникул, Иван не увидел Миши и, соскучившись, сам зашёл к нему в кафе. Хозяин сидел за столиком, вытянув ноги в проход, и сигароподобно держал в зубах оранжевый маркер. Перед ним лежала разрисованная карта Москвы.
– Не желаете экскурсию? – спросил Миша. – У нас новое меню! – и продекламировал список тем. Некоторые показалась Ивану забавными.
– Пожалуй, что желаю, – сказал он, взяв кофе. – Надо только выбрать из вашего изобилия. В свою очередь могу предложить историко-литературный поход за грибами. У нас вокруг дачи – сплошные усадьбы. Фанатов можно заводить по дороге в музей.
– О… – разочарованно протянул Миша. – Я понимаю так, что вижу перед собой конкурента?
– Мой проект некоммерческий, – возразил Иван. Он хотел, было, расспросить Мишу о подробностях его экскурсионной деятельности – как возникло, что натолкнуло, но промолчал. И без подробностей ему всё было ясно с Мишей.
Хозяин тоже не продолжил беседы. Он включил на подвесном экране немое кино и углубился в его милое мельтешение.
Это был не первый случай в жизни Ивана, когда быстрое и точное понимание друг друга не давало развиться дружбе. Оттого, – думал Иван, – что дружба, как и любовь, вырастает из тайны.* * *
В октябре, памятуя об угрозе зимних депрессий, Иван стал запасаться. Купил специальную норвежскую лампу, призванную восполнить нехватку солнечных лучей – чтобы до света, часиков в семь, зажигать её вместо солнца. Нашёл в книжном хорошие ноты для гитары, а вот новых книг покупать не стал, решив, что вряд ли на свете есть что-нибудь более ветрозащитное, чем Карамзин, да Пушкин, да Гомер. Установить словарь и переводить вслед за Гнедичем – на ночь по странице!
Да ещё, с некоторых пор, на столе у него лежал старый учебник по языкознанию под редакцией Чемоданова, который приволок ему Костя. «Полетишь к маме в Вену – передашь заодно Бэлке!» – строжайше наказал он. Ответить на простой вопрос, зачем понадобился Бэлке древний Чемоданов, Костя не смог. Он рвал и метал, требовал, чтоб Иван сейчас же купил билет. Иван хотел уж выставить буяна, но прислушался и различил в Костиных воплях сиротство. Как ребёнок разведённых родителей старается слезами и хитростью засмолить течь, так и Костя подручными средствами гнал их с Бэлкой к воссоединению.
Разлад был нелеп – тут Иван не спорил. Давно забыта обида, всё возможно, ничто не препятствует. До конца Бэлкиного контракта всего-навсего – год. Светлый этот шлейф – надежда на поправимость – тянулся, крепясь к середине груди. Там, если дёрнуть, становилось больно. Конечно, у Ивана были доводы: Может ли он позволить себе? А бабушка с дедушкой? А Оля с Максом? Хоть Бэлла Александровна и добрая девушка, устроит ли её в нагрузку к счастью такой обоз? Или, как все девушки, она потребует жертвы? Доводами этими он чикал по беззащитной снежной ткани, надеясь, что как-нибудь она отвалится, отсохнет от сердца. Но беззащитная ткань пристала крепко.
В Вену Иван не полетел, зато пролистнул учебник и оставил его на столе вместе с Карамзиным, Пушкиным и Гомером. Все эти беспрецедентные по надёжности вещи он намеревался читать зимой и, каждый раз, проходя мимо, радовался стопке, как поленнице хороших дров. Между прочим, и мёд у него имелся – на случай зимних бессонниц. Но на этот раз Иван изменил историческим лугам своей дачи и поехал за мёдом на ярмарку. «Башкирия», «Байкал», «Придонье» – читал он, вольно бродя по пустым рядам. Пробовал гречишный мёд со вкусом гречневой каши, липовый с ароматом цветущей липы, сонный пустырниковый, бодрый боярышниковый, и напробовался до того, что улыбка потекла по лицу. В розово-сером моросящем воздухе октября отзывался летний рассвет – вот встанет солнце, пар поднимется над лугами, загудят пчелы… или как там у них это бывает, на производстве мёда? Он уложил в пакет липкие баночки и, уже уходя, подумал, что за свою жизнь ни разу не видел Башкирии, не видел Адыгеи, Байкала, Урала, Камчатки. Зато прошлым летом по внезапному вдохновению махнул за Ржев, где погиб его прадед, – и менял там, помнится, средь клеверных полей, колесо…
Вооруженный мёдом Иван вернулся домой к обеду и, выставив боеприпасы на полочку в кухонном буфете, понял, что теперь ничего не имеет против зимы: you are welcome! «Ну ты забавный!» – умилилась его приготовлениям Оля, когда Иван позвал её с Максом дегустировать мёд. Иван и сам иногда, не то чтобы умилялся – ужасался, но всё равно подспудно был рад своей основательности. И был рад, что одну банку липкого янтаря Макс унёс с собой.
Обо всём этом, что радовало, Иван по телефону докладывал маме, надеясь вызвать в ней хотя бы самую лёгкую зависть, натолкнуть на мысли о возвращении. К сожалению, несмотря на личные неурядицы, мама не спешила на родину. Она укрылась в Бадене, что близ Вены, в маленькой съёмной квартирке – поработать над переводами. Съехав от публицистики в женский роман, Ольга Николаевна всё же гордилась, что её русский текст выглядит изящнее немецкоязычных подлинников. И гордилась свежестью местного воздуха, приветливостью жителей и добротой зимы. Иван летал к ней, но не мог разделить упоения, поскольку был патриотом русского климата.
– Ну, и как у вас осень? – снисходительно спрашивал он. – Чувствуется?
– Нет! – отвечала Ольга Николаевна. – Вовсе нет! Плюс двадцать три – никакой осени! Просто – пора урожая.
Нынешние мамины дела были печальны. И хотя главная мысль её судьбы – жизнелюбие – не давала ей отчаяться, приходилось признать: второй брак развалился, получить сколько-нибудь приличный контракт без помощи бывшего мужа не удалось, а значит, это была её последняя райская осень в Австрии.
С волнением она объясняла сыну, как всё более её творческий отдых перерастает во влюблённость. Влюблена! – жаловалась ему мама. – В холмы, в дом с палисадником, в острое молодое вино, в запах вод, в старушенций, заполонивших кофейни, и в их шляпки. Наконец, в соседа по подъезду – прелестного образованного австрийца! Помолодела, живу бабочкой, знаю, что всему конец.
Влюбиться в «прелестного австрийца» ей вовсе не казалось зазорным, как не зазорно любить природу – закат и виноградники. Главное, не требовать от человека большего, чем от виноградника или заката. Вот были последние достижения маминой мудрости.
Так ежевечерне они перезванивались и, простившись, оставались – каждый в своём октябре. Ольга Николаевна шла куда-нибудь скоротать вечерок, а Иван выходил на балкон. После лета у него появилась привычка: побыть перед сном на ветру и, если повезёт, придумать две строчки – безо всяких претензий на поэзию, только чтобы прояснить ум.
Тёплое начало октября благоприятствовало подмосковным пожарам – белый дым занавесил небо и налепленные по небу кварталы высоток. Хорошо был виден один только двор с просыпанной в него горсткой осени – кусты, лужица, мокрый песок, тополь. К югу гудело штормовое море Москвы. Этой дымной осенью Иван впервые пожелал себе новую, не городскую судьбу. Стоя на балконе, он раздумывал, как бы легко и вольно перемещался по полям и лесам, на ходу пожимая руку зиме, целуя – осени. Как жил бы с ними по-соседски, заходил в гости. Как научился бы понимать и ценить убывающий день и не нуждался бы в мёде. На что человеку мёд, если все цветочные корни у него под ногами! Так незачем брать ракушки с берега, если живёшь на море.Но ещё не настали те времена. Внутренне утепляясь к зиме, «готовя сани», Иван занялся разбором домашней библиотеки. Это вышло нечаянно. Он искал для Кости Стругацких и увидел, что в книгах тесно и нет порядка. Японские трёхстишься омрачены с правого бока многословным Томасом Манном, Гончарова затуманил Кафка, а хрупкий Андерсен задавлен «Тысяча и одной ночью».
Исполненный сострадания, Иван взялся прочищать полки от ненужных томов. Он определял их просто – по ощущению в сердце. Если сердце гудело – книга отправлялась в картонную коробку, если радовалось – он, как птичку, нёс её в свою комнату, чтобы поселить поближе.
Книги в шкафу стояли теперь, заваливаясь друг на друга. Зато, какие они были друзья! Он и расставил их по дружбе. Особенно радовал Пушкин в кругу обожателей. Вообще-то, к Пушкину все тяготели, нелегко было выбрать самых достойных. Иван надумал было разбросать тома из собрания сочинений по полкам – чтоб было больше возможностей для молекулярных связей, но не осмелился разъять солнце.Коробки же с «избытком» задвинул подальше до приезда мамы, чтобы она сама решила их судьбу.
Когда Костя залез в одну из них, взгляда на верхние обложки хватило ему, чтобы понять – его друг сошёл с ума. Вымести Сартра! Джойса! Набокова!!!
– Ну, нет, почему, не всё. Я «Дар» оставил, – возразил Иван.
– Ах, оставил? Ну, спасибо тебе! – негодовал Костя. – Ты вообще, здоров? Ты взгляни хотя бы со стороны на своё мракобесие!
– Почему мракобесие? – удивился Иван. – Мы ведь не зовём в дом людей, которые нам не симпатичны!
В гневе Костя прихватил с собой пару обиженных томов и умчал.
За прореженную библиотеку, за Бэлку с «Чемодановым», да и вообще – за полное неучастие Ивана в жизни планеты Костя презирал своего друга снаружи и боготворил внутренне. В конце концов, ему тоже хотелось однажды стать таким вот упрямцем.
Иван, в свою очередь, понимал Костину маяту, многие силы и вынужденный досуг, от которого вянет характер. «Надо бы пристроить его куда-нибудь, – думал он, – хоть в наш институт. Кем?»
* * *
Как-то раз Иван спросил у Миши, не знает ли тот, как добыть «студенческий» для одного знакомого ребёнка, провалившегося на вступительных, – чтоб не шлялся по улицам, а посещал культурные мероприятия.
Миша взялся помочь.
– Но не даром… – сказал он задумчиво, уводя глаза в потолок. – Даром – нет… С Вас тыква без мякоти!
– Зачем Вам тыква? – удивился Иван.
– А мы на хэлоуин её поставим, – объяснил Миша. – Меня в прошлом году посетитель спрашивает: «А тыква где у вас?» Что я отвечу?
И хотя Иван не нашёл ему тыквы, с октября Костя мог беспрепятственно посещать творческие вечера и мастер-классы, которыми славился их продвинутый вуз.
Никто не одобрил инициативы Ивана. «Лучше бы ты его на работу устроил, – сказала Оля. – Это ты у нас богоизбранный, а нормальным людям пахать приходится. Пусть привыкал бы!» Бабушка вторила ей: «Глупо и безответственно! Ему готовиться к поступлению – а ты его куда послал? На гулянку!»
Иван подумал и согласился. Но раскаяния его были запоздалые. По добытому Мишей пропуску Костя проник в институт и прибился к несостоявшимся однокурсникам. Поискав, во что бы облечь свое аутсайдерство, он взял себе роль художника широкого профиля: писал девицам «в альбом», изрисовывал доски шаржами на сотоварищей и, достав на перемене губную гармошку, перепевал интонации преподов.
Жизнь пошла! Записная книжка его мобильника пополнилась новыми номерами, и вот уж Костя пил шампанское на осенних днях рождения, и чмокал, прощаясь, десяток девичьих щёк. Этот нежный женский обычай – прощания и встречи закреплять поцелуем, уступал, по его мнению, рукопожатию, но всё же был лучше, чем ничего, поскольку символизировал братство.
Костя словно бы очутился в эпицентре приветливости и забыл, что гуляет по институту зайцем. Но однажды произошло событие из рода штормов, разметавшее в клочья его уютное донжуанство и шутовство.Как-то раз на перемене между парами Костю одолел музыкальный демон. Устроившись на подоконнике, на этой широкой, белой студенческой палубе, он наигрывал публике «Гаудеамус» и что-то жалобное из Бетховена. Костя играл горячо и грязно, уходил в импровизацию, законов которой не знал. Дерзость заменяла ему технику, слух – теорию. Поклонницы были довольны.
В разгар перфоманса и вторгся к нему, без спроса подсел на подоконник его условный однокурсник Женька.
– Я почитал, чего ты там девчонкам пишешь, – начал он дружелюбно. – Очень классно. Мне понравилось. У меня брат – Фолькер, слышал? Нам для сайтов нужны острые авторы.
Слышал ли Костя? Весь путь к институту был увешан рекламой этого ненормального парня. «Экология», «нет – наркотикам», «права животных», а так же «школа игры на гитаре» и «клуб любителей экстремальных видов спорта» – всё было собрано в кучу и букетом преподносилось ошалелому зрителю: записался ли он в добровольцы? Если нет – заходи на «www…».
Женька держался в масть брату и был заметен. Он носил кепки, каски, панамы, шапки и шапочки, водолазные и авиаторские очки, наручные, нашейные и поясные часы, компасы, и прочую дребедень. На время лекций Женька складывал доспехи в рюкзак и становился вежливым рассудительным мальчиком. Впрочем, и в очках, и в касках он тоже был вежлив и рассудителен. Авторитет его подкреплялся тем, что он охотно подвозил сокурсников к метро на своём практически новом «харлее».
В тот день после занятий Женька отыскал Костю и без обиняков признался, что тот ему интересен, нравится, жаль только, парень валяет дурака вместо того, чтобы употребить таланты на дело. А что за дело? Так пойдём, покурим…Через пару недель знакомства Костя знал историю Жени в подробностях. Женьке жилось не просто. В его семье разразился образцовый конфликт поколений. Отец был художником, трудился «для Бога», полезных знакомств не держал. Заработки искал в областях, удалённых от живописи. Мама работала детским врачом и проклинала свой труд. Профессиональный цинизм не дался ей – она плакала над каждым горем. Так они жили, растя «святых» детей – Фолькера (не Фолькера, конечно, а Пашку – свой «ник» он приобрёл позже) и родившегося четырнадцать лет спустя Женьку. Гром грянул, когда Пашка увлёкся онлайн-маркетингом. Домашние принципы пошли в корзину. Паша поймал удачу, и, держа её за лапы, взлетел быстро и высоко. Несколько лет он пробыл в США, скупая сайты для медиа-компаний, параллельно открывал магазины, покупал и перепродавал «бизнесы». Таинственный внутренний кризис затормозил его деятельность. Он оставил в Штатах большую часть активов и вернулся в Москву, к родным.
За десять лет успешного бизнеса состав его души претерпел изменения. Он вошёл в отчий дом чужаком. Его речь с грамматическими ошибками, с тупым, прямоугольным синтаксисом, подклеенная сленгом и матом, убила последние шансы на воссоединение. Отец выставил сына за дверь – пусть сперва вспомнит русский.
А Женя влюбился в брата! И хотя родители заклинали его не приближаться к адской пропасти Интернета, он всё же приблизился, наклонился, черпнул, нырнул, поплыл… Прошлым летом Фолькер позвал Женьку в своё новое дело.
Собственно, об этом и собирался Женя говорить с Костей, когда пригласил его покурить. Дело было удивительным и родилось не вдруг. После того, как отец выгнал сына из дома, что-то случилось с фундаментальными основами Фолькера. Размагнитилась магнитная ось. Мир накренился, но как-то странно, неправильно для человека, пропахшего долларами. Фолькер продал лодки – свою последнюю буржуйскую страсть, и дачку с причалом на Атлантическом океане. Взамен купил дачку с причалом на канале Москвы, и занялся освоением русскоязычных просторов Сети.
Задачей, которую он поставил себе, было выбить из подростков «попсу и равнодушие». Явный привкус утопии не смутил Фолькера. Он устремился к цели с тем же подвигающим горы упрямством, какое прежде помогло ему сколотить капитал.
Для осуществления задуманного Фолькеру требовались хитрые авторы, гениальные пройдохи, способные, не спугнув, по капле закачивать в юные сердца свежую мысль.
– Почитай, чего мы там пишем, подумай, – заключил Женька. – Надумаешь – скажешь. Всё же и деньги какие-то, и, главное, опыт. Решай!Лихая история взбаламутила Костю. Он начал изучать Женьку пристально. Целиком – от основ характера до побрякушек, которыми тот был обвешан. Всё это, и характер, и мелочёвка, пришлось ему по сердцу. Косте захотелось меняться, как в детстве. Выторговать себе любым способом Женькины авиаторские очки, а заодно – его ясный рассудок, социально ориентированную совесть и брата Фолькера.
Вскоре Женька пополнил список своих достоинств безупречным выбором подруги. Он выбрал Машу – единственную из девчонок на курсе, которая при встречах не чмокалась и, проявляя сногсшибательную независимость от жизни курса, вязала на переменах шарф. Маша была красавица, но без подиумных наклонностей. Любопытные вишнёвые её глаза и чёлка отсылали к советским фильмам. К тому же, Маша оказалась кем-то вроде сироты и по-сказочному жила у бабушки.
«Как я прошляпил!» – щедро одобрил Женин выбор Костя.
Теперь втроём они частенько отправлялись на канал. Там стоял дом брата, где временно обитал Женя, и качался на пристани катер. Катер – прощальная игрушка Фолькера – был тем хорош, что на нём можно было слушать музыку без ограничения громкости, пить, спать и вообще жить, наконец – выходить в открытую реку. К тому же, его палуба стала сценой, на которой Костя выстоял свои первые чтения.
Все стихи и прозу, сценарии и сюжеты будущих трансжанровых эпопей, какие накопились у Кости в «этюднике», Женя скоро знал наизусть и всерьёз намеревался заняться их продвижением. От такой постановки вопроса Костя пьянел. Он стоял перед Женей с развёрстой грудью: благодарная кровь текла по голым артериям, стучало не защищённое рёбрами сердце.Об этой вдруг навалившейся удаче, о новых скоростях и перспективах он однажды зашёл рассказать Ивану.
– Я пока что владею собой, но вихрь уже зародился! – докладывал Костя, смеясь от предвкушения, от тепла и озноба, бегущего по душе.
Иван привык, что Костя ощущает свою судьбу как череду вихрей, событийных дуг. Они бывали сокрушительны, эти энергетические ураганчики. К счастью, Иван не мог припомнить, чтобы какой-нибудь из них продержался более полугода.
«Глупый ребенок, – думал он, – опять попался на сахар!»
Вслух Иван высказал предположение, что Костиным социально ангажированным друзьям, вероятно, захочется от него поэм об экологии и формировании гражданского сознания.
– А экология – это плохо? – спросил Костя с вызовом. – А хорошо – что? У окошечка посиживать? Ты Бэлке когда обещал отвезти «Чемоданова»?
«Давным-давно, – подумал Иван. – Давным-давно». Эта пара слов ещё покачалась в его уме и затихла.
– И потом, ты пойми! – горячился Костя. – Там же можно зарабатывать деньги! Если сайт крутой – там, знаешь, сколько рекламы, сколько ссылок всяких!
– Реклама – да. Но ты-то тут причём? – заметил Иван. – У тебя же нет брата, занятого интернет-подвижничеством.
– Брата нет, – согласился Костя. – Но у меня есть шанс. Ты же знаешь – в чём-то я гений. Вопрос – в чём? Помнишь, Холмс говорил – когда артистизм в крови, он может принять самые неожиданные формы! Я так решил – прибьюсь к ним, что-нибудь да выйдет! И ты давай, не тормози прогресс человечества! Совсем отбился от жизни со своими бабушками!
Эту наглость, настеленную на хрупкость, Иван принял с печалью. Он чувствовал, что должен соблюдать золотую грань – не соглашаться, но и не спорить.
– Конечно, я пока никто, – продолжал Костя. – Но я ведь могу принюхаться! Надо принюхаться ко времени и работать безжалостно, выжимать себя буквально до дыр!
– А по-моему, чтобы принюхаться, это надо как раз наоборот – отключить компьютер и дать себе волю, – возразил Иван и, встав, открыл форточку. За стеклом был холодный, пахнущий химией день с дымкой. «Всё-таки хочется посмотреть на осень вблизи, узнать её на собственной шкуре, – думал он. – Хочется в ней пожить. Утеплим с дедушкой дом – переедем совсем на дачу…»
И вдруг на фоне общей грусти ему стало отрадно, что он не отдал Мише тыкву за Костин пропуск. За такую медвежью услугу еще и платить!Этой осенью Костя забегал к нему часто. «Всё тебе расскажу! – обещал он. – Налей только мне чего-нибудь!»
Иван ставил чайник и садился слушать. Кофе и чай Костя теперь заглатывал залпом, не замечая кипятка, не чувствуя вкуса – настолько увлекало его содержание собственной речи. Его руки не то чтобы дрожали, но были резки, так что пепел пролетал мимо пепельницы. Он курил, как дышал, и всегда у Ивана был для него в запасе блок наилегчайших сигарет. «Хватит издеваться! Я не курю такую дрянь!» – возмущался Костя, но по причинам финансового характера пренебречь дарёным конём не мог.
В эти дни Костя, наконец, сформулировал свою «творческую цель». Он собирался максимально расширить круг общения, знать всё, бывать везде – чтобы из его опыта вспыхивали тексты, способные разжечь даже самые отсыревшие мозги. Всё, что теперь сочинял Костя, предназначалось для сайтов Фолькера. «Наша задача, – провозглашал он, – лупить и будить подростка! Я должен писать так, чтоб идея неравнодушия перестала быть занудной! Чтоб она шкуру подпаливала! Понимаешь – сжечь потребительскую коросту, как старую траву, пусть нормальная, здоровая зелень пойдёт по земле!»Костин замах огорчал Ивана. Он давно уже не ценил дерзаний. Взамен он пожелал бы Косте маленького, детского творчества, такого, которое не тешит гордость и не влечёт к совершенству. Иван был уверен, что маленькое творчество благословил Бог, тогда как вокруг большого вспыхивают сражения разнонаправленных сил. Нет, он был категорически против, чтобы ребёнок отправлялся на передовую!
Однажды, на всполохе трезвости, Костя сам сказал ему:
– И всё-таки, если я буду слетать с катушек, ты присмотри за мной! Я уж слишком юн и талантлив – такое не каждый выдержит!
– Хорошо, – обещал Иван, – я буду присматривать. Какие у меня полномочия? Бить тебя можно?Самым трудным в исполнении Костиной просьбы было то, что Иван не знал, когда в следующий раз явится к нему его трудный подросток – завтра или через пару недель, или вообще сгинет. Таким вот было его весёлое «отцовство».
* * *
Середина октября была дымной – горели торфяники. Пахло большим костром. Тысячи подмосковных деревьев сошлись в нём. Проснувшись утром, Иван выглядывал на балкон, в густо-белый воздух, и не находил города. Сознание кренилось, но душистая герань, изгиб плюща, совершенный, как музыка Первой Венской школы, и листва домашних лимонов выручали его разум из дыма.
В дыму антициклона мелькнул его двадцать девятый день рождения. Он купил себе в подарок очиститель воздуха с угольным фильтром и отнёс к бабушке с дедушкой. Позвонили мама, отец, пара родственников и знакомых. Костя не позвонил. Зато пришли Оля с Максом и подарили приличных размеров кактус. Иван был счастлив. «Никаких желаний… – растерянно думал он. – К чему стремиться? Всё есть!»
Такое удивительное положение дел его смутило. Он поискал: чем ещё заняться ему на Земле, чего себе пожелать? Разве что, правда, слетать в Австрию, Бэлке отдать «Чемоданова»?
В этот день, строго обыскав свою чистую совесть, Иван осознал, что жизни, как таковой, у него и нет. Нет динамики, тем более, сюжета, над развитием которого можно было бы поразмыслить. А весь внутренний конфликт сводится к одному вопросу: порядочно ли вот так просидеть отпущенный век у камелька?
Не то чтобы он загрустил от этих мыслей, но как-то растерялся. И потому был рад на следующий день встретить у института Костю – верного источника конфликтов. Вдвоём с товарищем он стоял чуть поодаль студенческой толпы, и они беседовали под сигарету.
– Вот послушай-ка! – крикнул Костя, завидев Ивана и, не здороваясь, как будто только расстались, подтащил его к своему другу. – У нас спор! Допустим, человечество перебесилось! Взялось за ум, обезвредило боеголовки, научилось кормить себя досыта. Что дальше? Куда обратит человек свою творческую энергию? Останутся ли искусства?
Иван слушал, не вникая, но с улыбкой. Ему было приятно, что так весело, с лёту, взяли его в оборот. И приятно было переводить взгляд с бурлящего Кости на его молчаливого друга. Это был Женя, конечно. Точно такой, как описывал Костя – броско одетый, единственный в своём роде. Одно удивило Ивана: лицо Жени было серьёзно и грустно. На фоне такого лица связанная грубой вязкой бейсболка-хаки и несколько пёстрых рубашек, надетых одна на другую, утрачивали свой смысл.
– А! Да это вот Женька! – спохватился Костя и, ладонью прихлопнув Женину кепку, сдвинул её на затылок, чтобы Ивану было лучше видно героя.
Они пожали друг другу руки.
– Мне о вас Костя рассказывал! – улыбнулся Женя.
Старинная вежливость и простота Жениного тона удивила Ивана, но ответить он не успел.
– А вон там, видишь, в жёлтом пальтишке – Машка! – дернул его Костя и кивнул на группу девчонок. – Раз ты здесь – давай уже со всеми тебя перезнакомлю! – Ма-ша! Машк! – гаркнул он и, метнувшись к соседней компании, приволок за руку девочку, черноглазую, с чёлкой, милую, как давняя фотография. Вид её, правда, был вполне себе дерзкий. Через плечо на широком узорном ремне висела вязаная котомка с тетрадками. Какая-то не нынешняя, отважная Маша-санитарка из кино про войну.
Иван заметил: как чудесно смотрит на неё Женя – с терпением, без огня. Как будто на много лет вперёд зарядил свой любящий взгляд и расходовал бережно.
– Сейчас я его тебе представлю, как следует! – вопил тем временем Костя. – Иван, ты кто у нас будешь? Мой друг? Это правда. Но не всё же мерить мной! Кто ты сам по себе? Музыкант? Не слишком, хотя и можешь что-нибудь забацать. Поэт? Несомненно. Ты поэт. Не пишущий. Маша, вот мой друг, поэт, владелец практически собственного бизнеса, прекрасный сын, внук и товарищ!
Маша оглядела его с любопытством (И эта туда же! И этой «вихря» надо! – догадался Иван), вывернула запястье из Костиных пальцев и, ни слова не говоря, ушла. Что до Кости – Ивану хотелось умыть его чем-нибудь. Просто за шиворот бы ему насыпать снегу! Но снега не было, и он простил.
– Так вот! – продолжил Костя свой прерванный монолог. – Допустим, порядок в детской наведён! Нефть кончилась, войны отыграны, добрые роботы насадили леса. Человек сыт, здоров и практически вечен. Как ему выжить в благополучии? Я считаю – человечество первым делом постарается себя тотально проантидепрессировать! Жизнь без хандры как залог благоденствия. Читайте фантастику! И тогда все наши с вами плоды страданий – поэзия, музыка – умрут вместе с тоской. Их нишу займут бестрепетные занятия – домашняя генетика, например. Человек будет сидеть дома и конструировать какое-нибудь растение или насекомое. Наборы для творчества – в любом супермаркете, и там ещё на коробочках картинка – что должно получиться. «Лего» как прообраз искусства будущего!
– Ерунду говоришь, – спокойно возразил Женя. – Даже если с детского сада глушить в человеке тоску по раю – всё равно кого-нибудь да прорвёт. И будет новая эпоха возрождения, и музы, и тоска. Опять же – читайте фантастику.
– Погодите! – удивился Иван. – Вы что, это всё всерьёз?
– Женьк! Расскажи ему про скалы! – крикнул Костя.
– Про скалы? – с сомнением переспросил Женя, и вдруг решительно обернулся к Ивану. – Мой брат Пашка, ну, то есть, Фолькер! Он однажды поспорил со своим компаньоном – настанет ли в истории человечества день, когда никто не будет любить Бетховена? И у них в связи с этим была дуэль на скалах!
Иван представил себе двух мультяшных исполинов, швыряющихся друг в друга горами, и улыбнулся.
– Ничего смешного! – крикнул Костя. – Это старинная шотландская дуэль! Два человека лезут на скалу, кто сорвётся – тот проиграл. Они специально на Кавказ летали!
– Фолькер в юности хотел быть альпинистом-спасателем, – объяснил Женя. – Жил в альплагерях. Кстати, этот «ник» у него с тех самых пор. Он там вытащил одного немецкого экстремала буквально из пропасти. И тот подарил ему своё имя. Так и сказал: мол, дарю на удачу! Вам это, может, странно…
– Да нет, – улыбнулся Иван. – Хорошо. Мне нравится.
– Ну и вот, – продолжал Женя. – А потом его прошибло осознание, что быть альпинистом – это далеко от реальности.
– Жень, а ты кем хотел быть? – вдруг спросил Иван. – Пока тебя не «прошибло осознание»?
– Я хотел, как мама, врачом, – невозмутимо отозвался Женя. – Но мы с Пашкой взвесили и поняли, что это будет не максимальное применение. Я смогу стартовать быстрее и сделать больше, если стану журналистом.
– Теперь понятно, – кивнул Иван.
Женя хотел ещё что-то сказать, но тут в кармане у него запел мобильный. Он взглянул на номер и отступил на пару шагов, поговорить.
– Ну как? – зашептал Костя. – Понял, что за люди! Это тебе не с бабушкой чаи распивать!
Порыв ветра качнул деревья у института, срывая высохшую, бумажную как будто листву.
– Ничего себе задувает! – сказал Иван, взглядывая на мутное небо. В нём не было пока что ни облачка – только горькое молоко дыма. – Наверно, будет циклон. Прибьёт эту муть к земле.
– Да оставь ты свои циклоны! – шёпотом завопил Костя. – Тебя с людьми знакомят, которые, может, целое поколение вытянут из пустоты, а ты насмехаешься!
– Я не насмехаюсь, – сказал Иван. – Я ничего этого не понимаю, Костя. Ни дуэлей на скалах, ни «максимального применения»… – Он посмотрел на Костю, потом на Женю, прижавшего к уху трубку, на группки ребят в вихрах сигаретного дыма. Не то чтобы старым показался он себе среди них, но как будто вне возраста – вне молодости, вне зрелости.
И снова утешительно ему подумалось о приблизившейся непогоде, а там – и о скорой зиме. Как красиво она ляжет на улицы! Но главное, зимой вернётся мама. Старомосковским шагом пройдутся они по белым рекам тротуаров. Жалко, в Москве редко встретишь теперь «белую реку», разве на этой вот улице, слишком старой и хрупкой, чтобы чистить её машинами или доверять гастарбайтерам. Её чистит русский ленивый дворник…
Иван взглянул на вернувшегося Женю, и его мечта оборвалась.
– Никто не хочет поработать в Германии? – произнёс тот озабоченно. – Срочно нужен человек в распределитель для беженцев. Там проживают семьи, желающие получить немецкое гражданство, – объяснил он. – Среди них россияне с Кавказа.
– Что же, они у себя не могут найти сотрудника? – удивился Иван. Но Женя не успел ответить, потому что Костя перебил его воплями, яростно рекомендуя на должность себя.
«Нет, все-таки, поскорее бы зиму», – подумал Иван. Ему захотелось проститься.
– Как вы относитесь к велосипеду? – спросил он у Жени. – По бережку, по горкам?
– Относится, относится! – крикнул за Женю Костя. – У них два горных велика классных! А у Фолькера вообще дельтаплан! Дельтаплан – это вам не велик! Правда, тут, конечно, вопрос – откуда планировать и куда?
– Приезжайте к нам на канал с велосипедами, – протянув Жене руку, сказал Иван. – У нас там такие горки прекрасные – костей не соберешь! Я всех зову – никто не едет.
– Да я знаю. Мы же с вами по реке почти соседи! – отозвался Женя. – Вы извините меня, что я вас тут грузил, – и он сердечно пожал Ивану руку.Добравшись до дома, Иван действительно вывез из гаража свой велик, потому что не знал, как иначе избыть эмоцию встречи.
День был сухой и дымный, листья хрустели. Их хотелось погладить, поворошить, как собачью шкуру. Иван за то и любил свой велосипед, что он соединял его с прибрежными лесочками, со всей природой и погодой ближнего Подмосковья.
Намотавшись по горкам, он съехал на подмерзающий пляж, сел на корточки и опустил в воду руку. В медленном, словно загустевшем шевелении волны ему послышалась зима. Когда рука замёрзла, Иван поднялся, бесчувственной ладонью сжал руль и покатил домой.
«Везёт же мне – велик, речка! – тихо торжествовал он. – Никакой интернет-ответственности! Спасибо, Господи, что не вводишь во искушение, но избавляешь…»
И всё-таки, катя себе по дорожке домой, он чувствовал в сердце осадок встречи. Тревожный песочек на дне. Как если бы и Женя этот, и легендарный Фолькер, занятый спасением душ из виртуальных бездн мегаполиса, были розыгрышем. Зачем-то прикинулись ребята. А на самом деле они нормальные дети, пьют, снимают квартиру на четверых, в наушниках у них долбит какая-нибудь ерунда и на всё им плевать, на что только можно плюнуть.Вечером Ивану позвонил Костя и сообщил: они с Машей и Женей ждут его у Нескучного сада, чтобы вместе ехать в клуб. Там Фолькер сегодня ночью проводит мероприятие в поддержку своего проекта.
– Давай! Хоть посмотришь! – настойчиво звал Костя. – Ну, действительно, хоть будешь знать!
– Костя, я не хочу, – сказал Иван.
– Что значит, не хочешь? Боишься на жизнь напороться? – набросился Костя.
– Не боюсь. Просто – не хочу, – сказал Иван и, дослушав Костины вопли, повесил трубку.* * *
Утренний ветер не подвёл. В эту ночь к ним в город вошла осень. Иван физически ощутил её вторжение в дом, во все помещения и предметы. Его пробрал озноб. Он ясно понял: можно любить природу в осеннюю пору – оголяющиеся деревья, стынущие реки, пожухший луг, но не саму Осень. Осень враждебна жизни. Ей можно и должно противостоять душевным теплом и личной волей к весне.
«Завтра с бабушкой заварим мяту. Уже пора», – решил Иван и, укрыв себя мыслью о летнем чае, заснул спокойно.
Вхождение осени не было его фантазией. Под утро наплыли тучи. Посыпал дождик и прибил дым к земле. Воздух пропах мокрой сажей, и Ивану сделалось жаль душистого октября своего детства – какого уже много лет не удавалось вдохнуть.
В институт он почти не заходил, и ребят не встречал. Только однажды забежал по звонку научного руководителя – тому потребовалось что-то срочно перевести с немецкого, – и в гардеробе на крючках увидел жёлтое Машино пальтецо.
Костя не звонил. То ли обиделся, а может быть, это «вихрь» так плотно держал его в своей воронке, что даже на миг вырваться, проведать старого друга, не удавалось.
Какое-то время Иван надеялся на скорое возвращение мамы, но она не спешила. И вышло, Иван остался один-одинёшенек в компании своих стариков.
Чтобы как-то противостоять осенней дрёме, он собрался подольше бывать в офисе, задумал проект расширения, и даже обсудил его начерно с коммерческим директором. Но вдруг стало стыдно и скучно.
Тогда, не позволяя себе расходиться, смирив и скуку, и стыд, Иван принялся осваивать гитару. Он открывал ноты на какой-нибудь простенькой фуге Баха, и, уйдя в игру, ощущал, как движение пальцев по струнам успокаивает внутренние весы.
С той же терапевтической целью он взялся за приготовленные заранее книги и начал с Карамзина. Карамзин был читан им когда-то, но весь просыпался через решето памяти. Иван брал с полки один из томов и читал с любого места. Правда, уже минут через десять откладывал и шёл посмотреть в окно.
«Скоро совсем в руки книги не возьму», – догадывался он, но перспектива разучиться читать его не пугала. Вероятно, тогда ещё больше его заинтересует улица, берег Клязьмы, разнообразие погод. Уж погода-то в непрочном мире будет всегда! Вот возьмёт он велосипед и по всяческой милой погоде помчится. Где тут скука?Две недели сыпал дождь, муча бабушкины и дедушкины суставы, а однажды повалил снег, сбил и заморозил листья. В окно Иван видел свою, как туман застоявшуюся по дворовым рощам жизнь: из гаражей выезжали машины, среди них Олина, гружёная сонным Максом; расходились по остановкам пешеходы. А бывало, усилием взгляда он переставал различать подробности улицы, и брал общий план. Настолько общий, что ему становилось видно, как голубая атмосфера умиротворяет горячий ком Земли. Тут мысль о Фолькере, об этой тревожащей душу жизненной альтернативе вылезала на свет, и приходилось бежать от неё под крыло Карамзина и гитары.
«Как же растормошиться?» – гадал Иван, и уже стал подумывать, не сменить ли ему к зиме велосипед на сноуборд? Но тут, как спасение, в Москву с небес свалился Андрюха – его самый старинный друг.
Стартовав от песочницы, они почти четверть века двигались рядышком. Их соединяла привязанность детства и лирический взгляд на жизнь. Но детство далеко, а лирика – нестойкий аромат. Однажды Андрей разослал своё резюме по европейским конторам. Он работал в сфере рекламы, обладал бесценным даром «свежего восприятия», к тому же был человек общительный и подвижный. Для начала его пригласили в Варшаву, затем он штурмовал Копенгаген и оттуда перелетел в Париж. Как он сам признавался в нечастых звонках, жилось ему пусто и суетно.
«Так что ж ты сидишь там!» – досадовал Иван и гадал о причинах невозвращенья: всерьёз ли увлекла его работа? Или затянули любовные приключения? А может, просто климат там веселее? Иван спрашивал своего друга напрямик, но никак не мог отфильтровать из его болтовни весомое. Наконец, скорбное осознание пришло: он разучился дружбе с Андреем.
Заграница ближайших людей обступила Ивана, как вражеский флот, но он был ещё тот «варяг». «Фигушки, сами вы вернётесь…» – ворчал он и никуда не собирался, не покупал билетов, не листал путеводителей. Какое-то осеннее упрямство, солидарность с дождём, охватывали его, он чувствовал, что его дела – дома.Андрей прилетел в среду, на короткую деловую встречу, и следующим днём возвращался в Париж. Встретиться они не успевали, зато Иван был первым, кому Андрей позвонил, приземлившись на московскую землю.
– Мне нужны твои паспортные данные! – потребовал он.
– Это еще зачем? – насторожился Иван.
– Билет тебе хочу забронировать – вот зачем! Завтра со мной полетишь! У тебя Шенген на год – мне Ольга Николаевна сказала. Так что не отвертишься!«А что ещё остается делать? – оправдывался Андрей, пока его друг справлялся со стрессом. – Другого выхода нет! Приходится хватать Ивана за шиворот и заталкивать в самолёт, потому что самостоятельно, без рукоприкладства, тот в столицу Франции, конечно, не переместится!» Отчасти признав правоту Андрея, Иван обдумал положение дел: бабушка с дедушкой находились в полосе хрупкой стабильности. Надо надеяться, за три дня с ними ничего не случится. «К тому же, – подумал он, – из Парижа одним днём можно будет смотаться в Вену, Бэлке отдать “Чемоданова”». И пошёл искать паспорт.
* * *
Андрей поджидал друга у входа в аэропорт. Иван издали улыбнулся его светло-русым волосам, кирпичной кофте и прелестному дорожному саквояжу из жёлтой кожи.
Но улыбка оказалась преждевременной. Они не виделись год, и вскоре Иван со смущением и скорбью признал: Андрей изменился. Черты обострились, с них словно сошёл русский сон. Лицо стало тоньше, взгляд внимательней. Большая мера детства, отпущенная ему, наконец, пошла на убыль. К тому же Иван заметил в Андрее некий дружеский автоматизм – улыбку, кивок.
С такой вот, чуть отстранённой, приветливой миной тот повёл его сквозь кордоны аэропорта.
В самолёте сесть рядом им не удалось – Андрей летел бизнес-классом. Войдя в салон, они со смехом простились. Когда взлёт был завершён, Иван отправился проведать друга, но тот спал. За годы командировок Андрей научился красиво и крепко спать в самолёте. Милая девушка из соседнего ряда разглядывала его профиль.
Со сдавленным сердцем, угнетённый чужиной, заступившей на место дружбы, Иван весь полёт проглядел на облака. И вот уже аэропорт де Голля принимал их в своё великое разнолюдие.
В такси он передохнул – вежливое движение транспорта смягчило впечатление сутолоки, и, может быть, понемногу Иван пригляделся бы к городу, различил бы его ветреную походку и нрав. Но тут Андрей совершил роковую ошибку. «А поехали на бульвары!» – предложил он.
Парижский центр ошеломил Ивана грандиозной массовкой и обилием спецэффектов. Он словно попал в дорогой голливудский фильм. Смерч света, не люди – народы текут по тротуарам, и всё до нитки продано разномастной толпе.
– Андрюх, давай лучше куда-нибудь сядем, – попросил он.
– Как скажешь! – легко согласился тот, и уже через минуту желание Ивана исполнилось.
Чернокожий официант выдвинул столик, и они смогли занять своё место. Зал был забит, но, несмотря на тесноту и обилие ухоженных лиц, будто окурен холодом.
– Довольно-таки привокзально, – заметил Иван. – И холодно. И ничем не пахнет. Просто на пустоту спроецировали картинку. Как ты тут живёшь? Тут ведь и укорениться негде… – он оглядел чужую планету и неожиданно заявил, что будет пить водку.
Андрей не высказал сочувствия его патриотизму. На чистейшем, без акцента, французском он велел принести обоим вина.
– В радости нужно пить вино, и только здешнее, – доверительно объяснил он Ивану. – От него не пьянеешь. Просто тепло. Просто в нашу человеческую кровь примешивается добрая кровь винограда.
Андрей знал о винах всё и надеялся, что однажды судьба сказочным жестом приобщит его к этому жизнелюбивому бизнесу. А пока чуда не произошло, находил удовольствие в том, что есть.
В последний год он отошёл от творческой составляющей своего дела и всё больше проникал в бизнес, узнавал коллег и соперников, вращался… Андрей и вообще стал заметно свободнее, мыслил позитивно, не зацикливался на промахах.
– Плохо, Андрюха, что ты так здорово приспособился к этому гибнущему миру, – сказал Иван, за многоголосьем не замечая издержек стиля.
– Ну а почему гибнущему? – удивился Андрей. – Что тебя так страшит? Повышенный интернационализм? А почему бы Европе не стать мусульманской? Почему бы белому человеку не стать чёрным? Смотри, был первобытно-общинный строй, стал рабовладельческий. Рим вознёсся и пал. Язычников переплавили в христиан. Индейцев истребили. Знаешь, сколько биологических видов каждый день погибает и сколько появляется новых? Это нормально.
– Ваш Париж засыпало, – упрямствовал Иван. – Его потом нужно будет откапывать, как Трою. А это всё – румяна на руинах. Граффити на руинах – вот что это. Тут очень плохо. Тут плоско, холодно. Пошли-ка отсюда! Чёрт, и не выйдешь… Куда не плюнь – везде Париж… – сказал он, оборачиваясь и через головы вездесущих японских туристов поглядывая в окно.
– А ты всё хочешь на Бейкер-Стрит, к миссис Хадсон? – посмеялся Андрей. – Вот такая тебе Европа нужна, да? Тебя, мой друг, подвёл советский кинематограф!
Допив вино, они вышли на вечерний бульвар. У Андрея на ночь была заготовлена обширная программа. Ещё из аэропорта он звонил друзьям и обещал быть с московским гостем – там-то и там-то, а после полуночи – где-то ещё. Иван понимал: надо поучаствовать если не из любопытства, то хотя бы из вежливости. Но отчего-то ему не хотелось быть вежливым с Андрюхой. Ему хотелось быть с ним честным. «Я не хочу, – сказал он. – Пошли домой. Просто посидим, поговорим».
– Ты оцениваешь город не включая сердца, – дорогой пенял ему Андрей, раздосадованный поломкой планов. – Тебе тут грязно! Тебе тут плоско! А ведь здесь есть влюблённые, есть маленькие дети, дружба, и всё это наложено на гигантский культурный пласт – извини, если тебе не заметно! Ты просто видишь рекламную наклейку и принимаешь её за суть. Тут даже спорить не о чем! Вот пошёл бы – я бы тебя познакомил с нормальными людьми, открытыми, творческими и без этого вашего московского пафоса – кто круче. Если честно, я вообще не понимаю, чем вызван твой шок. У вас в центре всё то же, только больше хамства.
– Да, – согласился Иван. – Но с нашей Тверской хотя бы можно быстро добраться до дому.
– Так а мы что делаем? – возмутился Андрей, впрочем, тут же вернул себе бодрость духа. – Ладно, – толкнул он Ивана в плечо, – домой – так домой!
Андрей снимал квартиру в старом доме со скрипучим лифтом. От его деревянных стен пахло кофе и сухофруктами. К тому же, кабина была малогабаритна – в такой не поместится офисная толпа. «А вот лифт у вас хороший. Мне нравится!» – оценил Иван.
В квартире у Андрея было чисто и не по-домашнему. Иван зашёл туда, как в отель. Ему досталась комната с балконом, и сразу Андрюха притащил «в номер» бутылку вина, бокалы и ноутбук.
Он собирался в подробностях и с иллюстрациями открыть Ивану свою жизнь – это сверкающее чудовище без единого угла тишины.
Вина Иван не коснулся, а вот фотографии в компьютере его увлекли. На них были запечатлены мероприятия, в которых участвовал его друг – рабочие поездки, презентации, пикники, вечеринки, путешествия.
Объектами съёмки являлись, соответственно, города, небоскрёбы, конференц-залы, лавандовые поля, моря и пустыни, машины, велосипеды, парусники, фуникулёры, и главное, друзья – люди, рядом с которыми Андрей казался так же добр и открыт, как некогда с Иваном на дачной поляне их детства.
Среди снимков попадались целые портретные серии. «Видишь, как я поднаторел! Я фотограф уже почти!» – хвастал Андрей и подолгу держал каждый кадр, давая Ивану возможность вглядеться в лица.
– А девушки, это что, всё твои невесты? – полюбопытствовал Иван.
– Некоторые мои, – признал Андрей. – А некоторые – не мои.
– А старики чьи?
– Старики, в основном, ничьи. Просто местные. Этот из Марокко – торговец мятой! Он нам чай заваривал, прямо на возу.
О каждом герое у Андрея наготове была история. Он охотно рассказывал – кто и откуда, чем живёт, как познакомились.
Вскоре Иван почувствовал: горечь за приспособившегося друга уходит. Андрюха оказался молодец и во многом по-человечески его превзошёл. Лучше знал людей, меньше требовал от них. Какая-то новая доброта появилась в нём. Он говорил о своих приятелях и приятельницах, как о сиротах, о неустроенных детях, с которыми ему довелось делить дорогу и хлеб.
На одной из фотографий Иван застрял: там мальчишка вроде Кости стоял на валуне и смотрел на стену гигантского водопада, в его пронизанный радугой солнечно-синий дым.
Отчего-то ему подумалось, что и Андрей, и Костя со своей новой компанией, и может быть даже институтские культурологи – все имеют право видеть этот небывалый водопад, потому что они – молодцы, они работают и движут корабль цивилизации, стирают границы и давно уже образовали единый прогрессивный Народ. Тогда как ему, Ивану, водопад не полагается. Он не прогрессивен. Он, скорее уж, сродни торговцу мятой, что сидит целый день под сухим небом родины. В чём его доблесть? Разве только в том, что верен своей мяте, ослу и повозке…
– Это в Аргентине, – прокомментировал снимок Андрей, и вдруг, увидев полный бокал Ивана, возмутился, – стоп! Ты почему не пьёшь? Ну-ка, пей давай! Ты знаешь, на кого похож? На холодильник! Ничего тёплого тебе нельзя доверить!
Иван взял бокал из его рук, как кружку молока, и с неожиданной покорностью выпил.
И раскачалась, пошла понемногу беседа.
– Ты понимаешь, – с удивлением произнёс Иван, – я только что догадался: оказывается, все в море! Я один на берегу.
– Ну так заходи! Ложись на волну! – смеялся Андрей. – Существует скорость потока. Нужно совпасть с ней, и тогда будет легко.
– Чтобы двигаться со скоростью потока, я должен понимать, куда меня этот поток несёт, и почему мне туда надо, – возражал Иван. – Андрюх, вот ты знаешь, куда тебе надо? Или хотя бы, чего ты хочешь?
– Конечно! – отвечал Андрей. – Я хочу быть здоровым, богатым, жить в счастливом месте и всячески утолять жажду общения с себе подобными. Хочу, разумеется, быть полезным, чувствовать командный дух…
Он замолк, поглядев на Ивана, и вдруг возмутился:
– Да что вообще происходит? Стоишь передо мной, как совесть! Что не так, можешь ты объяснить?
– Да всё не так! – сказал Иван от чистого сердца. – Первое – это что ты здесь. Второе – что ты не бываешь сам с собой, а всё время с кем-то. Вы шикарно запудрили себе мозги! Все со всеми дружат! Все со всеми сотрудничают! Здрасьте, я воздушный шарик, прилетел из Дании! Здрасьте, я воздушный шарик, прилетел из России! Но я-то знаю тебя, ты не шарик! Я помню о тебе другое!
После вина Иван произносил свои слова горячо и с удовольствием. Ему казалось, он разрубает асфальт. Еще немного – и в разломах проглянет травка.
Андрей растерялся. Он помолчал, а потом сказал:
– Ну и, слава Богу. Хоть кто-то обо мне помнит другое!
Вздохнув, он принялся закрывать «окна» на экране компьютера. Из балконной двери пахло тёплой осенней улицей. Внизу, среди гулких стен, кто-то смеялся рассыпчатым смехом. Вдруг Андрей оставил «мышку» и взглянул на Ивана.
– А между прочим, – произнёс он напряженным голосом, – я ведь давно хотел тебе рассказать! Мы были во Франкфурте на ярмарке, и мне там попался роскошно изданный Жюль Верн. Вот я держу этого Жюль Верна, листаю картиночки, и вдруг понимаю, чего я всю жизнь хотел! Я всю жизнь, всё детство хотел, чтобы мы отправились куда-нибудь на поиски капитана Гранта. Я бы спас тебя от индейцев, ты бы вытащил меня из пропасти. И пусть там ещё будут прекрасные женщины, на которых мы женимся после победы! Понимаешь, – прибавил он, – всё, что было после детства, оказалось полной ерундой – ничего настоящего. Вот так! – и Андрей захлопнул ноутбук.
Иван был сражён. «Ничего себе!» – подумал он с умилением и немедленно поднял тост.
– Так значит, всё не так плохо! – сказал он, ощущая прилив самой искренней радости. – В связи с этим хочу тебе пожелать, чтобы мы отправились на поиски и ты спас меня от индейцев, и чтобы там ещё были прекрасные женщины, на которых ты женишься, когда я вытащу тебя из пропасти! Пусть это начнёт сбываться с завтрашнего дня!
– Спасибо, Д`Артаньян! Но с завтрашнего вряд ли, – возразил Андрей. – А вот послезавтра мы летим на Гозо. У партнёров презентация. Вот тогда и пускай.
– Отлично! С послезавтрашнего! – принял поправку Иван. – А Гозо – это где? – И, не дожидаясь ответа, залпом выпил за счастье друга.В половине третьего, выйдя на балкон разогнать винный дым, Иван увидел узкую улицу и синий луч с Эйфелевой башни, гуляющий по небу, как военный прожектор. В квартире напротив горел ночной свет, похожий на свет свечи. Иван различил уютную гостиную, кабинет, гардеробную. Пока он смотрел, чьи-то ноги в пижаме проследовали из одного конца квартиры в другой. Иван улыбнулся их сонному шагу.
И следующий день начал по-московски – рано встал и на балконе, подрагивая от утреннего ветерка, пил кофе. Отсюда ему было видно, как просыпаются парижане. Из дома напротив вышел респектабельный господин и, споткнувшись перед собачьей кучкой, сменил полосу движения. «Ноги в пижаме!» – догадался Иван.
Тут в гостиной грянул «будильник» – Андрей имел обыкновение ставить свою аудиосистему на таймер и пробуждаться под энергичный поп-рок. На этот раз музыка оборвалась быстро, и уже через минуту Андрей вышел к нему на балкон – улыбающийся, какой-то потерянный.
– Ну и сон! – сказал он, удивлённо качая головой. – Это ты виноват! Понавёз мне лирики! Представляешь, мне приснилось, что у меня есть лодка! Такая – самая обыкновенная, стоит себе в камышах. А я почему-то не могу на ней плавать. Протекает она что ли? И вот я сижу на бережку, в этих камышах – и любуюсь ею, и так её люблю, буквально, как человека! И хочу остаться. Просто решаю, что буду тут на берегу жить – чтоб её видеть. Потом какая-то палатка рядом со мной появилась, какой-то термос… Но это уже ерунда, – заключил он и растерянный, прежний – каким его знал Иван, поехал на работу.«Вот счастливчик! – подумал Иван, закрыв за Андреем дверь. – Сны ему снятся, про лодку!..»
И в безвольной пустоте, не решаясь отправиться на прогулку, вернулся на свой балкон. Дневная суета парижской улицы всем своим деятельным оптимизмом преподносила ему упрёк. Сперва Ивана укорил выходец из Африки, жизнерадостно громыхнувший железной тачкой, затем – подростки, вздумавшие целоваться прямо под балконом, наконец – выползшая из подъезда старуха с клюкой, в элегантном пальто, с золотыми кудряшками из-под шляпки.
С невнятной тревогой любовался Иван чужим превосходством. Что не так? Почему он безволен? В чём виноват?
И вдруг его прострелило, да что там – смело ядром! Он не взял «Чемоданова»! Учебник остался лежать на столе, вместе с Гомером и Карамзиным.
Ах, если б он его взял!
Иван вцепился в перила балкона, как будто ненароком его могло сдуть из Парижа в Вену. Нет, ехать к Бэлке без «Чемоданова» нельзя – это всё равно, что ехать без билета. Ну а если бы имелся билет? «Хорошо, – взялся он рассуждать, – вот я приехал. С “Чемодановым” или без. Что я, стану звонить, мол, привёз, или не привёз “Чемоданова”? Бездарность и навязчивость! Уж если встречаться – то вдруг. Чтобы никто потом не чувствовал себя виноватым. Как только образовать это “вдруг” посередине Вены?
Самое простое – разыскать кафе, где она могла бы обедать». Иван знал одно подходящее, на Ринге, недалеко от университета. Они как-то были там с мамой – через широченное окно, обдавая паркет водой света, заливалась весна… «Бэлка, конечно, заходит сюда – ведь не может она пропустить такую большую, щедрую на солнце витрину! За один из уютных отполированных столов она садится, вытряхивает из сумки материалы к лекции – Бэлка учит австрийцев русскому. Её лицо нежно и строго. Она не из тех дур, у кого вместо чести – «женское сердце». Бэлка – человек. Отважный, но хрупкий. Может разбить сто врагов своего брата или друга, или сто гонителей дворовой собаки – и погибнуть от единственной пошлой усмешки. Бэлка – как японское трёхстишье, умирает при столкновении с нечуткостью. Человек без слуха обращает её красоту в пыль, даже не заметив содеянного…»
Так возвышенно думал Иван, пока не осознал простого препятствия. Ну а если в тот день она не пойдёт обедать? Или пойдёт – но в другое место?
«Ну что же… – рассуждал он, в шутку вроде бы, но и всерьёз. – Тогда придётся встать на весеннем Ринге, напротив университета, и заорать. Какой-нибудь студент или коллега непременно ей передаст: стоял де посреди улицы на ручьях дурак в тёплой куртке, звал Бэллу Александровну. Не вас?
Тут уж она встрепенётся, полетит и сама его разыщет. “Вена – такой город, – как-то жаловалась Ивану мама, – тесный. Если кого тебе надо встретить, или, хуже, не надо – непременно наткнёшься”.
Ну а если не удастся наткнуться – можно оставить записку! – улыбался Иван и не видел уже под балконом никакого Парижа. “Здравствуй, Бэлла! Это я, приезжал специально, чтобы случайно тебя встретить”.
А что? Купить кофе в железной банке, вытряхнуть, и банку с письмом зарыть под её балконом. Конечно, если у неё есть балкон. Или ещё лучше. Купить местного молодого вина, выпить, бутылку с письмом залить сургучом (подумаем ещё, где добыть) и пустить в Дунайский канал. Или найти дупло – мало ли в Вене парков? Конечно, Бэлла Александровна вряд ли полезет на дерево, но нам-то этого и не надо. Нам бы просто – написать и оставить. Вот напишет он и пойдёт по душистым улицам в поисках подходящего тайника. Такого, чтобы письмо, во-первых, не вымокло, во-вторых, не было найдено посторонним, в-третьих, ни в коем случае не было найдено Бэллой Александровной, и, в-четвёртых – непременно было найдено ею при участии чуда».
Подспудная вера в чудо являлась главной причиной, не дававшей Ивану жить и действовать в полную силу. «Потому что о чём беспокоиться? Коли судьба – чудо постарается за него. А нет судьбы – проживёт, как написано на роду. Если же на роду ему написано жить скучно, трудно – значит, это и есть для него самое полезное упражнение…»Так раздумывал Иван, стоя на парижском балкончике своего друга, ничего не предпринимая, никуда не собираясь бежать. И, намечтавшись всласть, успокоился. «Не взял “Чемоданова” – и ладно! – вдруг ясно понял он. – А в чём виноват – так это в том, что людей о своей убогости надо предупреждать заранее. Раз не можешь для одного бросить всех – то и не затевай!»
В то утро Иван пошёл на набережную и долго смотрел на дурацкий колпак Лувра. Казалось, от его кривых труб к небу протянуты нити. История Франции дымом висела над дворцом. От набережной Иван направился куда глаза глядят, не разбирая сторон, и вскоре город открыл ему свои книжные лавки, тихие садики и тепло октября. Они помирились.
Иван словно бы преодолел всемирный гул Парижа, найдя в нём уют старинной московской прогулки. Андрей освободился рано. Как по летнему Тверскому бульвару, пошли они с ним будто бы мимо МХАТа, мимо нотного магазина, и вышли – к Гранд Опера. И хотя о важном не говорили, были снова близкие люди.
Даже с тесными кафе примирился Иван. Они не нравились ему, как детям с чистым вкусом не нравятся кулинарные изыски, но теперь он признавал их уместность. Кафе были фоном – как всё в этом городе. Сам Париж оказался прекрасной фоновой музыкой.
Фон жизни, который в отсутствие сердцевины выходит на первый план и становится самой жизнью – этот образ был его сувениром из самого сувенирного города.На следующий день они вместе поехали в аэропорт. Андрей улетал на таинственный остров Гозо. Его рейс объявили первым. А потом настал черёд Ивана.
Тёплый, мокрый город, безвкусно украшенный, проданный, раздавленный туристами на глазах у родных, покачался под крыльями и ушёл за облака. В Москву, в Москву!
В дороге Иван предавался раскаянию. Всё в нём ныло и боялось, что Андрей надолго застрянет в своей Франции, и придётся порознь отбывать жизни. Минует ещё сколько-то времени – и уже не спасёт ни вино, ни общее детство. Всё у них будет врозь. И этот ужасный грех уж конечно не пройдет им даром. Пустить на самотёк такую дружбу, данную, как талант!..
Даже вид родной осенней дороги из Шереметьево не заглушил раскаяния. В гуле вины, не чуя ног, Иван прошёл по слякотному двору и у подъезда очнулся. «Ничего, – решил он строго, – мы это всё починим. Буду звонить. Ещё приеду…» И хотя меры показались ему натянутыми, сомневаться в них он себе запретил. Исправим – значит исправим!
Так он думал о своём друге, а о Бэлке – зажмурился и не думал совсем. Только дома, на бабушкин вопрос – как съездил? – ответил странно:
– В Париже очень людно, – сказал он и, помолчав, прибавил. – А в Вене была весна!Через неделю ему позвонил Андрей. По непонятной причине он всё еще был на Гозо.
– Не могу объяснить тебе, что происходит! – смеялся он. – Ты понимаешь, тут есть кондитерская. Как тебе сказать? Я думаю, вот это всё – моё. Апельсины, камни… а когда из пещеры тебя выплёскивает – ты буквально Одиссей!
– Какая кондитерская? Ты что, перезагорал? – спросил Иван.
– Почему перезагорал! – возразил Андрей. – Просто делюсь с тобой! Просто не хочу отсюда уезжать – и всё. А главное, ты понимаешь, сон! Сон мой помнишь?
– В лодку влюбился? – спросил Иван.
– Да! – подтвердил Андрей. – Да, да!
«Ну вот, – повесив трубку, сказал сам себе Иван. – Он влюбился! А у тебя гитара и “Чемоданов” – кушай!»* * *
Иван был прав. Ничего интересного, кроме погоды – ветра, дождя, заморозков и потепления, в ближайшие дни с ним не случилось. Правда, в последнюю ноябрьскую пятницу, под вечер, произошло событие – забежал Костя. Они не виделись около месяца, и Иван едва узнал своё чадо.
В распахнутом пальто поверх ничтожной футболки, с «этюдником» под мышкой Костя ввалился к нему. Лоб его взмок, руки закоченели. Наступающей зимы он не видел.
– У меня нет времени! – заявил он в ответ на приглашение Ивана войти, и остался стоять на пороге. – Я так забежал – посмотреть на тебя. Жизнь пошла, понимаешь? Вот я и думаю – неужели ты всё сидишь? Может, тебя уже сдуло куда-нибудь? Слушай, я голодный, как зверь! Есть у тебя еда? Дай хоть бутерброд!
Иван принёс ему пару бутербродов с ветчиной, огурец и холодную картофелину в мундире.
– Может, всё-таки пройдёшь?
Костя мотнул головой и выхватил у него из рук тарелку.
– Я вчера, по-моему, вообще не ел. Забываю! – сказал он, принимаясь за бутерброд. – Ох, как же хорошо! Хорошо у тебя! Лучшее время в жизни!
Иван с улыбкой наблюдал за Костиной трапезой. «Не стоит пугаться заранее, – думал он. – Поведение талантливого ребёнка в восемнадцать лет вполне может выглядеть глупо. Спешка, еда в коридоре, восторженные реплики. Может быть, так и положено человеку выплавляться из бесформенной юности».
Еда возымела на Костю доброе действие. Вернув Ивану тарелку, он потянулся, потёр глаза – как будто только что встал, и решил изменить свои планы.
– А вообще, куда я спешу? – сказал он. – Я хотел к Женьке. Ну да Бог с ним, правда ведь?
Не сняв ни пальто, ни ботинок, он прошёл на кухню и сел к столу.
– Да! У меня куча времени! – окончательно решил он. – Я тебе сейчас всё расскажу, все мои последние впечатления. Хочешь? У тебя есть листочек? Стой, у меня есть! – и, выхватив из «этюдника» тетрадку, принялся чертить.
– Это что? – спросил Иван, присаживаясь напротив.
– Это дом Фолькера! – ответил Костя. – Если отсюда идти вдоль реки на Москву – ты в него почти упрёшься. Он тут, кстати, тоже на велике шастает! Ему доктор велел – от перегрева «крыши». А дом у него такой коричневый, и зелёная черепица. Ты если доедешь до него – узнаешь. Так, мрачновато, но после того, как они его отговорили – все довольны. Ты представляешь, он хотел покрасить дом в чёрное с золотом! – сообщил Костя, продолжая чертить. – Смотри, вот это, возле дома – ангар для вертолёта, но самого вертолёта пока что нет. Там дельтаплан пока. Зато есть катер. Фолькер его отдал Женьке в пользование. Господи, такая куча денег у людей! Ладно, я в это не вникаю… Вот смотри теперь, что внутри.
Иван взглянул без охоты на Костин чертёжик.
– В середине дома, видишь, такой круглый – это Центр управления полётом. ЦУП. Ясно?
– Да чего ж неясного! – улыбнулся Иван. – Всё понятно. Центр управления полетом планеты Земля. Капитан Фолькер.
– ЦУП, – с увлечением продолжал Костя, – Это такая комната с компьютерами. На стене большой экран. Ну, там ещё электронная карта мира и холодильник. Окон нету, но зато в потолке – большое стекло, через него видно небо. Говорят, зимой, как снег, они его веником чистят. Под куполом такой небольшой капитанский мостик, и телескоп. И главное, в подвале – музыкальная студия! Фолькер ведь создал рок-группу! Он и раньше песни писал, в альплагере, а теперь вообще! Женька говорит, попасть к нему в студию – дикая честь. Вот что за человек – за всё берётся, ничего не боится! Его только глючит иногда – что нельзя обнять мир. У него жажда власти наслоилась на доброе социальное чувство.
– Значит, трудно ему, – не без сострадания произнёс Иван.
– Да! Таковы издержки производства, – согласился Костя и, скинув пальто, зашагал по кухне. – Иван, чем мне их подкупить? У меня неоспоримые способности – и ноль навыков, ноль кругозора. Что я могу? – Тут он снова схватил свою сумку и вывалил на стол содержимое. – Я у Гёте вычитал… – сказал он, листая книжечку. – Не найду сейчас, но смысл такой: несчастлив тот, кто забрасывает, что умеет, и берётся за то, чего не умеет! Область моих умений – болтовня и горячая кровь! Значит, мне следует завоёвывать Фолькера болтовнёй и кровью! Согласись, для его дела – ведь это то, что надо!
– Ты не мог бы мне объяснить, – терпеливо спросил Иван. – Для чего тебе завоевывать Фолькера?
– Мог бы! – уверенно сказал Костя, – Я как раз над этим думал! Как раз старался трезво сообразить: почему мне так хочется зацепиться за их компанию? Что это – жажда самоутвердиться? Жажда соответствовать эпохе, быть на передовой? Может быть, но это только сопутствующие страсти. Есть кое-что поважнее! – и Костя с улыбкой выдержал паузу. – Я хочу проверить тебя на мудрость! Догадайся!
– Да не собираюсь я гадать! – возмутился Иван. – Рожна тебе надо!
– Ну конечно! – завопил Костя. – Именно рожна! Опыта! Активное участие в их интернет-дурдоме даст мне гигантский опыт! Я узнаю массу разных людей – от героев до бомжей! Всех! Поборюсь, проиграю, выиграю! Моя задача – нагрести опыта всеми способами, и как можно скорее. Мне надо срочно стать мудрым! Пока не ушёл молодой задор! Тогда, если сложить юность и мудрость, можно создать великое!
– Они не сложатся, – сказал Иван. – Или дудочка, или кувшинчик.
– Ну, хорошо! – согласился Костя. – Пусть не сейчас. Но когда-нибудь я всё равно создам такое – ты ахнешь!
– Я не доживу, – сказал Иван.
– Доживёшь – ты же не можешь бросить меня! Я – твой крест! Ты должен меня хвалить, загораться, верить насмерть! Кроме тебя некому! Все остальные стопроцентно ангажированы сами собой.
Ивану было и лестно, и горько.
– Ты сорвёшься и больно шлёпнешься, – сказал он.
– А я и хочу! – закивал Костя. – В срывах – топливо для победы! Там, на дне, такие гигантские месторождения опыта! А пока что мне просто надо к Фолькеру. Просто надо ему доказать свою творческую состоятельность.
Иван смотрел на него, подперев рукой голову. Он старался представить себя на месте Кости, влезть в его шкуру. Там было колко, мокро и сильно дуло. Сплошное, неиссякаемое неудобство!
– Знаешь что! – вдруг встрепенулся Костя. – Вот я смотрю и не знаю – уважаю ли я тебя? Раньше уважал – это да, точно. А теперь? Спроси меня – я не скажу. Ведь ты – заросший пруд! Не знаю – можно ли уважать такую «экосистему»? И это не только с тобой, это во всём – ничего не могу оценить, просто крушение координат! У меня такое чувство, мне под компас кто-то кладёт магнит, а потом вынимает, а потом опять кладёт. Не пойму – ты вообще мне кто? Почему я тебя слушаю?
Иван сидел напротив, всё так же подперев голову, но смотрел уже не на Костю, а в сторону окна, на свой гераневый лес. Там, во влажной земле, под кроной ветвистого, цветущего розовым «дуба», завёлся жучок, похожий на божью коровку, только темнее. Хорошо ли ему жилось, или только вынужденно он довольствовался пристанищем?
– Ладно, пора лететь! – поднялся Костя. – Проводишь меня? – он вышел в прихожую и надел пальто. – Я могу не извиняться? Ну, что я редко захожу и всё такое? Понимаешь, я – не ты. Я буду жить в кровь. Раз есть жизнь – буду жить её. Мы с тобой на пенсии перекурим.
– На том свете, – уточнил Иван и тоже оделся.
Он спустился с Костей во двор, в тёмный ноябрьский вечер. Дул косой колючий дождик, холодало, и уже треснула под ногой стянувшая лужу льдинка.
– Смотри, какая славная жизнь, – произнёс Костя. – Прощаюсь с тобой, и не знаю – на день или на год? Бывало у тебя такое?
– Нет, – покачал головой Иван. – Я всегда навещал своих регулярно.
Дыша бензинной слякотью, они направились в сторону улицы.
– А вон твоя подруга! – неприязненно кивнул Костя.
Действительно, к гаражам за детской площадкой подъехала Оля, выгрузила из машины на лавочку пакеты с продуктами и теперь стояла, покуривая. Вид её выражал независимость, но всё равно было ясно – она заняла очередь на Ивана.
– Ладно, я буду держать тебя в курсе! – сказал Костя, сжав руку Ивана, и задушевно, по-русски, расцеловал его в щеки. – Ты уж болей за меня! – добавил он и быстро ушёл.
Иван дождался, пока скроется Костя, и двинулся навстречу Оле.
– Привет! – сказал он, остановившись чуть поодаль.
– Чего это он, не в духе? – спросила Оля, кивая вслед ушедшему Косте.
– Да вот, хочет опыта, – отозвался Иван. – Не знаю, надо ли как-то его притормаживать? Или пускай?
– Не надоело тебе? – сказала Оля и, приблизившись, заклубила Ивана сигаретой. – Работаешь бесплатным психологом, небось ещё и сам ему подкидываешь. Да? На мороженое. Интересно, он хоть раз спросил тебя, как ты? Спорим, что нет!
– А ты хоть раз спросила меня, как я? – вдруг развеселившись, подзадорил её Иван.
– Я – другое дело! Я давно и честно тебе объявила, что закрываю все размышления о посторонних, потому что у меня трудная жизнь, – отшвырнула Оля. – И если ты будешь меня упрекать…
– Я не буду, – немедленно возразил Иван. – Ты сама понимаешь – что я без вас? Я просто хотел сказать, что и Костю не стоит упрекать.
– Действительно – что ты без нас? Ничего-то у тебя нет! – с неожиданным сочувствием признала Оля. – Вот я смотрю на тебя и думаю – ну что я упёрлась? Ты же меня звал к вам в фирму – на телефон. Вот пошла бы! Была бы свободна, дома. Выспалась бы, подобрела, смирилась со своим зависимым положением. Вообще бы смирилась… Может, тогда и на меня перекинется твоё везение? Знаешь, как такой полезный микроб. Заражусь лафой и буду счастлива! И ты будешь рад, что исполнил свой долг человеколюбия. Вон, ты же рад, что твой Костя тебя тиранит!
Ещё пару минут они побыли на колком ветру. Оля докурила, Иван подхватил её пакеты, и они пошли к подъезду.
По дороге он рассказал Оле о своей недавней поездке к Андрею – о том, что его друг изменился – внешнее в нём разошлось с внутренним, тогда как раньше было едино. А он, Иван, ленится, за переменами не следит – так можно и вовсе потерять человека из виду! Он хотел рассказать ей и о Жюле Верне, и о сне, и о нелепом звонке с острова Гозо, но что-то в нём воспротивилось.
– Ты понимаешь, – сказала Оля, когда Иван умолк. – Я трезвый, реалистичный человек, отвечающий за себя и за ребенка. Мне нет никакого смысла слушать басни о твоих друзьях. Мне бы самой перекантоваться. Не обижайся! – И заключила фразу не содержащей улыбки растяжкой губ.
«В следующий раз, – решил Иван, таща к подъезду Олины пакеты, – я скажу ей, что она выставляет перед собой свои трудности, как щит с шипами, и ещё удивляется, почему к ней никак не пробьётся счастье. Скажу обязательно. Но не сегодня».
У подъезда он посмотрел на куст волчьих ягод. На засыпающих ветках держалось несколько ржавых листьев. Их облетевшими братьями, как старыми медяками, была усыпана земля под кустом. «Скоро промёрзнет совсем», – подумал Иван, с удовольствием предвидя зимний покой растений.
А дома, взявшись убирать со стола посуду, поднял взгляд и увидел снег – он мягко падал мимо окна, спокойный, состоящий из склеенных по нескольку штук неторопливых снежинок. Иван прочёл его, как заповедь. Это был рецепт душевного мира, не передаваемый словами – только снегом. Каких-нибудь пять минут назад он стоял во дворе, в сырой ветреной слякоти. И вот теперь – такая тишина, и он, Иван, в согласии с нею! Можно даже сказать, они – взаимный портрет друг друга.
Иван полюбовался ещё и вдруг почувствовал вину. «Всё-таки, поэзия отбирает человека у человека. Вот он, Иван, стоит себе, понимает снег, а Костю наизнанку крутит от всяческой жажды. И Андрей потерян, потому что ему некого спасать от индейцев. И Бэлла в весенней Вене одна. И на Оле от одиночества выросло семь драконьих шкур. А у бабушки с дедушкой другая проблема – жизнь подходит к концу. А он стоит себе, понимает снег. Чем он поможет им всем со своим снегом?»На следующий день снег не растаял, но утратил былую божественность. Сошедши на землю, он подвергся земной судьбе – чьи-то ноги потоптали его, поклевала ворона. Зато к вечеру напорошило ещё. «Ну вот, – с облегчением сказал сам себе Иван, – ты и пролетел свою осень».
* * *
На этот раз он действительно опасался осени зря. Лампы, летняя мята и мёд, ноты и книги – всё это оказалось не таким уж насущным. Иван перевёл часы и легко, без тревог двинулся в тёмное время года.
Днями своими он по-прежнему распоряжался свободно – без предварительных договорённостей, ничего не планировал, плыл, как придётся. При этом смело пренебрегал всеми современными методами жизненной навигации, оставив себе одну совесть.
Из крупных дел у него имелась вторая глава научной работы. И каждое доброе утро, а таких в последний год случалось большинство, Иван решал твёрдо: «Сегодня нет!»
Разделавшись таким образом с наукой, он собирался и ехал в офис. Звукоизоляция помещений была куда более чистым занятием, чем анализ современной культуры, но и тут не складывалось. В офисе ему не находилось дела. «Уйдите, Иван Александрович!» – говорил взгляд секретарши. У неё наклёвывался роман с менеджером Денисом. Иван их стеснял.
«Ну что, приятель, досачковался? – улыбался Иван, покидая офис. – Вот и гуляй теперь!»
И он гулял, по обочине собирая маленькие дела – поменял летние шины на зимние, в коридоре у бабушки поправил плинтус. Как переломить своё тихое нецветущее состояние, и надо ли переламывать, он не знал.
Тем временем конец ноября налёг темнотой, и в будничной благодати Ивана стали случаться огрехи.
Всё последнее время он с готовностью принимал своё одиночество – как взнос за благополучие близких. Но теперь смирение перестало удаваться ему. Андрей что ли с Костей расшатали его спокойствие? Одиночество из добровольного и полезного стало казаться ему унизительным. В тревоге он оглядывал свою пустую молодость и, наконец, дошёл до того, что повелел себе завтра же начать жить по-человечески. Что это означало – Иван толком не знал. Но его намерение стало осуществляться само собой.
Уже на следующий день, зайдя в институт, он не то чтобы увидел – почувствовал – как в гардеробе и на лестнице с лёгким электрическим покалыванием касается его чей-то взгляд. К обеду облако флирта сгустилось, и из него выделился человек, обладающий плотью и речью. Им оказалась миловидная студентка, непринуждённо, как знакомого, дёрнувшая его в вестибюле за рукав. «Хочу переслать тебе кое-что. Можно мне твой емэйл?» – запросто сказала она. Иван, растерявшись, отдал ей свою «звукоизоляционную» визитку и в тот же вечер получил письмо. Девушка назначала ему свидание в одном из клубов, спасительно оговариваясь при этом, что оставляет за ним право не приходить.
Он пришёл в клуб без капли волнения, с расслабленно повисшими руками и ровной добротой в сердце.
Они поболтали, теряя в шуме куски предложений, и разумно сошлись на том, что люди они не похожие, вместе весело им не будет.
Девушка отправилась танцевать, а Иван с облегчением вышел. Под ногами хрустел ледок, час назад ещё бывший слякотью. И уже проглянули мельчайшие звёздочки, еле видимые через подсвеченный фонарями смог.
В бодром настроении вернувшись домой, он поразмыслил и сразу нашёл несколько возможностей продолжить «хождение в жизнь». Пойти в офис – там возле окна сидит у них Таня – определить на глаз величину её чувства трудно, но сколько-то, безусловно, есть. Пойти на седьмой этаж, повиниться перед Олей за годы малодушия и разом всё исправить. Позвонить Бэлке в Австрию – окунуться с ней опять в эту реку – почему нет? У Бэллы трагическая красота и чистое сердце. Она сестра Кости, в конце концов. А вот и «билет на пароход» – синий том Чемоданова. Одним словом – довольно. Пора уже с кем-нибудь разделить жизнь!
Но даже и тогда, в бреду планируя счастье, он понимал, как это будет неправильно, и как нелепо может закончиться.
Переболев приступ, Иван остался сам при себе. Разыскал по кондитерским «Адвенц-календер» – набитый конфетами рождественский календарь, и подарил Максу. Это был мудрый шаг, потому что теперь каждый день у них был повод для встречи – обсудить доставшуюся фигурку. Искушенные в Рождестве швейцарцы поместили в окошечки горькие ёлочные шары, молочные свечки и ореховых ангелов в фольге. Макс не ел их, а собирал. Впоследствии всю коллекцию на золотых нитях можно было повесить на ёлку.
Иван по старой привычке стыдился своей обывательской неги и был рад однажды у бабушки по кухонному радио услышать слова кого-то из древних святых «Могу в изобилии, а могу и в скудости». Не то чтобы он безоговорочно доверял святым, но созвучие было ему приятно.* * *
Понемногу дым зимы, пришедший на смену осенним туманам, застлал дома напротив. На крыши за ночь наметало столько, что клубило потом весь день. Совсем тоска не ушла. Она стояла поблизости, на порожке. Ивану хотелось уехать куда-нибудь, и в движении своём совпасть со снегом. То он рвался на дачу, то мечтал снова сесть в самолёт, чтобы на взлёте увидеть снежную ткань изнутри. Но у бабушки на погоду разнылись суставы. По утрам и на ночь она сетовала ему на тяготы возраста и раз даже заплакала. Куда он поедет! Хватит уже, погулял.
Однако Ивану всё же выпала дорога – в город Санкт-Петербург.
Его позвал отец. Точнее, не позвал, а предоставил повод. Сам он жил в Питере уже пять лет, уехав туда сразу после разрыва с мамой. С сыном общался редко и нехотя. Преподавал, занимался исследованиями. Его нынешняя академичность была удивительна Ивану. Никогда прежде отец не довольствовался одной наукой, но сопрягал её успешно с коммерцией. Похоже, его уснувший на время предпринимательский дух вновь воспрянул. Отец решил открыть в Питере филиал своего московского предприятия – того самого, которым расслабленно и безынициативно, сложив весь труд на плечи коммерческого директора, управлял его сын. Для регистрации филиала потребовались документы, которые Ивану предстояло подвезти на вокзал и передать коллеге отца, отбывающему в Питер.
– Зачем же передавать! Я лучше сам приеду! – сразу решил Иван. И хотя отец возражал, находя рвение сына бессмысленным, отговорить его он не смог.Всю дорогу Иван проглядел в окошко и нисколько не заскучал – потому, вероятно, что смотреть в окно было его призванием. В районе Бологого тянувшийся от самой Москвы снег кончился. Над поездом повисли лиловые тучи, яркие, как непросохшая акварель. Точно такой же облачностью пару часов спустя встречал его Питер. На Невском, в первой попавшейся кофейне, Иван позавтракал и, обнаружив, что до встречи с отцом ещё уйма времени, отправился гулять.
Он бродил по улицам, удивляясь, как всё же похож его отец на Петербург. Сходства было много – в строгости архитектурных линий и линий лица, в погоде и нраве. А вот птицы, звери и дети не шли ни городу, ни отцу. Иван почувствовал это, когда на перекрёстке к нему пристроился щенок дворняги и грамотно, нога к ноге с человеком, пересёк дорогу на зелёный свет. Всей своей повадкой щенок выражал радость, его рыжая шерсть лоснилась – он ещё не хлебнул собачьей жизни. Очутившись на другом берегу, щенок немедленно напал на воробьёв и отбил у них хлеб. Иван смотрел и вспоминал, как во дворе его детства отец обходил за семь вёрст пиры голубей над раскрошенной булкой.
Прошло утро, на влажных сумрачных улицах потеплело. Иван расстегнул куртку и гулял так до обеда, грудью чувствуя разницу в климате двух столиц. А затем подуло солнцем. Облака расступились, и холодный ясный ветер вынес его на угол двух старых улиц, где они с отцом договорились встретиться.
Настаивая на приезде, Иван берёг в душе скромную цель – понемножку начать сближение. Тут главной хитростью было не давить на отца, ничем не выдать своего намерения. Иван исполнил её «на пять». Просто отдал документы, образцы рекламных буклетов, коробку с печатями. Даже приветливого взгляда не позволил себе.
В ответ на его образцовую сдержанность, отец предложил прогулку. Они пошли вдоль реки, и всю дорогу Иван чувствовал, как много у него от отца – походка, лицо, даже голос. Только глаза – рассадник нежных чувств – у Ивана были мамины. И получалось: они с отцом выглядят, как недружные, воспитанные порознь братья.
Прогулка не удалась. Дор о гой отец взялся расспрашивать его о работе, но Иван завалил экзамен. Не вспомнил цифр, запутался в поставщиках – одним словом, выказал позорную неинформированность в делах своего королевства.
Отец окаменел и больше не произнёс ни слова. Иван хорошо знал эту родную хмурь, видел её насквозь – конечно, отец жалел о прогулке, о потраченном времени, о ребёнке, из которого не вышел толк. Скорее всего, ему хотелось сказать сыну что-нибудь резкое, но он сдержался. За сдержанность эту Иван был ему благодарен.В поезде он думал о родителях: как вырвалась и налеталась по доброй Европе мама, и как по-своему обрёл себя отец, слившись с холодной природой Питера. Конечно, теперь, когда упоение волей прошло, им обоим предстояло почувствовать осень. Может быть, пользуясь этим спадом, удастся сомкнуть края, или хотя бы перекинуть мост?
Как это сделать, и хватит ли на такой подвиг жизни, Иван не имел понятия. К тому же, его занимал ещё один, самый трудный вопрос: надо ли? Бабушка на это не раз ему говорила, что произошедший между семьёй и отцом разрыв – всего лишь отражение разрыва внутреннего, бытовавшего всегда. Ну а как, скажите, ему не быть, если человек – «эгоист и тиран»!
Своего твёрдого мнения на этот счёт у Ивана не было, но ему хотелось искать примирения уже потому, что положение отца, как и любого одинокого человека – отчаянно.
«В конце концов, – рассуждал он, – на свете есть душистый луг под солнцем, и песок с тёплой волной, а есть суровые норвежские фьорды, и тундра, и сталактитовые пещеры. Всё это было сотворено однажды, и достойно любви. Ему в отцы достался фьорд. Чем плохо?»Добытыми впечатлениями он поделился по телефону с Ольгой Николаевной. Иван рассчитывал, что мама, узнав про горькую жизнь бывшего мужа, забудет старое и прилетит спасать.
– Бабушка тебе про отца не рассказывала? – хитрил он, зная отлично, что бабушка скорее умрёт, чем поспособствует воссоединению с «тираном и эгоистом».
– Женился? – ахнула Ольга Николаевна.
– Да нет, не похоже, – утешил её Иван. – Открыл в Питере филиал. Говорит: о-го-го, как всем в Питере хочется друг от друга звукоизолироваться! Ты знаешь, я думаю, только вот эта новая суета его и спасает.
– Ты что, ездил к нему? – ужаснулась Ольга Николаевна.
– Мама, он весь каменный! – сказал Иван. – Если б ты знала, что это такое – дострадаться до каменного состояния. Но мне кажется, такой лёгкий человек, как ты, и не может этого знать. До тебя ангелы не допустят…
– Ну конечно! Я и вообще живу в раю! – огрызнулась мама, очень взволнованная тем, что отец одинок и бедствует сверх меры.
– Я думаю, если как-то его уговорить, убедить. Я хочу сказать: что если вас обоих как-нибудь сдвинуть в Москву? Пусть даже пока не в одну квартиру…
Мама не дала ему закончить. Что за странный человек её сын! – возмущалась она. – Неужели забыл, каких усилий ей стоило добиться человеческой жизни, в нормальном обществе, в нормальном климате! А он, вместо того, чтоб помочь ей остаться, норовит выманить её на свой тоскливый, заледенелый, бесчеловечный, коррумпированный пустырь! Да и посул хорош – мрачный псих, от которого сама и сбежала!
В смущении Иван отложил погасший телефон. И всё-таки, ему казалось, что он продвинулся к цели. Пусть пока на один только мысленный мамин взгляд в направлении авиакасс.* * *
Одиночество разделяя с велосипедом, Иван ездил до снега, и по снегу поехал тоже. Оттепели нравились ему не менее снегопадов, а снегопады не менее оттепелей. Любая прогулка оказывалась целебна. Он возвращался бодрый, потный, благодарный изобретателю велосипеда и всей природе осенне-зимнего берега.
Однажды он догадался, что его велосипедный роман есть способ разговора с землёй. Вроде собиранья грибов, но иной. У земного рельефа было вдоволь реплик для велосипедиста. Каждый овраг и тропинку Иван выслушивал и давал ответ ездока. По скользкой глине берега и по мёрзлой лиственной шкуре шины катили не одинаково. Бывали весёлые овраги – в них он съезжал скоро, попадались тоскливые и таинственные – такие хотелось объехать. Посыл менялся в зависимости от погоды. Размытые дорожки хандрили, но, подмерзнув, бодрились вновь, и велосипед хандрил на них или бодрился.
Как-то раз на своём излюбленном месте, там, где в овражках нарыты трамплины, он увидел парня постарше себя, на «марсианском» велике. Парень был в кургузой кожаной куртке, в тёмных очках и без шлема. Несмотря на свой невысокий рост и скромное сложение, он показался Ивану разрушительным – как шаровая молния или кинжал.
Заметив зрителя, парень улыбнулся и, нацелившись точно в лоб, взлетел на трамплин.
Иван взял влево и рухнул в листья. Лобовое столкновение не состоялось.
Весьма довольный тем, как славно отреагировала его «мишень», парень бросил велик, на лоб сдвинул очки и, подойдя, протянул Ивану руку в перчатке.
– Ты больной что ли? – спросил Иван. Не приняв руки, он отряхнул с куртки снежные листья и собрался уже подняться, но не смог – сердце оцепенело. Снежок вокруг велосипедиста был запачкан кровью. Приглядевшись, он заметил – красные пятна как будто напоминают ребристый рисунок подошв.
– А, что, класс? Нравится? – обрадовался парень. – У меня там сменный картридж! – объяснил он, поднимая ногу в танкообразном ботинке, но не удержал равновесия и плюхнулся в заснеженные листья. – На заказ делают. Знаешь, если кому охота оставить по себе след! – с ухмылкой прибавил он.
Севший голос, глаза в красных прожилках, как будто их долго тёрли, вихры из-под шлема и усталые, горестные носогубные складки – Иван смотрел вскользь, проникаясь неясным сочувствием.
– Я сюда установлю прожектор, – сказал парень, поднимаясь и щедрым жестом обводя небо и лес. – Чтобы по ночам тренироваться. У меня только ночью время есть. И эту рухлядь пусть вывезут, – он пнул ногой деревянную опору. – У меня тут брат гоняет. Это его машина, – он дёрнул руль, и велосипед встал на дыбы. – Я-то уже старик, некогда мне. А… да хотя, и ты старик, – сказал он, вглядываясь в лицо Ивана. – Старики мы. Ну давай! Чего сел! Давай вон с той деревяшки – кто дальше! Разгон от берёзы.
– Не хочу, – сказал Иван и, подняв с земли свой велосипед, покатил по тропинке в сторону города. При этом он очень старался не вникать в содержание воплей, какими сопроводил его отъезд разочарованный парень в ботинках со сменным картриджем.
«Вот и Фолькер, – катя по бережку, думал он. – Надо у Кости спросить. Может, правда Фолькер?»
Костя зашёл через пару дней. Он был строг и собран, сказал «привет» и снял пальто. К чёрному колючему сукну «собачками» пристали снежинки. На миг в движении Костиных рук, вешавших пальто на крючок, мелькнуло сомнение.
– Давай-давай, проходи, не раздумывай, – подбодрил Иван. – Полчаса у тебя есть.
– Да, – согласился Костя. – Полчаса есть. И нам за полчаса надо будет решить один судьбоносный вопрос. Готовься.
С этими словами он прошёл на кухню и, сев у окна, положил ладони на стол. Его лицо было сосредоточено. Иван даже чаю не стал предлагать, опасаясь сбить его с толку.
– Я сразу к делу, ты не против? – заговорил Костя и, по возможности кратко, обрисовал другу «костры» и «льды» своего положения.
За время, что они не виделись, Женька несколько раз приводил Костю в дом брата. Фолькер запросто пустил новичка в свою музыкальную студию и хохотал от восторга, когда Костя экспромтом вписал в новую песню три удачных строфы. «Да это, (многоточие и ещё многоточие!), просто «Египетские ночи»!» – орал Фолькер, и Костя был тронут начитанностью интернет-монстра, странной в контексте его неформальной лексики.
– Ты понимаешь, – объяснял Костя. – У него всё есть – музыканты, студия, даже мотивчики кое-какие. И звук свой они придумали. А текстов нет. То есть, он может сказать, о чём песня, а когда пытается срифмовать – выходит убожество. Тут меня и понесло. Не знаю, может, от страху – но получился такой ясный, резкий текст! Тебе я его прочесть не решаюсь – ты мне так поверь. В общем, Фолькер обрадовался – он ведь импульсивный человек. Почитал ещё, что там у меня с собой было. «Всё, – говорит, – ты у нас чувствуешь время, будем с тобой сотрудничать. Для начала поработаешь спецкором. Женька – твой прямой начальник. Он даёт заказ – ты пишешь, он редактирует и размещает на сайтах. Кроме того, – говорит, – в случае необходимости будешь со мной летать по родине и комментировать происходящее в Интернете, на языке твоих больных ровесников».
– А происходящее – это что? – уточнил Иван.
– Не знаю, – мотнул головой Костя. – Он хочет с группой ездить – в поддержку сайтов. Проповедовать хочет. Чтоб попсовые дети включали мозги. Я вообще не думаю, что ему нужны мои тексты. Горячая кровь – вот что нужно! А как её применить – это уж он разберётся. Может, я дискотеки у него буду вести, по Сибири, под лозунгом «Здравствуй, совесть!»
Костя неспокойно вздохнул и умолк.
«Нет, всё-таки надо чаю!» – решил Иван и, встав, насыпал в заварочный чайник листьев и цветов минувшего лета.
– Мне странно, – говорил он Косте, пока закипала вода. – Человек, заработавший кучу денег, соблазнился утопией. Может быть, этот проект – подготовительный этап какого-нибудь бизнеса? Ты ж сам говорил, у него там всяческие он-лайн магазины? Может, действительно, хочет скупить пространство, раскрутить и так далее…
– Да нет! – перебил Костя. – Я ж тебе говорил – с головой у него плохо! Я его прямо спросил – зачем ему дались эти молодёжные сайты? Неужели он надеется, что кто-то там что-то увидит и рванёт оттаскивать друзей от наркотиков или там Достоевского читать? «Нет, – говорит, – чтобы рванул тупой – это нереально! Но отвоевать тех, у кого внутри что-то есть, можно!» Я ему возражаю, мол, Фолькер, это у тебя получится или сектантство, или отряд бой-скаутов! А он ржёт. «Ну и пусть, – говорит, – лишь бы растолкать человека!» Иван, ты понимаешь, у него серьёзные люди в штате. Психологов, между прочим, две штуки!
– А ботинки со сменным картриджем у него есть? – спросил Иван, ставя перед Костей чашку.
– Не знаю про картридж. С чего это ты взял? Но вообще у него целая комната ботинок. Он их коллекционирует. Когда он бывает в какой-нибудь стране или местности, обязательно вымажет подошвы пожирнее в грязи и потом уже её не смывает, бережёт даже. У него есть ботинки в красной глине, в белой глине, в тине какой-то, чёрте в чём. У него специальная для ботинок гардеробная – я видел. Наверно, пар пятьдесят. А ещё он стены коллекционирует – ну это я тебе рассказывал уже, да? Женька сказал, с ним из-за этих стен жена развелась.
– Наверно, не из-за стен, а по причине общего сумасшествия, – предположил Иван.
– Может быть, – согласился Костя. – Но мне это всё равно. Для меня есть реальная работа. И нам с тобой надо трезво разобрать минусы и плюсы моего шанса.
Иван взглянул на своего подопечного и заранее всем сердцем встал на сторону минусов.
– Минусы такие, – начал Костя. – Во-первых, я не буду свободен. Мотайся по всему свету, делай, что велят. Во-вторых – у меня не останется времени подумать о себе честно. В институт я тоже вряд ли подготовлюсь. Это минусы.
– Ну а плюсы? – спросил Иван, зная, что таковых не найдётся.
– А плюсы, что у меня будет масса знакомых, разнообразная жизнь, драйв. Видишь, летать куда-то придётся. Я ведь уже говорил тебе про опыт! И, кроме того, у меня будут деньги. Если я научусь талантливо работать – деньги будут. Тут, я думаю, он не обманет. А уж дальше – выше!
– По-моему, это не плюсы, – качнул головой Иван.
– Так вот я и хочу знать твоё мнение! – воскликнул Костя, – Правда ли, что большому кораблю нужно большое плавание? Я большой корабль – это точно. Я думаю, если знать секреты преобразования энергии, так на мне до Марса долететь можно! Но надо ли? Человек в большом плавании – как слон. Раздавил нечаянно сто лягушек – ах извините, я большой!
– А почему ты думаешь, что станешь давить лягушек?
– Потому что для самоконтроля нужно уединение и время! – крикнул Костя и, вскочив, зашагал по кухне. – Если я в гуще событий – я иду в разнос! Конечно, стану давить – всех, и тебя!
– Ну, так в чём дело? – сказал Иван, с трудом сдерживая улыбку. – Раз ты всё знаешь, неужели нельзя себя усмирить?
– Усмирить? – навис над столом Костя. – Ну конечно, только это и остаётся! На твоём божественном фоне ни черта нельзя предпринять! Всё начинает казаться тупой амбициозной суетой! Найти себе занятие – суета! Мир спасать – бред, суета и амбиции! Влюбиться – вообще подлость! Ты прививаешь мне вкус к бессмертию, а мне нужен вкус к жизни! Я молод! Понимаешь? Юн! Юн! Молод! Ты вообще задумывался, что я из себя представляю в свои годы? Не мечтаю ни о какой любви – подавай мне мудрость! А всяческого кайфа хотя и хочется, но при одной мысли уже тошнит, потому что я знаю бренность. А мне не надо знать! Мне жить и дрова ломать надо!
– Решил – иди, ломай! – спокойно сказал Иван.
– И пойду! – крикнул Костя. Впрочем, тут же утих и, вернувшись за стол, сделал первый глоток из своей остывающей чашки.
– Что это за гадость? – поморщился он. – Сахару хоть дай!
– Это не гадость, – возразил Иван. – Это правда о родине. Зверобой, ромашка, пустырник. Тебе полезно! – И подал ему сахарницу.
Костя разболтал в чашке белую метельку песка и по глотку задумчиво выпил. Было видно – сраженья с самим собой его обессилили. Допив, он вздохнул и, взяв за лямку «этюдник» поплёлся в коридор.
Иван вышел за ним и смотрел, как с множеством резких неточных движений одевается Костя. У «этюдника» заело молнию, рука, полезши в рукав, упёрлась в шарф, на пальто отлетела пуговица. «Чёрт!» – разозлился Костя, пряча пуговицу в карман, и тут же обнаружил, что из кармана исчез ключ. Понервничав вдоволь, он нащупал его за подкладкой.
Наконец он был готов, повесил на шею шарф, но не ушёл, а остался стоять на пороге, сжимая концы в кулаках.
– Ну, давай, говори, – кивнул Иван. – Что ещё у тебя?
– Как тебе скажешь, когда ты даже не отвёз Бэлке «Чемоданова»? – произнёс Костя. – Ты видел Женьку – видел, как он на Машку смотрит? Я с ним рядом греюсь. Болтаешь с ним – и укрыт лучами. Когда вы с Бэлкой были вместе – я это тоже чувствовал. Но сколько мне тогда было? А теперь всё гудит! – и он дёрнул себя за шарф, словно ударил в колокол. – Ты не думай, я не завидую, хотя лучше Машки нет – это факт. Я просто удивляюсь: вот вроде бы я только что решил – «ломать дрова». Решил – а гул не унимается! Значит, что-то другое во мне ноет? Может быть, мне вообще надо закрыть вопрос о себе? И открыть вопрос о другом человеке? Не пойму я, чего хочу! – с тоской заключил Костя и вдруг, вытянувшись по стойке «смирно», потребовал. – Благослови меня!
– Благословить? – растерялся Иван. – C чего это ты взял, что я могу? Ну ладно… Давай, с Богом!..
Он тронул его плечо, и свободный от тяготы Костя вылетел вон.
– Спасибо! – прокричал он из лифта.С сомнением Иван прикрыл за ним дверь, в кухне налил себе в чашку остатки заварки и вернулся на лестничную площадку. Сел на корточки. Попивая, смотрел вниз, на ступени и решётку перил. Возвращался, доливал горячей воды. Ему было лень заваривать чай снова, так что вскоре он пил уже просто тёплую воду. Иван размышлял о благословении. Не то чтобы оно было залогом успеха. Скорее – защитой от мук совести в случае неудачи. Теперь, когда Костя приползёт к нему, зашибленный своими «дровами», виноват будет он, Иван! Так, чуть улыбаясь, он думал. И думал уже без улыбки: вот лежит в комнате на столе укоризненный «Чемоданов». И нет никого, кто дал бы благословение отвезти его Бэлке. Ошибёшься, предашь, растратишь – мучься сам!
* * *
Костя отхлынул, и жизнь выровнялась, как дыхание. В своем стариковском обществе Иван продолжал наблюдать за растущей зимой. Накатывали метели – сначала крупяные, потом влажные, наконец, истинно зимние – когда снежинки, сухие и пушистые, как липовый цвет, густо летят над землёй. На лесных прогулках от снега ныли глаза, колёса вязли в лесном неутоптанном насте, а Иван и представить себе не мог, как завершить сезон.
Так бы и кататься ему всю зиму, но однажды на спуске в овражек он увидел впереди человека, одетого со спортивной отвагой – в тренировочные брюки и футболку, взмокшую на спине. Человек шёл бодро, из-под его кроссовок брызгало листвой и толчёным льдом. Проскальзывая, он сбежал в овраг и на разбеге взлетел вверх по тропе, чуть тронув ладонью землю – как смазавший прыжок фигурист.
Иван смотрел с полуулыбкой. Ему стало понятно необъяснимое словами превосходство пешехода над ездоком.
С тех пор он ходил на реку пешком. И хотя темнело рано, и одеваться приходилось тепло, настроение у него было лёгкое.
А тут ещё пришла счастливая весть от мамы: без помощи второго бывшего мужа, подходящей работы в Вене для неё так и не нашлось. «В Москву-у-у!..» – гудело над мамой зимним ветром, но она крепилась, потому что вернуться значило признать поражение.
Иван её не торопил, но чувствовал, что разлуки им осталось на месяц – не больше. И это хорошо, потому что дома, уж конечно, ей станет легче! Иван верил, что человека, живущего на родине, окружает полезный пар, питательная среда, которую способен усвоить лишь тот, кто в ней рождён. Наверно, было бы справедливо назвать этот пар неудобным словом «любовь». Но ему не хотелось так просто сдавать своё, с трудом завоёванное трезвомыслие.
«Может быть, дело в климате?» – надеялся он. И придирчиво осматривал, словно бы готовил к приезду мамы родные окрестности. Как придётся ей западный ветер с реки? А новый пейзаж с возведёнными по небу башнями? Приноровятся ли ноги ко льду? Привыкнет ли сердце к волнению за дедушку с бабушкой?
Вопросы не отпускали. Он всё думал – как честно объяснить маме своё житьё-бытьё, что прекрасно в нём, а что горько. И однажды его озарило. Иван отправил маме по электронной почте несколько строк.
«Ты спрашиваешь, как мы тут себя чувствуем в целом? – писал он. – Я скажу тебе. У нас неподалёку строят дом. Я из окна наблюдаю за стройкой. Там на высоте двадцати этажей каждую ночь сидит крановщик. Мне всё время хочется отнести ему еды – как будто он узник в башне, но я знаю, что это лишнее. В кабинке ему не страшно. Под ним – просторная, хорошо укрытая снегом Русь. Ветер его качает. У него горит свет. Вот такая метафора».
Снег и правда порадовал Ивана в этот год. Метели, каких не знали давно, отгородили Россию от всего бесснежного мира. В коконе снега, уютном, как никогда, зима и Иван с нею подвинулись к Новому году. В это время из своего голого, обделённого снегом края ему позвонил Андрей.
– У меня грандиозная новость! – сообщил он. – И всё по твоей вине! Я знал, что ты способный парень, но чтобы вот так, одним тостом переменить жизнь!..
Оказалось, всё это время Андрей не звонил потому, что хотел довести свою новость до блеска, и вот теперь, он был готов представить её Ивану.
– Я купил дом! – объявил он. – Но это не всё. Я не могу тебе сказать всего вот так, не видя лица. Ты зайди на «почту», я тебе письмо отправил с фотографиями. Посмотри – потом созвонимся.Как понял Иван, средиземноморское приобретение нравилось Андрею всерьёз. Да что там нравилось – он буквально плакал от благодати, и письмо его было солёное.
«Встаёшь – цветные туманы! По одну сторону море, по другую холмы – Божий мир, иначе и не скажешь. Люди весёлые, приличные, девчонки все – барышни, ребята – такие ремарковские. Круглые год цветы, птицы – никто на зиму не умирает! Вообще никто не умирает! И никто тебе не указ. Живёшь себе, как человек, вольно, на лучшей земле. Ты приглядись хорошенько! Но вообще фотографии ничего не дают. Тебе надо увидеть!»
Иван читал и удивлялся: с его другом произошла странная вещь. Как если бы душа пресытилась властью трезвого разума и сорвалась в детство, к романтическим первоосновам.
Цель у Андрея была простая – побыть строителем, садоводом и виноградарем, трудом завоевать себе новую родину. Заботы не пугали его. Со временем он собирался освоить и море. «Мужчина обязательно должен плавать, чтобы берега не видно! – писал он. – И летать».
На покупку приморского сада Андрею пришлось взять кредит. Зато его деловая муза ожила. Он знал, что в каждой сделке кроется пядь легендарной земли, и работал с вдохновением. «Ещё годок, – писал он. – И я свободен!»
С растерянной симпатией Иван пролистал десяток снимков, прикреплённых к письму. Одна картинка его задела. Он развернул её во весь экран и смотрел с улыбкой, как в солнечно-зелёном саду на груде камней восседает Андрюха, весёлый, в зелёной бандане. А позади него, в глубине сада, дева в платье до пят несёт, словно ведёт за руку, пустой картонный ящик. Кроме пиратского головного убора, никаких бросающихся в глаза перемен в своем друге Иван не нашёл. Он распечатал снимок и, держа в руках глянцевый лист, долго всматривался – где там счастье?
Когда же, наконец, отложил фотографию и, выключив лампу, собрался уйти, вид за окном поразил его. Иван сделал шаг навстречу и замер. На улице творилась невообразимая суматоха – намешанные во мраке снежные хлопья крутились и лупили в стекло. Москву накрыла буря. И сразу же зазвонил телефон: бабушка с дедушкой на перемену погоды дружно почувствовали недомогание. Пришлось, напялив наскоро свой бутафорский оптимизм, картонное своё спокойствие, идти и утешать их. В тревоге, в дыму валокордина, Иван провёл остаток вечера. «Какие моря! – думал он горестно. – Какой ещё виноград!»
А когда измученный, пьяный от тревоги и снега вернулся домой и попал взглядом всё в тот же зелёный кадр, гнев пронзил его. Со злостью он схватил телефон и позвонил Андрею – требовать отчёт о предательстве.
– Я посмотрел твои картинки! – произнёс он. – Ну и как же тебя угораздило? Что, вот так, приплыл на Гозо, увидел «лодку» и переменил жизнь?
– Ну, почти! – согласился Андрей.
– Расскажи мне подробности, если тебя не затруднит!
– Погоди, ты злишься что ли? – растерялся Андрей.
– Да! Может быть, я и злюсь, – сказал Иван. – И я даже могу объяснить причину. Я так понимаю, раз ты купил дом – значит, рано или поздно, ты будешь там жить? Следовательно, даже если закончится твой контракт во Франции, в Москву ты всё равно не вернёшься! Да и на отпуск вряд ли приедешь! Какой дурак едет на отпуск в Москву, когда у него дом на море! Вот это меня, ну, скажем, не злит, а интересует – что может нормального, не чокнутого человека заставить бросить всех, с кем был, кто растил!.. И родину!.. – Тут Иван умолк, почуяв излишек пафоса.– Да ну что ты! – растерялся Андрей. – Наоборот, я хотел для всех! Я ведь так и решил – буду встречать гостей, родственников, чтоб они зиму у меня пережидали. Поработаю ударно, выплачу, чего там должен, потом, может, отельчик организую, по типу агротуризма. Женюсь, состарюсь, научусь рисовать, продам картины, куплю внуку виноградник. И он уже будет встречать твоих внуков – я так ему завещаю! А сам сяду в парусную лодку – и поплыву, как Одиссей. Я шучу, конечно. Но всё же – чем не судьба?
– Лучше бы ты у нас на Лихачёвском шоссе клал асфальт! – припечатал Иван.
И, как это бывало с ним, когда чувство собственной правоты зашкаливало, его ждал урок.
На следующий день он поехал менять права, и в ГАИ патриотический порыв отлетел. Фотографию, на которой вышел «моргнув», отказались переснимать. Он попытался спорить, но был сражён ледяным, визгливо-железным тоном сотрудника. Иван скомкался, потерял свободу. Его замутило от брезгливого страха. Призрак тридцатых отделился от стен.
По дороге домой он, как мог, высмеивал себя за впечатлительность, и всё-таки, отмахнуться не удалось. Историю родины ввели ему крохотной каплей, как прививку. Лёгкое недомогание – и опыт влился в кровь. Тут простая мысль об Андрюхиной покупке пришла ему в голову. Может, дело не только в море, а просто человек захотел иметь недвижимость в государстве с мирным прошлым?
В тот же вечер, стоя у кассы в ближайшем от дома супермаркете, Иван стал свидетелем драмы. Охранник поймал воришку – щупленького парня с банкой консервов под курткой. Тот вырывался отчаянно, и, может, сбежал бы, но кто-то из персонала додумался схватить железную корзинку для продуктов. С помощью этой корзинки они и одолели вора. Иван со спазмом в солнечном сплетении считал удары. Когда парня уводили, на его белом лице уже вспухали красно-сизые полосы.
Персонал ликовал. Иван взглянул на победную улыбку кассирши, одним махом вывалил содержимое своей корзинки на стол у кассы и с пустыми руками пошёл к выходу. «Это что! – не поняла кассирша. – Молодой человек, стойте!» Иван хотел повернуться и объяснить, но тихое чувство тщеты, натёкшее в сердце, залило порох. Поучительным же во всей этой истории было то, что, вернувшись домой, он обнаружил: у него из кармана вытащили мобильный.
Запретив себе распутывать хитросплетения дня, Иван с чашкой чая сел к своему окну и из социально-политического измерения мыслей переместился в измерение рощ, дворов, собак и птиц, в измерение снежного ветра, метущего город и пригород. Как он в нём отдохнул!Как ни странно, после разговора с Андреем, оба напуганные тем, как истончилась их дружба, они взялись перезваниваться. Разговаривали не подолгу, но часто.
Как всяким людям, давно не сверявшим часов, им было трудно; они двигались навстречу неуклюже, сто раз озвучивали один и тот же спор, обсуждали заведомо незначительное. Но однажды Иван почувствовал, что опять, как раньше, по голосу видит выражение Андрюхиного лица.
Так, понемногу, они возвращали себе утраченное.* * *
Иван не видел Костю с начала зимы. Правда, однажды наткнулся в институтском гардеробе на Женю с Машей. Поплевав на бумажный платок, Женя драил барышне ботинок. Заметить Ивана он не мог, поскольку был повёрнут спиной, зато его узнала Маша. Секунду они смотрели друг на друга, как смотрят человек и белка – не имеющие общего языка, но притянутые взаимным интересом. А затем расцепили взгляды и больше не встретились.
Маша похудела, котомку с вязанием и тетрадями сменил пристёгнутый к ремню штанов чехол со смартфоном. «Ну вот, и её захватили веб-страсти!» – решил Иван, уходя.
После института, а иногда и до, и даже вместо, Иван любил заглянуть к Мише в «Кофейную».
За своё недолгое и неглубокое знакомство с ним Иван догадался: Миша был из тех людей, что охотно заполняют собой пробелы и паузы, но попробуй навязать им роль – их и след простыл.
В те дни у Ивана как раз был «пробел». Работа не ладилась, Костя исчез, бабушка с дедушкой чувствовали себя сносно.
Он стал наведываться к Мише и, совершенно не стыдясь своего тунеядства, проводил за столиком не менее часа. Поэты Туманного Альбиона делили с ним его чай. Он приносил с собой распечатанные из Интернета стихи и заучивал наизусть их мёд и ветер. Случалось, потеснив поэтов на край стола, чай разделял с ним сам хозяин прибежища. Горячая вода была полезна ему – Миша мёрз, боялся лесов и велосипедов, Москва испортила его, как властная мама. Миша любил её панически, не решался оставить хоть на миг и выражал свою привязанность, сочиняя экскурсии. Таково было его Чувство Родины.
Как человек с большим артистизмом, Миша не признавал банальных тем. Предложения об обзорных экскурсиях вызывали в нём высокомерный смех. Зато он брался реконструировать маршрут дореволюционной кухарки какого угодно района старой Москвы по местным рынкам и лавочкам, и в подробностях описать, какие были тогда в ходу калачи и сайки – чуть ли не испечь! Иван уважал Мишино хобби, но экскурсий не посещал. Он шёл в лес шуметь заснеженной листвой, и родину воспринимал как природу.Однажды из окна Мишиного кафе Иван увидел Костю. Тот перебегал улицу, прорезая себе дорогу между машинами.
– Костя! – крикнул он через глухое стекло и замахал рукой. Костя вскинул взгляд, и радостно, как-то весь распахнувшись, сменил курс в направлении «Кофейной».
– Брат? – полюбопытствовал Миша. – Или племянник? Вижу, что родственник.
– Да, – кивнул Иван, – наверно, племянник. Крестник! – и обрадовался найденному слову.
– Тревожный возраст, – сказал Миша. – Главное – миновать наркотики.
Иван хотел как-нибудь тепло и с юмором отозваться на Мишино участие, но тут из дверей подуло. С разгону, чуть ли не со свистом тормозя, Костя вписался к нему за столик. «Привет!» – крикнул он, стряхнул на спинку стула пальто и остался в рубашке. Иван знал эту вещицу, она нравилась ему своей грубой фактурой и охровым цветом, подходящим к слову «этюдник». Но на этот раз с ней произошло страшное – ткань висела кусочками, как будто всю её изрезали ножом, при этом один край каждого лоскута отгибался. Сквозь порезы светлело Костино тело.
– Это что? – без интонации, как всегда с ним бывало, если он испытывал потрясение, спросил Иван.
– Это мой портрет! – с ликованием разводя плечи, объяснил Костя. – Машка Женьке сплела ремень – медь и серый металл. Это два его цвета – это все знают, такой у него характер! Я хотел, чтоб она мне тоже сделала какую-нибудь фенечку, соответственно моей личности. Она обрадовалась, и порезала мою рубашку маникюрными ножницами, прямо на мне! Это мой портрет с натуры! Сейчас я такой! Рвусь во все стороны – и не по швам! Моя счастливая рубашка, – добавил он, – буду в ней вечно.
– А я думал, ваша Маша не режет рубашек, – сказал Иван. – И тем вас подкупила. Не угадал.
– Да угадал, угадал! Она такая и была, – глотнув чаю из чашки Ивана, сказал Костя. – Но теперь раскрепощается понемногу. Хочет сделать страничку: пэчворк в защиту животных.
– И что это значит? – спросил Иван.
– Пэчворк – это такая техника. Вроде лоскутного шитья. Она же рукодельница! Да неважно. Важен сам факт – что человек отцепился от бабушки – в отличие от тебя! – и человек растёт! Готов совершать шаги, теплеет к людям!..
– Ну а ты-то чем занимаешься? – перебил Иван.
– Чем занимаюсь! Ношусь чёрт знает где, внедряюсь куда ни попадя, пиарю наш проект. Уже облазил все клубы. Мне в одном чуть башку не снесли. Меня только бесит Женька. Он у нас типа за старшего! Понимаешь, я пишу, а он на мне самоутверждается – мол, это ты, брат, перепиши, аудиторию это не цепляет, и прочий бред! А какое он имеет право меня судить? Право брата Фолькера?
– Неужели такой дурачок? А мне показался неглупым, – заметил Иван.
– Неглупым? Ну, может быть, – внезапно остыл Костя и с удовольствием погладил лохмотья на своём животе. – Ничего! Всё, в целом, идёт, как надо. Фолькер трогательно мне доверяет. Он сейчас упёрся в музыку. Я ему нужен. У него идея – у меня тут же рифмованный текст. Надо же, говорит, как некоторым всё просто даётся! Конечно, мне не охота превращаться в личного секретаря. Тут надо держать баланс. Но в любом случае, Женьку я подвину. Это первая новость. А вторая новость – это Машка. Знаешь, что я заметил? Разговаривает она со мной! Дружит! Обращается вроде ко всем – а смотрит на меня. Так что ничего, работает твоё благословение!
– Нечего врать. Я благословлял тебя только на то, чтоб ты был человеком, – нахмурившись, сказал Иван.
– А быть человеком – это брать пример с тебя? Сомневаться и бездействовать во веки веков, аминь? – засмеялся Костя. – Слушай и учись! Есть правило: возникло перед тобой добро – бери, возникло зло – сметай. Женька – бездарный зануда, и я обойду его на первом повороте, потому что он – моё зло. А вот добро я возьму. Просто выиграю турнир – и в награду любовь королевы!
Иван молча смотрел в окно на единственный тополь – тот, с которого летела листва в день, когда Костя знакомил его с Женей и Машей. Он думал, что возражать в данном случае совершенно бессмысленно. Надо ждать и терпеть, пока ребёнок получит свой опыт. А опыт ведь – «сын ошибок».
– Кстати, – продолжал Костя, – я Фолькеру рассказывал про тебя. Ну, про все твои странности – как ты сидишь со стариками и прочее. Он спросил, не больной ли ты? Я и не знал, что ответить! Ты прикинь, он даже захотел с тобой познакомиться! Ему интересно. Может, сходим в гости? Хоть посмотришь, как люди живут!
– Конечно, нет, – сказал Иван.
– Пойдём! – принялся уговаривать Костя. – Я обещал. Люди такого масштаба, они же упрямы, как танки! Если ты не придёшь – он сам тебя где-нибудь перехватит.
Иван пожал плечами.
– Да ладно, не напрягайся! – рассмеялся Костя. – Я пошутил. Никому ты не нужен! Ты – лузер! Кому ты можешь быть интересен? Даже я тебе не звоню! – он схватил «этюдник», со спинки стула сдёрнул пальто и вылетел вон.
Иван подвинул к себе свою чашку, отпил и бесцельно пролистнул меню. Плоский мир, в котором обитал теперь Костя, возник у него перед глазами – вот дом, вот вертолётный ангар, вот сами герои, изображённые в стилистике «Симпсонов», лезут по верёвочной лестнице на далёкую мушку с пропеллером. Ну и пусть, на здоровье! Мультфильмы нужны планете.
В этот миг из-за занавеса появился Миша. Он вежливо скрылся там на время Костиного выступления.
– Ну что? – спросил он, – коньяк за здоровье крестника? Так уж и быть, я с Вами.
Иван мотнул головой.
Ему хотелось выпить с Мишей, он ценил его утешительный такт, но была гармония в их приятельстве – бокал мог её нарушить; даже просто несколько лишних слов могли её сбить.
Он расплатился и, поблагодарив Мишу за кров и участие, вышел.Поднималась лёгкая предпраздничная пурга. Вернувшись домой, Иван пожалел, что не заехал в офис. Еще только день – мог бы и заехать. А то что теперь делать? Он прогулялся по квартире, осматриваясь – не требуется ли что-нибудь починить или разрушить? Переставил подальше от батареи сохнущую герань и сдался грусти.
Конечно, он понимал, что Костя и сам себе не рад. Разве он виноват, что как только закипает кровь – с древнего дна поднимается мутная пена. Пока ещё справишься с ней! Хорошо если к старости усмиришь свою реку. К тому же, в Костином бреду повинен не столько сам Костя, сколько поддельная жизнь мегаполиса. Надо быть затворником или стариком, чтобы устоять.
«В конце концов, – решил Иван, – если бы мы сейчас жили в блокадном Ленинграде, Костя с той же страстью добывал бы для Олиного Макса еду. Он бы спас меня из любого плена».
Так он думал, разрабатывая потихоньку «защиту» Кости, и, доведя её до некоторой степени прочности, пошёл навестить своих.Иван застал бабушку с дедушкой у телевизора, включенного на полную громкость. Они смотрели новости, в кадре была Москва. Красную площадь обмакнули в снег, как в муку. Иван глянул в окно – и там белела всё та же рождественская пекарня. Пахло хлебом даже через стекло. Он спросил, не хочет ли бабушка прогуляться с ним по муке и сахарной пудре? Иван любил прогулки с бабушкой и собирал их впрок. Словно бы каждый общий шаг по земле укреплял нитку, которая останется между ними, когда они будут по разные стороны.
На улице от холодного ветра у бабушки раза два «упало» сердце. Иван смахнул снежок с лавочки, и они сели. Сжав бабушкино запястье под перчаткой, он вникал в перебои и, как всегда в такие моменты, испытывал здоровую человеческую ненависть к мироустройству. «Ничего», – наконец, кивнул он и отпустил. Глядя на снежную пыль, они поговорили о маме, поговорили затем о бабушкиной прогрессирующей глаукоме. Подспудно Иван радовался таким несмертельным болезням – как будто, насобирав их по мелочам, можно было бы откупиться от главного.
Подышав полчасика, они вернулись домой. Бабушка легла, а внук пошёл к себе. С чистым от снега сердцем он сел за стол и открыл Бэлкин учебник. В некоторых главах Чемодановского творения разбирались примеры средневековой поэзии. Их зачаточный немецкий был мил Ивану, как речь ребёнка. Читая, он улыбался.
Иногда его отвлекали мысли: например, не заказать ли для мамы билет в Москву? Или себе – билет до Вены? Он размышлял недолго и опять возвращался к чтению. Время, понапрасну текущее мимо письменного стола, не тревожило его. Он как будто знал, что двух крыл – искусства и мыслей о близких – вполне достаточно, чтобы перелететь жизнь.К ночи, когда Иван окончательно погрузился в сугроб своего покоя, входная дверь разразилась долгим, рваным звонком.
– Вот и я! – крикнул Костя, сжав Ивана в ледяных рукавах пальто. Его лицо было схвачено морозом – румянец румянился, синяки под глазами синели, в чёрных волосах шикарно поблёскивало новоприобретённое серебро.
Когда Костя разделся, оказалось, «счастливой» рубашки нет на нём. Он был в футболочке и дрожал.
– Хорошо, что мы сегодня так случайно столкнулись! – воскликнул он, устремляясь в комнату. – Я потом думал, до чего ж замотался – совсем тебя забыл! И моё сегодняшнее хамство! Я не извиняюсь – ты простишь. Главное, я очень замёрз! – сказал он и, содрав с кресла плед, обмотался им с головой. – Давай мне всё тёплое и горячее! Подушку мне, одеяло, ужин, водку – и я тебе кое-что расскажу! Да что там – я расскажу тебе всё!
– А марихуаны не надо? – спросил Иван и принёс Косте чаю с медом.
В обнимку с чашкой, с пледом на голове, Костя засел в углу дивана.
– Помнишь, мы с тобой говорили о моём выборе? – начал он. – Я похвалялся трезвостью. Думал – вот сверю плюсы с минусами и решу. Сколько гордыни! А выбора-то и нет!
– Что так? – спросил Иван, внутренне замерев.
– А, может, я Машку люблю! – крикнул Костя и высвободил голову из пледа. – Может, люблю её, а? Скажешь, я сволочь? А что мне делать, когда она у меня на пути! И не просто на пути! Она так у меня на пути – что о-го-го! И всё остальное мне, в общем, до лампочки – поэтому я и забыл о тебе. Зато для Машки я Карпаты переставлю на место Альп, или что угодно! Представляешь, надырявила кучу пирсов, моднеет на глазах, ругается с бабушкой. Рвётся к Женьке, потому что у них бурлит время. Дом Фолькера – этакий гейзер времени! Так что, если я хочу её заполучить, мне придётся быть с ними! Другого способа нет. Если я, допустим, решу получить образование и самостоятельно чего-то достичь – на это сколько лет уйдёт? Так что нет у меня выбора! – подытожил он. – Такой вот шантаж судьбы.
Слушая его, Иван вспомнил, что уже несколько недель не видел на вешалке в институте жёлтый Машин берет. Бесстрашные не покрывают головы. Какая-то старая сцена из романа мелькнула перед ним – Маша, бабушка, обрыв – но зато уж после этого душа спасена. Исправится, отыщет котомку с вязаньем…
– Ты бы зря не сбивал человека! – сказал он. – Перетерпи уж как-нибудь.
Но Костя не мог терпеть.
– Дай пожить! – возмущался он. – Ну в конце концов! Ну заплач у , если спросят!
Понемногу между репликами Костя стал зевать, прилёг щекой на подлокотник. Озноб прошёл. Чай разморил его, и он продремал минут двадцать, пока на телефоне не зазвенел будильник. Оказывается, сегодня ему ещё было надо в клуб.
Иван с растерянным сожалением наблюдал, как, превозмогая себя, собирается Костя. Плещет в лицо ледяную воду, таращится в зеркало на белизну и синь своего лица: «Что, хорош я?» Как затем, одеваясь, провозглашает: «Кофе мне, сигарету, жизнь!» И, присев уже в пальто, смиренно ждёт, пока докипит кофеварка.
Из маршрутки Костя позвонил ему. «Метели нет! – сообщил он. – Но всё в какой-то мелкой пудре. Еду и думаю: ну у нас и земля!»* * *
На следующий день он проснулся от невидимой волны оживления, встал и отдёрнул штору. В окне был мутно-серый, с отдушкой сирени, рассвет. Иван помнил такой рассвет из юности, когда приходилось вставать и входить в него, как в холодное озеро, мучительно преодолевая дрожь. Он вспомнил ещё, как тают в тепле маршрутки одеревеневшие плечи, плечи – мороженое «эскимо». В стекле пробегает сиреневый город, посыпанный огнями окон. И вроде бы снег…
Сегодня снега не было. Двери дома напротив распахивались то и дело, выпуская на расчищенный асфальт взрослых, детей и изредка – стариков. Какой-то подросток, отойдя от подъезда, воровато оглянулся на окна – не смотрит ли мать? – и, сорвав с головы шапку, сунул в карман. Иван проводил его участливым взглядом и подумал о юности – своей, прошедшей недавно, и нынешней Костиной. Всё-таки, юность ему не нравилась, нет – в ней было тревожно. Лучшие времена располагались позади… Он снова плюхнулся на кровать и лежал без сна, открыв чемодан с детством.
А когда часом позже отправился в офис и встретил по пути двух прохожих с ёлками, причина утренней сентиментальности стала ему понятна. До Нового года оставалось три дня! Видимо, внутренние часы, заведённые в детстве, до сих пор тикали и в нужный срок подавали сигналы к началу праздника – смятение чувств, требование волшебных приготовлений и прочее, прочее, что теперь, не-в-детстве, было совершенно излишне.
Весь день Иван взвешивал, как на этот раз ему обойтись с надвигающимся Новым годом, и решил, что ёлку покупать не станет – не заслужил! Зато по дороге домой купил в газетном киоске пакет хлопушек и выпросил у Оли на вечер Макса. С ним на пару они повернули крышки цилиндрических упаковок согласно стрелке, и из каждой вырвался ворох блёсток и ленточек. Эти богатства они смели потом в общую кучу, при этом обёртки всех найденных дома конфет были освобождены от содержимого и также искромсаны на «порох». Решение, где и как его можно будет использовать, было отложено друзьями на тридцать первое.
Весёлый, заряженный хлопушечным блеском, Иван открыл дверь пришедшей за Максом Оле и сразу спросил её о планах на Новый год.
– А что, ты хочешь нас позвать на Мальдивы? – предположила Оля.
– Нет, – сказал Иван и мгновенно остыл от игры. – Я буду дома, с бабушкой и дедушкой.
Олиных шуток он давно уже не смущался, но на этот раз отчего-то сделалось стыдно.Проводив гостей, раззадоренный блёстками и вечным недоразумением с Олей, он полез на верхние полки книжных шкафов и достал коробки с ёлочными игрушками. И хотя наряжать в этом году было нечего, взгляд обрадовался знакомой россыпи. Коробки Иван составил на пол, возле письменного стола, чтобы наглядно видеть близость Нового года. Он верил, что приближение праздника есть явление атмосферное, его можно впустить в окно вместе с уличным воздухом. Кроме того, у него оставалась надежда, что какое-нибудь чудо, к примеру, внезапное возвращение мамы, вынудит-таки его сбегать за ёлкой.
Но пока что чуда не было, и под вечер, несмотря на игрушки и хлопушки, Иван осознал, что дела его непредпраздничны до безобразия. По просторной, незаселённой, как степь, квартире, летал ветер из форточки, и некого было ему пробрать до костей. Конечно, можно повернуть шпингалет. Можно заранее (прямо сейчас!) купить шампанского (и выпить!), можно с Максом сходить на каток, и к каждому подарку подобрать нужную упаковочную бумагу, и на велик вместо фары повесить деревянный финский фонарь, и на машину – флажок с ёлкой. Но разве могли помочь эти клоунские полумеры? В действительности Иван знал только одно настоящее приготовление к празднику – надо выяснить, кто придёт в гости. Если не на саму Ночь, то хотя бы первого.
Полный решимости, он схватил телефонную трубку и дозвонился маме в Вену.
– Давай, я добуду тебе билет! – предложил он. – У меня такая злость на твою Австрию – я уверен, что добуду. Ну что мы будем на Новый год порознь?
Ему казалось, если мама вернётся – это будет большая победа добра, и год пойдёт, как по маслу, без ошибок и расплат.
– Нет, погоди, какой билет? – рассеянно удивилась мама.
Она только вошла – была на Вайнахтсмаркте у Ратуши. В толпе не тесно, подвыпившие австрийцы добры и галантны, какая-то поддержка, семейственность, общий праздник. Глинтвейн забирает, как хороший вальс, но на холоде хмель выветривается. Приходится пить ещё, под горячий, с дымком, бутерброд. Но это всё ерунда. Главное – её пригласили на одну полезную новогоднюю вечеринку. Может быть, произойдёт какая-то встреча, предложат интересные переводы? Может быть, ещё что-то новое перед ней развернётся – человек? Призвание? Словом, Новый год в Москве, со стариками – для неё сейчас непозволительная роскошь. Пусть не обижаются, а поймут.
«Да… – с жалостью к маме подумал Иван, – а вот я в этой роскоши живу!..»Следующим в его пригласительном списке был Андрей. В мазохистском кураже Иван позвонил, и по городской какофонии, обрамляющей голос друга, понял, что не уместен со своим чувствительным предложением, – но уже не смог свернуть.
Андрей приветствовал его бурной рассеянной фразой. Он толкался в магазине со списком покупок.
– Слушай, ты как, к нам на Новый год не собираешься? – спросил Иван, морозным куском вклиниваясь в тёплую толчею Парижа.
– Подожди, я выйду! – крикнул Андрей, пробился к выходу и, в уголке закурив, взялся объяснять своему другу, почему не может приехать.
– Ты лучше сам приезжай! Приезжай, приезжай – это будет то, что надо! – стал уговаривать он. – Я тебе даже билет найду – у меня есть волшебное знакомство в одной авиакассе. Решайся! С людьми тебя подружу! У нас ресторанчик арендован, с кёрлингом! Слушай, а ведь у меня и невеста для тебя есть! Очень милая девчонка! Старомодная, кстати, особа – ждёт принца.
– Ты смеёшься? – сказал Иван. – Куда я поеду? У меня бабушка с дедушкой. Знаешь, что они подумают, если одни останутся на Новый год? Вот представь!
Андрей не мог представить. Иван увидел издалека, как легко его друг пожимает плечами и кидает окурок в урну.Для окончательной гибели оставалось ещё позвонить Косте. Но такой звонок был напрасен уже потому, что Костя, если надумает, завалится и без приглашения. Чем больше его зовёшь – тем меньше шансов.
На улице поднимался ветер. Иван отложил телефон и зашёл к бабушке – узнать, не объявляли ли по телевизору какой-нибудь бурное природное явление. Оказалось, на ночь снова был обещан снег, но уже не «пудра», а полновесная крупнокалиберная метель.
– Мучение, а не погода! Кости ноют, руки не гнутся! – жаловалась бабушка, заметая осколки шаров. Они с дедом только что нарядили свою маленькую искусственную ёлочку.
– Вы-то хоть на Новый год здесь будете? – спросил Иван. – Или у вас тоже планы?
– Василия Петровича зайдём поздравить. А что? – удивилась бабушка.
Внук, смеясь, покачал головой. Василий Петрович был их старый сосед по площадке.
– Как думаешь, может, отца позвать? – спросил Иван. – Он там один. Позвать?
– Твой отец – ты и решай, – сказала бабушка.
– Ладно, – кивнул Иван. – Не будем. Всё равно он не приедет. Лучше замёрзнет насмерть, чем согласится…
И всё-таки, он послал отцу эсэмэску, не будет ли его случайно в Москве на Новый год?
«Нет», – лаконично отозвался отец.
«Но ведь и так хорошо. В общем, этого мне и хотелось», – подумал Иван, приняв всеобщий отказ, и чётким внутренним движением, как рукой чашку, отставил свою большую печаль подальше.
Можно было подумать, Иван и правда научился расправляться с тоской. Сколько она ни обивала его порог, он спокойно и твёрдо отказывал ей от дома. И сразу затем занимал себя делом или находил поблизости что-нибудь милое сердцу.На этот раз Ивана занял ветер. Он порывисто и громогласно гнал на Москву большую снежную тучу. Об этом уже сообщили по телевидению, посоветовав владельцам личного транспорта не оставлять машины вблизи рекламных щитов.
Иван лёг и решил ждать. Наконец, он услышал сухой шелест по стеклу. Это был снег, посыпавшийся внезапно и резво, как дождь.
Задрёмывая под заоконный звук, Иван думал об утешающей природе снега и о том, какие удовольствия утра ему предстоят, если метель не утихнет. Вот он проснётся, увидит улицу в дремучем снегу, не посильном дворнику, намажет себе маслом хлеб, приготовит кофе и, всё это расположив на подоконнике, станет смотреть. Пройдёт первая утренняя суета, откроется булочная, люди утопчут снег, но к обеду подвалит ещё… Тут в голове его замерцали Максовы блёстки и ленточки. Иван мысленно стал собирать их в кучу, чтобы подбросить – это было самое начало сна.В утренних сумерках, часов в восемь, Иван встал и, подойдя к окну, увидел жалкие клочочки снега на разделительной полосе – вот всё, что осталось от великолепного снега его мечты! Тротуар и дорога, деревья, крыши домов – всё было черно привычной чернотой города. «Поделом тебе, любитель роскоши!» – усмехнулся он, и, поглядывая в окошко на то, что есть, в неплохом настроении совершил свой завтрак.
* * *
Втроём с бабушкой и дедушкой они встретили Новый год. Иван, скромно и чётко использовав своё право на чудо, загадал, чтобы следующий Новый год встречали как минимум в том же составе. Расширение приветствуется, но главное – сохранить, что есть.
В половине первого он ушёл к себе, и сразу – Иван видел с балкона – в окнах у бабушки с дедушкой погас свет.
Если бы земля превратилась в рай и близкие не нуждались ни в чём, не знали обиды и одиночества, он бы встретил Новый год с Бэллой. По окраинной улице любого города они бы пошли – под созвездиями или снежными тучами, в чистоте или в слякоти, два ребёнка, два старика.
Отстранив мечту, слоняясь от окна к кофеварке, и с чашкой – назад к окну, Иван стал вспоминать новогодние ночи – прошлого года, позапрошлого и дальше вниз. Вдруг ему пришло в голову, что сегодня – семь лет их знакомства с Олей. Это было уже не просто воспоминание, но живое событие!
Иван отправил ей эсэмэску: «Выходи покурить!» и терпеливо прождал на лестнице минут пятнадцать, слушая, не откроется ли дверь наверху.
«Ну и хорошо, – зевая, подумал он и вернулся в дом. – Дозвонюсь маме и лягу».
Иван уже чистил зубы, когда Оля затрезвонила в дверь.
– Я Макса укладывала, – сказала она, войдя. – Чего хотел?
Иван объяснил ей повод.
– Ясно, – сказала Оля. – Ну давай, где шампанское?
Вовсе не праздничные, в домашних футболочках, они сели друг напротив друга и выпили за свою семилетнюю годовщину.
Оля говорила ему про жизнь. На работе её дела пошли – не то чтобы в гору, но на расширение. Приходилось засиживаться в офисе. Само собой, нервы от переутомления пустились в пляс.
«Ну, вот например…» – вспомнила она и рассказала Ивану, как, выезжая с работы, одному дядечке на «Москвиче» через форточку пожелала сдохнуть. И это только за то, что он замешкался перед ней на дороге. А однажды взяла и на двери туалета послала матом одну сотрудницу. Правда потом побежала и стёрла. Ну и с Володькой она себя ведёт не лучшим образом – использует, привирает. Всё это есть.
Иван слушал Олю с огромным вниманием. С тех пор, как ему стало нечего рассказать о себе, его слушательский навык возрос. Он видел подземные реки и воздушные течения, и всё казалось важным ему, как если бы любой разговор с человеком служил уточнению карты мира.
Оля перечисляла грехи, а в нём было чувство, что не она, а он понесёт их на исповедь, когда настанет пора, что семь железных шкур, которые предстоит снять с Оли, весь этот губительный металлолом, был его собственным грузом. Впрочем, никакой тревоги от этой мысли Иван не испытывал – один лишь тонус мышц, спокойную готовность, когда придётся, взять и донести.– Вот уж правда – на свете счастья нет, – подытожила тем временем Оля, и её голос был рассудительный. – Сына пинаю, родителям хамлю, всё мне, в общем, по барабану… Ну а что с меня взять? Нет у меня сил хранить моральный облик. Просто – нет – сил.
– Да. Я понимаю, – соглашался Иван.
– Что мне твоё понимание! Если бы ты меня полюбил бешено. Но ты полюбишь разве что принцессу эльфов. Я тебя знаю. А Володька – человек нормальный, знающий жизнь, у него родители рано умерли. У него обустроенный дом на природе. Так что в жизни надо быть прагматиком. Уйду с работы, отдохну, стану доброй. Макса буду из Малаховки в школу возить. Ну и, конечно, Володьке буду стараться создать покой и стабильность.
Иван, кивая, слушал. Он чувствовал неточность в Олином проекте, но пока не мог сформулировать.
На прощанье он сказал ей, что у него для Макса – вокзал и вагоны к его железной дороге. «Давай! – велела Оля. – Нам заходить будет некогда. Я передам».
Смеясь, он отдал ей коробки.Когда Оля ушла, позвонила мама. Она была одна. Вечеринка не оправдала надежд. Не то что предложения по работе, даже до дому никто её не подвёз! Счастье расклеилось.
Иван утешал маму, как мог, говорил о славной московской погоде, и к концу разговора совершенно выдохся, как будто всю ночь качал младенца.
Пока они с мамой разговаривали по городскому телефону, на мобильный позвонил Андрей. Перекрикивая весь огромный Новый год мира, гудевший за его спиной, он пожелал Ивану любви! Обожания! Страсти! Спасения из буден! Братства! Будущего! «И ладно, Бог с тобой, если тебе всего этого не надо – тогда здоровья, здоровья близким!»
Звонок Андрея, в особенности, последний пункт поздравления, растрогал Ивана. Он поблагодарил и, ничего не сказав в ответ, как если бы это был не Новый год, а его собственный день рождения, повесил трубку.Добрый – не ледяной и не колючий снегопад дежурил на улице в новогоднюю ночь. Иван решил, что прогуляется. Растерянный, в салюте Андреевых пожеланий, оделся – куртку на футболку, и вышел под снег. Снежинки высшего сорта – не мелкие, но и не размокшие, крепкие, указывали ему путь. Он пошёл к реке, остановился неподалёку от бухты и стал выбирать между вмёрзшими в лёд катерами «Корсар» и «Мария». «Мария» была стара и давно не пригодна к плаванью, но и «Корсар» своей ржавой обшивкой и наивным фасоном не уступал ей в дряхлости. Ивану нравились оба. «Я бы там иногда ночевал, – подумал он. – Нас бы с головой заметало». И улыбнулся: вот так бы, в старости, когда исполнены все дела – засесть и почитывать себе историю Англии, потому что всё остальное уже знаешь.
Потом, правда, он подумал, что вряд ли ему хочется такую уединённую старость. К тому же, зимний корабль может заменить зимняя дача…
Тут на его мобильном заиграл Костин звонок. Иван вынул телефон из снежного кармана.
– Ты где? – кричал Костя. – Быстро говори – времени нет!
– Я на реке, – честно сказал Иван.
– На реке? Что, серьёзно?! А где именно?
– Да тут, у пристани.
– Ну тогда стой, где стоишь! Жди! Я сейчас, на снегоходе! У них снегоход есть – это по реке – пятнадцать минут! Стой.
– Подожди! – закричал Иван, – А если лёд хрупкий? Провалишься!
– Ну провалюсь, так выберусь! Не тонуть же! Да не бойся, не бойся – нормальный лёд!
«Что же, в самом деле, дурак, поедет? – растерялся Иван. – Дождёшься с ним спокойной старости…»
Волнуясь и злясь, он пошатался по берегу. Споткнулся о бутылку из-под шампанского, врытую в снег. Пурга, заметённая степь реки, ямщицкий мотив – вот в таком примерно, вполне новогоднем духе он ощущал себя, дожидаясь Костю.
Наконец, вдалеке он различил движущийся свет, а затем и шум двигателя, и машину с пилотом, и приветственные Костины крики.– Как к старикам-родителям ехал к тебе! Долг сердца, всё вперемежку! Там Маша – а я к тебе! – восклицал он, бросив машину и взбегая по снежному обрыву, распахнутый, румяный от холода и страстей. Костя был в том же чёрном осеннем пальто, без шапки, зато в варежках по локоть. На лету он сорвал их, и обнял Ивана. Тот с трудом удержал равновесие.
– С Новым годом! Знаешь, что творится на свете? Просто чума! Я пропал! У меня нет шансов! Это по мне! Как же я теперь понимаю человечество! Иван, я и тебя теперь понимаю насквозь! И я не верю в твоё пустое сердце! Просто у тебя иные стратегии завоевания счастья! Ты – исторический процесс! Европа сближается с Африкой по сантиметру в вечность! Ну и что – разве это значит, что они не сойдутся однажды? Сойдутся, и ещё как! Моря расступятся, восстанут горы! Светит, светит, я вижу, тебе моя Бэлка!
– Ничего мне не светит, – высвободился из его рук Иван.
– Ну хорошо, не светит! Ты сам идёшь, с фонарём! – смеясь, крикнул Костя. – А хочешь снежку? – И быстро, ловкой рукой черпнул и залепил ему на шею жгучую горсть снега.
Иван оттолкнул его и принялся выгребать из-под ворота тающие комочки.
– Мне нужно, чтобы Маша ко мне повернулась, – объявил тем временем Костя. – Не краем глаза, а целиком! Целиком, вся! – Тут он сел над обрывом на корточки и закурил. – Чтобы от Женьки отвернулась и ко мне повернулась. А для этого нужен подвиг! Понимаешь, если я подкачу к ней без подвига, она подумает: какой забавный лузер этот Костя! Ты пойми, это ведь не какие-нибудь амбиции! Я за воздух борюсь! Мне выжить надо!
Иван смотрел, как жадно Костя пьёт свою сигарету, одним вдохом – чуть ли не до дна.
– Мне нужен успех, – продолжал он. – Но не на поприще жвачек. Мне нужен прорыв! – Тут Костя поднялся, взял Ивана за локоть и потащил вдоль берега.
– Проще всего бы написать гениальную вещь, – говорил он, пиная нападавший снег. – Но у меня такое чувство, что всё истинное, крупное в области искусства уже закончилось. Не стоит и стараться – рыба ушла. Кого ты поймаешь в пересохшей луже, даже если всю жизнь просидишь? Мелочь какую-нибудь. Кажется, так недавно были Гёте, Моцарт – для них всё только начиналось. А с нашим Пушкиным вообще смешно – не успел открыть русскую литературу – а вот она уже и закрыта! Каких-то два века! И вот, на фоне этого всего я задумал проект. Мне интересно, как большая человеческая личность, гений прошлого, переварил бы в себе нынешнюю эпоху? Мне хочется пройтись по всем великанам и вживить их в настоящее. Зная досконально биографию и труды вполне реально увидеть, как действовал и творил бы данный персонаж в дне сегодняшнем! Да, у меня нет знаний, это правда. Зато я могу резать время силой воображения!
– По-моему, я о чём-то подобном уже слышал, – заметил Иван.
– Слышал? Ну тогда и чёрт с ним! – не смутился Костя. – У меня еще куча идей! Надо только решить и действовать. Да, и еще обязательно надо сочинить для Машки сайт про пэчворк!
Ивану очень хотелось объявить Косте, что он – восторженный дуралей, но благоговение перед чужим душевным штормом отменило готовую реплику.
– Слушай! Давай-ка садись, поехали! – вдруг решил Костя и, приобняв Ивана за плечо, потащил с собою вниз, туда, где был припаркован снегоход Фолькера.
– Да пусти ты меня! – вырвался Иван и остался на берегу. Костя скатился к реке один.
– Иван! – снизу орал он. – Раз в жизни тебя прошу! Ну, чего ты трусишь! Не убью же я тебя! Прокачу с ветерком! – Он зажёг противотуманку и натянул варежки. – Ты, главное, пойми – мне это очень надо! Понимаешь – чтобы жить!
«Что за человек! – сердясь, думал Иван. – Шантажист и пустомеля! А если не ехать – бог его знает, ещё сгинет куда-нибудь…» Он поискал спуск к реке, не найдя, прошёл по рыхлому Костиному следу и спрыгнул с набережной на лёд.Неизвестное время они мчались по льду. Скорость и лунный пейзаж сбили внутренние часы. Если бы не огни домов на берегу, Иван и вовсе затерялся бы в космосе. Наконец, он услышал гудок – приветственный крик речной машины. Из трубы клубился дым – на катере топили печку. Стёкла запотели. К странной этой избушке, дремлющей на прицепе, и подвёз его Костя.
По скрипучим доскам они взошли на палубу. Их встречал грустный Женя в ушанке зелёного цвета, и хмельная Маша без шапки.
«Вот тебе и раз! – подумал Иван. – Попал в тимуровский штаб! Сейчас, если буду неосторожен, порушу им все провода!»– Вы давайте скорее вниз! – пригласил Женя. – Замёрзли? – и, сняв перчатку, протянул Ивану свою тонкую вежливую руку.
Иван пожал и огляделся. Замороженная палуба была украшена лампочками. Увлекая его за собой, дети нырнули в тепло кают-компании и задраили двери. Иван увидел диван, стол, два компьютерных стола, карты по стенам, на столе – разогретое вино. Костя налил ему стакан. Иван глотнул и поставил.
– Он так вас ждал! – сказала Маша и, обеими ладонями обняв стакан, вернула ему. – Допивайте, не ставьте! Вы – его совесть.
Яркими вишнёвыми глазами смотрела она из-под чёлки. Под ритм её шагов крутилась земля, от улыбки всходило солнце. В этом, как понял Иван, не сомневался никто из присутствующих, включая саму королеву.
Тем временем Женя снял ушанку и, раскрыв ноутбук, предложил Ивану присесть на диванчик.
– Ну что, – сказал он, тихонько улыбнувшись. – Костя говорил, вы не видели ещё? Покажем вам нашу работу!
Он открыл нужную страницу и принялся объяснять Ивану карту сайта.
Иван слушал Женю в пол уха, а экрана не видел вовсе – глядел поверх. Во-первых, из упрямого нежелания вникать в то, что считал пустым. Но была и ещё причина его невниманию: каким-то неявным органом познания, мудростью что ли, он стремился постичь отношения между ребятами.
Иван отметил, как прямо и дерзко Маша направляет свой взгляд по очереди на каждого из мужчин. Но кокетство её – чужеродно. Она влезла в него, как в неудачный маскарадный костюм, и теперь страдает, не в силах понять – где жмёт.
Он видел Костю, шального от недорастраты сил. Видел слабого, а потому экономного Женю, русую травку волос, открывшуюся под зелёным мехом ушанки – прилежный мальчик, честный, без лихачеств. Трудно, наверно, тянуть не свою лямку, носить передовые ценности с чужого плеча.
«Бедные дети! – думал Иван. – Шикуют на катере, и одновременно ютятся на катере. Лодка пробита. В каюту хлещет Интернет. Со временем они утонут, конечно, но пока что Фолькер избран на пост Посейдона. Такая игра! И он, Иван сидит тут с ними, будто с Олиным Максом в песочнице, тогда как надо бы взять их за руки и развести по домам».
– Я пойду, – произнёс он, поймав паузу в Жениной речи. – Мне надо домой, – и собрался встать.
– Ты что! – крикнул Костя, придавливая его плечи. – Никуда не пущу! Подожди пять минут, уже скоро! Мы сейчас будем зачитывать свои планы на год! Видишь – вот мой проект, про который я тебе говорил! – он схватил со стола распечатку и тряхнул ею перед Иваном. – Тут пока намётки. Может, мы из них сделаем такую интерактивную игру, разместим на сайте. Фолькер говорит, что планы надо обязательно произнести вслух в новогоднюю ночь. Обязательно! И ты, кстати, тоже – подумай, сформулируй!
– Это что, неоязыческая традиция? – спросил Иван, и вдруг кураж захлестнул его. – А где звёздочка на шапке? Или что там у вас за символика? Где устав в рамочке и портрет вождя? Вы почему вообще не по форме одеты?
– Ты что! – обиделся Костя. – Совсем? Тебя в гости привели! – и, сунув руки в карманы, ушагал в угол. Там, в кресле, заливалась смехом новогодняя Маша.
– Всё немножко не так, – аккуратно вступился Женя и, обратившись к Ивану своим вежливым печальным лицом, заговорил. – Мне кажется, Вы не точно себе представляете, чем мы занимаемся. Мы плохого-то ничего не делаем! Просто есть команда ребят, готовых направить свои таланты и умения на достижение общей цели. В основном, это студенты – начинающие программисты, журналисты, художники, экологи, социологи, юристы, педагоги, психологи и так далее… Вот мы все вместе хотим переломить ситуацию духовного кризиса, хоть немного растормошить… Вы спрашивайте, если что не понятно, – добавил он, не очень довольный своей речью.
– Да вроде бы нет вопросов, – сказал Иван.
Женя посмотрел на Ивана внимательно.
– Если вас смущает финансирование – так это частный проект Фолькера. Он и финансирует. У него много всего. В одних местах зарабатывает, в других тратит. Считайте, это хобби.
Его объяснения прервал взрыв хохота. Женя и Иван обернулись: Костя возвышался над Машиным креслом, сияющий, счастливый своим остроумием и Машиным смехом. Вряд ли он помнил, что привёз с собой гостя, на которого только что и обиделся.
Женя, качнув головой, отвёл взгляд.
– Пойдёмте, покажу вам наше пристанище, – сказал он Ивану.– Это очень тёплый катер, – объяснял Женя, когда они с паром вывалились на освещённую палубу. – Его так и строили – для круглогодичного использования. А там, видите, забор на возвышенности – это дом брата.
Кирпичный забор, обнесённый фонарями, и правда был виден отлично. Женя ещё рассказал о причале, о технических возможностях судна, о системе отопления, о том, как на зиму протянули от фонарного столба электричество.
– А когда будет чтение планов? – спросил Иван.
– Заскучали? – улыбнулся Женя. – Ничего, сейчас уже Фолькер должен прийти. Я так понимаю, Костя ведь затем вас и звал, чтобы познакомить?
В это время из каюты на снежный воздух реки выбрались Маша и Костя.
– Маш, застегни куртку! – крикнул Женя. – Ветер! И шапка где?
Иван опустил глаза, и какое-то время смотрел на промороженные доски палубы. Перспектива знакомства с Фолькером не обрадовала его, ну да бог с ней. Главное – было горько, что обманул Костя.
– Послушай, ведь это нечестно! – произнёс Иван, когда тот, под руку с развесёлой Машей, приблизился. – Как тебе теперь доверять?
– Да! Как ему доверять! – хохоча, подтвердила Маша-нараспашку.
– Что нечестно? Что Фолькер придёт? – заволновался Костя. – Ты обиделся что ли? Ты пойми: это важный будет год для меня – переломный! Я хочу, чтоб на чтении планов были вы оба! Хочу примирить вас внутри меня. И потом – у тебя шанс познакомиться с таким человеком!
– Мне твои шансы порядком надоели, – мягко сказал Иван и обвёл взглядом ребят. – Если хотите, я могу сказать… Если только хотите…
Женя и Костя смотрели внимательно, каждый со своей тревогой. Маша, опираясь о Костю, тихонько хихикала. Её победило вино.
– Я не верю, – произнёс Иван, взглянув на лесистый берег. – Во-первых, не верю, что матёрого бизнесмена вдруг потянуло спасать подростков. Но даже если и так. Не верю, что можно принести добро абстрактной аудитории, в то время как твои ближайшие люди – родители, например, – будут заброшены. Мне кажется, настоящая работа человека – всегда очень близко к нему, в самом узком обыденном кругу. А все эти ваши мегапроекты – это, по-моему, липа.
Женя молчал. Молчал, вопреки привычке, и Костя. Иван положил руки на перила и посмотрел на кипящий под фонарём снег. «Смотаться бы отсюда, – мечталось ему. – Но ведь Костя потом задразнит…»
И он остался.
«Скоро, – рассуждал Иван, – на палубу взойдёт его антагонист и несколькими фразами обесценит всё, чем жил. Обидное слово, взрыв совести, резкий шаг – и дуэль на скалах! За что же они будут драться? За правду, конечно. Каждый за свою. А нельзя ли разойтись миром? Нельзя никак. Сюжет, как всякое сказочное чудовище, требует жертвы».
Вот так, в шутку разложив перед собой предстоящую встречу, он успокоился, и хотя воевать ему не хотелось, мандраж ушёл.
Положение своё Иван оценивал как дурацкое, но не безвыходное. Нормальное положение временно пленённого детьми Гулливера. «С Фолькером – поздороваться, – решил он. – Держаться строго, в дискуссии не ввязываться. Если будет необходимость – кратко высказать своё мнение».
И когда из прибрежных кустов на пристань вышел парень в кургузой куртке, в нелепых ночью тёмных очках, его фигура показалась Ивану безобидной. В конце концов, не так давно он вполне благополучно увернулся от его велика.
– Идёт! – крикнул Женя.
Маша с Костей поспешили навстречу герою, и Фолькер, широко ухмыляясь, пожал им руки. С той же обобщённой улыбкой, не узнавая, он и Ивану сунул свою небольшую ладонь. Его лицо было добродушным. Неправильным, но притягательным. Тёмные вихры, крупный нос, щёки в ямках. Здороваясь, он снял очки. Иван с пробивающейся симпатией отметил его воспалённые глаза и совершенно сорванный голос.
Они были с ним одного, среднего, роста. Это потом Иван заметил, что сантиметров семь Фолькер наверстывает за счёт невероятных башмаков на платформе. Свои маловатые плечи и не достаточно юный возраст он скрывал под дурацкой мотоциклетной курткой. Маскарад удался ему – он и в самом деле выглядел пацаном.
В карманах у него оказалось детское шампанское – газировка с пробкой, какой Иван собирался угощать Макса. В тепле кают-компании, они расселись слушать. При этом Фолькер занял своей некрупной фигурой весь диван и задымил каюту старинными какими-то, горькими сигаретами – табаком с потонувшего корабля. «Неужели, правда, будут читать? – не верил Иван. – А хотя, ведь они дневники в Интернет вывешивают! Что им планы!..»
– Ну, братцы, у нас двадцать минут! – предупредил Фолькер и, пощёлкав телефоном, выставил будильник. – Давайте, поехали! Что сделаем насмерть, что наполовину, что в четверть. Дальше не глядим.
– А шампанское когда? – крикнула Маша, отняв у Фолькера бутылку и разглядывая этикетку. – Так это что, детское? Хочешь сказать, что мы – дети? – и она залилась смехом.
Иван и не знал, как это вышло. Он честно собирался досидеть представление, но нет, уже не мог, Машин смех стал последней каплей.
– Извините, мне надо идти, – произнёс он, собравшись встать, но не успел осуществить намерения. Голос Маши прибил его к креслу.
– Фолькер! Я тебе должна пожаловаться! – неожиданно чётко произнесла она. – Вот Костькин друг – он говорит, что наша работа – это липа. И что тебе бы лучше семьёй заняться, а Костьке велит от нас поскорее сваливать. Ты бы объяснил человеку!
Иван в изумлении посмотрел на Машу. Она не отвела глаз, напротив, совершила бровями подобие реверанса: вуаля!Фолькер повернулся к Ивану и вдруг – буквально на глазах – дремучая печаль наплыла на его лицо. – Все уйдите! – махнул он на детей.
В мгновение ока, демонстрируя чудеса послушания, дети улепетнули на палубу. Иван встал. Надо было что-то сказать.
– Я не лично о вас, – произнёс он. – Я вообще не люблю, когда людей организовывают. Неважно – секта эта, или психологическая школа, или партия, или вот, как у вас – массовое интернет-воспитание. Мне кажется, человек отдельно стоящий – единственная гарантия честности.
– Да пока ты будешь отдельно стоять – планета сдохнет! – мрачно грянул Фолькер и, затушив сигарету в стакан, подошёл. – Представим себе: наши солдаты стоят отдельно! На них строем движется враг. Гитлер! А ты стоишь отдельно. Представим себе исход! Она сдохнет! Планета!
Иван молчал. Прямо над ним свистал сорванный голос Фолькера, шумели его больные, как будто ссаженные, сбитые о тысячи лиц глаза. Шквал накрыл его.
– Брат, ты вообще чуешь – где мы живём? – улегшись, как ветер, но вполне готовый к новому порыву, продолжал Фолькер. – Что у нас с голубым шариком?
Иван молчал.
– Ну-ка, Женьк! – гаркнул Фолькер. – Давай сюда по-быстрому!
Женя в зелёной кроличьей ушанке сунул голову в дверь.
– Иди, свидетельствуй! – Фолькер взял подоспевшего брата за плечи и поставил перед собой. – Вот он знает! Мы с ним прошлой зимой на этой… где? на заправке! взяли журнал про туризм. Он листает, я его спрашиваю: «Ну, что новенького?» Как ты мне, Жень, сказал? «А что ты хочешь новенького? Туры на Марс пока не продают!» И меня ударило – а действительно, что нового может быть в журнале про туризм? Ничего нового не может быть в журнале про туризм. Земной шар мал! Маленький ком земли. Круг работ очерчен – значит, дело не безнадёжное. Я хотел заработать много. Это было безнадёжно – я смог. Хотите новую революцию хиппи? Сделаем. Но я как раз не хочу навязывать. Хочу предоставить малявкам, – он постучал Женю по шапке, – выбор. Общество потребления лишило их выбора. А я им его дам. Пусть человек на одном сайте увидит две формы жизни и выберет свою! При наглядном сопоставлении мы выиграем. У нас сейчас такая задача: рядом с минусом расположить плюс. Так что на детей я влиять не хочу – нет. Хотя это неправильно. Правильно – хотеть на них влиять! Нельзя из щепетильности уступать своё место подонкам!
Иван стоял и чуть не гнулся от ветра. Ни угловатая речь Фолькера, ни его дурацкий вид не умаляли ураганной мощи, идущей из сердца. Надо было как-то выстоять.
– Всё, что я о Вас слышу, – сказал Иван, собравшись с мыслями, – это вихрь и скорость. Сайты, проекты, прорывы, полёты, революции. Мне кажется, на такой скорости всё понарошку. Так жизнь мелькнёт – и не увидишь никакой красоты.
– Вот. Мне отец тоже сказал – нет красоты! – кивнув, отозвался Фолькер. – Отец мне не верит. Мать мне не верит. Говорят, это, типа, у него – у меня! – новая мания. То ему надо денег. Смешно, да? А то вдруг – ему не надо денег. Тоже смешно. Они хотят, чтоб я детям в школе преподавал компьютер. И чтоб я сажал на каникулах вишнёвый сад. Вот тогда это будет красота. А мне будет красота, когда у людей в пустыне души немножко прозелень… В нашей родной пустыне, – и он хлопнул себя кулаком в грудь.
Жест получился пафосным, но Иван его принял всерьёз. Чему тут не верить? – думал он. – Вот стоит перед ним впавший в идеализм силач. Он давно уже надорвался, да и вообще, болен. Спасти его невозможно, потому что он очень большой. Это всё равно что кита спасать. Так он и дастся!
– Свою пустыню каждый засаживает, чем знает, – сказал Иван. – Я вам, конечно, желаю удачи…
Тут он шагнул к двери и, не простившись, вышел. Ледяной воздух и близость свободы мгновенно захлестнули его. Настроение пошло в гору.
– Ну, чего там? Поругались? – увязавшись за ним, шёпотом спрашивал Костя.Когда Иван сошёл на берег, его догнал Фолькер. В одном кулаке у него была откупоренная бутылка газировки, в другом он зажимал флэшку.
– Стой! – крикнул он, приблизившись большими шагами. – Эй, как тебя? Иван! Держи-ка! Послушаешь. Это мой черновичок, с музыкой. Иван взял флэшку.
– Лимонада хочешь? – спросил Фолькер. – Нет? Ну смотри… А то алкоголь – враг! Я, когда могу – всегда не пью!
– Да, – кивнул Иван. – Всего доброго! – и двинулся прочь от пристани.«Ну вот – а ты боялся!» – сказал он себе, выйдя на протоптанную вдоль реки снежную тропку. И вдруг почувствовал счастье – как будто все вещи в мире, которых боишься, на самом деле не так страшны. Ему несколько раз попадались в жизни такие вот псевдомонстры. Сначала кажется: топором зарубит. А потом видно – ничего не стоит вынуть у него из рук этот топор, если только вовремя найдёшь доброе слово.
Через десять минут пути Иван услышал за спиной знакомые вопли. Костя спешил вдогонку с бутылкой вина, то и дело отхлёбывая из горлышка.
– Ну вот! – воскликнул он, настигнув его и приобняв свободной рукой.
– А как же планы? – спросил Иван.
– Да какие планы! – крикнул Костя. – Он всё своё время с тобой проболтал. И вообще набросился на нас! Что, говорит, с вас взять, раз люди вам не верят! Люди – это, то есть, ты! Кстати, как тебе Фолькер?
– Речь у него смешная… – сказал, подумав, Иван. – Какими-то прямыми досками валится. Это что, от компьютеров?
– А кто его знает? Ему поэтому тексты и не даются!
– А так ничего, – продолжал Иван. – Понравился. С Женькой они не похожи.
– Ещё бы! – улыбнулся Костя. – Женька – ноль, а тут – человечище! На! – сказал он, протягивая Ивану вино. – Больше не могу!
Иван машинально взял бутылку и понёс её за горлышко, в опущенной руке.
– А он и не мог тебе не понравиться! – продолжал Костя. – Ты у нас кто – ярый альтернативщик! И Фолькер альтернативщик. Враг моего врага – мой друг. Вот он, этот мир, эта жизнь, забитая жвачным стадом – это ваш общий враг!
– Мой – нет, – возразил Иван. – Я не воюю.
– Ну ладно, ладно – ты не воюешь. Ты делаешь вид, что в мире есть только природа, бабушка и я. А, между прочим, я могу тебе выдать детскую тайну Фолькера. Он верит, что напишет песню, которая спасёт мир. Представляешь? А так как песни пока нет – её ведь должен Бог послать! – он и занят пока интернет-педагогикой. Кстати, он что, музыку свою тебе дал? Значит, одобрил тебя. Может, он про тебя ещё когда-нибудь вспомнит.
– Не надо, – сказал Иван.
– Да не бойся! – засмеялся Костя. – Тебе-то что? Слушай – я назад побегу, ладно? – сказал он, оборачиваясь на реку. – Ты давай, выходи на шоссе – возьми машинку. А то пешком-то отсюда – запаришься! А я – к Машке. Не Женьке ж её оставлять – а? Ты, главное, не сердись! Это ведь всё весело, интересно! Как бы ты скучно жил, если б не я! Бутылку-то отдай, раз не пьёшь! Там ещё осталось.Бутылку Косте Иван не отдал. Он опустил её в снег и пошёл домой пешком. Свежий пух усыпал тропинку, хотелось разуться, поворошить ковёр босыми ногами. На подступах к дому засветлело первое января. Во дворе он пересадил из сугроба на лавочку новогоднего соседа и вошёл в подъезд.
Дома Иван вымыл бокалы – Олин и свой, включил по привычке чайник и сел ждать у окна. А собственно, чем он доволен? Ему вдруг стало тошно – от рани, от разбазаренного зря волшебного времени, от сумбурной встречи на катере. Впереди – пустое первое число, за ним – пустое второе. Мама и Андрей – несправедливо, обидно недосягаемы. И даже Макс к нему не зайдёт, потому что Оля забрала его коробки.
Нет, никакого чая, – спать! – решил он и лёг, высоко поставив подушку, чтобы видеть начавшую сереть улицу. Редкая безотрадность заплыла в сердце. И вдруг спасительно ему вспомнилось, какие хорошие подарки у него есть для бабушки с дедушкой! Лучшим из них была роскошная минитеплица на лоджию, с подсветкой и автоматическим подогревом. Игрушку эту для любителей помидорной рассады он приобрёл на выставке садового оборудования, вместе с землёй и семенами. Иван рассчитывал, что ожидание домашнего урожая поможет бабушке с дедушкой веселее дотянуть до весны. Единственный минус – большую коробку не затолкать под ёлочку…Утром Иван встал, обременённый чувством долга – ему предстояло вникнуть в творчество Фолькера.
Он включил на компьютере запись, послушал две песни и нажал «стоп». Затем вздохнул и потерпел ещё четыре. Это был агрессивный набор звуков, затягивающий и разрушительный. Под гул барабанов слушателя охватывала не имеющая вектора страсть. Возможно, Фолькер рассчитывал направить её в нужное русло посредством текстов? Смешные надежды! Слова блёкли под напором ударников. Ни одной доброй мысли не могло уцелеть в их молотилке. «Бедный Фолькер! – думал Иван. – Хочет спасать и при этом тиражирует разрушение. Желает противостоять, а на деле оказывается одной крови с тьмой и войной».
Иван ещё раз послушал заглавную песню и удивился – как до странности мимо сердца хлещет железный ливень. Не задевает совсем. Гром греми, разламывайся бездна – никакой на свете «ритм эпохи» не согнёт его воли остаться на стороне вечности, на тихом дачном перроне, протянувшемся от лета до лета.
Так он подумал, и сразу ураганчик сомнения налетел и шатнул «перрон». «А уж так ли ты прав, дружище?» Хорошо, что Иван давно уж не церемонился с ураганами. Он закрыл тему и, тщательно «потеряв» флэшку Фолькера, отдался милой жизни.* * *
Все долгие праздники снег мёл и таял. И то и другое было Ивану по вкусу. Чтобы совсем не раствориться в сиропе каникул, он придумал себе рабочее расписание. Ему нравилось по пустым дорогам добраться до офиса и побыть там одному.
Иван садился за стол и работал час или полтора, а потом несокрушимая лень одолевала его. Он чуял бессмыслицу всех бизнес-усилий мира и, потягиваясь, включал кофе-машину. Тем временем из солнечного двора его звали гулять. Никто конкретно, но в форточку залетало так много хорошего шума!
Глотнув из окна этой уже вошедшей в зимнее обыкновение оттепели, Иван оставлял свой труд, как одежду на берегу, и спускался на талую улицу. Водяная пыль была для него превыше распорядка. Распорядок и общение со Временем года – несравнимые вещи!
Так он провёл несколько дней января. А потом старая тоска разобщённости напала на него. Однажды утром, никуда не поехав, он взял да и позвонил Оле. Ему хотелось выпросить Макса на горку, но, оказалось, в тот день они уже были приглашены Владимиром в цирк. «Мы в цирк! – завопил Макс, выхватив трубку. – А ты что делаешь?» Иван сказал, что купил ему диск с мультиком про капитана Врунгеля, и вчера с удовольствием сам посмотрел все тринадцать серий. Тут Оля отняла телефон у сына. «Извини, мы опаздываем», – сказала она и повесила трубку.
«Пожалуй, пора отвыкать от Макса», – подумал Иван, и от этой мысли сразу стало темно. Он засомневался: не посмотреть ли Врунгеля ещё раз?
«Да нет, – я понимаю, – сказал он сам себе, репетируя речь, и голос его был покорный. – Я ни на что не претендую, кроме человеческих отношений между нами…» – Нет, так плохо, так нельзя говорить. Надо сказать: «Я не претендую на то, чтобы гулять с ним, как раньше. Но если мне очень захочется увидеть его – я имею на это человеческое право».
Это была неудачная речь. Да и бог с ней! Неудачная речь, которую никто не слышал – это пустяк.
Поразмыслив немного, Иван налил в термос чаю, отыскал шерстяные носки и поехал на дачу. Нескольких оставшихся светлых часов как раз хватило ему, чтобы откопать калитку и сбросить с крыши снег. Не то что без его вмешательства крыша рухнула бы – вряд ли. Выдерживала и не такое. Но как человек, лишённый в повседневной жизни физического труда и по нему тоскующий, он не мог упустить возможность вспотеть.
Снег тихонько мёл Ивану на волосы, и на расчищенную крышу, забеливая его чёрный труд. Он чувствовал, как светлеет в уме от большой тишины, и ему не хотелось в город.
Скоро над лесом Иван приметил юный закат – каплю розового развели в белом. Пора было возвращаться.
С мутным от усталости взглядом, буквально стеная от голода (термос с чаем не помог), он примчался домой и съел кастрюлю бабушкиной лапши. Ему показалось: день избыт, насколько возможно. Даже печаль о Максе отступила – никакие тревоги не станут терзать человека, скинувшего с крыши горы снега. Он уснул, едва коснувшись подушки, а посередине ночи его разбудил звонок. В страшной сновидческой уверенности – что дедушке плохо, а они на даче, и по снегу не выехать – Иван схватил телефонную трубку. Звонила мама.
«Спишь? – спросила она, услышав его дикий непробуждённый голос. – А я надеялась, полуночничаешь». «Нет. Я не сплю», – пробормотал Иван, включая свет, и улыбнулся от облегчения, обнаружив себя не в снегу, не в странном мире из вечных сумерек, а в уютной и доброй московской ночи.
У мамы была бессонница на почве сердечных расстройств. Накануне, зайдя в кофейню, она угодила на девичник местных престарелых дам. Восьмидесятилетние прелестницы были при макияже, в шляпках, и весь вечер обсуждали любовников. Ольга Николаевна смотрела на них, как в дальнее, отставленное на несколько десятилетий вперёд зеркало, и большой страх пробрал её. Не она ли – вон та, с вуалькой, в перстнях, непосильных для старых рук?
Иван, разогнав сон, слушал и ждал решающей реплики.
– И вот, я оглядываюсь, – продолжала Ольга Николаевна свою монументальную жалобу. – Что со мной произошло? Чего я достигла? С чем приду к концу? Ты всё пела – это дело! – вот мой сюжет! Ты-то хоть осознаешь трагедию? Человек погибает, не видит дороги, уже теряет аппетит, уже даже не ходит по утрам за круассанами – хотя ты знаешь, как я их люблю. И никакой помощи! Все держатся на отдалении. Никто ничего не предпринимает, чтобы спасти человека! Хоть ты сделай что-нибудь! Поступи как-нибудь по-мужски! Никто не может поступить по-мужски, одни разговоры!
В ту же ночь Иван обдумал варианты мужских поступков и, выбрав один, приобрёл через австрийскую интернет-кассу авиабилет до Москвы. Завтра маме должны были доставить его по указанному адресу, в Баден. Довольный, он послонялся ещё по дому, полил цветы и снова лёг.
А на следующее утро проснулся поздно, с чувством совершенного удовлетворения от поступка, и ещё от чего-то. Ах да – он ведь чистил крышу! И точно – руки не сгибались.
В бодром состоянии духа Иван умылся и отправился было проведать своих. Но, едва ступив за порог, остановился: по лестнице благовестным ангелом к нему спускалась Оля.
– На вот! – сказала она, толкая перед собой Макса. – Хотел – бери. Смотрите своего Врунгеля. Я хоть иголки от ёлки вымету.
Макс засмеялся и, опережая Ивана, поскакал в гостиную. В руке у него был кулёк.
– Разобрали ёлку, – объяснил он, высыпав кулёк на диван. В нём были шоколадные фигурки на золотых ниточках, те самые, из рождественского календаря. – Давай съедим шарики и свечки, – предложил Макс. – А живых есть не будем!
Иван кивнул. Они отложили «живых» ангелов и зайцев, а остальное пересыпали в вазочку и отнесли на стол, где уже стояли готовые к завтраку чашки.* * *
К маминому возвращению Иван стал готовиться, как к появлению младенца. Всё следовало перемыть и отчистить, вымести, заменить, построить заново.
Критический осмотр дома он начал с кухни. Что интересного было у него на кухне? Всё интересно! Сломанные настенные часы чинить не хотелось, он давно уже решил, что со стрелками, замершими на половине одиннадцатого (утра, конечно) они нравятся ему больше, чем в обычном суетливом кружении. Что ещё? Холодильник работающий. Печка работающая. Посудомойка – сломана. Зато теперь каждый день у него есть повод подержать руки под тёплой водой, унимающей суету, проясняющей мысли. Открыв для себя волшебные свойства мытья посуды, Иван с удовольствием вычеркнул починку агрегата из списка отложенных дел.
Что дальше? Гостиная! В гостиной скрипели двери, одна половинка не закрывалась, и широко разбрелись по древесно-солнечному воздуху дома побеги плюща и душистые ветки цитрусовых.
Всё это до приезда мамы ещё можно было успеть исправить – подстричь растения, подогнать рассохшуюся дверь. Но что-то коробило его – как если б он вздумал стричь и подгонять судьбу. Нет уж – пусть скрипит и вытягивается, как ей нужно! Пусть видит мама, как её сын нынче спокоен и волен, как спокойны и вольны их домашние растения и предметы быта.
Оставалась ещё надежда поприветствовать маму её обновлённой спальней. Хорошо ли ей будет вернуться в отжившие обои и скучный потолок? – раздумывал Иван. – Может, лучше взять на себя риск и превратить комнату в уголок Средиземноморья? Договориться с монтажниками из офиса и перекрасить стены, добавить к ним летней зелени, морской синевы, у окна поставить кадку с мандариновым деревом…
Иван дофантазировал до карнизов – и разочаровался. Всё это были смешные, ненадёжные меры! Лучше он отвезёт маму на дачу и загонит на крышу. Она увидит, какой несокрушимый в природе покой, и сама успокоится, и всё станет ей мило.
В знаменательное утро маминого возвращения Иван, вопреки привычке, встал по будильнику и собрался в цветочный киоск. Тёплый, тихий снегопад полетел ему на плечи, когда он вышел во двор, и сразу всего засыпал. И засыпал на обратной дороге охапку цветов, но нисколько им не навредил. Тёмные красные розы Иван поставил в большую вазу на кухонный стол, а трогательные оранжевые, на коротких ножках отнёс в мамину спальню. Вздохнул и огляделся: что ещё можно успеть? Смахнуть пыль? Что-нибудь приготовить? Шторы, шторы повесить, которые после лета снимал стирать! – он ринулся было к шкафу за шторами, но вспомнил, что их ещё надо гладить. Тут его горячка прошла. Оставшийся до отъезда в аэропорт час он провёл у бабушки и увидел с грустью, как сильно она разволновалась, плакала, какие дурные зачем-то говорила слова: «остарела», «обуза», «смерть». Бабушка, человек весёлый и стойкий, редко поддавалась старческой сентиментальности. Её девиз был – находчивость и оптимизм. И хотя намерение проявить находчивость в отношении такой махины, как жизнь, казалось Ивану наивностью, сдача бабушкой жизнелюбивых позиций всерьёз опечалила его. Он утешил её, как мог, и пошёл к гаражу.
По дороге ему вдруг стало боязно. Как-то они теперь сойдутся с мамой? Как-то мама сойдётся с бабушкой? Вот если бы вынуть из жизни годы врозь – ничего в них хорошего не было – и вернуться туда, где расстались! Он усмехнулся. Соблазн хирургического вмешательства в прошлое не впервые его посещал. Нет уж – не будем резать! С багажом встретим маму.
Снегопад, пожалевший утром цветы, тихо проводил его до Шереметьева. В светлом дыму Иван припарковался, отыскал нужный сектор и ждал около часа, ни о чём больше не думая, вспоминая давние перелёты, – пока вдруг не различил в толпе пассажиров маму. Вот она – молодая, весёлая, разгладившая морщины, мелькающая, импрессионистская мама-путешественница – ещё не видит его, но уже давно с ним, уже много минут заключает в объятия, плачет!
Дорогой Иван поглядывал на неё, сверяя с прошлым. Нет, сильно мама не изменилась. Осталось прежним её тонкое, едва ли не аскетичное лицо и очаровательные глаза, противящиеся всякой аскезе. «Как я буду её беречь! Чтобы она не старела», – думал он.Дома, сдав маму бабушке с дедом, Иван спустился во двор и занялся багажом. Это было лучшее дело за последние несколько лет! Даже лучше расчистки крыши.
Испытывая все физические признаки счастья – волну в груди, непроизвольную улыбку, взрыв неистраченных сил – он принялся носить вещи. «Ах вот ты какое тяжёлое! – посмеивался он, таская чемоданы от машины до лифта. – Вот ты какое!»
У мамы и правда оказался большой багаж. Помимо чемоданов с вещами и ящика с книгами она везла картины, и даже предмет мебели – замотанное в поролон и плёнку кресло – они доставили его на верхнем багажнике.
С красными руками, довольный, взмокший, Иван зашёл в приоткрытую дверь к бабушке, доложить, что окончил дело. И настоящей радостью было увидеть после трудов как на кухне стоит мама и из сумки выкладывает на стол сладости, купленные в день прощания с любимой кондитерской – поленце штолена, поленце штруделя, бумажный пакет с круассанами, и совсем уже смешную чепуху – мешочек засахаренных фиалок. Бабушка с любопытством смотрит, сразу пробует. Слёз нет. На маминых ногах – старые тапочки.Пообедав у бабушки с дедушкой, Иван и мама вернулись домой. Ольга Николаевна встала к окну и, сощурив глаза, долго смотрела на двор. Её настроение было одновременно поверженным и облегчённым. Как если бы все эти годы она находилась во власти величайшего заблуждения, таившегося в искусствах и путешествиях, рафинированности и красоте, и только сегодня вырвалась на свет.
– Смотрю и не узнаю, – сказала она, услышав шаги Ивана. – Как вы тут живёте!.. Дедушка совсем плохой, да?
– По-моему, наоборот, он сейчас как раз ничего… – возразил Иван, но она не услышала.
– А что это за дома тут понастроили? – спросила Ольга Николаевна, показав кивком на выросшие за рощей башни. – Я как Рип Ван Винкель, да, сынок? Приехала – и всё другое. Выпала из мира.
– Что-то изменилось, конечно. Но не так чтобы очень, – заверил её Иван. – Я обои тебе хотел переклеить – оставил. Вон, правда, табуретку купил! – и он кивнул на новенькую банкетку для пианино. – А вертушку увёз на дачу.
– Да… – отойдя от окошка, произнесла Ольга Николаевна. – Да… Да… Ну что же. Надо разбирать вещи! Надо всё разобрать и забыть.
В чемоданах у мамы было тесно и сорно. Она выкладывала вещи на диван в гостиной, и всё ей не нравилось, всё отзывалось в ней каким-нибудь неудобным воспоминанием. «Вылечиться! От всего надо вылечиться!» – рассеянно копаясь в чемоданах, твердила Ольга Николаевна и вдруг, вскинув глаза на сына, ахнула:
– А тебе-то я ничего не привезла! Совсем морально там опустилась – живёшь одной собой. Неужели ничего? Нет, постой-ка! Я привезла кресло! – мама вскочила и бросилась в коридор проверять. – Ты ведь его выгружал? Как раз к тебе в комнату! Это мне подарил хозяин отельчика, помнишь? Стефан, такой кудрявый!
– Как это подарил? – идя за ней, смеялся Иван.
– Просто подарил, на память о его пансионе, если я не вернусь. Я честно ему сказала, что теперь уж вряд ли… Он хотел откопать мне лимонное деревце, но мы решили, что в чужом климате оно может погибнуть. Тогда он велел горничной упаковать мне в подарок дивное кресло из моей комнаты. Я не отказалась. Всё-таки столько сезонов в нём провела, это уже часть жизни.
В коридоре, под вешалками, кресло нашлось. Иван внёс его в комнату и распаковал. Оно было гнутое, шёлковое, с южными цветами на обивке – прекрасное старинное кресло, только сделанное недавно.
Мама села в него и заплакала.
– Я вся в грехах! – сказала она.
– Ты знаешь что, – произнёс Иван, садясь подле неё на корточки, – мне кажется, если человеку что-то не нравится в прошлом, главное, стараться хорошо жить в настоящем – и тогда всё смоется. Человеку ведь не отказано в прощении.
– Ты думаешь? – ободрилась мама.
– Конечно. Да тебе и некогда будет. Я тебя с Костей познакомлю! Потом, у нас же бабушка с дедушкой!
Иван подёргал маму за браслет, чтоб она хотя бы насильно растянула губы в улыбку. За проповедь свою ему было не стыдно. Он не сомневался в её успехе, потому что знал маму. Ольга Николаевна являла собой счастливый образец сангвиника – триста пятьдесят солнечных дней в году. Если и набежит тучка – нужно только хорошенько на неё подуть.
– Ты мне расскажи, – с усилием отвлекая мысль от собственных бед, заговорила Ольга Николаевна. – Ты-то чем занимаешься? Есть у тебя дело?
– Дело? – улыбнулся Иван, поднимаясь. – Ну пойдём, покажу! – он осторожно вынул растаявшую маму из кресла и повёл в свою комнату.
– Вот, это мой письменный стол, помнишь? – произнёс он и отодвинул стул, чтобы мама могла присесть. Стол был пуст, если не считать кактуса. За его высокими загогулинами чуть заметно чернел квадрат дисплея.
– Это мне Оля с Максом подарили, – гордясь, объяснил Иван.
– Кактусы поглощают компьютерное излучение, – рассеянно подтвердила Ольга Николаевна. – И что ж ты тут пишешь?
– Да ничего не пишу, – сказал Иван.
Он хотел бы признаться маме, что иногда чувствует свой стол кораблём, пришвартованным до той поры, пока его хозяин не возьмётся за труд. Но как признаешься, раз даже намёка на этот труд ещё нет в сердце. Надо ждать.
– Зато я практически поэт, мама! – объявил он. – Не веришь? На ночь – две строчки! За четыре я и не берусь, там ведь пришлось бы рифмовать, а две – то, что надо. Становишься свежим, чистым. Сны хорошие снятся.
– Две строчки. Боже мой! – ахнула мама, как если бы её сын голодал. Она встала из-за стола и, пройдясь вдоль стены, задумчиво стукнула кулачком в стекло книжного шкафа.
– Ну что ещё тебе показать? – шёл за нею Иван. – Видишь, разобрал свою рубку. Вымел половину книг, диски почти все… А это Макса, – он кивнул на ящики с конструктором и машинками. – Оля мне одалживает его иногда, на бедность. Вот ещё я гитару купил! – Иван взял из угла гитару и дал маме. Она приняла её в неловкие руки, как чужого младенца.
– Прихожу в магазин и говорю: дайте мне хорошую гитару, чтобы я на ней сразу научился играть. Мне продавец говорит: а вы каждую прижмите к животу и струны подёргайте. Какая животу приятнее – та ваша. Вот, я выбрал.
– О!.. Сколько у тебя хороших занятий! – позавидовала мама, возвращая ему инструмент. – А чем же я займусь? Вот ты вытащил меня…
– Да о чём ты волнуешься! – воскликнул Иван, беря маму в охапку вместе с гитарой и выдворяя из своей грустной комнаты. – Во-первых, мы сейчас же сядем за стол, будем праздновать! И вообще. Мама! Мы тебя с бабушкой будем любить не хуже твоих альпийских героев! Найдём тебе занятие, всё мы тебе придумаем!
Он нисколько не врал – у него были силы. «Когда человек один, – думал Иван, – он как будто скован, он – как крестьянин без земли». И вот, теперь у него появилось поле – мама.* * *
На следующий день, встав рано, Иван бестелесно прошёл по коридору на кухню, неслышно переставил стул к окну, раздвинул цветы и, опёршись о подоконник, посмотрел на хмурый город, который ему ещё предстояло как-то растолковать отлучавшейся маме. Поверх крыш виднелись подъёмные краны, похожие на корабельные снасти. «Неба осталось немного, – подумал он. – Скоро кончится совсем… Да, нечего тянуть! Сегодня же надо идти и показывать маме новости». Новостей было довольно – малоэтажные улочки, превращённые в город-порт, сауна на месте старой булочной, бетонный забор вдоль пляжа и прочие бесцеремонности, которые принесла с собой хлынувшая в ближайшие пригороды Москва.
Он очнулся от скрипа двери.
– Погоди-ка? Что, уже половина одиннадцатого? – в дверях стояла мама с мятой щекой, со спутанным вихрем кудряшек, и смотрела прищурившись на настенные часы.
– Да нет. Тут надо батарейки поменять, – сказал Иван. – Но, по крайней мере, я меняю у бабушки перегоревшие лампочки! – добавил он в своё оправдание и улыбнулся, видя, как удивлённо, будто и не было её здесь вчера, мама оглядывает заросли своего жилища.
В последний год солнце было ярким – плющ заслонил собой половину кухонной мебели, укрыл сахарный мрамор столешницы и пробрался по трубе отопления на карниз для штор. Иван ничего не предпринял, чтобы остановить экспансию. В белизне и зелени ему виделась эллинская гармония, он был доволен. На подоконнике откуда-то взялась трещина, и оказалось, что он деревянный. Иван и сам удивился, когда обнаружил, что поверх бетона у них закреплена обыкновенная крашенная доска – достаточно широкая, чтобы цветы с горшками чувствовали себя вольготно. Костя посоветовал ему насыпать в трещинку земли и посадить газонную травку.
– Скажи-ка, – полустрого спросила мама, – как ты ухитрился сделать из квартиры запущенный сад? Ты что, работал с дизайнером?
За завтраком, словно в подтверждение её слов, Иван отодвинул штору и в чашку маме упал розовый мотылёк – увядший цветок герани.
Это был утешительный и беззаботный завтрак. Венские сладости, посыпанные снежной пудрой, украсили стол и облегчили беседу. Мама и сын обсуждали кондитерскую тайну Австрии. Закваска Франции и Германии плюс собственный культурно-исторический шарм, добавленный из воздуха прямо в тесто, – вот был предмет их разговора.
– Ну что? – сказала мама, допив свой кофе. – Пойдём, покажешь мне, что у вас новенького?
Оба они посмотрели на ужасную погоду за окном, одну из тех, что особенно любил Иван. Ветер с Атлантики прогнал снег и намёл дождя. Вот выйдут они – и бензинная слякоть проржавит тайну штоленов и штруделей в снежной пудре, вытравит из сердца их утешительный вкус.
– Может, не пойдём? – взглянул он на маму.
– Пойдём обязательно! – бодро решила Ольга Николаевна и, бросив неубранный стол, отправилась выбирать одежду.
Ивану было забавно, как долго и придирчиво, словно на свидание, собирается мама. Он отвык от тщательности и, дожидаясь, скучал. Наконец, Ольга Николаевна оделась. Иван подал ей её «сливочное» пальто.
– Мама ты забрызгаешь, – предупредил он. – У тебя есть что-нибудь тёмное?
– Тёмное – ни в коем случае! – возразила мама, и они спустились во двор.
Иван смотрел на маму внимательно. Ему хотелось перенять её взгляд и заново увидеть здешнюю жизнь. Из двора они вышли на улицу. Ветер, разогнавший тучи с дождём, трепал теперь мамино пальто и причёску. Ветряные слёзы текли из отвыкших глаз, но какой-то кураж наплыл вместе с ними. В магазинчике, запутавшись в русских рублях, Ольга Николаевна купила себе четвертинку обычного чёрного хлеба, какого не ела сто лет. С четвертинкой этой, заливая её ветряными слезами, перепутанные мокрые волосы отводя с лица, мама шла и от души восхищалась местностью.
Она хотела полезного дела в противовес своему праздному альпийскому прошлому, и само блуждание по грязному пригороду, где ещё не повывели до конца всех бездомных собак, казалось ей делом нужным, почти святым! Даже просто равнодушия к модным тенденциям, неучастия в культурной жизни было довольно маме, чтобы почувствовать, как дельно, по-трудовому она сможет жить! А если ещё добавить согласие с плохой погодой и к обеду – ломтик долгожданного чёрного!..
Иван бережно сопровождал маму в её опьянении. Они прошли вдоль знакомого строя пятиэтажек. У тех, что на снос, были выбиты окна. Какие-то хмурые мужики, какие-то тётки, мамины ровесницы, унижающие мамину молодость своей неухоженностью, попадались им по пути. Иван думал – как бы свернуть к реке? Но маму всё носило по городу. То её манили новые автобусные остановки, то хотелось поближе рассмотреть двадцатиэтажную громадину – что там за лоджии? То вывеску на каком-нибудь магазинчике она находила «венской».
– А пойдём, – наконец, сказал Иван. – Я тебе покажу, где я на велосипеде езжу!
И, решительно приобняв маму, потащил её к реке. Уже позже он подумал: может быть, им не стоило сегодня менять направление? С удалением от городской толкотни, с ветром в спину, как-то ослабла мамина бодрость, остаток хлеба она бросила птицам, и к берегу подошла опечаленной.
Река не шевелилась, в заливе ждали апреля неподвижные баржи и катера. Иван всех их знал поимённо и всех представил маме. В последнее время он полюбил речной транспорт. Этому не было никакой логичной причины, что и есть совершенно правильно для любви. В обычные дни Иван привык смотреть на реку отрешённо, забыв себя, но сегодня с ним была мама. Жалкий лес, ржавые баржи, вид нечистого льда смутили её. Запал жить по обычаю родины потихоньку сходил на нет.
Нахмурившись, глядела Ольга Николаевна на реку с диковинными консервными банками. На бортах их значилось: «Балта», «Архимед», «Пегас», «Ласточка», «Мария», «Корсар»…
– Вот ты представь себе, милый, – вдруг заговорила она. – Какое там солнце! Люди смотрят на цвет винограда и знают, что будет вино! Там легко и не зазорно быть молодой, жить, действовать. А здесь я приехала – и как будто легла в родную могилу. Так и есть… – это моя могила! – она села на корточки и, сняв перчатку, погладила берег.
Что было делать Ивану?
В отчаянии он поволок свою «хризантему» прочь от хмурого берега и, усадив в машину, повёз отдышаться в центр.
Заведение Миши было маленькое. Миша относился к нему влюблённо, и потому всё в нём оказывалось лучше, чем предполагал прайс-лист. Особенно посетители. Их Миша селекционировал тщательно. Не то чтобы гнал негодных, но тех, кто был ему мил, опекал столь чутко, что они становились завсегдатаями.
Несколько симпатичных лиц взглянуло на них, когда они вошли, и Ивану захотелось немного состариться, чтобы не подводить Ольгу Николаевну своей чрезмерной молодостью. На миг ему стало горько за маму – если б она была молода, сколько нашлось бы для неё у Миши друзей и поклонников! Чтобы изгнать эту горечь, Иван скорее попросил для себя и для мамы чудотворный напиток. Был у Миши в коллекции густой переслащённый чай с лимоном. Иван любил этот чай и немного его побаивался. Он вызывал из памяти счастливое время школьных простуд, поездки к родственникам, почему-то – детские лыжи на ремешках… «Психоделично, не правда ли?» – гордился Миша.
– А я никогда не клала столько сахару, – сказала Ольга Николаевна, задумчиво пробуя чай, и в голосе её слышалось сожаление о зря мелькнувших годах.
У Миши мама согрелась, изящество вернулось к ней. Уходя, она сама задула свечку и преподнесла любезному хозяину улыбку с благодарностью за уют и бесподобное «тирамиссу».
– «Тирамиссу» – это банальности, – возразил Миша. – Вот на Рождество у нас был фантастический дрезденский штолен – но только с двадцать четвёртого по седьмое. Вы пропустили!
– А нельзя, – спросил Иван, – испечь штолен без Рождества?
– Не святотатствуйте! – обиделся Миша. – Вы лучше приходите ко мне на Пасху. На Пасху у нас будут куличи – вы не знаете, что это за прелесть! Будете рассказывать потомкам.
– До Пасхи ещё полгода, – сказал Иван.
– Во-первых, меньше, – понизив голос, сообщил Миша, – Можете мне доверять – я считал. Но даже если бы! Послушайте меня, господа, полгода это что? Пшик! Вы не заметите.– Он что, из Одессы? – спросила мама, когда они вышли. – Да нет… – смеясь, сказал Иван. И ещё долго не уходила улыбка, потому что Миша одарял щедро.
* * *
Несколько последующих дней Ольга Николаевна провела в трудах по искоренению евроэгоизма: в бабушкиной квартире собралась вымыть окна, но помешал мороз. За мытьём посуды побила чашки и нечаянно хрупнула дедушкины очки, присев к нему на диван поговорить. Всё это были небольшие, но обидные промахи.
Забота о ближних не удавалась маме. Она никак не могла приладить руки и сердце к этому давно забытому делу. Даже уличные собаки не попадались ей, когда она выходила с косточками.
Видя сказочную неуклюжесть её усилий, Иван заподозрил ошибку, и в голову ему пришла простая мысль. Он подумал, что мамино призвание – в лёгкости. Сколотить из неё надёжную стену для дома нельзя. Да и вообще, что за дурная причуда – награждать весело устроенного человека своей угрюмой склонностью к милосердию?
Так рассудил Иван и с тех пор буквально молился атлантическому циклону, чтобы тот допустил в своих мрачных владениях голубую дыру. Через неё маме посветит солнце, и тогда, взяв коньки, она поедет в парк на каток, или влюбится в ярко освещённого солнцем прохожего. В общем, как-нибудь скинет с себя педагогический гнёт своего сына.
Как-то утром он проснулся от шума. Это был стук роняемых вещей. Хлопнула дверца шкафа. Прямо из сна Иван телепартировался в мамину комнату и застыл на пороге.
Он увидел прекрасное зрелище – то, которого ждал! Мама сидела среди разваленной на полу обуви и примеряла кроссовки – всё не годилось!
– Доброе утро, милый! – озабоченно произнесла Ольга Николаевна. – А ты-то бегаешь?
В окне маминой комнаты Иван заметил пегий дым из далёкой трубы, распустивший по зимней голубизне свои кудряшки. Облачность ушла. Два самолёта, пролетавших давно, украсили чистое небо большим розовым крестом.
«Прощай, брат циклон!» – подумал Иван, и, возвращаясь взглядом к маминому обувному развалу, спросил:
– Ты, наверно, не помнишь, мама, какая у нас зима. Как ты собираешься по ней бегать?
– Это ты не помнишь, какая у вас зима! – возразила Ольга Николаевна. – Давно уже тёплая, европейская! – и объявила, решительно зашнуровываясь. – Всё, я берусь за жизнь! Жалею, что поддалась самоедству и испортила столько прекрасных дней. Если человек обвяжет себя своим прошлым, как гирями, – много ли он пройдёт? Нельзя всю жизнь корить себя за двойку в первом классе!
Иван кивнул. Ему нравилось, как юно, по-девичьи, выражается его мама.
– Если будешь бояться грехов, – продолжала Ольга Николаевна, надевая куртку и шапочку, – тогда ты и с места не сдвинешься – так и просидишь в клетке. Посмотри на себя! – она энергично оглядела сына. – Ты, как богатырь, которого по плечи врыли в землю!
Иван невольно шевельнул плечами.
Мама попружинила на носках, проверяя натяг шнуровки.
– Так ты не пойдёшь? – спросила она, берясь за ручку двери. – Очень зря!
– Я тебя подожду, – сказал Иван. – Что тебе сделать на завтрак?И хотя мама ничего не заказала, и, кажется, даже ушла обиженной, Иван почувствовал, что день задался. Он сходил померить давление бабушке с дедушкой – оба результата ему понравились. Тогда он подумал: может быть, и жизнь задалась?
И не ошибся. С того утра, как мама отправилась бегать, в их доме начались перемены. Ольга Николаевна вызвала мастера, и сломанная посудомойка вновь забурлила. Её маленький водопадик, заводимый на ночь мамой, не давал Ивану уснуть. Разобравшись с посудомойкой, она подстригла герань и упразднила вечную половину одиннадцатого, купив для кухонных часов батарейки. С той поры, если Ивану случайно доводилось застать знакомое расположение стрелок, он улыбался ему, как другу.
Вещи были разложены, пыль сметена, а Ольга Николаевна всё ещё не растратила силы. Тут Иван проявил фантазию и принёс ей мольберт. Не то чтобы мама имела склонность к живописи, но не опробовать эту гордую доску она не могла. Ей захотелось нарисовать зимнее солнце, спасшее её от уныния, и морозную дымку, и сахарный иней. Иван удивился маминой смелости. Столетиями люди бились над этой дымкой, а она собралась взять коробку акварели «Нева» и в одночасье довершить их усилия!
«Ну что ты! – утешила его Ольга Николаевна. – Я только смешаю краски!»
И мешала их по памяти и с натуры несколько дней подряд, пока не ушёл задор, какой бывает в начале всякого дела. Её лучшими достижениями стали две палитры: зелёно-оранжевая, с лавандовой просинью – в память о природе мест, где она проводила отпуска, и зимняя, розово-дымная, та самая, на счёт которой опасался Иван. Над обеими Ольга Николаевна трудилась с чувством ответственности – как если бы выбирала ткань себе на платье.
В дни маминого увлечения они ходили на охоту за дымкой к реке. Всё, что нужно, там было – и розовое, и жёлтое, и голубое. На другом берегу нежно дымились городские кварталы. Небо над ними было похоже на мягкий хрусталь, как если бы его голубую твердь растушевали по краю. Снег на реке сиял. Невесомость картины нарушал еловый лес, грубо черневший по дальнему берегу. Его хотелось стереть ластиком, но, должно быть, и он был к месту. Иван не желал верить в случайное совершенство пейзажа, ему было приятно положиться на вкус природы, посеявшей вдоль берега ели.
А однажды по дороге домой, уже во дворе, они увидели март. Солнце струилось в ветвях большого дерева, как талые воды. Это странное преломление света, создавшее иллюзию весенней капели, поразило Ивана. Он остановился и вспомнил сказку «Двенадцать месяцев».
На следующий день солнца не стало. Ещё один друг Ивана – на этот раз циклон из Арктики, – приплыл погостить, и муза смешивания цветов ушла от Ольги Николаевны вместе с солнышком.
«Что же это такое со мной, скажите! Мешаю краски, как в детском саду! – изумилась мама, поутру взглянув на небесную хмурь. – Я же личность, я переводчик, человек с опытом. Неужели мне нет другого дела?» И решительно сложив мольберт, чуть не поломав ему ноги, спрятала за шкаф.
Дела Ольге Николаевне Иван не нашёл, но как-то так сумел устроить её досуг, что на грусть осталось мало времени. Как бесхозного ребёнка, он брал её с собою в офис и под видом срочного задания давал переводить каталоги. По вечерам, в четыре руки, они готовили на ужин простые блюда Италии, а так же любимые мамой швейцарские блюда, для которых Ивану пришлось раздобыть электрическую роклеттницу и фондю на спиртовке. За трапезами они вспоминали давнюю жизнь, и их родство восстанавливалось.
Где так пахло? Где так мелькала тень? Асфальт восьмидесятых, зачем ты истёрся! Они откидывались в прошлое, как в милое кресло, тем более что и погода изо дня в день давала подходящую музыку – валил снег. Под покровом арктического циклона они с мамой реставрировали совсем старые, стёртые эпизоды своей общей жизни. Как собирали в парке дома отдыха липовый цвет, а маленький Иван боялся, не сочтут ли их ворами? Как ночью, под фонарями выбирали ёлку, перекидывая мёрзлые деревья со стороны на сторону. Когда это было? Скоро Иван заметил, что посредством воспоминаний в мамином уме просветляется понемногу угрюмая фигура отца.
Он ещё раз обсудил с ней свою осеннюю поездку в Питер и, увидев волнение мамы, попробовал участить звонки, но отец был студёным и прочным – не поддавался на болтовню. Насобирать в своей теплице новостей, чтобы звонить ему чаще раза в месяц, Иван не смог.
И всё-таки, он надеялся, что каким-то большим усилием нарушенные связи можно поправить. Прежде всего, усилием понимания. Вот каждый из них троих возьмёт и поймёт другого! И восстановится если не семья, то хотя бы родственное приятельство, чувство близких друг к другу судеб.За воспоминаниями мама утихла. Как-то вечером вдруг взяла и причесалась по-старому, достала из шкафа Чехова и одним вдохом перечла «Три сестры». И cнова пришлось её выручать из грусти. Иван уж отчаялся, не знал, что придумать. Но тут начались спасительные визиты.
Первой явилась Оля. Она пришла в отсутствие Ивана, прямо с улицы, рыжая, бледная, в чёрном, как у Кости, пальто.
– А, вы приехали! – сказала она. – А где Иван?
Отсутствие Ивана не разочаровало Олю. По легко читаемому выражению её лица Ольга Николаевна поняла, что ей предстоит развлекать гостью, пока не вернётся сын.
– Как у вас дела? Как родители, бабушка? Всё в порядке? – любезно спросила Ольга Николаевна, отодвигаясь немного от Олиной резкой фигуры, от её черного заснеженного сукна.
– Бабушка умерла, – сказала Оля, прислонившись к двери и расстегивая пальто. – И это очень хорошо. Вы не представляете, какие это были нервы с её болезнями. Каждый раз звонишь домой на грани обморока – все ли живы? Вот Иван знает. Он тоже на грани обморока с вашими бабушками-дедушками.
Ольга Николаевна взглянула странно и уже собралась изобразить надменность, аристократическим холодом выдуть наглую девицу из своего жилья, но вдруг почуяла приязнь к Олиной искренности.
– А может, выпьем чаю? – предложила она.
– Чай – это хорошо, – тут же скинув пальто, сказала Оля. – А какой-нибудь наливочки у вас нет? Может, «Мартини»? А то у меня горло болит.
Ольга Николаевна ошеломлённо заглянула в шкафчик.
– Есть рижский бальзам. Можно налить в чай.
– Давайте! – одобрила Оля.
Покопавшись в забытых чашках, Ольга Николаевна достала две чопорные, синие с золотом, и пригласила Олю за стол. Не то чтобы у них завязался разговор, но всё же – более или менее непрерывный обмен репликами.
Оля рассказала, что много работает, что, хотя у неё и есть жених Владимир, думать о личной жизни ей некогда, потому что надо делать карьеру. Надо, надо трудиться, обретать независимость, продвигаться по службе, хоть она и знает, что настоящее её предназначение когда-то было в другом. «Мало ли что было, – заметила она. – Это только ваш Иван – бездельник по призванию. У него к этому дар, и в этом его, как пьяного, Бог бережёт. А нормальным людям надеяться не на кого».
Ольга Николаевна хоть и улыбнулась про себя суждениям Оли, всё же приняла её откровенность благосклонно. Больше того, в углах Олиной натуры ей привиделась какая-то дикая, необработанная доброта.Они как раз вступали в спор о современном характере, когда, приветственно дублируя звонком поворот ключа, вошёл Иван. Он был снежный и счастливый, как будто вернулся со старинной рождественской ярмарки, или из лесу. Что-то шумно сложил в коридоре и заглянул на кухню.
– Ну, всё – мне пора! – встав из-за стола, сказала Оля. – Меня Макс ждёт. Я опять его обманула. Я ему всё время вру. Обещала, что куплю батарейки для машинки. Может, у тебя есть батарейки? – обратилась она к Ивану. – Я вообще-то за ними и пришла.
– Батарейки? – произнёс Иван и огляделся. – Батарейки… А какие?
– Две пальчиковые. Две у нас есть, а надо четыре.
Иван побродил по комнатам и, вытряхнув из какого-то пульта, отнёс Оле. – Они нормальные должны быть. Мама недавно меняла, – объяснил он.
– Я вот эти сказки для бедных ненавижу – батарейки из пульта вытряхивать! Сказал бы – нету! – отчитала его Оля, кладя батарейки в сумку.
– У Оли есть несколько любимых выражений, которыми она меня бьёт, – объяснил маме Иван. – «Сказки для бедных», «Абсолютно оторван от жизни», потом ещё что-то было…
– «Буржуазные заблуждения», – подсказала Оля.
– Да! – обрадовался Иван. – «Буржуазные заблуждения»!
– Ну, пока всем! – сказала Оля, подхватила сумку и, зажав под мышкой пальто, вышла вон.
Иван ласково, безо всякого удивления, посмотрел ей вслед, взял пакеты с продуктами и понёс на кухню.
– Странная девица! – сказала Ольга Николаевна. – Пришла, развела грязь, держала себя нелюбезно, а уйти – ни в какую! Просидела целых полчаса. Влюблена она в тебя что ли?
– Она очень много работает, мама, – отозвался Иван. – Ей надо кормить сына и всю семью. Притворяется чёртом с рогами и, наверно, правильно делает. Знаешь, как у боксёров – живот должен быть каменный, чтобы держать удар. Я ей предлагал шикарную должность: часа по четыре в день обзванивать фирмы – ну, с нашей звукоизоляцией. У неё была бы куча свободного времени. Денег правда поменьше, чем у неё сейчас получается. Но, по-моему, можно бы жить…
– И что она?
– Огрызнулась, как всегда. Я тут подумал… наверно, не всем нужен досуг? Некоторые его не хотят. Вот она, например, предпочитает пахать весь день, терпеть нервотрёпку, не видеть ребёнка, зато – «я могу», «я сама»! Ведь это глупо, правда? Но вообще-то, её дела поправляются. У неё есть жених. Не знаю, почему они всё никак не переедут… Вот переедут, и никому в голову не придёт вспомнить, что уже пять лет, как мы с Максом вместе! – вдруг нахмурился он. – Его просто увезут и всё!– А какие у неё стали рыжие волосы! – припоминая, сказала Ольга Николаевна. – И совершенно прямые. Надо же – так странно поседеть! Но с чёрным пальто хорошо.
– Мне кажется, мама, – вдруг с сердцем прибавил Иван, – где-то у неё какой-то сильный спазм. Мне так кажется.
– Ах вот как? А я-то думала – железная девица!
– Ну что ты! Конечно, нет. Из неё должны вылиться тонны слёз, прежде чем она сможет жить, как человек. Ты понимаешь – у неё несчастливая натура, как и у меня. Такой обмен веществ, при котором многое идёт в слёзы.
– И как же это лечится?
– Наверно, как и все не смертельные болезни, – предположил Иван. – Любовью, участием, постоянным, в больших количествах. По голове гладить…
– И что же ты, собрался помочь?
Иван пожал плечами.
* * *
Какие же они наивные обыватели! – думала Ольга Николаевна, проснувшись следующим утром. – Ищут в уюте дома свидетельства тому, что и мир уютен. В удобном кресле видят надежду, что и с вечностью можно поладить. А в действительности, всё так одиноко и жёстко!
После Олиного визита она вдруг испугалась будущего. Ей пригрезилась пустая квартира, ненужная старость. Сын женится, родители умрут. Права эта Оля! Единственный выход – надеяться на себя.
И Ольга Николаевна принялась возводить укрепления. Прежде всего, она решила возобновить своё австрийское утро с кофе и «позитивной» книжкой. Ей хорошо был знаком этот нищий паёк, разгоняющий одиночество, созидающий видимость смысла. Штук пять таких психологических книжек, обучающих планированию и оптимизму, она привезла с собой. Если читать по главе за утро – хватит на пару месяцев.
Следующим спасательным мероприятием, предпринятым ею, стал поиск дела. Ольга Николаевна зашла в Интернет и разослала резюме. Ей хотелось работы международной и благородной, где пригодится её владение языками – желательно, не на бумаге, а в жизни. «Хорошо бы сколько-то денег, – думалось ей. – Но главное, чтобы был смысл!»
За занятием этим в один из зимних счастливых дней Иван застал свою маму и растерялся.
– Что ты делаешь? – спросил он, вчитываясь в экран. – Зачем тебе?
– Твоя Оля права! – бодро отозвалась мама. – Надо работать, общаться, надо надеяться на себя, а не виснуть на близких!
Иван плюхнулся на диван, поодаль компьютера, и почувствовал горе. Выходило, несмотря на все их прогулки и ужины, мама осталась одна. Всё, что он придумывал для неё, не годилось, всё было ей мало или велико, или не в тон.
– Что ты говоришь, мама! – наконец, произнёс он. – Зачем тебе надеяться на себя? Надейся на меня, на бабушку с дедушкой!
– Куда уж на них! – усмехнулась мама.
– Конечно! – сказал Иван. – Пока они есть – на них! А на себя надеяться – это что? Одно горе! Оля на себя надеется – и что? Сплошная колючая тоска!
– Ну а ты, не на себя разве?
– Нет, конечно! Я надеюсь на тебя, на бабушку с дедушкой, на Костю, да вот – на Олю с Максом. На Бога надеюсь.
– Далеко ж ты продвинулся со своими надеждами! – заметила Ольга Николаевна. – А вот я уже, смотри, кое-что нашла! – и она торжествующе протянула ему свежий лист из принтера.
– Конечно, это не совсем то. Я бы хотела что-нибудь международное, благотворительное. Какой-нибудь фонд. Всё-таки в моём возрасте уже хочется самоуважения, понимания, что действуешь во благо.
– А мне всё кажется – ты такая юная, мама! – улыбнулся Иван, разглядывая бумагу с вакансией. – Намного моложе меня. – Ты мне только скажи, зачем тебе какая-то посторонняя благотворительность, когда у тебя есть свои личные старики?
– Это разные вещи! – возразила мама горячо. – Человек должен действовать по велению сердца, а не согласно долговым оковам. Ты когда-нибудь задумывался, какой свободы, какой настоящей любви ты себя лишил, усевшись здесь со своим долгом?
– Я задумывался, мама, – произнёс Иван, поднимая взгляд от текста. Какой-то разгон мелькнул в его глазах. Ольга Николаевна пожалела, что спросила. – Задумывался, да, но только потому, что я человек, и меня мучит жажда жизни. А что касается меня лично, так я на эту жажду плевал! Я вполне могу обуздать её бредовые требования, – говорил он, расходясь понемногу. – Вот этой жалости об упущенных возможностях у меня нет, понимаешь? То, что я тут с бабушкой и дедушкой, а они со мной – это большое свершение, из тех, ради которых и затевается жизнь человека! Это ничуть не меньше творческой реализации, или там удачной любви. Это то, с чем я буду перед Богом. Или ты думаешь, человеку на смертном одре приятней осознавать, что он успешно руководил предприятием по производству идиотизма? Или, что трижды пережил истинную страсть и оставил три пепелища? По-твоему, мы здесь для того, чтобы множить пепел? – тут он встал с дивана и, не закрыв программу, одним щелчком выключил компьютер. Экран погас. Ольга Николаевна чуть-чуть отшатнулась к двери.
– А этих людей, которые шагают по головам, так я вообще не хочу их знать! – Иван схватил со стола мамин бокал с минералкой (Ольга Николаевна зажмурилась) и полил кактус. – Этих внуков, в которых души не чаяли, а они звонят раз в месяц, потому что у них своя жизнь! – обернулся он к маме. – Какая своя? Чья своя? Что же, и не Богова?
Слова получились решительные, жест смешной. Иван умолк – как будто, вдруг отлетев, с высоты взглянул на свою громкую реплику. Он тихо подвинул кресло и сел за компьютер восстанавливать сброшенные данные.
Ольга Николаевна приблизилась и похлопала его по плечу.
– Ну-ну! Не переживай! – сказала она. – Я как раз хотела выяснить, так ли ты свят, как кажешься? И теперь вижу – конечно, свят, свят! Аминь!
Иван не то чтобы переживал, но молча дивился своему припадку. Маме грустно, трудно, у неё нет мужа, нет дела. Она не молода. А сын лезет к ней с моралью! Разве мораль он ей обещал? Нет, обещал помощь.
Достаточно раскаявшись, он решил подойти к вопросу конструктивно и задумался: где взять дело? Такое, чтоб удовлетворить мамино социальное чувство и потребность в поклонниках.
Иван думал долго и ровным счётом ничего путного не приходило ему в голову. Тогда он отчаялся и позвонил Косте.– Ну ты даёшь! – искренне негодовал Костя. – Выходные – это же самое жаркое время! А на следующей неделе вообще завал! Ладно! – решительно произнёс он. – На завтрак я, пожалуй, зайду.
И Костя зашёл на завтрак. Он был весел, свеж, тороплив. Смотал с горла шарф, растёр закоченелые руки, и, измерив Ольгу Николаевну опытным девятнадцатилетним взглядом, к радости Ивана, взял её под свое покровительство.
– Что, опять? – спросил он, садясь к ясно и празднично убранному столу. – Английский завтрак?
– Да, это хороший званый завтрак, – подтвердил Иван. – В твою честь, между прочим.
– Вы видите, до чего человек докатился? – сказал Костя, оборачиваясь к Ольге Николаевне. – Его увлекают завтраки!
Ольга Николаевна смотрела обескуражено, ещё не зная, улыбнуться ей, или нахмуриться, или принять нейтрально-светский тон.
– Но я считаю, – продолжал Костя, – его ещё можно спасти. Главное – выгнать из дому. Вот вы приехали – отлично! Теперь не отмажется, что ему не с кем оставить родственников. И остановите же этот кулинарный разврат! – заключил он, окинув накрытый стол своим юным, очень голодным взглядом. На столе были горячие гренки, масло, сыр, ветчина, булки, мёд, волшебная каша и омлет под крышкой.
– Ну нет! Так не пойдёт! Воды и хлеба! – сказал он, взглядывая на заинтригованную Ольгу Николаевну. – В воду выжать лимон, хлеб намазать горчицей! А он что развёл!
– Вот это Костя, мама, – сказал Иван. – Он овсянку кетчупом поливает. И так во всём.
– Это правда! – согласился Костя и вдруг, до ушей улыбнувшись, потянулся с тарелкой за всем, что было на весёлом столе его друга.Костя держал себя просто, ел много, в том числе и кашу безо всякого кетчупа, говорил на свои привычные темы – клубы, сайты, подвиг, рок. Ольга Николаевна была в курсе Костиных дел. Их small talk удался на славу.
– По природному дару я «творец», – растолковывал ей себя Костя. – Не могу пока что точно определить область – скорее всего, слово. Но прежде чем обращаться к людям, мне надо стать мудрым. Понимаете, я ведь согласен с Гиппократом. Врач, музыкант, писатель – какая разница? Во всех случаях главное – не навреди! Так что сейчас я прохожу подготовительный этап. Я становлюсь мудрым – вот моё занятие! – подытожил он.
– Да, – подтвердил Иван, – у него на это идут все силы.
– Ну а вы? – спросил Костя, прямо взглядывая на Ольгу Николаевну. – Вы-то чем займётесь? Я слышал, хандра на вас набросилась?
Иван внутренне охнул, но Ольга Николаевна не обиделась. Она легко вошла в положение Костиных девятнадцати лет и ответила безо всякого чванства.
– Мне хотелось бы приносить пользу и по возможности не закиснуть, – сказала она. – Я неплохо перевожу с немецкого и французского. У меня есть опыт работы в благотворительных организациях.
– Отлично! – обрадовался Костя – Мы вам что-нибудь найдём! Хотя, знаете что, – вдруг передумал он. – Не надо вам благотворительности. Вам – не надо. Это такое дело, как в «Сталкере» у Тарковского. Если стремление не самое заветное – то лучше и не вляпывайтесь. Только погрязнете в самолюбовании. Есть люди, я видел – им действительно больше ничего не надо, они без этого не могут, как наркоманы. Вот они пусть и благотворят. А вам не надо. У меня есть подруга Маша – она теперь думает, что должна посвятить себя объединению единомышленников, и от этого совсем сдурела. А ведь она прирождённая кружевница – знает коклюшки, вяжет. За спицами я её и полюбил! А теперь у неё всё рукоделие происходит исключительно он-лайн. Так что и вы – не надо, не лезьте.
– Ну а чем же заняться? – спросила мама, лукаво ему подыгрывая.
– Наблюдением! – уверенно сказал Костя. – Наблюдением, анализом и прогнозом. Философией, социологией, психологией, историей. Посмотрите на меня! Меня разрывает просто на куски! Я чувствую, мы с мирозданьем равные соперники! Я должен его обхватить, как в греко-римской борьбе, а мне не хватает рук! Я хочу одновременно держать в голове все законы, все механизмы, природные процессы, исторические закономерности. Алхимия добра! Вот что интересно! Как его синтезировать в человечестве?
– Ты чушь порешь, – сказал Иван.
– Чушь? – крикнул Костя, от возмущения вскочив со стула. – Я ночи не сплю – размышляю над вселенной, а ты говоришь чушь! Ясное дело, это тебе не тосты в тостере! – С наигранным гневом он оглядел стол, сцапал булку и, на ходу выдирая зубами клок, зашагал прочь. – Где мой Державин, которому себя прочту! – крикнул он из коридора.
– Может выйти, проводить? – шёпотом спросила Ольга Николаевна. Иван махнул рукой.
Через полминуты Костя заглянул в дверь, одетый и сияющий.
– Мне правда пора! – сказал он с улыбкой, – Ольга Николаевна, рад знакомству! Будем продолжать, обязательно!
Иван пошёл закрыть за ним дверь.
– Стой! – на пороге шепнул Костя и буквально за грудки вытащил Ивана на площадку. – Дай хоть слово тебе скажу! Знаешь, что произошло? Я выиграл Фолькера! Женька заработался, лепит ошибки, а тут ещё проблемы с сессией. Фолькер это просёк. Всё, говорит, отдохни пока. Дай Косте порулить. Да дело не в сессии! Просто Женька – пуст, и Фолькер это видит. В нём нет резкости, нет никакой асимметрии! Он абсолютно предсказуем…
– И как вкус победы? – перебил Иван.
– Как в «Иване Васильевиче»! Мы с режиссёром Якиным летим в Гагры! – рассмеялся Костя. – В Нижнем будет вечеринка, с молодёжными представителями, на предмет поиска сотрудничества. Мы им, типа, в неформальной атмосфере всё расскажем про наш проект. Я – в новой должности. Левая рука Фолькера. Правая у него уже есть – тётя-адвокат. И заодно он там хочет обкатать несколько песенок. По мне, всё это полный бред, но Фолькер – он такой. Он, знаешь, сквозь бред проходит, как через стену, – вижу цель!
– Костя, и не стыдно тебе? – спросил Иван.
– За что? За Женьку? Не знаю. Ты понимаешь, у меня на данном этапе кончился самоанализ. Времени нет. Я даже сплю с ноутбуком! За всю жизнь не осваивал столько, сколько за эти месяцы. Так что, даже если тут и есть подлость – я её искупил трудом!
Сказав это, Костя умолк – как будто сел заряд, и невесомо, чуть задевая стену плечом, переместился к лифту. Для Ивана в нетвёрдости его шага мелькнула надежда. Он пошёл за ним.
– Я бы плюнул на всё, но не могу – сказал Костя, нажав кнопку. – У меня ведь Маша! Мы уже встречались с ней без Женьки. Так, чисто дружески. Она ещё не знает, что Женьку отставили. Ладно, надо ехать!
Отсалютовав Ивану, он прыгнул в лифт и двери сошлись перед ним, как занавес.– Какой у тебя взрослый «сын»! – сказала Ольга Николаевна, когда Иван вернулся. – Меня знаешь… как окатили! Как «скорый» просвистел.
Иван сел к столу и несколько раз сложил салфетку.
– Костя, в целом, хороший мальчик, – вслух рассудил он. – Бывает, жалеет людей. Правда, бессистемно. Потому что ни за кого не в ответе. Я думаю: может, подарить ему какое-нибудь животное? – Иван взглянул на маму. – Пуделя? Пудель его выдаст, понимаешь? Кто тогда поверит в его напор?
– Послушай, а у тебя есть этот «общий взгляд», о котором он говорил? – перебила Ольга Николаевна.
Иван удивился.
– Ты что, думаешь, он это всерьёз? Да ему наплевать на всё – он влюблён. Он это так мёл. А сам думал о своей Маше. Видишь – понёсся. С ночи, небось, не виделись.
– Думаешь, так? – Ольга Николаевна улыбнулась, сладко потягиваясь на стульчике. – Ах!.. Ладно… Пойду проверю почту. Может, ещё что-нибудь прислали?Мама ушла, а Иван, убрал посуду и взмахнул скатертью – она надулась, как парус. «Всё нормально, – говорил он себе, – Всё хорошо». Тут в голову ему пришла простая мечта – если бы можно вместо всей суеты построить корабль! И чтобы никто при этом не счёл тебя сумасшедшим. Изучить бы десяток старинных кораблестроительных книжек и взяться! Махать бы сколько-то лет топором, налегать пилой, а потом, к седым волосам, когда плотницкие работы будут окончены, отправиться выбирать снасти. И жизнь бы прошла в простой бесполезной работе, которая ничуть не хуже, чем любая работа полезная. «Стоп!» – скомандовал себе Иван и с удовольствием почувствовал, как послушно замер в груди двигатель мечты.
* * *
Костя перебил впечатление, оставленное Олей – нанёс шума, наследил надеждами. Ольга Николаевна воспрянула духом, и жизнь опять пошла по праздникам. Их волшебные шестерёнки следовали одна за другой: позади были Рождество и Старый Новый год, на носу – Крещение, чуть поодаль – день рождения дедушки, за ним – Сретение, а там, не успеешь моргнуть, зажелтеет Масленица.
Праздники эти растапливали жизнь, как дрова, с ними их семейный пароходик шёл через зиму. И уже в конце января произошла перемена, которую Иван счёл весенней – у них на улице завёлся дворник.
Однажды Иван проснулся от рёва лопаты, подошёл к окну и увидел на снежной, освещённой фонарём сцене человека, движущегося в такт звука. Это был он – петух городских рассветов, изгоняющий тьму, провозглашающий солнце. Жаль только, сам он вряд ли знал о своей величественной роли.
С тех пор каждое утро Иван вставал под великанский кашель – это улица прочищала заснеженное горло. Иногда на голый от сна ум приходило несколько рифмованных строк. Иван с удовольствием их встречал, но не записывал. К чему копить? Ещё столько утр! А когда кончатся утра, тогда и рифмы вряд ли понадобятся.
И эта лопата, и вольные музы, которых Иван не ловил, были только началом дневных удовольствий.
С горячей чашкой, предусмотрительно загородив новостройку горшком с геранью, он садился к окну. Утренняя улица восхищала его богатством жизни. Как сказочник, сочинивший её весёлый ход, Иван наблюдал за ней, и сердце билось быстрей. Учащались шаги прохожих. Тем временем напротив открывали булочную, и он ответно распахивал створку окошка. Бензин и сырь били в лицо. Серый день, грязный с самого утра, гремел машинами. Но бывали мгновения, когда машинный гул перекрикивали воробьи, навившие гнёзд под окнами.
Это было лучшее время! Теперь каждый раз, проснувшись, он тайно желал вклеить в день дополнительные часиков шесть утренней сери – чтобы, пока все спят, налюбоваться.
То, что сон оказывался коротким, и давно уже сбились со строя внутренние часы, не тревожило Ивана. В любом случае, это был его идеальный жизненный ритм. «Единственное, что меня смущает, – признавался он маме, – Так это, что я не добываю хлеб в поте лица».
Под завтрак окончательно рассветало – устанавливался ясный или снежный день. Иван на минутку забегал к бабушке с дедушкой и отправлялся вон из дому, проверить погоду наощупь. Дорога его не раздражала. Он сочувственно принимал мутный пар трассы, гололёд, соляную слякоть – всю беду мегаполиса, летом кое-как прикрытую зеленью. Даже пробку перед мостом выносил спокойно – зевал, по небу в лобовом стекле угадывал погоду на вечер, предвкушал возвращение домой, снежную ночь, скорую весну, счастливое лето. А что было злиться на пробки, если и сам он регулярно заливал в бак свой «девяносто пятый»?
Наконец, он добирался до центра и сколько-то часов присутствовал в офисе. Раскладывал возле «титана» печенье и чай для сотрудников, мешал бухгалтеру, или – в особо удачные дни – принимался сочинять фантастический план расширения ассортимента услуг. Всё было смешно. Единственное утешение – восход зимней луны над Большой Татарской, который Иван наблюдал через окно в туалете, потому что больше нигде в офисе нельзя было выключить свет.
Когда луна поднималась, или начинался снег, или происходило ещё что-нибудь, что можно было принять за сигнал к свободе, Иван вскакивал, скоро прощался и гнал домой. И всякий раз изумлялся глубине трещины, пролегшей между полезной жизнью офиса и его настоящей жизнью, где каждый миг разгильдяйства полон правды!
Приехав, он иногда задерживался у гаражей – встретить Олю. Вместе с ней из машины вылезал тихий после детского сада Макс.
– Ну что, может, мы на горку, на полчасика? – спрашивал Иван. И Оля уходила домой одна. А повеселевшие дети, из гаража добыв снегокат, шли кататься.
Однажды ему пришло в голову позвать на горку маму. Он хотел намекнуть ей, что у Макса, с визгом валящегося с горы, можно учиться, тайком брать уроки жизненного мастерства, но мама догадалась сама.
Одна из всех собравшихся у горы женщин, Ольга Николаевна осмелилась сесть на снегокат, разогнаться, и, потерпев крушение, снова помчать на трамплин. Макс вопил, Иван зажмуривался. Кроткая мама в гипсе представлялась ему. Но нет – вот она, цела-невредима, поднимается из сугроба!
К сожалению, уже через пару вечеров забава наскучила ей.
«Нам бы дотянуть до весны, – мечтал Иван. – Посажу её на велосипед». И думались ему голубые горы апреля, но до апреля было ещё лет сто, а он уже сейчас стоял перед мамой с пустыми руками. Чем они проживут? Всё, что было, он скормил её любопытству. За январь Ольга Николаевна пережила термоядерное знакомство с Костей. Оля устрашила её своим трезвомыслием. Макс обучил мастерству кувырканья в сугроб. Изысканный Миша целовал маме ручку. Список этот означал, что все номера отыграны. Больше Ивану было нечем развлечь свою драгоценность.
Тогда он попросил её – совершенно всерьёз! – дописать за него научную работу. Но мама не клюнула. Она всё ещё надеялась на Интернет, и каждый день проглядывала почту. За детский гонорар, почти даром, её звали переводить техпаспорта и договоры купли-продажи; лучшим предложением была кулинарная книга. Ольга Николаевна отчаивалась вспышками, но, в общем и целом была бодра.
Иван ждал терпеливо, когда затихнут последние всполохи маминого честолюбия – этого аллергического зуда действия. Метод лечения был известен и прост – не есть шоколада, то есть, хотя бы недельку побыть без поисков, сложа руки. Вот тогда, на чистое сердце и спокойный ум должно подвернуться настоящее дело. Какое? Неизвестно. Это подарок.
А пока что все тёмные вечера зимы они просидели дома.
Как-то в феврале, когда зима уходила и многое переменилось, Иван оглянулся по привычке, и ему захотелось озаглавить эту зиму, как книгу: «Гитара и вышивание».
Это была чистейшая правда. Ольга Николаевна, разъярённая холодом работодателей, набрала в универмаге вышивок – успокоить нервы. Иван никак не мог понять – хорошо это, или плохо, что все нужные нитки включены в набор, и кусок канвы, и даже иголка с широким ушком. Пару лет назад он ужаснулся бы, что подобная пошлость угодила к ним в дом. А теперь ему всё нравилось: что нет суеты, что маме не нужно разыскивать нитки, и если картинка хорошая – почему бы не провести над пяльцами жизнь? Недаром и Костя полюбил Машу за рукодельем.
Иван потому ещё примирился, что обнаружил родство маминого вышивания и своих занятий гитарой, которая в эту зиму была с ним все вечера.
Он устраивался на полу возле мамы, как если бы она была камином, облокачивал ноты о ножку кресла и как можно точней старался озвучить на струнах зашифрованный текст.
Так они пережидали вдвоём зимнюю темноту, Иван с гитарой в руках, Ольга Николаевна с вышивкой. И цвет, который повторяла мама согласно картинке, и звук, который согласно нотам повторял Иван, жили друг с другом дружно, как выросшие в одном доме собака и кошка.
Восхищённый своим дуэтом с мамой, Иван сочинил призыв ко всем вышивальщицам. «Даже если вы не знаете нот, – мысленно объяснял он им, – в табуляторах, на одной из шести струн стоит циферка – номер лада. Вот эту струну на этом ладу надо прижать пальцем. Не то ли делаете и вы, находя в схеме крестик нужного цвета и попадая в него иголкой! Так оставьте же глухую канву и возьмите говорящий инструмент!» Миссионерство его, слава богу, не пошло дальше мысли.
Однажды, за какой-то маленькой фугой Баха, музыка открыла ему свой гитарный код – Иван почувствовал в пальцах и в воздухе, передающем звук, её умное весёлое существо. С тех пор он уже не мог сравнить эту светлую жизнь с вышивкой.Раз в неделю или две Ивану звонил Андрей и соблазнительно описывал зимний юг, где теперь у него был дом и земля с апельсиновыми деревьями. Ему хотелось, чтобы Иван приехал и одобрил покупку. Наслаждаться достигнутой целью без одобрения Андрей не мог. А Иван не мог предоставить ему искомое.
Между двумя этими берегами – сочувствием к другу и честностью перед собой – Иван шёл по воде и ощущал себя неуютно.
Не без досады, он листал на компьютере присланные Андреем пейзажи местной зимы – синее море, туманные скалы и бледный оранж цитрусовых плодов в массе зелени. Готовое совершенство природы, над которым не надо трудиться, вроде вилл «all inclusive», что продают вместе с мебелью. За совершенство русской земли каждый год ведётся мучительная борьба – сколько уходит жизни, пока на реках с трудом разломится лёд, пока земля впитает грязные лужи снега и палки рощ оживут под солнцем! Так нет же – этот труд не для Андрея! Подайте ему январскую мелодраму на плюс пятнадцать!
Однажды в довольно бескомпромиссной форме Иван изложил свои мысли маме.
– Ты стал как-то слишком прямолинеен, – остерегла его Ольга Николаевна, – всегда заранее знаешь, где правда. А ты взгляни беспристрастно, постарайся понять человека – что за любовь его держит? Может там и правда есть, что любить? Как никак, Средиземноморье подарило нам классическое искусство. Или тебе теперь и Рафаэль плох, раз он не стал выразителем межсезонья?
– Нет, Рафаэль хорош, – признал Иван. Ему нравилось, как ловко мама защищает Андрея – потому, наверное, что сама недавно была беглянкой.
– Вот увидишь, со временем он будет жить, как святой, – продолжала Ольга Николаевна. – Поймёт красоту, полюбит землю, будет занят простой работой. Женится на местной. Родят, по меньшей мере, троих. Не в этом ли благодать? Какая разница, где её достигнуть.
– Но, между прочим, вся эта святая жизнь требует больших материальных затрат, – заметил Иван. – А если бедно, то получается как-то нерадостно. Невесёлая святость. Святость ведь должна быть весёлой, мама? – он взглянул на неё с улыбкой. – А хотя вот посмотрим, лет через десять…
И, помолчав, оценил, какое это приятное чувство – иметь достаточно времени, чтобы прочесть эту «книгу».На интересе этом, как на лодочке, он и плыл уже около года безо всяких волн, и если б не был достаточно опытен, то решил бы, что такая вот жизнь может стать его призванием.
Но у него был опыт, и по опыту он знал, что призвание требует многих ран. Хочешь жить, как честный человек – не увёртывайся от муки. Когда болели бабушка с дедушкой, и в тоске о них приходилось покупать им лекарства, мыть пол или поливать огород – вот тогда призвание было рядом. Когда ездил в Питер к отцу и холодно с ним молчал на мостике – призвание было рядом. А сейчас от призвания он отдыхал, был отпущен им на каникулы, и всей душой благодарил проходившую мимо зиму за её ровный весёлый нрав. Всё в ней было, как полагается: и снег, и темнота, и мама вернулась, и бабушка с дедушкой не болели. Он им весело мерил давление и весело же – но, скрывая веселье! – выслушивал бабушкины отповеди и замечания, которых, по закону жизни, с каждым годом становилось всё больше.
Иван, как внук восьмидесятилетних стариков, был повинен во многих грехах. Во-первых, перепутал всю посуду: приходит со своими чашками, уходит с чужими, да и что это за манера – пить чай на ходу? И чайных ложек они не досчитывались уже трёх! Далее – внук не берёг хороших пакетов, коробок и банок, всё норовил швырнуть в мусоропровод, в магазинах транжирил деньги на ерунду, и обувь чистил редко, а если чистил, то не щёткой, а чем попало.
Иван выслушивал, что ему полагалось, и впредь старался чашки не путать и мусор на глазах у бабушки не выбрасывать. Ложки – отыскать и вернуть!Великий «сюрпризоносец» больше не забегал, зато регулярно слал Ивану на почту фрагменты своего будущего величия. Самыми значительными были наброски к «Роману о Маше» – криминальной драме с креном в Достоевского. С улыбкой Иван читал резкий душистый текст, спотыкался о выбоины в стиле, но, бывало, так солоно дуло от строк, что он терял улыбку.
Ещё хуже, если в записках Иван обнаруживал что-нибудь про себя. Тогда в шутку, но и всерьёз, сознавал: дружба с «Вазари» обязывает его прожить достойную жизнь. Над этим Иван трудился, старался соблюсти мир и правду. Но прославит ли подобный сюжет баснописца? «Пиши-ка ты, лучше, о Фолькере!»
Тексты, состряпанные Костей для сайта, были иной землёй. На неё не ступала нога Ивана. Один раз только он решился взглянуть и, чуть не задохнувшись в сленге, бросил. Самое ужасное, что и этот текст был хорош – и на эту землю Костя впряг свою музу. Ивану стало горько – как будто серебряной ложкой «на первый зубок» взялись мешать цемент.
В целом, Ивану нравилось занимать своё место в ложе: вот, он ни в чём не участвует, никуда не стремится, а внизу, у подножья его райской беседки, пускают гигантскую жизнь. И дают Костю вместо бинокля – чтобы Иван, не прерывая чаепития, мог рассмотреть каждую мелочь. Так, с чувством здорового превосходства, он почитывал о любви и подвигах, гневе и сострадании, пока однажды не увидел свою бескрылость. «Зря, – тоскливо подумал он, – зря отказался от жизни…»* * *
В конце января Оля пошла на вечерние курсы. Это было потому хорошо, что Макс обрёл свободу и мог теперь каждый вечер заходить к своему другу на полчасика – повеселиться перед сном.
Они проводили время по-королевски. Макс взбирался на стол, Иван выключал свет и вставал рядом. Им было видно, как по растаявшей непушистой улице брызжут автомобили. Макс считал «джипы», Иван – «Жигули». Или наоборот. На душе у них был мир, слегка подсолённый азартом – чей счёт будет выше? По правде сказать, Иван с детства был не согласен, что считающей мух Ленивице из сказки «Мороз Иванович» ставят в упрёк такое святое занятие.
Подменять Максов интерес чем-нибудь более интеллектуальным Иван не пытался. Он относился к подсчёту «джипов» с чувством исторической покорности. Что поделаешь? Сегодняшний московский мальчик обречён любить машины и осваивать профессию менеджера. В этой сокрушительной поголовности Ивану виделся крест, против которого бессмысленно бунтовать. Единственное, чем он мог бы возразить времени – это зазвать Макса к себе на дачу, показать поле и лес. Но Оля вряд ли отпустила бы сына.
Иногда Иван отлучался на кухню, чтобы подкинуть в уют ещё дровишек – принести бутерброды, налить чаю, и всегда, уходя, просил Макса покараулить его машины.
– У тебя двадцать три! – весело информировал Макс. – Ой двадцать четыре! А у меня только тринадцать. Давай наоборот, я – «Жигули», ты – «джипы»?
– Идёт! – соглашался Иван. Тёк зимний дождик, утихал час-пик. Соскучившись соревноваться, они вместе брались считать проезжающие «универсалы». «Восемь! – хором объявляли они, – Девять! Десять! А “Ниву” считаем? – Ты что – “Нива” – это ведь “джип”! – Ну и пусть! Считаем, считаем! Одиннадцать!»
Так блаженствовали они, пока не произошла катастрофа. Однажды вечером, когда Оля пришла забирать сына, Макс заупрямился. «Хочу ещё побыть»! – объявил он и отказался слезать с окна.
– Макс, я прошу тебя. Мне тоже пора спать, – умолял Иван, надеясь избегнуть бури. «Я не хочу. Я останусь», – тарабанил Макс. Был ли это назревший бунт, или каприз уставшего ребёнка, он не успел разобраться, потому что в следующий миг их накрыло шквалом.
– «Хочу – не хочу» – это не для тебя, понял! – тихо, чтоб не услышала Ольга Николаевна, чеканила Оля, отдирая сына от подоконника. – У тебя нет папочки, который посадит тебя загорать в свой офис! Тебе самому носом землю надо будет рыть, дурак!
Иван стоял, полузажмурившись. Олин голос залепил ему слух. Даже когда она ушла, волоча ревущего Макса, застрявший звук торчал в голове.
Нетвёрдо он двинулся в свою комнату, взял из угла гитару и «посадил» на диван. Помедлил и слегка укрыл её пледом. Ещё чуть-чуть, и сожмутся тиски. Время выдернет его из божественной неторопливости, как морковку из земли, оборвёт ботву, приготовит из него, наконец, полезное блюдо. Средний возраст обяжет, станет стыдно перед людьми – за бездарность и одиночество.
Но был ещё впереди прощальный бал, праздничная отсрочка. Однажды поздним пятничным вечером, когда Иван уже спал, к нему в комнату заглянула мама. У неё имелась для него срочная новость.
«Передали, на Москву движется гигантский трёхдневный снегопад!» – громким шёпотом сообщила она.
Гигантский трёхдневный снегопад! Какое счастье! – подумал Иван, на секунду выглянув из сна, и вновь отошёл.Когда он проснулся, в окне слабо мело. С крыш сдувало снежные облака. На кухне у окна, в первом ряду амфитеатра, завтракала и любовалась зрелищем мама. Иван стал поодаль окна и смотрел, как светло-лимонный воздух освещённой кухни соприкасается со светло-серым, уличным – два фильтра, поставленных рядом.
Тут он догадался, что по-настоящему не видел зимы, наверно, лет пять. Она всё время проходила мимо него, заслонённая то одной, то другой болью.
Пока он смотрел, над крышами возник и приблизился новый небесный слой, гуще и темнее прежнего. Серые тучи были теперь простёганы фиолетовыми прожилками. Сразу повалило крупнее и чаще, а затем ветер ввязался в снеговорот и погнал всю махину на юг, в Москву.
– Трёхдневный снегопад! Началось! – вслух произнёс Иван.
Один за другим катили мимо окон праздничные валы.
– Такой снегопад, детка, называется вьюга, – поправила Ольга Николаевна. – Пойду-ка я погуляю!
Ах, жадная мама! Ей было невмочь пропустить погодную редкость. Не только глазами, но и кожей, лёгкими она намеревалась приобщиться!
Ольга Николаевна ушла, а её сын остался, и чистил зубы в сладком мучении – как распорядиться таким великолепным днём? Он чувствовал приподнятость. Наступала высшая точка зимы.
Со снежной горы февраля Иван различил долину лета, яркую и очевидную, как свежее фото из принтера. В ней предвидел он экзаменационные хлопоты с Костей и Олю, застывшую в сомнении между «домом в Малаховке» и нежностью к своему бедному прошлому. Предвидел и Андрея, нагрянувшего в отпуск, а может быть, и вернувшегося, да – вернувшегося насовсем! Вот это было бы счастье!
Что ещё нагадать через дымный гул снегопада? Летних бабушку с дедушкой – они живы, а как же! Вот стоит в перекрёстной тени жасмина и дуба накрытый к обеду стол…
Напоследок Иван подумал ещё, что летом обязательно слетает в Австрию и – не то что поговорит, просто побудет с Бэллой. Если же не выйдет побыть вместе – побудет поблизости.
Смеясь от вдохновения, от внезапного своего водительского предвидения – когда чуешь ситуацию на дороге, он смотрел на снежный шторм. Вдруг ему захотелось сыграть простую фугу Баха. Иван знал: Иоганн Себастьян незаменим во многих ситуациях. Он собирает, подтягивает, вымораживает тёплую лень, отогревает из холода хандры. Словом, уравновешивает любое скособоченное положение души.
Посомневавшись между гитарой и пианино, Иван выбрал последнее и поставил на пюпитр сборник «Прелюдий и фуг». Вдумчиво и тихо, затем твёрже, припоминал он свои школьные труды и вскоре совсем забылся, ушёл по тропинке в светлый сосновый лес.
Через неизмеренное количество времени его разбудил звонок мобильного. Это была Оля. «Можешь объяснить, почему я в свой выходной должна слушать твои сарабанды?» – крикнула она и повесила трубку.
Иван рассмеялся тихонечко и закрыл крышку. Он всем был доволен – и Олей, и музыкой, и прозрачной, объединяющей жизни соседей, звукоизоляцией дома. И, главное, снегопадом, который, судя по возникшим в его полотне перекрёстным струям, вступал в новую фазу.
Раз играть было нельзя, он вернулся на кухню, в свой наблюдательный пункт и посмотрел за стекло – там ветер встряхивал раствор с начавшими было оседать хлопьями, и те, что были уже у самой земли, опять взлетали вверх.
Тут в дверь позвонили – Иван помчался открывать, готовя маме руки для сумок, но оказалось, пришла Оля.
Он распахнул дверь и сразу заметил, какие красивые облачные мешки у неё под глазами. И как необычайно прямы рыжие волосы с чёрной «проседью» пробора – из пучка выбивались их истончившиеся лучи и резали воздух. Одним словом, сегодня чем-то она ему нравилась.
– Ты почему не играешь? – спросила Оля, войдя. – Обиделся что ли? Ну и зря! Ты же знаешь – я даже наоборот люблю. Играй! Но ты тоже пойми – я сплю себе с надеждой, что будет хороший день – и просыпаюсь под сарабанду!
– Это прелюдии и фуги Баха, – возразил Иван и тут же пожалел о своей неосмотрительности.
Оля взглянула насмешливо.
– Ты что, думаешь, я Баха отличить не в состоянии? – спросила она, переменившимся голосом. – Мне не важно, кто это. Мне важно, что человек с истрёпанными нервами просыпается под похоронный марш! А тебе даже в голову не приходит, что в субботу люди отсыпаются!
Прислонившись к стене, свесив расслабленные руки, Иван слушал её шум и жалел, как всё-таки редко и ненадолго высвобождается из-под спуда Олино сердце – как солнце в самых северных областях.
Раздосадованная молчанием Ивана, Оля хотела сказать что-то ещё, но тут по-маминому пропел дверной звонок. Иван открыл дверь, и Оля, буркнув приветствие, чиркнув плечом о снежный рукав Ольги Николаевны, вылетела вон.
– Это ещё что за явление? – спросила мама, румяная, в растаявшем снегу, и побила каблуками о коврик.
– Я играл на пианино и её разбудил, – объяснил Иван, помогая маме раздеться. – Приходила меня отчитывать.
Ольга Николаевна машинально оглянулась на дверь: худенькая, бледная, рыжая, искурившаяся приходит к нашему принцу и всеми способами стремится добыть утешение от жизни. Ах, бедняжка! – она подумала об Оле ещё секунду и выкинула из головы. Ей хотелось скорее сообщить сыну новость, подобранную ею в очереди.
– Никаких трёх дней! – с восторгом объявила она. – Будет мести неделю! Говорят, весь транспорт встанет, всё поломается. Обещают буквально буран, и надолго!
– Буквально буран? – улыбаясь, переспросил Иван. – А вино у нас есть? «Будет обидно, – подумал он, – если наглухо завалит подъездную дверь, и окажется нечем праздновать приключение».Итак: мама купила хлеба, а он сбегает за вином – райское распределение обязанностей! Иван пришёл в магазин и, наследив снежком, выбрал бутылку лёгкого итальянского вина. Оставалось добежать до дому, пока не начался объявленный буран. Но он не добежал – валы снега замели его на реку.
Над обрывом, с пакетом в руке, стоял Иван и смотрел на едва различимые через метель катера в заливе. Здравствуй «Балта»! Привет «Мария»! За шиворот намело снега, лицо распухло. Он не знал, чего ждёт, но просто так уйти ему не хотелось. «Хоть ноги пусть замёрзнут», – решил он. Но ошибся, сигнал к отступлению был иным. В какой-то миг он услышал вой над рекой – протяжный и мощный свист метельного ветра. Завывание это так весело ошпарило его, что он сорвался и бегом рванул по растущим сугробам к дому.
– Что это с тобой? Волки что ли гнались? – удивилась мама, пуская взбудораженного сына в дом.
– Нет! – горячо мотнув головой, возразил Иван. – Я был на реке. Слушай, там так здорово! Там так воет! А у нас воет, или не слышно? – спросил он и, скинув снежную куртку, пошёл к окну. Из распахнутой створки хлынул стон и холод. Иван несколько секунд внимал восхищённо и, побоявшись за цветы, прикрыл.– А вот ещё один с вином! – тем временем крикнула из коридора мама.
– Привет! Вы чего это дверь не запираете? – послышался Костин голос. – Видали, что творится? Я к вам зимовать.
Иван вернулся бегом и увидел в дверях заметённого Костю. Только красные щёки сверкали.
В руке он держал бутылку – за горло, наподобие противотанковой гранаты, а затем перевернул её дном вверх и вручил Ольге Николаевне, как цветы.
Это было выдержанное французское вино, из тех, какими болел Андрей.
– Хорошо живёшь! – заметил Иван, взяв у мамы бутылку и разглядывая этикетку.
– Фолькер подарил, – сказал Костя, устремляясь на кухню, к теплу и хлебу. – Я от них. Я был грустный – он сходил куда-то. На – говорит… Да ты не волнуйся! У них там этого гуталина – ну просто завались! Там целый погреб у них, как положено. Мы сейчас глинтвейн сделаем.
– Мама, как ты считаешь, – строго спросил Иван, – ему можно пить? Он всё время что-нибудь хлещет. Он же маленький!
– Да ладно, – сказал Костя, – не занудствуйте. Я такое пробовал – вам и не снилось! Что мне ваши десять градусов.
В ящичке с ложками Костя поискал механический штопор и, найдя, выдернул пробку. Затем взял с полки гвоздику, корицу, сахар и, насыпав всего понемногу в турку, залил вином.
– И апельсин ещё туда, – велел он Ольге Николаевне.
Она послушно нашла апельсин.
– Ну, кто угадает, за что будем пить? – спросил Костя.
– За трёхдневный снегопад, – сказал Иван.
– К чёрту ваш снегопад! – отмёл Костя. – Мы будем пить за то, что у меня впервые в жизни есть мои собственные деньги. Это непередаваемое ощущение! Но главное, мы будем пить за мою шикарную должность. Всё – я уже не временно, а окончательно вместо Женьки!
– Значит, «вместо Женьки». Звучит неплохо, – заметил Иван. – Предыдущая его должность, мама, называлась «левая рука Фолькера».
– Только не надо снова разводить, как там Женя, и не стыдно ли мне, – предупредил Костя. – Я даже сразу отвечу. Плохо! Не стыдно!Они развернули стол и сели так, чтобы было удобно наблюдать за обедом развитие снежной атаки. В какой-то миг Ивану подумалось, что в стихии этой, как в коконе, вынашивается зародыш всех грядущих погод. А почему бы нет? Десятки народных примет толкуют, как прочесть по одному дню целое лето. Раньше он и судьбу бы взялся прочесть по такому метельному дню. Но теперь – нет, ни к чему ему это.
Прошло время. Буран не утих, но острота первого впечатления стёрлась. Ольга Николаевна, утомлённая Костиной живостью, ушла к себе. Костя сидел, подавшись вперед, к «экрану», уперев локти в стол.
– Не знаю, как ты, – говорил он Ивану, – а я очень чувствую сокращения планеты. Они буквально стадионные! Под их ритм просто невозможно углубиться во что-нибудь медленное. Вот мы сидим в снегу – но мы и мчимся! Вроде бы человек дома, у него впереди сто вечеров, он мог бы прочитать всего Льва Николаевича, как люди раньше читали. Но теперь нет – планета не даст. Даже если ты отшельник, всё равно – тебя трясёт с ней в такт. Попробуй упрись – расшатает по всем осям!
Костя приоткрыл окно и высунул голову в снег.
– Знаешь, что мне кажется? – сказал он, оборачиваясь. – В современном мире давно уже нет никакого снега. Всё сухо. Сухие магистрали, пригодные для скоростной езды, и чёрная грязь бульваров. Снег – это прошлое. Снег был когда-то в России, как царизм. Но его давно уже свергли. А у тебя, как ни приди, он в подозрительном изобилии!
– Что ж тут подозрительного? – спросил Иван.
– А то, что это выглядит не как жизнь, а как театр! – воскликнул Костя. – Две снежных декорации – берег и кухня! Снегопады между диалогами! Я приношу сюжет к тебе на дом, чтоб задать хоть какой-то ритм, и всё без толку! У Фолькера дуэль на скалах – а у тебя чай с липовым мёдом. У Фолькера полёт на Марс – а у тебя с гречишным! И вот я живу в реальности, гоню по чёрному асфальту – и вдруг бац! – проваливаюсь в твой снег! Опять просыпаюсь, опять гоню – бац! – опять проваливаюсь! Согласно асфальту, я крут! Согласно снегу, мне давно уж надо бы молитву и пост! Как жить человеку в такой раздвоенности?
Иван удивлённо взглянул.
Вдруг тихонечко, затем сильнее, пронеслось по дому космическое ауканье. Костя бросился в коридор и вынул из кармана пальто мобильный.
– Фолькер! – орал он в трубку. – Меня? Ты это серьёзно? Готов! Ну конечно! А давай еще Машку возьмём? Тем более, раз у Женьки пересдача.
Иван встал прикрыть кухонную дверь, чтоб не слушать Костиных разговоров, но тут вошла мама.
– Шли бы вы в комнату! – сказала она. – А я что-нибудь испеку. Ты подумай – такой снег и ничего не испечь?
Ольга Николаевна взяла из буфета книжку рецептов и принялась выбирать.
– Давай сделаем «тирамиссу»! У нас есть сыр «маскарпоне»? – спрашивала она.
– Представь себе, нет! – смеясь, отвечал Иван.
– Так-так… – глядя в книгу, продолжала мама, – Ну, корица-то есть у нас? Значит, будут пряники. Убираем посуду – мне нужен стол!
Иван отнёс тарелки, отнёс бокалы, снял скатерть, вытер стол, но так и не смог истратить радость. Так бывало с ним – она находила на него от событий самых простых. Валит снег. Костя что-то вопит в телефон. Мама будет печь пряники. Обстоятельства эти Иван держал, как огромный свёрток с подарком, и не мог обхватить.
– Машк! – донеслось тем временем из коридора. – Хочешь сюрпрайз? Ты с нами летишь в Иркутск! Давай, собирайся!
Скоро взмыленный, как после кросса, Костя вернулся на кухню.
– Вот они – преимущества асфальтовой жизни! – крикнул он.
– Пойдём-ка, – сказал Иван, разворачивая его за плечи. – Пойдём в комнату. Ты какой-то взбудораженный. Приляг, отдохни!
– Я взбудораженный? – возмутился Костя. – Ты слыхал, что творится? Машка согласна со мной лететь!
В комнате он плюхнулся в кресло и помял ладонями голову.
– Что-то у меня здесь трещит и не укладывается! – произнёс он с удивлением. – Знаешь, как чемодан – не защёлкивается. Слишком много всего!
– Расскажи спокойно, – велел Иван.
– Да, – согласился Костя. – Значит, дела обстоят так. Моя мечта испеклась, её только надо вынуть, как пирожок. Знаешь, как в теннисе, – перелом игры, и тот, кто вёл, начинает сдавать гейм за геймом. На сегодняшний день у меня матч-бол. Осталась крохотная загвоздка. Я так понимаю, Маша ещё не всё знает. Вот если она нормально воспримет нашу с Женькой рокировку, то всё – победа за мной. И, в общем, это честно. С работой – потому что я на голову его талантливее. С Машкой – тоже. Кто мешал Женьке что-нибудь сделать для Машки? Он ведь знал, как ей хотелось завести этот сайт по рукоделью! Сделал он? Нет – сделал я. Я просил Фолькера, я с веб-дизайнером его общался, я потом сам Машкин материал распихивал по местам. Мне что, это просто было? Так что, мой недружеский поступок сполна искуплён трудом. И вот – летим в Иркутск, будем общаться – ну, то же, что и в Нижнем… Не ожидал я! – вдруг воскликнул он и, вскочив, подошёл к окну.
– Я думал, Женька будет биться. Если не за работу, так хоть за Машку. А он – ничего. Никакой реакции. Как будто, так и должно быть. Ну, разве что, загрустил слегка – не более того. Как ты думаешь, – спросил Костя, обернувшись, – может, он что-нибудь замышляет? Может, он вообще возьмёт и меня, так сказать… устранит?
– У тебя паранойя на почве перегрева, – без улыбки произнёс Иван.
– Да, ты уверен? Ты вообще в чём-нибудь уверен? Я – ни в чём! Фолькер – что это? Моя жажда Маши – что это? У меня нет трезвого взгляда!
– На этот случай человеку дан прекрасный инструмент – совесть.
– А-га, шикарный. Компас-невидимка! Где она? Что она мне советует? Показать тебе, что сейчас во мне? Вот! – Костя кивнул на рой снега за стеклом и резко, чуть не сбив с подоконника цветок, задёрнул хаотичное кружение шторами.
– Ты пока отдохни, – сказал Иван. – Поспи до ужина. Я тебя разбужу.
– Да, – затухая, произнёс Костя и вернулся в кресло. – Я устал. И главное, я начал бояться. Наверно, это от бесчестия. Бесчестный человек уязвим. А честный – никогда. Ведь так?
Иван кивнул.
– Слушай! Давай уедем к Бэлке! – вдруг взмолился Костя. – Визы есть. Хоть завтра купим билеты и полетим! У Бэлки там куча знакомых, устроим тебя куда-нибудь на работу. Я пойду учиться! Это выход для всех! Это сразу всем троим будет счастье!
– Да. Только я думаю, не может быть, чтобы так много прибыло – и нигде не убыло, – сказал Иван.
Костя хотел возразить ему множеством слов – у него в голове был товарный поезд сравнений, грузовые лайнеры метафор и притч – но сказал только «Ох!» – и прислонился щекой к спинке кресла.
Иван сходил в комнату и принёс ему подушку. «Ах, молодец, спасибо, спасибо!» – улыбнулся Костя. Скоро от вина и волнения он уснул.«Что за человек! – думал Иван. – Сирота, который всюду дома, любое кресло ему родное, в каждой постели заснёт с благодарностью. Или наоборот, император, который всюду дома, любое кресло ему своё, в каждой постели заснёт по праву». Так шатко гуляла Костина юность между всеми дорогами, что Иван ничего не мог сказать о нём наверняка.
– Полюбуйся! – шепнул он заглянувшей в комнату маме. – Рухнул.
– А с виду такой многоопытный, – заметила Ольга Николаевна.Испеклись душистые игрушки, затеянные в честь снегопада. С ними, оставив спящего Костю, Иван и мама ходили к бабушке с дедушкой на поздний чай. Возвращались, открывали окно, впуская внутрь край снежной занавеси, и отряхивали заваленный снегом термометр – потому что обоим хотелось узнать ночную температуру циклона.
Наконец, решили ложиться.
В гостиной, забравшись с ногами в кресло, спал трудный подросток. Иван закрыл форточку, чтобы Костю не продуло, и ушёл к себе.
В постели он честно тратил время, пытаясь решить, какой шаг будет для Кости правильным. По цепной реакции, другие насущные вопросы напомнили о себе – как помирить маму с отцом? Как сделать, чтобы бабушка с дедушкой жили вечно?
Уже на краю дрёмы Ивану в голову пришёл универсальный ответ на все вопросы. Он гласил: не надо никого ни к чему подталкивать. Следует самому так отладить свой жизненный ход, с такой добротой и благородством отнестись к явлениям жизни, что проблемы решатся сами собой.
Выходило, он и есть та волшебная палочка, дотронувшись которой, можно всё исправить! На этом Иван успокоился, отдал тревоги снегу, и видел необыкновенные сны в метель.Второй день снегопада пришёлся на воскресенье. Подъезды занесло, дворники спрятались. Редкие невезунчики, которым в выходной приходилось рано вставать, с трудом пролагали себе дорогу по неубранным улицам. Иван смотрел из окна, как они вышагивают, и чувствовал обидное разочарование. Он вспомнил школьную надежду, что улицы занесёт совсем, по шейку, и неделю придётся жить не выходя, опустеет холодильник, у бабушки отыщутся какие-нибудь завалящие крупы. И вот нет же – невезунчики протоптали дорогу! Их тропы были похожи на русла ручьёв по которым, дымясь, текла позёмка.
За столом под открытой форточкой зябла мама, укутанная в платок. На платок летел снег. Она походила на продрогшую институтку времён, когда Москву топили дровами. Перед мамой лежал толстый учебник вязания.
– Я сначала свяжу дедушке? – спросила она. «Потом бабушке, потом тебе, потом себе», – уловил Иван цепочку маминых надежд и кивнул: конечно! Он подумал: мамой можно восхищаться уже за то, что она мёрзнет, но не хочет закрыть снежную форточку.
Взяв чашку с чаем, Иван сел рядом. Из окна ему было видно, как в пятиэтажке напротив женщина вышла на балкон и шваброй сбивает с вишневого дерева снег. Но это был ещё не весь сюжет – прямо под искусственным снегопадом, среди ветвей паренёк выгуливал сеттера.
– Может, сваришь нам кашу? – спросил Иван. – Бросим туда миндаль, позовём Олю с Максом. Посмотрим, кому в этом году будет счастье. Я даже не знаю – кому бы я хотел, чтобы досталось? Не могу выбрать.
– Эта примета не на счастье, а на женитьбу! – уточнила Ольга Николаевна, живо откладывая свою книжку. – Актуально для всех, кроме Макса! Молодец – варим обязательно!
– На женитьбу – это когда Рождество, – заупрямился Иван. – А у нас Трёхдневный снегопад, значит, пусть будет, как я сказал, – на счастье.
Ольга Николаевна не слушала его. Она полезла в шкафчик и выбрала самую нарядную кастрюлю.
Иван пошел к себе в комнату звонить, но вдруг передумал. Ему показалось неловко звать Олю по такому глупому поводу. К тому же, неизвестно, как она отреагирует, если ей не достанется «счастья».
Когда Иван вернулся на кухню, за столом уже сидел Костя и, подперев ладонью больную голову, рассуждал о причинах недомогания.
– У меня ещё очень юный организм, – объяснял он Ольге Николаевне, – я чувствую, как ему хочется размеренности, долгого сна, безалкогольных напитков. А что он получает вместо этого?
Тут Костя увидел Ивана и улыбнулся ему слабейшей улыбкой.
– Ну что Оля, придёт? – спросила Ольга Николаевна.
Иван помотал головой.
Тем временем Костя придвинул к себе вазочку с коричневым сахаром и принялся грызть один кусок за другим.
– И всё-таки, – спрашивал он, – вы действительно думаете, что такое сидение может что-то поправить? Жизни помочь, да? Вот этот чудный дух… не пойму чего – каши что ли? Вы всерьёз верите, что если мы так посидим, то и я стану человеком, и Маша меня полюбит всерьёз, и конфликт цивилизаций не состоится?
– Да, я верю! – сказал Иван. – Но я не поэтому здесь сижу. Я есть хочу. Мама, ты орех бросила?
– А в честь чего орех? – оживился Костя.
Ольга Николаевна взяла половник и принялась раскладывать кашу. Несмотря на торжественность жеста, в её пальцах было волнение.
– У меня! – покопав ложкой, крикнул Костя.
По разочарованию в глазах Ольги Николаевны Иван понял, как всерьёз его мама рассчитывала на волшебство. Надеялась, была готова начать новую, повёрнутую лицом к счастью, жизнь. Чудачка!
Костя выкопал из каши свой орешек и сполоснул под краном.
– Вот это, – объявил он, держа его двумя пальцами и возвращаясь за стол, – это будет моя удача! Гадать – так гадать! Я загадываю на него: хочу выйти из хаоса! Хочу навести порядок и выйти из хаоса с Машкой. Бог с ним, с Фолькером и всеми его проектами. Мне надо только Машку. Это решение. Это – твёрдо! Вот, и на этом я его съем! – сказав, он разжевал орешек и бодро запил его кофе.
– Смотри-ка, щёчки покраснели! – заметила Ольга Николаевна. И лишь только она завершила фразу, по дому пополз космический голос Костиного мобильного.
Костя вскочил и вмял трубку в ухо.
– Привет, привет! – заулыбался он. – Ну да, ещё здесь, я ж тебе говорил. Да какое «спасибо» – главное, чтоб нравилось! Да ты что! Серьёзно? А где ты? Так это уже совсем рядом!
– Иван! – заорал он, прикрывая ладонью трубку. – Видал, как орешек работает! Какой у тебя номер дома? Быстро! Она здесь – на такси от Женьки!
Иван, смеясь, назвал.
– Лечу! Машк! Я уже лечу во двор, вываливаюсь в одном ботинке! Секунду! Жди! Или стоп! Давай лучше ты к нам! – с телефоном у уха, Костя прошёл в гостиную, рванул шпингалет и вылетел на балкон. – Ты во двор заезжай! Ну да! А, вижу, вижу! Давай, прямо, видишь, подъезд, и дуй на пятый этаж! Я тебя жду у лифта!Иван вздохнул. Он ещё помнил встречу с Машей на катере, как бесцеремонно она его «заложила» Фолькеру. – Мама, поздравляю тебя! – сказал он Ольге Николаевне. – Ты не соскучишься. – И вслед за Костей пошёл к дверям.
Они только успели шагнуть за порог, а Маша уже выходила из лифта. Пальто нараспашку, варежки в снежных комочках торчат из карманов, вязаная котомка наперевес. Её лицо было красно, мокро от снега, никакого хмельного кокетства Иван не заметил. Костя ринулся целоваться, но Маша сурово выставила ладони.
– Идите сюда и дверь закройте, чтоб мы никому не мешали, – велела она, обращаясь к Ивану. Её голос был звонкий, но неровный, оскальзывающийся.
– Я хочу сказать, – произнесла она, взявшись за лямку сумки, как за эфес. – Хочу сказать вам, как его другу и доверенному лицу: это такая сволочь! Я к нему хорошо относилась, он мне даже нравился – такой талантливый, чуткий! И знаете, что он сделал? Он придумал для меня сайт и вообще отвлекал меня всячески, а Женьку между делом просто смёл! Влез между родными братьями со своими стишками и вышиб конкурента.
Костя молчал, сунув руки в карманы, и вид имел независимый.
– Ладно, Фолькер с приветом – не видит ни черта, – продолжала Маша. – Но я-то! Костик, ты чего себе думал? Что я – переходящий кубок?
– Ну да, – бессмысленно улыбнулся Костя, – вроде того.
– Слушайте, может, вы это без меня обсудите? – сказал Иван и, зайдя в прихожую, вынес Косте пальто с шарфом. – До свидания! – произнёс он с чувством и собрался уйти, но не успел.
– Вы мне сделали очень плохо! – вдруг разрыдалась Маша. – Вы меня вырвали из гнезда! И мне уже нет хода назад! Я уже все вещи перевезла к Женьке на катер! Я уже бабушке всё сказала! А ты, Костя, амбициозный гад! Давай, катись в свой Иркутск! Расти по службе! – и Маша, споткнувшись о выбоину плитки, рванула по лестнице вниз.
– Ну что ты встал! – сказал Иван. – Давай, беги за ней!
– Я не могу, – тихо произнёс Костя. – У меня ноги отнялись.
– Ну как же отнялись – вот, стоишь же!
Костя сделал пару деревянных шагов, остановился, и вдруг, выстрелив с места, рванул за Машей.
– Стой! А пальто! – крикнул Иван, подождал несколько секунд, не вернётся ли его «крестник», и вызвал лифт. Когда он спустился, Кости уже не было во дворе. Пробираясь по великому снегу, Иван обогнул дом. «Наверно, поймали машину», – решил он и с пальто, перекинутым через локоть, вернулся домой. В лифте ему вспомнилось, как Герда умчала от финки без сапожек и варежек.
Тем временем Трёхдневный снегопад, не оправдав богатого названия, стал иссякать. Последний косой снежок залетал в форточку и шуршал по страницам маминой вязальной книги. Скоро шорох его был заслонён рабочим гулом улицы. Началась уборка снега. Иван смотрел из окна, как вдоль обочины тарахтят метёлки, и движутся самосвалы, гружёные снегом. Всё это – и самосвалы, и метёлки, и грязные кучи снега, как снятые после пира скатерти, – веселило взгляд, и ночь не была темна, потому что вечер оказался соединён с утром непрерывной работой уборочной техники.Ночью, забыв о разнице во времени, Ивану позвонил Андрей. Сегодня он, наконец, получил документы на свою приморскую дачу и требовал, чтобы его друг прилетел и отпраздновал с ним покупку на месте.
– Очень жаль! – прямодушно сказал Иван. – А я всё-таки надеялся.
– Что я куплю землю в Подмосковье? – засмеялся Андрей. – Не жалей! Я думаю, здесь только и начнётся моя биография.
– Бог с тобой, делай, что знаешь, – смилостивился Иван. – Но можешь ты мне хотя бы объяснить? Ты городской человек, работающий, живёшь весело, любишь путешествовать. У тебя мизерный отпуск. Для чего тебе это нелепое приобретение?
Андрей отсмеивался и был не обидчив, как всякий счастливец. Они условились, что Иван найдёт удобный момент и прилетит.
Со стороны Ивана это была большая уступка их дружбе. Ему не хотелось вовсе южных роз, а хотелось досмотреть московскую зиму, не пропустить весны, и всю надежду, какая есть, отдать в счёт грядущего лета – когда он со своим хилым войском переберётся на земляничное солнце и в яблоневую тень. И вот, опять приходилось отвлекаться на глупости.* * *
На следующее утро выяснилось, снег падал только затем, чтобы сразу же и растаять.
Улицы почернели, из окна, если вдохнуть, пахло остатками Нового года – влажной хвоей, чёрным хлебом и подвыветрившимся шампанским. Воздух этот, набитый водяной пылью, был вреден для детских и стариковских лёгких. Ни с Максом, ни с бабушкой Иван не гулял.
А затем подморозило вновь. По дворам наросли ледяные горы. На одну такую гигантскую полосу льда Иван играючи встал – как если б она была естественным продолжением дороги – и посыпался вниз, чувствуя себя ветром и снежной крошкой. Наверно, всё бы кончилось хорошо, если б он вовремя разглядел в конце горы трамплинчик и успел бы присесть.
Хирург, к которому он пришёл с распухшей ладонью, удивился, где так славно он вышиб палец. «На горке!» – счастливо объяснил Иван. Его радость немного померкла, когда он обнаружил на ладони жёсткую повязку.
– Ну что? – сказала Оля, со злорадством разглядывая травму. – Как с тобой ребёнка отпускать, если ты за собой усмотреть не можешь? Больше Макса не получишь!
Но Иван не расстраивался, потому что испокон веку в его дружбе с Олей присутствовал волшебный перевёртыш. Всякий раз, когда она насмехалась над ним, он слышал в её голосе жгучее одобрение.
И на этот раз Макс никуда от него не делся. Вдвоём они гуляли по бережку, Иван – с забинтованной рукой без перчатки, – и фантазировали о лете. Летом весь канал будет осыпан флажками яхт. Хотя, на что им виндсёрфинг? Вот растает лёд – они угонят из яхтклуба обыкновенную лодку… ну пусть не угонят, возьмут под залог…
Иван говорил и видел зелёную точку мая, растущую на глазах, как поезд.
– Это уже скоро, – обещал он. – А в августе, Макс, мы с тобой слетаем к Андрюхе, на остров Гозо. Он купил себе дачу, очень далеко от всех – от родителей, от друзей. И оправдывает себя тем, что все смогут летать к нему на море. Вот мы и полетим.
Полёт на Гозо Иван обещал и маме, изнывавшей без тепла и занятия. Но это летом, а до лета надо ещё дотянуть. Правда, в феврале Иван заметил, что в маминой скуке возник вектор. Как если бы она решила скучать в сторону весны. Он видел, как на волнах качает человека – из меланхолии в энтузиазм, от смирения к надеждам – и обратно. Этот плеск ему нравился. Иван ждал, что со временем мама ободрится окончательно, и был заинтригован, когда однажды утром окликнув маму, не получил ответа.
Из приоткрытой двери в её комнату светило и дуло. Он подошёл, толкнул рукой твёрдый лист дверной обложки и шагнул в солнечное содержание. Распахнутые окна маминой спальни сверкали, как морская вода, и разбрасывали по стенам солнечных зайцев. Ольги Николаевны не было – ни на кровати, ни у трюмо, ни в шкафу, куда Иван заглянул, желая проверить – не исчезли ли вместе с ней её вещи.
– Мама! – крикнул он, подбегая к окну – и сразу увидел её – во дворе без шапки, в распахнутом, по-школьному коротком, белом пальто и весенних полусапожках. Она стояла на шпильках среди жемчужного месива льда и беседовала с какой-то тепло одетой дамой.
– Мама! – окликнул он ещё раз, подавшись чуть ли не по пояс в окно.
Ольга Николаевна взглянула и помахала перчаткой.
– Иду! – аукнула она.
Через пару минут Иван открыл ей дверь.
– Какое безобразие! – сказала Ольга Николаевна, стряхивая на руки сына пальто. – От этих веществ, которыми они посыпают снег, у собак отравления! Они же всё это нюхают, лижут! Мне женщина рассказала, у её спаниэля вся кожа на лапах облезла.
Иван повесил пальто и прошёл за мамой на кухню.
– Нет, ты как хочешь! – сказала Ольга Николаевна, садясь к столу. – Дома должен быть или ребёнок или собака. – Как мы живём! Ни огонька. Всё затоптано. Какая-то пришибленная готовность страдать! Нет уж, теперь я за нас возьмусь! Когда впереди старость, – сказала она, – надо не плавать в мечтах, а разумно обходиться с тем, что есть. Я прикинула свои средства. Больше никаких профессиональных иллюзий! У нас и дома дела, ведь так?
– Да сколько угодно! – сдержав улыбку, сказал Иван.
– Первая задача такая: буду заряжать вас бодростью. Я даже задумала один подвиг. Не скажу какой. Но потрясающий. Ты будешь в восторге!
Иван попытал её немного, но без толку. Мама намертво держала интригу.
– Раз подвиг – это тебе надо скооперироваться с Костей, – заметил он, и больше не расспрашивал.
Перемены в мамином настроении не удивили Ивана. Ушли тёмные вечера, и Ольге Николаевне стало не в мочь дожидаться за вышивкой, когда время вынесет её на угол весны. Ей хотелось помочь движению планеты – подгрести, подтолкнуть.
Уже на следующий день, вернувшись из офиса, Иван с порога был огорошен новостью.
– Ты даже не знаешь, что я сделала! – воскликнула Ольга Николаевна, и её голос был, как слиток чистого звона! – Я поговорила с твоим отцом! Я сама ему позвонила! Ты ждал от меня такого?
Нет, разумеется, Иван не ждал. Он расстегнул куртку и остался стоять в коридоре, не смея перебить поток маминой радости.
– Я, наконец, поняла, кто он! – разгорячёно объясняла мама. – Он мой незадачливый родственник! Зануда, брюзга – но родственник, родственник! Удивительно – между нами не произошло никакого нравственного отдаления! И нам надо его жалеть, раз он наш. Ведь так?Иван ошеломлённо молчал.
– Ну что ты встал! Раздевайся! Пошли, будем обедать! Хоть похвалил бы меня за мой героизм!
Поступок Ольги Николаевны произвёл на Ивана значительное впечатление. «Какое же это везенье, – думал он, – оказаться в связке с таким человеком, как мама!» С ней нельзя ничего поломать навек. Все шрамы вокруг неё заживают, срастаются любые трещины.
Весь вечер и ночью, на сон грядущий, Иван раздумывал – что из этого выйдет? Самый невероятный исход – если мама с отцом снова сойдутся. Тогда, чтоб не путаться под ногами, он уедет на дачу. Они вместе уедут, с бабушкой, с дедушкой, и останутся там навек. У них с дедушкой давно уж была такая мечта – поселиться на даче. Там они узнали бы настоящую глубокую осень и непроходимую зиму. Прожили бы их, слившись, укутавшись в их ветра и метели. Встретили бы великие потоки весны.
Но прежде требовалось совершить ряд строительных мероприятий: пробурить скважину, чтобы зимой была вода, протащить от границы участка газ, поменять кое-где половую доску, содрать со стен труху и обить свежей вагонкой.
Его строительная мысль дошла уже до батарей отопления, когда Иван осознал, что думает об этом всерьёз – не ради шутки. Он и вправду поверил, что однажды освободится от города и заживёт вольно. Это стало так очевидно, как если бы его будущее распахнуло в глухой стене голубое окно.
* * *
Мамино мужество принесло быстрые плоды. Буквально сразу, на третий или четвёртый день после её разговора с отцом, произошло сказочное событие. Отец приехал!
Иван был один. Он вернулся из офиса рано и, не имея ровным счётом никаких судьбоносных предчувствий, полез в Интернет. Ему хотелось почитать что-нибудь о виноградной местности, где решил обосноваться Андрей. Это был смешной ход, насквозь туристический, но Иван подозревал, что ключ успеха спрятан не в конкретном действии, а в добром намерении.
Посторонний – не мамин, не бабушкин, не дедушкин, не Олин и не Костин звонок в дверь, отвлёк его от дела спасения дружбы. Может быть, подспудно Иван и узнал этот ровный длительный нажим, но мысль об отце не мелькнула. Он пошёл открывать.
От того, что это было совершенно невозможно предположить, Иван, увидев его на пороге, засмеялся. Отец испытанным щитом своего лица отразил его смех.
– Добрый день! Ольга дома? – произнёс он и сразу шагнул глубоко в коридор, к зеркалу. Посмотрел на себя, и начал не торопясь раздеваться.
– Мама поехала в бюро переводов, – ответил Иван.
– А она бы мне нужна! – сказал отец и расположил на вешалке свою заснеженную одежду. Тон его был недовольный – как если бы Ольга Николаевна прогуливала работу. – Ну, может, ты подскажешь? Мне нужны журналы с моими статьями. Я так полагаю, вы их на дачу выкинули?
– Нет. Они, наверно, на антресолях, – ласково возразил Иван.
Отец ничего не ответил и, минуя его, прошагал в комнату.
Он держал себя, как хозяин, сдавший угол жильцам, и зашедший проверить порядок. Брезгливо рассмотрел порез на обивке стула, с филёнки шкафа стёр пальцем пыль. Иван не обиделся. Он понимал: а как ещё отцу «сохранить лицо»? Не побитой же собакой было ему возвращаться!
Удостоверившись в бездарности жильцов, отец потребовал стремянку и приступил к поискам.
Иван несколько минут поприсутствовал, глядя на него снизу вверх. Ему нравилось корабельное занятие отца. Он чувствовал себя наследником – и фигуры на лестнице, и книжного шкафа, и векового шелеста, возникающего от соприкосновения руки и книги. Всё это было его по праву.
Ивану захотелось найти для отца приветливое, послушное слово, чтобы тот разморозился, наконец. В сентиментальном вихре он вышел и отправился на кухню готовить чай.Как раз, когда стол был накрыт, отец завершил свое дело.
– Вот они, – произнёс он довольно равнодушно и спустился на пол со старой, советского фасона папкой. Ему пришлось поморщиться, чтобы распрямить заржавевшую спину. Он убрал папку в портфель и пошёл одеваться.
Ни на что не надеясь, Иван предложил ему чаю и был удивлён, когда отец отставил портфель и прошагал на кухню. Вероятно, это дом, где он провёл значительный кусок жизни, захватил его в свои объятия. А может, ему хотелось дождаться мамы?
Вид накрытого стола тронул отца. Он впервые посмотрел прямо – с насмешливым удовлетворением – и сел.
– Ну, чем занимаешься? – спросил он, конструируя себе бутерброд. – На работе не засиживаешься, как я вижу?
Это был единственный случай, когда Иван не мог своей спокойной, добросердечной улыбкой отвести все насмешки. В данный момент он разговаривал с работодателем, чьей милостью был свободен и сыт.
– Твоя жизнь – это графомания, – сказал отец. – У неё нет структуры. Нет эскалирующей идеи, вокруг которой располагались бы события. В качестве спасения я бы посоветовал тебе серьёзно отнестись к судьбе компании, но, думаю, тебе это уже не по силам.
– Что же делать? – спросил Иван.
– Ничего. Деградируй в своё удовольствие. Через несколько лет из тебя выйдет хорошая манная каша.
Он допил кофе, оделся и, подхватив свой портфель, вышел.Иван хотел посмотреть в окно, как отец пройдёт по двору, но как-то спутался и, забредя на кухню, встал посередине. Слова отца ныли в его голове затрещиной. Внутренняя основа дрогнула. По совести побежала рябь.
«Может быть, все они правы – и мама, и Костя, и отец, – раздумывал Иван. – Но на что же ему купить сюжет? На бабушку с дедушкой, которые отвлекают его от возможного Дела? Как избежать участи манной каши? Забросить свой живой сад и заняться чужим, каменным, только потому, что это убьёт время и даст денег? Или, может, забросить свой живой сад и заняться чужим живым садом – Бэлкиным? Но тогда засохнет свой, и так не много ему осталось».
Рассеянно Иван собрал чашки. «Правда где-то посередине, – говорил он себе. – Соразмерность – вот что нужно. Так разве же он не ездит в офис? Не наметил себе летнюю Австрию? Ну, хорошо… Можно ещё попробовать посерьёзней отнестись к институту. Согласен, ладно…»К тому времени, когда мама вернулась, Иван уже точно знал, что отцу не нужны были никакие статьи. Его приезд был злым, неуклюжим жестом примирения.
– Как же ты будешь с ним жить? – спросил Иван за вечерним чаем, когда все детали фантастического события уже были известны маме. – Ты же сама от него сбежала. Или ты рассчитываешь на перемену в нём? По-моему, зря.
– Я рассчитываю на перемену в себе! – рассудительно уточнила Ольга Николаевна. – И потом, я и не собираюсь с ним жить. Он снимет квартиру. Мы будем иногда встречаться, выходить в свет. Всё-таки какие-то остатки его страшной любви ко мне должны ещё сохраниться – вот на них, по соседству, мы и протянем. Это ведь лучше, чем в одиночестве!
Иван, умилённый застарелым маминым романтизмом, не посмел возражать.* * *
Несколько дней прошло, а отцовская оплеуха горела. Иван надеялся остудить её прогулками по бережку, прикладывал к ней Баха, и на ночь – две строчки. Всё напрасно. Со вспухшей совестью, понимая, что сам себя замуровал, сам обратил столько добрых возможностей в камень, Иван проводил дни. Хорошо, что он знал по опыту: из любой тоски рано или поздно найдётся выход.
Опыт не подвёл. Однажды утром его жизнь распахнулась. Иван обернулся на звонок телефона, как на щелчок замка, и увидел на экране мобильного тоненький Бэлкин номер. Номер был сложен из четвёрок, семёрок и единичек. Веточки эти ещё не поросли листвой, но они пахли, сквозь их тонкую изгородь дуло мимозой. Ринувшись в этот цвет, Иван взял трубку.
Бэлла Александровна звонила по делу. Со всей деликатностью она просила Ивана навестить брата. Оказывается, Костя болел. Её мучили подозрения – нет ли у него воспаления лёгких, потому что кашель, услышанный ею по телефону, в последние дни звучал ужасающе. Доверить дело матери, не имевшей с ребёнком никакого контакта, она не могла. «Если есть необходимость, я сразу прилечу», – сказала Бэлла, и Иван, мучимый противоречием, надеясь, с одной стороны, что необходимость есть, с другой, волнуясь за Костю, решил немедленно навестить больного. Он упаковал в сумку забытое Костей пальто и отправился на Краснопресненскую.
Больной и правда был болен. Он стоял у двери, подперев плечом стенку, и пьяно смотрел на гостя. Его тёмные волосы, белое, с «синяками» лицо, порезанная рубашка и уличный шарф составляли цельный сценический образ.
– Бэлка наябедничала? – неприветливо встретил он Ивана. – Дубина я, спросил её – что пить от кашля. Ты проходи, конечно, но вообще-то мне не до тебя.
– Перебьёшься, – сказал Иван и зашёл в дом. В последний раз он бывал здесь давно, ещё вместе с Бэллой. Ещё и мысли у неё не зародилось тогда об Австрии, а пятнадцатилетний Костя шумно и весело варил им какао.
Нынешняя пустота и лёд жилища, единственная курточка на вешалке, коридорный дух сигарет – всё это сразу приметил Иван. Не то чтобы у Кости было грязно или беспорядок – но по-сиротски.
Не дожидаясь приглашения, Иван направился в комнату. Там был всё тот же серый воздух и пустота. Даже книжки нигде не валялось.
– Где ж ты живёшь? На кухне? – спросил Иван. – Ну, пошли тогда на кухню!
– Это ты от меня наглостью заразился? – догадался Костя. – Или ты меня передразниваешь? Ну ладно, ладно! Садись, устраивайся, я тебя сейчас тоже передразню! – и Костя включил чайник.
Иван сел к столу и оглядел холодное Костино обиталище. На голом столе стояла сахарница и пять чашек в чешуе засохшего кофе. На подоконнике – два погибших цветка в горшках. Невозможно было определить по останкам, кем именно они являлись при жизни. «Надо Бэлке сказать, чтобы приезжала, – думал он. – Скажу ей…» А вслух произнёс:
– У тебя тут чёрт знает что! Разве так живут!
– А я и не живу! – сказал Костя, кашляя в шарф. – Я здесь сплю.
И, неожиданно сменив гнев на милость, сел напротив Ивана – доложить обстановку. Костины дела были плохи. От влюблённости у него дрожали руки, он искурился до белизны и благословлял свой бронхит, полагая, что с кашлем из сердца выходит избыток страдания.
– Больше не виделись? – спросил Иван.
– Как же не виделись! Виделись! – улыбнулся Костя. – Виделись – ещё как! Я выбрал правильный момент, пошёл к Фолькеру и сказал, что они маются дурью. В общем, уволился по собственному желанию.
– И что Маша?
– Сказала, что я блефую и фиглярствую. Но это ничего не значит. Понимаешь, – произнёс он, переходя на полушёпот, – Машка устала. Я чувствую, мне бы надо её спасти – вернуть туда, откуда мы её украли. К бабушке… И ещё мне дико жалко Фолькера, – продолжал он, помолчав. – Что я его так из-за Машки пнул. Правда, мне плакать о нём хочется! Ты бы знал – что за человек! У него дел – целая планета, а он со мной возится… Он ещё вертолёт водить умеет! И у него дуэль на скалах была – я тебе рассказывал, помнишь?
– Раз сто, – кивнул Иван.
– Он там дрался с одним придурком, – не слыша, продолжал Костя. – Понимаешь, за правду…
– А придурок за что дрался? Или он так полез – шею свернуть?
– Ну не знаю! Вспетушился – и полез. А Фолькер шёл за людей. Тебе это дико, потому, что ты живёшь на бульончике. А Фолькер – это Фолькер. И Машка этого не может не понимать. Фолькер – главное очко в Женькину пользу. Он для Машки гарант живой жизни – понимаешь? Чей катер? Чьи сайты? Чьи полёты-самолёты?
– Слушайте, вы её на конфеты что ли покупаете? – возмутился Иван. – Да ты бредишь просто – у тебя всё в кучу – и любовь, и скалы, и катера! Ложись и градусник поставь! – он расстроено помолчал и добавил. – Ты почему своей маме не звонишь? Почему себе разрешил быть свинтусом?
– Вот-вот! А в самом деле! – подхватил Костя и уставился на Ивана смеющимися больными глазами. – Почему же я не звоню? Маме, тебе, Бэлке? Интересный вопрос! Ты понимаешь, как тебе объяснить? Я в космосе – мне вас не видно! Вот ты ко мне пришёл, а у меня всюду Маша! – И Костя охлопал себя по груди и бокам.
– Понимаешь, Иван, я ведь не горжусь, не хвалюсь! – продолжал он уже без насмешки. – Наоборот, прекрасно сознаю: влюблённость – это никакой не рай. Это предательство всех и вся ради одного человека. Вот мне Бэлка звонит, а я на неё ору – мол, давай, покороче. Ещё бы – у меня ведь нет своего времени, всё – Машкино. На улице, ещё до той ссоры, я пнул нищую собаку, потому что она полезла обнюхивать Машкину сумку! Какой тут рай? Это бесы! Бесы меня волокут – а ты как думал? – Костя посмотрел в потолок, и у него из глаз вылились слезы. – Всё, – сказал он, вытирая ладонью нос и глаза. – Всё! Я становлюсь занудный, как ты. Знаешь, болезнь, температура – это такая грядка для сантиментов!
Иван растерялся.
– Ну что ты! – сказал он. – Раз ты осознаёшь – всё в порядке. Не ты первый, выживали люди!.. Всё пройдёт.
– Да? – с внезапной язвительностью произнёс Костя. – А ты-то откуда знаешь? Если б с тобой такое было хоть раз, ты бы бросил и бабушку, и эту дуру-Олю, и меня! Вон я всё бросил ради Машки, а ты ради Бэлки с места не сдвинулся! И ты не смеешь судить! Ты вообще ничего не смеешь, потому что некомпетентен!Иван встал, собрал чашки и молча перенёс в раковину. Некого было винить, кроме себя. Его, кажется, просили проведать, а не читать мораль.
– Пепельницу верни! – крикнул Костя. – Вот эта, без ручки – это пепельница!
Иван отдал ему чашку без ручки и пошёл в коридор одеваться.
– Завтра вызови врача! – велел он на прощанье. – Надо, чтобы тебя послушали.
– Не могу, у меня полис потерялся! – крикнул Костя. – И вообще, отстаньте от меня все! Я антибиотики пью, сегодня – вторую капсулу. Слышишь – отходит! – и Костя демонстративно откашлялся. – Ты Бэлке, главное, скажи, что я в порядке! А то ведь она прилетит, ты её знаешь!
Иван дёрнул дверь и вышел.
– Иван! – крикнул Костя, вылетая за ним на порог. – Ты не переживай! Это ж не навсегда. Подожди, вот успокоюсь, схлынет – и буду снова человеком. А пока, понимаешь, да, не справляюсь с собой! Пока объявляю свинство!Костя объявил свинство, как объявляют мораторий или войну, и Иван не обладал полномочиями отменить объявленное. «Интересно, – рассуждал он, – а какими полномочиями вообще обладает “манная каша”?»
Вот был краткий итог его визита к больному «крестнику». С ним Иван бесцельно прибыл в офис, помаялся и вернулся домой.
Вечером он честно отзвонил Бэлле и сообщил, что Костя живой, не то чтобы здоровый, но на ногах держится, и главное, пьёт лекарства. Они поговорили – о Костиных планах на будущее, о том, как бы всё-таки в эти планы вписать институт. Жаловаться на влюблённое «свинство» Иван не стал.
– У меня контракт по июль. Осенью вернусь. А весной приеду на Пасху, – сказала Бэлла. – Ты меня не осуждай, что я здесь. Это, прежде всего, по материальным соображениям. Всё-таки на мне мама, Костя.
– Ну что ты! – воскликнул Иван. – Почему я буду осуждать? Конечно, нет…
– Мне Костька донёс, что ты Андрею задаёшь трёпку за его эмиграцию.
– Да, – признал Иван. – Но Андрей – другое дело. Мало того, что он в Европе работает, он ещё себе на каком-то там острове дачу купил – чтобы уж совсем сгинуть…Полететь к ней завтра же и остаться, – думал он, улёгшись с погасшим телефоном в руке. – Полететь и остаться. Вон Костя из безнадёжного положения – свято верит в победу. А тут всего-то – взять «Чемоданова», полететь и остаться!
Так искушал он себя до полуночи, а затем, безо всякого порядка в мыслях, от одной только грусти, взял да и позвонил Андрею.
«Я готов посмотреть твою приморскую развалюху, – сказал он. – Когда приезжать?»Вечером накануне отлёта они с мамой спорили о неизменности и переменчивости. Ольга Николаевна утверждала, что Андрей окончательно отряхнулся от детства, сдул дачные ромашки, и Ивану не стоит рассчитывать – родство ушло. То, что держало их вместе, было всего лишь вихрем юности, улегшимся и оставившим каждого со своими делами.
Сын протестовал.
– Это чушь, мама! – возражал он. – Родные не могут стать чужими. Это всё равно, как если бы фиалка переродилась в герань.
– Я не говорю, что он переродился, – уточняла Ольга Николаевна. – Я просто констатирую, что у вас разные жизненные цели – а это немало.
– Цели – это чепуха! – горячился Иван. – Это не то, на чём держится мир! И дружба совсем не на этом держится!
Ольга Николаевна усмехалась сочувственно.
Они решили доспорить по приезде.* * *
В эту поездку Ивану выпала долгая дорога. Во Франкфурте, где у него была пересадка, мела метель. Рейсы откладывались. «У нас сугробы, как в России!» – по-немецки сообщил ему весёлый служащий аэропорта, и Иван отправился ждать. В зале ожидания ему повезло с соседями. Справа от него расположился одинокий англичанин, слева – четверо португальских школьников с молодой учительницей. Объединённые усталостью, они дремали в общей колыбели терминала. Метель укрыла грязный Франкфурт. Рейсов не объявляли. Иван хотел пойти купить себе немецкую газету, но учительница из Португалии нечаянно уснула на его русском плече.
Храня её сон, он думал о том, как в действительности всё хорошо между людьми. И как несложно было бы поддержать и развить это хорошее. Всего лишь подправить закон в пользу сострадания. Упрочить право человека на тишину, чистоту, деликатность. Установить цензуру печатных изданий, телевидения и Интернета… Хотя, вот он уже и породил чудовище – Диктатуру добра и красоты!
С опозданием в половину суток он прибыл-таки в свой приморский пункт назначения. Южный воздух ударил Ивану в нос, едва он вышел в фойе аэропорта, и сразу же на него налетел Андрей.
– Это надо! – вопил он, стискивая друга в объятиях. – Сволочи какие! Снежка испугались! Наши бы летали. Ты хоть поспал?
– Не волнуйся, я прекрасно провёл время! – заверил его Иван.
На этот раз Андрей был не парижским. Он встречал друга в белой рубашке с закатанными рукавами, в летних штанах из грубой ткани. Его колониальное пижонство было безудержно. Иван усмехнулся и простил. Ему показалось, лицо у Андрея посветлело. Старая растерянность появилась в нём. «Влюблён. Это точно!» – решил Иван.
– И что же, ты теперь каждые выходные так и курсируешь – между Парижем и Гозо? – спросил он насмешливо.
– Да Бог с тобой! Край-то не ближний – не налетаешься! Я здесь – в твою честь! – от души улыбнулся Андрей.
За разговором они вышли к стоянке такси.
– А поехали общественным транспортом! – предложил Андрей. – Багажа у нас нет. Хоть посмотришь на местных!
Иван не возражал. На остановке штормовой ветер продул его южным теплом. Они сели в старый автобус, неудобный и нерасторопный, и поползли вдоль моря. Иван смотрел в окошко, как на экран. Нет, не пробирала его средиземноморская красота! И трогательный Андрей, то и дело склонявшийся и объяснявший ему местность, тоже как будто был частью фильма. Дорога оказалась многосложной. До острова добирались паромом, и из порта – опять на автобусе. Наконец, в городке на центральной площади они вышли.
– Ну вот! – сказал Андрей. – А отсюда уже пешочком!
Иван осмотрелся, увидел синее небо и низенькие, украшенные лепниной дома. В арке углового дома, склонив голову, стояла Мадонна. От робкой ли фигуры Богоматери, или от воздуха с хлебной струёй его настроение переменилось. Вероятно, это дух местности коснулся его – то, что он искал, но так и не обнаружил в убитом туриндустрией Париже.
– Пахнет хлебом, – сказал Иван. – Может зайдём, купим чего-нибудь?
Они миновали город, в окраинной лавочке взяли вино, пирог с луком, горячий багет, и со всеми запасами поднялись в крепость. Это были обыкновенные, не выдающиеся ничем развалины крепостной стены. Через них проходила тропинка в долину – кратчайший путь к владениям Андрея.
Руины заросли густой и зелёной зимней травой с жёлтыми цветами. Пройдёт три месяца – и солнце выжжет и траву, и цветы. Иван застал лучшее время!
– А вон там мой дом! – сказал Андрей, указывая на далёкую горстку крыш у самого побережья. – Ну что, перекусим?
– Завтрак под пулями! – отозвался Иван, садясь в одуванчики и оглядывая долину через бреши каменной кладки. Андрей, как детство, присел рядом с ним.– Мы сейчас пойдём к морю, и дальше по берегу, – сказал Андрей, когда они пообедали. – Видишь церковь – вот нам туда.
Они вышли через пролом стены на тропинку. По ту сторону остался городок. Впереди виднелись зелёные, нарезанные прямоугольниками поля, колючие рощи и по краю – море.
По неровной, перемешанной с камнями тропинке, они спускались к берегу. «Ни души. Одни на земле!» – подумал Иван. Тут дорогу им перебежала овечка.
Наконец, они вышли к морю. Не то чтобы шторм, но беспокойство было в волнах.
– По верху или по камням? – спросил Андрей.
– Какие же это камни! – сказал Иван, ступая на корявые серые плиты. Буря плеснула, Медуза-Горгона взглянула – и кипящая лавина волны застыла на берегу. – Камни – это валуны в Прибалтике! А это – на цемент похоже, – сказал он и тут же различил в сухой ложбинке краба без клешни.
– Ты не в курсе, они у них регенерируются? – спросил он с тревогой.
– Ты что – нет, конечно! Это же их руки! – отозвался Андрей. – Да ты не туда смотришь. Ты смотри вокруг! Видишь скалы? В них такие есть ущелья грандиозные! Можно на озере сесть в лодку, проплыть через разлом в скале – и ты в открытом море! Когда выплываешь наружу и движешься вдоль этих стен отвесных, и ищешь хоть какую-нибудь бухточку – это фантастика! А если тебя к этим стенам ещё волнами кидает, тогда ты вообще – Одиссей богоравный! Понимаешь, тут ничего не изменилось с тех пор. Вот как плавали люди шесть тысяч лет назад – так и ты плывёшь! Я бы тебя провёз, но сегодня шторм, – сказал он, взглянув на темноватое море. – Не хочется мне тебя топить!
Твердь камней под ногами, небо, вода и скалы взяли Ивана в необъяснимый плен. Он смотрел неотрывно и пытался всей душой противостоять пленению, но голова оставалась пустой – ничего, кроме неба, воды и камня.
– Как же ты здесь будешь жить? – спросил он. – Ты читать здесь пробовал? Или хотя бы думать? Тут же всё выдувает начисто.
– А ты полагаешь, мне когда-нибудь нравилось читать или думать? – улыбнулся Андрей, перепрыгивая с плиты на плиту. – Это тебе нравилось. Это ты духовная личность, а я сторонник равноправия души и тела. Слушай, ты почему меня всё время путаешь с собой?
– Извини, по привычке, – отозвался Иван. – А на счёт равноправия души и тела ты сильно заблуждаешься. Ты, Андрюха, просто давно не видел старости. Если бы ты видел её – у тебя бы язык не повернулся говорить о каком-то там равноправии. Душа к старости светлеет, а тело рассыпается. Неужели это не намёк, что чего стоит?
– Но тогда и солнце – дешёвка? И море, и физический труд? – смеялся Андрей. – И женская красота? И земная твердь?
Ах, как он был прав в своей белой рубашке!
– Я думаю, – произнёс Иван, – чтобы приобщиться к местной правде, надо всё внутри себя стереть. Тут не годится подмосковный склад души – я это чувствую! – Он замолчал и, взглянув на Андрея, всем сердцем выдохнул, – и я чувствую большую потерю! Потому что, как только ты примешь эту новую средиземноморскую…
– А ты не чувствуй потери! – перебил его Андрей. – Ты чувствуй приобретение – что твой друг, наконец, выпутался! Ты вот всё говоришь «правда», а ты знаешь, какая в этом правда, взять и выйти в море на своей лодке! И чтобы на берегу у тебя была женщина, от которой боги могут тебя оторвать на двадцать лет, но когда ты внезапно вернёшься – у неё на столе будет ждать тебя твоё любимое блюдо, и твоя рубашка будет свежая лежать на кровати…
– Где ты набрался этой пошлятины? – сказал Иван.
– Почему пошлятины? – немного порозовев, но опять не обидевшись, возразил Андрей. – Это всё хорошие, чистые вещи. У меня будет парусная лодка. Ты ещё сам будешь ею править – дай только срок. И у дома моего будет имя. Здесь каждому дому даётся имя. Например, «Brave heart», или «Molly dear». А я назову дом по имени моей жены. Дураки могут смеяться.
– Я не смеюсь! – возразил Иван. – Я удивляюсь, какие вы все одинаковые – как будто вас шлёпали на одном диснеевском заводе. Заглатываете рекламу и мните, что нашли себя. Лодка или катер, дом на море или дом в Альпах, плюс красавица! Некоторые, правда, ещё участвуют в интернет-спасении мира. Но, Андрей, ведь это всё фантики! А хотя, что я тебе объясняю, ты всегда любил попсу! – Иван махнул рукой и, сойдя с камней, взбежал вверх по откосу, туда, где пролегала дорога над морем.
– Левее бери! – смеясь, крикнул Андрей. – А то на птицеферму угодишь! Нам левее!
Иван рванул было вперёд, но споткнулся о камень и, ошпаренный внезапным стыдом за всё, что наговорил, остановился подождать друга.
На беглый взгляд, городок, где они очутились вскоре, ничем не отличался от того, куда привёз их автобус. Но Андрей указал Ивану на отличие. На центральной площади была достопримечательность – древняя прачечная. Она представляла собой осенённый фигурой Мадонны свод с рядами каменных раковин. По стенам в раковины стекали ручейки родниковой воды.
– Тут и сейчас стирают – сказал Андрей. – Так, если кому охота постирать на людях.
– Да… – кивнул Иван. – Мне нравится. – И зашёл в тень свода потрогать мокрые камни. Детская страсть археолога колыхнулась в нём. – У тебя есть чего-нибудь такое? – спросил он, обернувшись. – Платок?
– Постирать охота? – заулыбался Андрей. – Ничего у тебя не выйдет! Для этого надо быть женщиной, родившейся в здешних местах! – объяснил он с гордостью и потянул его за локоть. – Пойдём! Мы сейчас выйдем на такую вертикальную улочку – и там уже до дома три минуты!
Прачечная умилила Ивана. «Ничего не видел, ничего не знаю о мире. А сколько протеста! “Манная каша” выражает осуждение!..» – мысленно бранил он себя.
– Мой дом, – по дороге рассказывал Андрей, – это не просто дом! Странно и нелепо, что его продали иностранцу. Тут жил настоящий герой-антифашист! Спасал евреев, партизанил. Там ещё была большая любовь, но это я потом расскажу. После войны это всё досталось наследнику, но он здесь не жил. А наследники наследника выставили дом на продажу. Мне всё это в агентстве рассказали. Так что вот – угрохал все деньги, и у меня ещё долг. Осваиваться начну не скоро. Но всё равно – главное сделано!
Они спустились по солнечной, вертикальной почти что улице. Случись здесь русская зима – путь вниз превратился бы в трассу для бобслея, заканчивающуюся трамплином в море. Позади домов желтел апельсиновый лес, расположенный ярусами. Перед одной из оград Андрей остановился и, улыбнувшись, ни слова не говоря, отпер деревянную дверь в сад.
Иван увидел маленький дом из местного камня, с плоской средиземноморской крышей и крылечком, в тени которого спрятался каменный умывальник и барельеф Мадонны. «Опять, этот чудесный камень у них повсюду!» – растеряно подумал он. Тут сильный шелест апельсиновой листвы, не многим отличный от шелеста дачных яблонь, охватил его и пронял насквозь.
– Ну, ты, я вижу, рад? – волнуясь, спросил Андрей. – Нравится тебе, я вижу.
Иван кивнул. Он поднялся на крыльцо и, прежде чем войти в дом, долго смотрел на умывальник и барельеф.
В комнате Иван увидел лёгкие кресла в желтую и голубую полоску с размывами, и такие же, с размывами, жёлто-сине-зелёные полосатые занавески. Вдоль стены располагался белый камин и кровать, укрытая синим пледом. Со второго этажа, куда они взобрались по шаткой лестнице, виднелось полукружье моря, а перед ним – спускающийся широкими террасами сад. Прилегающий к дому кусочек сада тоже принадлежал Андрею. За него следовало ежегодно платить налог, но это не смущало хозяина. Как понял Иван, Андрюху и вообще мало заботили предстоящие трудности – он был оголтело рад своей авантюре.– Пойдём, посмотрим деревья, – сказал Иван, в шелесте листвы чуя свою стихию.
Это был чистый, набожный и вместе с тем отважный сад, земля, исполненная добродетелей. Зимние штормы не мешали ей плодоносить. Хозяева обрабатывали её с молитвами. Иван сел на корточки и потрогал землю. Несмотря на зимний сезон, она оказалась пыльной.
Андрей собрал в пакет осыпавшиеся плоды. Он ещё не обзавелся корзиной.
– Мне даже неудобно перед апельсинами! – сказал он. – Что я их вот так, в пакет! – И как будто в оправдание добавил, – вообще-то они кислые.
Стемнело быстро. Птицы улеглись, забелели игольно-тонкие звёзды. Шелест моря у подножья рощи стал громче.
– Телевизора нет! – похвастался Андрей, когда они возвратились в дом. – Есть ноутбук, но здесь я его не достаю. Давай ужинать? У нас с тобой вино и пирог – плохо ли?
Иван глянул в окно – там, между веток, он сразу увидел звёздочку. Было ещё не поздно, одиннадцать – по московскому, восемь – по местному, но после задержки в аэропорту сознание расплывалось.
– Не хочется есть, – сказал он. – Засыпаю… – и, увидев разочарованную мину Андрея, добавил, – утром. Утром всё расскажешь. Хочешь, встанем в пять?
Андрей рассмеялся и отвёл его спать – на тот самый синий диванчик с пледом, а сам по скрипучей, давно уже аварийной лестнице поднялся наверх.Когда Иван лёг и веки слиплись, море зашло к нему. Оно обступило постель и натекло в сознание. Иван чувствовал, это был добрый дружественный визит, но ему не хотелось волшебства. Он открыл глаза и повернулся на другой бок – больше море не заходило. И всё-таки, чувство ласкового приёма, осталось. Как будто этот край всем своим ветром, водой и камнем жаждал его симпатии.
Утром, не позднее семи, Иван проснулся, тихонько вышел во тьму и направился вниз по апельсиновым террасам с ответным визитом к морю. Как по лестнице для исполинов, он спускался по ним, иногда задевая кроссовками рыжие мячики, но так и не добрался до берега, потому что в кроне какого-то дерева запела птичка. Иван остановился и прислушался к её голосу. Ему вспомнилось февральское солнышко, воробьи, но он не заскучал. Напротив, захотелось схватить лопату и взрыхлить эту землю – как дома расчистил бы снег. Собрать всё зеленое и оранжевое, что упало и что пока на ветвях, – и корзинами мерить счастье! Если выйдет много корзин – значит счастлив несомненно. Если мало – счастлив чуть-чуть.
«Вот так вы и завоевываете для себя землепашцев! – подумал Иван, проникаясь симпатией к оранжевым деревцам. – А если сесть в лодку и проплыть вдоль скал – то и совсем будет не уехать?»
Он постоял ещё, наблюдая, как понемногу светлеет небо, и прикинул: «Если тут семь, значит у нас десять». Пора было звонить своим.
С обычной тревогой он вызвал домашний номер и уже через пару минут был в курсе, что самочувствие у бабушки с дедушкой сносное, без катастроф. Зато в Москве ночью грянул трескучий мороз! Батареи отопления шпарят, как сумасшедшие, придётся класть на них мокрые полотенца – чтоб не посохли цветы.«Что за земля! Мороз, батареи – и тут же вам апельсины, море зелёно-розовое…» – думал Иван, простившись с бабушкой и убрав телефон.
Он сошел ещё на несколько великанских ступеней вниз, выбрался на огибавшую террасы крутую тропу и по ней зашагал в городок.
Ему хотелось посмотреть, как очнутся от сна тишайшие улицы. Так приятно, наверно, было бабушке видеть потягивающегося спросонок внучка – давным-давно.
Он двигался по улочке, дающей на просвет золотой слиток моря, и предвкушал открытия. Низенькие дома, «мадонны» над каждой дверью, часовенки, нежные статуи из серого камня, кроны цитрусовых за заборами – всё нравилось ему. В одном из окон, стремительно переместившись в сказку, Иван увидел девушку, склонившуюся с лейкой над цветочным ящиком. Чёрные локоны затеняли опущенное лицо, но лоб и носик были чудесные. Прочь сомнения! Подняться и посвататься! В этих чистых местах нельзя заводить роман. Нужно сразу явиться к родителям и просить руки. И знать, что любишь навеки. Прекрасный обычай!
Тут простая мысль пришла ему в голову. Он подумал: «А ведь место может стать судьбой человека! Поменяешь место – поменяешь и судьбу. Поживёшь здесь – и тобой завладеет любовное настроение, потому только, что оно цветёт здесь наравне с цитрусовыми. Как невозможно не полюбить сад и море – так невозможно не полюбить».
Побродив с полчаса, Иван вернулся к дому Андрея, прошёл мимо крыльца с каменным умывальником и вышел в сад. Круг прогулки замкнулся. «Здесь лёгкий воздух, – мысленно подытожил он. – Идеально для человека, не обременённого чувством долга».
Рассвело. От моря ему навстречу, белея на зелёном и синем, шёл Андрей.
– Я уж думал, ты мне вчера приснился! – крикнул он Ивану, ускорив шаг. – Встаю – тебя нет!
Иван подождал, пока его друг приблизится.
– Я гулял, – сказал он. – Собрал все плоды.
– Что ты имеешь в виду? – заулыбался Андрей. – Какую-нибудь красотищу? Да, этого тут полно! – и вдруг сказал переменившимся голосом. – Послушай-ка, мне надо с тобой поговорить!
– Давай поговорим, – кивнул Иван.
Рядышком они побрели между деревьями.
– Вот и представь… Жил, как человек – бац! – отыскал себе на голову счастье! – начал было Андрей и умолк. – Не знаю даже, как это всё рассказывать… – он оборвал с деревца жёсткий апельсиновый лист, смял и понюхал. – Ну да ладно! Это, кстати, ты мне накаркал, помнишь, в Париже, тостом своим. Так вот, история такая. Юная девочка, продавщица в местной кондитерской. У неё жених – прекрасный добрый парень. Стекольный мастер, художник… Я и не собираюсь конкурировать. Но понимаешь, у меня такое чувство: если не буду жить по соседству – умру. И я решил, что отдам свою жизнь этому месту, где она родилась – природе, людям. А что ещё я могу отдать? И кому – раз ей меня не надо? А мне хочется отдать себя – потому что я себе в тягость. Вот я и решил. Буду здесь работать на земле. Со временем куплю виноградник. Подружусь с соседями. Буду смотреть, какие у неё вырастут дети…
– Блестящее предназначение! – сказал Иван и замолчал, стараясь удержаться от чтения морали, но всё же не вытерпел. – А родители? Сестра? Люди, которым ты действительно нужен? Ясное дело – они ведь не юные продавщицы!..
Андрей улыбнулся виновато и как-то пусто.
– Ты хоть знаешь, что она за человек? – спросил Иван сурово.
– Ты опять путаешь меня с собой, – покачал головой Андрей. – Это тебе надо знать.
– Нельзя любить то, чего не знаешь, – нахмуренно продолжал Иван. – В такой любви заложен обман. Только когда понял человека, как себя, можно надеяться, что любишь его, а не свою фантазию… Представляешь, сколько времени и души надо положить, чтобы понять человека? А ты – приехал и здрасьте! Жизнь отдаёшь!
– Не согласен! – возразил Андрей. – Ни с чем не согласен! Любишь как судьбу – готовый на всё. Что бы там не оказалось внутри!
– Это самообман, – упрямо повторил Иван.
– Ты просто не понимаешь, о чём идёт речь, – без обиды сказал Андрей. – Ты не виноват – просто с тобой ничего подобного не случалось.
Иван молчал. Костины упрёки из уст Андрея были ему тяжелы.
– Да понимаю я… – отозвался он нехотя. – Есть хоть у тебя шансы?
– Какие шансы! Откуда! – засмеялся Андрей. – Мне, как всегда, везёт. Люди патриархальны до безобразия. Порвать помолвку ради иностранца, иноверца? Ей это надо? Да она и не взглянет! А если бы взглянула – всю жизнь бы себя ела за предательство! Ну и что я тут могу? Вот ты бы смог – прийти, всё человеку порушить? Если бы хоть она меня любила – другое дело. А так – просто поставить цель, заморочить голову? Нет уж ребята, я так не хочу. Не буду.
– А как же ты будешь? – спросил с любопытством Иван.
– Я уже сказал, как. Буду здесь жить, работать, довольствоваться тем, что есть, а лишнего, чужого – зачем мне?
– Ненормальные вы все… – пробормотал Иван и, оставив Андрея, побрёл вверх по террасам, прочь от моря. Рассвет бил ему в спину. Надувался зелёно-оранжевый парус рощи. Всё было в масть романтической истории Андрея.
На каменном крыльце, в лучах «Мадонны», вынеся стулья и раскладной столик, они сели завтракать.
– Мне здесь неловко курить, – сказал Андрей, туша свою сигарету. – Такая чистота!..
Он вошёл в дом и в допотопном прессе, оставшемся после хозяев, выжал апельсиновый сок.
От этого честного сока у Ивана свело зубы. Но он всё же допил его и, допив, подобрел к здешней каменистой земле. Всё-таки это было её угощение.
– Ну, теперь ты хоть расскажи! У тебя-то что? – спросил Андрей.
– А у меня ничего! – сказал Иван. – Живу с тобой не по соседству. Бабушка с дедушкой у меня старые.
– Ну а хотел бы чего?
– А хотел бы, чтобы по соседству и молодые!
Андрей кивнул и, отыскав глазами барельеф Мадонны, кивнул ещё. На секунду Ивану почудилось, будто бы и сейчас – как пятнадцать лет назад – они идут по дачному лугу, вечной дружбой своей укрепляют мир, умножают добро весёлым бездельем…Оставшиеся день и ночь уже не имели значения. Они провели их в согласном блуждании по окрестностям, безо всяких бесед.
Во время прогулки по городу у одной из лавочек Андрей остановился и спросил, не желает ли его друг самостоятельно выбрать что-нибудь к ужину. Из дверей пахло корицей, кофе, сливочным кремом. Иван понял и послушно вошёл. Андрей остался на улице.
То, что, войдя, Иван увидел за прилавком, поразило его. Перед ним цвёл сюжет Возрождения, «чистейшей прелести чистейший образец». Андрей был прав: в данном случае, внутреннее содержание девушки не играло никакой роли, с лихвой окупаясь внешним. Это была та самая, нежная и набожная, возвышающая зрителя красота, с которой Рафаэль писал Сикстинскую Мадонну, какою болел Пушкин.
Иван взглянул мимолётно и, развернувшись, ничего не купив, вышел.Через несколько часов, когда Андрей, перекрыв водопровод и проверив, везде ли выключен свет, запирал дом, Иван сказал:
– Всё-таки странная у тебя дача! Почему-то я не верю в неё. Я так думаю – это тебе приснилось.
– Может, ты и прав, – отозвался Андрей. – Поживём – увидим. – И, подхватив рюкзачок, спустился в сад. Иван пошёл за ним.
За калиткой ещё постояли – разглядывая через деревья светлую полосу моря, затем вышли на вертикальную улочку и двинулись в обратный путь.
В аэропорту они простились. Андрей возвращался на работу в Париж. Иван – через Франкфурт – в Москву.Свои путаные впечатления он решил пока не разбирать, а отдаться целиком возвращению, риску посадки в снежную муть столицы.
* * *
Самолёт проплыл над ёлками и приземлился почти беззвучно. Выйдя из здания аэропорта, Иван задохнулся от холода. «Вот это да!» – подумал он и покосился на сумку – не надеть ли под куртку свитер? Мама ещё не приехала за ним. Он позвонил – Ольга Николаевна была в дороге. У остановки Иван встал под редкий снег, в дырявых тучах увидел крохотные московские звёздочки, и его развезло. «Дома!» – почувствовал он с нелепой гордостью за дурной пейзаж, мелкие звёзды, и безобразие климата. Он стоял, улыбаясь, проникаясь блаженством свидания, и ему хотелось спеть – что-нибудь народное, и съесть – чёрного хлеба! – и выпить, и всю дорогу пройти пешком.
Скоро подъехала мама. «Ни в кого не врезалась! Без происшествий!» – сразу же отчиталась она.
– Что-то холодно у вас! – заметил Иван, целуя её.
– Двадцать два! – похвалилась мама. – Давай, садись скорее!
В согретой машине Иван растерял свой хмель. Усталость и самолётная глухота придавили его.
– Ну, как ты съездил? Доволен? – спросила мама. – Как Андрей?
– Андрей в своём репертуаре, – доложил, вздыхая, Иван. – Опять влюбился. Я её видел – красота чудесная, это правда. А что за человек – ему и дела нет. Говорит, люблю как судьбу. Вот он хочет жизнь прожить на благо её земли. От всего остального – отрёкся. Разве это не предательство? Это предательство…
– А ты можешь сформулировать, – спросила Ольга Николаевна, – в каких случаях мы вправе требовать от человека верности?
– Во всех случаях взаимно признанного родства! – немедленно ответил Иван. – И после клятв!
– Ах, после клятв! – улыбнулась Ольга Николаевна. – Вот видишь, я была права. Вы разошлись. У вас разные цели и ценности.
Иван не нашёл, что возразить.
– Хорошо, что я уже дома, – сказал он.Выйдя из лифта на площадку, Иван остановился. В первую секунду он не понял, в чём дело, а потом догадался. Его тело и чувства пропитались душистым, масляно-жёлтым теплом, идущим от бабушкиной двери.
– Что это у вас? – спросил он, направляясь точно на запах.
– Сюрприз тебе! – сказала Ольга Николаевна. – Уж так внука любят!..
Тут бабушка открыла ему. Иван увидел с порога её пунцовые щёки в жилках, синеватые губы и через распахнутую дверь продымлённой кухни, на столе – пизанскую башню блинов.
– Зачем! – возмутился он. – Ты смотри, что у тебя – духота, жара! Это какая нагрузка для сердца! Ты просто легкомысленный человек!
Бабушка махнула на него тряпкой.
– А ты куда смотрела? – набросился он было на маму, но не удержал гнева и, скинув куртку, сел к столу.
Блины бабушка пересолила, но Иван не отступил, соль запивал чаем и честно старался вспомнить что-нибудь о приморской резиденции Андрея. Рассказ давался ему с трудом. На фоне пересоленных блинов, подгорелых каш, сослепу заштопанных вещей и прочих даров бабушкиной любви его поездка так измельчала, что и разглядеть её в памяти было трудно. Иван видел перед собой одно только невозможное лицо Закона жизни.
И всё-таки, он рассказал своим о древней каменной прачечной, о кислом соке из апельсинов, о море и скалах, своей вечностью стирающих в человеке всякие мысли. Эти милые туристические наблюдения ничего ему не стоили и нисколько не обогатили. Иван и фотоаппарата с собой не брал. Но бабушке с дедушкой, и особенно маме было интересно послушать.
«До чего же я не турист! – жаловался он потом Ольге Николаевне. – Я ведь ехал понять человека. А так, мне абсолютно нет дела до их погоды, и что там у них за моря и за рощи. Правда, там в саду пела птица…»* * *
Иван понимал, что преувеличивает своё равнодушие. Всё-таки ему было приятно побыть в одной футболке на морском ветерке, и глотнуть оранжевый сок земли, которая так полюбилась Андрею. Главное же, радовало, что Андрей выбрал именно эту чистую землю, а не какой-нибудь Майями.
За два дня лицо и руки Ивана чуть-чуть задел загар, и впервые в жизни ему захотелось, чтобы и московская зима была доброй, никого бы не убивала, сыпала мягким снегом и заканчивалась в срок.
Следующим утром по приезде он встал и увидел в окошке воздух необычайного оттенка – редкой белизны и неподвижности. Мир застыл в стеклянной двадцатипятиградусной пыли. По солнечному дню, которому сдуру можно бы и обрадоваться, звенели птички, отыскавшие себе спасение у труб, под тёплым паром.
Как и сограждане, продолжая исполнять жизнь, Иван каждый день выходил на «железный» воздух и ехал на работу. Дороги были свободны, дворы – полны уснувших машин. Когда мороз покрепчал до двадцати восьми, лёгкая апокалиптичность, и в обычное время присущая большому городу, обострилась. В эти дни Иван с удовольствием ездил в офис. На почве холодов сотрудники сплотились. Кураж и смех, метеосводки из Интернета, курьер, привёзший буклет с моделями печей-буржуек, на случай если городское теплообеспечение даст сбой, – это рабочая неделя оказалась самой весёлой из всех, что помнил Иван.
А под конец её, в пятницу, Ивану на мобильный позвонил Костя.
– Где ты есть? Ты жив ещё? Или тебя заморозило? – кричал он. – Я тебе письмо написал! Ты когда-нибудь проверяешь почту? Тебя вообще интересует, что со мной? Позвонить ты мог?
Иван дослушал реплику.
– Я летал к Андрею, – сказал он. – И, по-моему, у нас с тобой принято, что ты сам звонишь и заходишь.
– Хорошо! Вот я сам звоню! – крикнул Костя. – Ты где? В офисе? Можешь подъехать ко мне во двор?
– Это ещё зачем?
– Ты мне нужен в моём дворе! Не упрямься! Ну, прошу же тебя!
– Хорошо, – сказал Иван. В конце концов, он был рад, что нашлась причина пораньше уйти из офиса.
Он глянул в окно и, замотавшись покрепче шарфом, вышел. На улице дул ветерок. Снежную пыль сметало с крыш. По ясному небу, возмещая отсутствие облаков, расплывались ядовитые и прелестные дымки из заводских труб. Иван добрался до Костиного двора в условленный час, вышел и несколько минут терпеливо прождал под тополем. От ветра у него загорелось лицо. Наконец, Костя выскочил из подъезда.
– Что тебе нужно? – спросил Иван вместо приветствия, но Костя не заметил суровости. Смеясь, он охлопал его – по плечам, по шапке, заботливо подёргал шарф. – Гляди, не замерзни!
– Иди сюда, я тебе покажу кое-что. Смотри наверх. Окна мои видишь? У окошка стол. Видишь – огонёк беленький, это лампа. Кто там под лампой – видишь?
Иван видел и молчал раздосадовано.
– Верно! – улыбнулся Костя. – Машка моя!
Иван не отозвался.
– Всё вышло, как я рассчитал! Я ушёл от них, доказал, что мне на всё чихать, кроме Машки. И ей там сразу стало невмоготу. Понимаешь, оказалось, всё было наносное! Кружевница – она и есть кружевница. Чистый человек! Вещи собрала и дунула с катера. Но ты не хмурься, тут всё наоборот – как ты любишь! Такая сложная ситуация – я затем тебя и позвал.
Обнадёживаясь понемногу, Иван слушал.
– К бабушке Машка после всего вернуться не может, ей стыдно, – объяснял Костя. – Ты же знаешь стариков! Но и ко мне перебраться – тоже нет. Говорит, не могу я, Костя, от бездомности с кем попало жизнь делить. С кем попало – это, то есть, со мной! Но я не обижаюсь. Наоборот. И вот теперь перехожу к делу. Я свою квартиру хочу Машке как бы сдать – бесплатно, конечно. Просто пусть живёт, пока с бабушкой не помирится. А я пока поживу у тебя. Сейчас только за вещами сбегаю – уже всё собрано! Идёт?
Иван не сдержал улыбки.
– А, рад! – завопил Костя. – Ну, по рукам?
– Нет уж! – смеясь, сказал Иван и направился к Костиному подъезду.Маша стояла в дверях. Её лицо опухло от многодневных слёз. Сипло, заплаканно она поздоровалась.
– Ну, – сказал Иван. – Берите вещи. Едем к вашей бабушке.
– Я не поеду! – крикнула Маша.
– Все поедем! – сказал Иван. – У меня тоже старики. Я имею право решать! Ясно?
Маша взглянула на шумно кивавшего Костю и выволокла из комнаты два своих рюкзачка.Они ехали молча, с верой, что успех неминуем. Без слов вошли в подъезд и поднялись по ступеням. Маша долго звонила в дверь. Потом открыла своими ключами. Потом из пустой квартиры звонила соседке. Та скупо продиктовала преступной внучке, когда и в какую больницу забрали бабушку. В предынфарктном – прямо из поликлиники, так-то!
Потрясённые, они замерли вокруг Маши.
Наконец, Костя опомнился.
– Так поехали! Чего ждать? Мы тебя отвезём. Иван, отвезём ведь?
Маша обернулась на Костю, держа трубку, как гранату, в отведённой руке.
– Уйди! – произнесла она с хрипом. – Не хочу больше видеть! Сгинь! Я ни с кем! Ни с кем не поеду, ясно?– «Хэппи энд» не удался, – произнёс Костя, когда они с Иваном сели в машину. – Ну, ничего. Если там у неё с бабушкой обойдётся как-нибудь – то и у нас наладится.
Иван довёз его до дому. Зайти отказался.
– Постоим минутку! – попросил Костя. – Представляешь, так удивительно! Вот только теперь что-то настоящее к Машке теплится. До этого всё был конкистадорский угар: завоевать, отнять. А когда оставил её в покое – теперь только и полюбил…
– Себя ты полюбил, – сказал Иван хмуро. – Стоишь и думаешь: ох я и порядочный!
– Ну да. Тоже верно! – рассмеялся Костя. – Иван, можно тебе сказать кое-что? Я ведь боюсь! Вот как Машка от них ушла – стал бояться. Как-то страшно домой идти. Я, наверно, заразился от Фолькера сумасшествием. Мне кажется, вот я хотя старушки не убивал, но всё равно – Раскольников!
И Костя запел тихонечко, с трудом артикулируя смерзающиеся слова: «Расколол я Женьку-то топором… Прямо по сердцу его саданул… Ох головушка моя голова… До чего ж ты меня…», – и он положил ладони на свою непокрытую голову.
– Тридцать градусов! Где шапка? – вдруг крикнул Иван. – Еле выздоровел! Ты чего себе думаешь!
– Ничего, – покачал головой Костя. – Ничего абсолютно… Забыл у Машки.
Иван снял свою шапку и с досадой нахлобучил её на Костину голову.
Костя взялся за неё обеими руками и улыбнулся.
– Это ты голову мне свою отдал, да? Как в мультфильме про Умку, помнишь? Чтоб я лучше думал! А я возьму! Я тебе не верну, можно?
И, придерживая шапку, качнулся к подъезду.Иван возвращался домой подавленный и неспокойный. Он шёл от гаражей по большому стеклянному морозу – словно внутри картины маслом. Заиндевелые, без единого колыхания, яблони, вымерзший двор, тугое, ясно-чёрное небо. Подобных морозов не бывало ещё на его веку. Дома оттаявшим умом он подметил в своём сознании крепкую сцепку Костиной подростковой драмы с нечеловеческим морозом на улице. К ночи потеплело до минус пятнадцати. Иван набил в заварочный чайник дачной мяты с ромашкой и, глотая душистую воду, успокаиваясь, светлея, наблюдал из окна, как удивительно сказывается ослабление мороза на облике улицы. Воздух размок, затуманился, свет фонарей стал желтее и глуше. Люди вышли на прогулку со своими собаками. А в полночь полетел снег.
Через пару дней позвонил Костя. Машину бабушку отпустили из больницы под расписку. «Нормально, жива! – сообщил он. – Машка из дома не выходит, всё с бабушкой. По телефону даже не говорит – только ночью шёпотом. Говорит, на душе очень тяжело».
* * *
Как только морозы спали, Иван вынул из гаража велосипед и ещё раз убедился, что утоптанный снег немногим хуже летней земли и уж точно лучше осенних листьев подходит для бодрящих дух поездок по берегу. Он прикрутил к багажнику сидение и стал брать с собой Макса.
По дороге они болтали. Пересказывали друг другу детсадовские анекдоты или придумывали собственные – с участием самих себя. Играли в города и марки машин. Когда города и марки заканчивались – начинали играть в рифмы. Под конец прогулки они убирали велосипед в гараж и, макнувшись в сугроб, полные смеха и снега, шли домой. И то и другое тщательно отряхивалось в лифте.
– Держи! – говорил Иван, возвращая Оле серьёзного, более или менее опрятного Макса.
Бывало и так, что веселье не шло, тогда задумчивый Макс заводил разговор о делах семейных. Например, о мамином друге Володе. Со слов Макса можно было предположить, что Володя – скала, которая день и ночь стоит на ветру, дымя и думая. Оценить эту скалу однозначно нельзя, но можно пока что понаблюдать за нею. Иван видел, как мужественно Макс готовит себя к большим переменам, но сам не верил в них. Прежде всего, потому, что знал – у Оли нет никакого решения. Выражение её лица менялось, как русская погода, и ясные дни были редки.
Тем временем прошли остатки морозов, побывал и уплыл циклон, установились мягкие, светлые деньки. Февральские восемь утра, благодаря высокой светоносности воздуха, напоминали Ивану июнь. Летние тени легли на дома, по розовому снежку гуляли ободрённые вороны. И каждый человек в свете масленичной зари шёл, как на праздник, даже если путь его лежал на работу. Кафтан ему, жёлто-красный, дымковский, бублик и леденец!
Хорошо было на улице и хорошо было дома. Субботними и воскресными днями, на первом солнышке, залившем обеденный стол, они с дедушкой продолжали развивать проект реконструкции дачного дома. Удовольствие это уже добралось до мансарды и метило на чердак. Время от времени Ольга Николаевна подсаживалась к ним. Ей хотелось своим присутствием укрепить и взбодрить семейные отношения.
– Ты заметил: папа похудел и всё шутит! – волновалась она о своём отце. – Это ничего?
– Мама, ты просто не знаешь дедушку! – успокаивал её Иван. – Он так живёт. А что похудел – ну а кто в его возрасте не худеет?
Оптимизм Ивана объяснялся просто: надеждой на солнце, на всеобщий расцвет земли. Что тут говорить! До апреля два месяца. А если подумать, к примеру, о Феодосии, где мимоза почти зацвела, то ещё меньше. Уже самый порог, дверь приоткрыта, дует!
Когда Иван оставался один, сквозняк близящейся перемены мучил его. Чем больше весны, – чувствовал он, – тем в глазах темнее. Весна – это салют возможностей, которые он всё равно не сможет использовать, потому что трус и «манная каша». Все до одного близкие люди сказали ему об этом, а он всё сомневался – нужны ли решительные действия или, может, протянет так?
В эти первые сверкающие деньки, попавшись на обманку весны, дедушка вышел постоять на балконе и простудился. Грянул кашель. Зори померкли, скрылась Феодосия. Счастливые привычки зимы – гитара и вышивание, снежные завтраки, прогулки с Максом – всё было забыто. Теперь всей семьёй они сжимались в комок при наступлении ночи и ждали утра, когда придёт доктор.
Тогда-то Иван с щемящим сердцем понял, какая в действительности у него хилая команда. Бравада слетела с мамы. «Помогать оптимизмом» ей стало невмоготу. Она крепко взялась за спицы с клочочком свитера и держалась за них, словно это были перила жизни. Если же спицы по какой-то причине приходилось откладывать, она срочно перехватывалась за локоть сына. Её хватательный рефлекс усиливался к ночи и с приходом врача. Иван жалел маму. Что было с неё взять, раз даже могущественной бабушке болезнь деда оказалась не по плечу. Бабушка устранилась, ушла в глубь своих восьмидесяти лет. То есть, заботы и хлопоты о больном, по-прежнему, были на ней, но дедову ниточку она больше не держала в руках, отдала внуку и на Божью милость. Иван должен был решать сам, везти ли дедушку с его ужасным бронхитом в больницу, или оставить дома. Все остальные, более мелкие выборы тоже совершал он.
Поначалу Иван не заметил своей единоличной ответственности, но однажды такое одиночество навалилось, что он испугался. Хорошо, что в тот час мела метель. Иван приблизился лбом к стеклу и опёрся о тишину и весёлость снега.
«Боже, милостив буди мне грешному», – думал он о себе и обо всех своих. И на этих словах слабенько ему замелькало, что, быть может, природа, устройство мира, свидетельства о Христе – и правда в силах защитить человека?
Днём, придя к дедушке смотреть с ним зимнюю Олимпиаду – единственное, что в те дни пробуждало интерес старика – Иван всё время пытался нащупать в себе эту надежду – цела ли?Дедушкина болезнь легла перед Иваном, как камень. Время застопорилось. Однако в обход этого камня по-прежнему текли жизненные ручьи. В разгар волнений, насколько можно не вовремя, Ивану позвонил научный руководитель с факультета переквалификации. Ему надо было, чтобы он явился срочно, для обсуждения поездки в Берлин на конференцию. Как выяснилось, у намеченной ранее делегатки вот-вот родится малыш. «И о чём только барышня думала? Не вчера ж это выяснилось!» – переживал руководитель. Разумеется, оговорился он, Иван не самый прилежный студент, но его хороший немецкий пригодится в поездке. Всё-таки немцы частично финансируют их исследования – будет неплохо проявить уважение к их языку, сказав на нём несколько внятных реплик.
«С паршивого студента – хоть шерсти клок», – прочёл его мысль Иван. Велик был соблазн отказаться сходу. Да и не только от конференции. «И всё-таки, – рассудил Иван, – он – человек, существо социальное. Ему следует взять себя в руки, закрыть на час проблемы семьи и трезво обдумать поступившее предложение».
Он оделся тепло, и тем себя оправдав, что всё равно пришлось бы идти в аптеку, отправился на канал.
«Значит так, Берлин… вот-вот родится…» – вхолостую крутил он реплики разговора, пытаясь думать. Но мысль буксовала. К слову «родится» прилип антоним, и он был о дедушке. Тогда Иван черпнул снега и крепко, так что попало за воротник, себя умыл.
После умывания дело пошло веселее. «Может быть, – рассуждал он освобождённо, – само по себе предложение и не плохо. Придётся готовиться. На письменном столе – листы и книги. Милый, никчемный труд! Но такой ли уж милый? Какого рода процесс он поддержит своим участием?»
Каждый год их «факультет переквалификации» выпускал на волю отряд специалистов, обученных расчленять явления современной культуры и писать об этом пространные глупости. Иван вспомнил, как в последнее своё посещение видел в буфете студентку с картиночкой. На картиночке было яйцо с торчащей из него лопоухой человеческой головой, повёрнутой к зрителю затылком. Девица вдумчиво разглядывала голову и строчила в тетрадь.
«И какая тогда, к чёрту, конференция? – подумал Иван. – Разве только поднять на конференции революцию. Выйти с плакатом… Но вряд ли “манная каша” пригодна для революционных дел. Пусть революции поднимают революционеры».
На этом сомнения его оставили. Через белый перелесок, руша чью-то лыжню, Иван срезал путь и пришёл в аптеку. И больше уже не отвлекался на глупости, потому что чувствовал правило – больного родственника нельзя отпускать из мыслей. И он держал дедушку в мыслях не отпуская.
За своё решение Иван в тот же день получил по шапке от мамы. Дедушкина болезнь подкосила её жизнелюбие. Она была раздражена и несчастна.
– Не полетишь? – изумилась она. – И почему же? Ты, может быть, очень занят? Может быть, у тебя блестящий круг общения, творческая работа? – расходилась Ольга Николаевна. – Ты трус и лентяй! Не хотела тебе говорить, но скажу! Встретилась с соседкой. Она мне: а что у вас с сыном? Он как, здоров? А то мы смотрим – всё с бабушкой да с бабушкой. А… внук хороший – ну ясно. – Я чуть не провалилась от стыда! На тебя люди пальцем показывают! А он – «не полечу»! Полетишь! К тебе приехала мать – ты что-нибудь сделал, чтобы адаптировать её в вашем полудиком социуме?
Иван слушал, не возражая, как если бы мама была ливень и гром.
– Дедушка выздоровеет – я всё исправлю, – пообещал он.
– Господи, что ж это выросло! Что за безвольное существо! – возопила Ольга Николаевна и, вскинув голову, ушла к себе в спальню.
Чтобы подстраховать память, Иван оставил на письменном столе уведомление себе: «Исправить!», а сам вернулся мыслью к своей насущной задаче – выручить дедушку.Однажды вечером в его сосредоточенное внимание вклинилась Оля. Она привела к нему соскучившегося Макса, но как только за ней закрылась дверь, выяснилось, что Макс не скучал – он был в тягостном отчаянии, удивительном для шестилетнего мальчика. Оказалось, что Оля, едва стает снег, собралась-таки переселяться к жениху за город и решительно забирала Макса с собой. «У меня тут всё моё! Бабушка! Моя комната! – рыдал Макс. – Я тут сплю!». Это был тот случай, когда в мирной натуре Ивана включались оборонительные механизмы. Ему захотелось вмазать кулак в морду обидчика. Пару раз, бывало, он так и поступал, и получал удовольствие от содеянного. В данной же ситуации бить оказалось некого. Конечно, Оля виновата, но, в конце концов, она пытается создать семью, и потом, женщин не бьют. Жениха её и вовсе упрекнуть было не в чем.
Пораздумав, чем бы утешить Макса, Иван нашёл в книжном шкафу «Робинзона Крузо». Опуская скучные главы, он за три вечера прочёл ему книгу, и «Робинзон» помог. Макс понял, что безвыходных положений не бывает, и теперь уже не отчаивался и не плакал, а выдумывал хитроумные планы своего освобождения.
Тем временем дедушкин кашель осел в лёгкие. «Вот так! – жаловался Максу Иван. – Это куда хуже, чем ваша Малаховка. Понимаешь ты это?» Макс понимал и подбадривал друга, как мог. «Мой дедушка тоже кашляет, – утешал он его. – Но ничего, живёт». И Иван – как ни смешно это было – обнадёживался.Все дни дедушкиной болезни Иван пристально изучал февраль. Каждый час отпечатывался в памяти, оставляя после себя «фотографию». Эта удесятерённая ценность мгновения была ненавистна ему – он словно прощался за дедушку со всей переменчивой февральской погодой. Сами собой на него накатывали стихотворные строчки. Иван разглядывал их ничтожную красоту и понимал: если б это хоть чем-то могло поддержать дедушку, он с радостью отрёкся бы от всего искусства земли. Повинуясь иррациональному требованию души, Иван придумал для себя «пост» – без кофе и сладостей. Чем это поможет, он не знал, но нарушить его не решался. Следующим ходом стал ежедневный подъём в пять. Он вставал, открывал окно, влажный, нечистый воздух городской зимы обдавал его, и сон выветривался. Иван смотрел на тёмную улицу и уговаривал день быть добрым. Молиться, как следует, он не умел, так, шептал, что помнил из детства – «Отче наш…», «Милостив буди…». И всё-таки, начатый подобным образом день казался ему надёжнее дня обычного. «Как-нибудь протянем», – уповал он.
В середине самой трудной недели, когда и Олимпиада уже не могла вызволить дедушку из его тихой дрёмы, явился Костя. – Ура! – завопил он осипшим голосом, больно обняв Ивана. – Наконец-то добрёл к тебе! – И, раздевшись, с хрустом пошёл по его печали. – Всё, что было, – пшикнуло! Музыка кончилась! Космос холоден! Человек страшен! – скандировал он. – Машка в институт не ходит, лежит дома, голову под одеяло. Со мной не разговаривает, потому что я ей – напоминаю! И скажи мне теперь, что с ней было? Петарда? Горело-то пять секунд, и всё – чад, дым! Где любовь? Что любовь? Я вот тоже думаю – ну а мне-то какого чёрта было надо? Чихать мне на подростков, и на весь Интернет. И вместо Маши, в общем, сошла бы какая-нибудь Наташа. Ну да что теперь! Преступление состоялось. Дальше у нас по плану что? Наказание! О Женьке, представь, ни слуху, ни духу. Даже не знаю, где он. В институте его нет, номер заблокирован… – На секунду Костя умолк, оглядывая кухню, как если бы не вполне понимал – куда попал. – Слушай-ка: поехал искать его к Фолькеру! Хотелось покаяться. Звоню в домофон. Фолькер отвечает – давай, мол, в студию. Вхожу – он валяется с гитарой в кромешной темноте. У него там окон нет. Обрадовался мне. Сразу стал изливать душу. В вашем, говорит, гнусном поколении никому ни черта не надо. Я такой тупости в жизни не видел. Саморазрушения, говорит, больше, чем у меня, только оно ещё и безыдейное. Не от внутреннего конфликта, а от одной пустоты. Я, говорит, теперь, посвящу себя алкоголизму, потому что работа перестала меня увлекать. Вспоминаю, говорит, своё целебное детство – как меня родители воспитывали. Но следы бурной деятельности уже не смыть. А жить с ними нельзя. Человек, мол, должен быть чистый.
Тут я его аккуратно спрашиваю: где Женька? Мне бы поговорить. А он мне: не о чем тебе с ним разговаривать! Ты его кинул по всем пунктам и тем самым нарушил закон рэкета. У человека нельзя отнимать всё. Надо что-то оставить, чтоб ему было, что терять. Если терять нечего – он пойдёт и тебя зарежет.
Ну, я на него замахал: чур тебя, Фолькер! И ушёл поскорее.
– Костя, а у меня дедушка болеет! – сказал Иван.
– Так он ведь уже болел! – удивился Костя. – Или это не у тебя? А что с ним?
– В лучшем случае – сильный бронхит. А может и пневмония. Мы на рентген его не повезли. Всё равно лечение одинаковое.
– Везёт же! – сказал Костя. – Люди болеют чем-то конкретным, осязаемым! А мы сидим – и реальность плоская! Вокруг – сплошные «смайлики». Чем мы больны? – тут Костя замолчал и внимательно прислушался к тишине внутри себя. – Что-то пусто мне… – сказал он. – Может, мне поесть? Слушай, давай чего-нибудь поедим! Все-таки, у меня растущий организм.
Иван положил на стол яблоки, сыр, масло, хлеб и шоколадку.
– Ешь, – сказал он. – Больше ничего нет.
– А что так плохо? – удивился Костя, заглядывая на всякий случай в холодильник.
– Костя, – покачал головой Иван. – Мне тебя иногда убить хочется. У меня у дедушки невесть что в лёгких, и это на фоне сердечной недостаточности. А ты тут несёшь всякий бред. Тебе вообще кого-нибудь жалко? Завёл бы ты себе хоть собаку!
Костя не отозвался. Он взял яблоко и несколько секунд молча смотрел на Ивана, как будто читал непонятный текст. Наконец, до него дошло.
– Ты прости! – воскликнул он. – Я ведь к тебе ехал о Машке спросить – как её спасать. А вместо этого понёс какую-то чушь. Кретин я! Не обижайся, ладно? И дедушка твой – пусть выздоравливает!.. – Костя вернул яблоко в вазочку и встал, готовясь уйти.
Иван его удержал.
– Да ладно уж. Сиди, раз пришёл, – сказал он.
Костя сел нерешительно. Иван взял масло, хлеб и сделал бутерброд с сыром, потом ещё один бутерброд, потом третий. Больше хлеба не было. Ему было приятно, что он нашёл в себе волю совершить эти простые действия. В конце концов, кормить Костю – его долг.
– Ешь! – сказал он. – Рассказывай, что с твоей Машкой!
– Вот спасибо! – заулыбался Костя, моментально принимаясь за завтрак. – Спасибо! Сейчас расскажу. Я коротко!
И он, в самом деле, стараясь быть кратким, рассказал Ивану про Машину душевную ломоту. Обвинения, которые она предъявила себе, были такие: себя предала – раз, бабушку – два, Женьку – три.
– А всего-то – пару месяцев пожила в духе времени! – возмущался Костя. – Что тут такого? И главное, как теперь её лечить? Понимаешь, ну совсем она не человек – комок страданий! Ты придумай что-нибудь, я тебя прошу!
– Что я придумаю, – сказал Иван, – это ты у нас – автор.
– Мне знаешь, какие мысли в голову лезут? – доверительно шепнул Костя. – Вообще устраниться! Отстать от неё! Пусть учится, взрослеет, а потом встретит кого-нибудь вроде тебя…
Иван посмотрел на него с жалостью.
– Так нельзя, – покачал он головой. – Отступничеством человека не выручишь. Человека нужно лечить безоговорочной добротой. Просто укутать его, как в вату, в эту доброту. Знаешь, как обморожения лечат.
Костя кивнул.
– Я так и думал.
Они оба посмотрели в окно. Зимний день наполнил улицу хмурью: весна простудила дедушку и отошла.
– Точно так и думал – твоими словами! – повторил Костя. – Ну а как у тебя? Есть новости? Ну, кроме дедушки…
– Кроме дедушки? – с трудом сосредотачиваясь, переспросил Иван. – Ну, вот такая, например, новость. Меня научный руководитель зовёт лететь с ним на конференцию в Берлин. Будем докладывать о «смыслах» и «практиках».
– О каких смыслах и практиках?
– Это такие научные слова – «смыслы» и «практики». Вот то, что мы с тобой пьем чай – это практика. А то, для чего люди используют ту или другую практику – это смыслы, – объяснил Иван. – Я всю жизнь по наивности думал, что смысл – один, как правда. А оказывается, они – смыслы, и их много. Наверно, это просто русский язык богат…
– Когда летишь? – спросил Костя.
Иван покачал головой.
– Опять что ли отказался?
– Про себя – да. А на деле мне нельзя отказываться. Маме за меня стыдно, отец вообще убить готов… Оля, Макс – все. Ты вот, когда болел, тоже сказал справедливые вещи… – Иван взглянул на Костю. Немного Бэллы он всегда находил в его чертах. – Мне, действительно, надо меняться. Вот дедушка пойдёт на поправку, съезжу в институт, поговорим.
Костя слушал, стараясь не жевать. За время беседы он успел доесть шоколад и теперь всё-таки взялся за яблоко. В какой-то миг его полная участия физиономия умилила Ивана. Он уже собрался было пожарить ему картошки, но тут ударила входная дверь и на кухню вбежала мама.
– Доктор! – замахала она, – Доктор пришёл! Иди, сам разговаривай!
Вернувшись от дедушки, Иван не застал Кости. Крошки были стёрты, тарелка и чашка вымыты. Трогательная записка с выражением признательности светлела на столе. Иван рассеянно прочёл и отложил.
«Без динамики», – сказал доктор. Вроде бы, это был не самый плохой вердикт, но жить оказывалось нестерпимо. Приближался стандартный, знакомый по прежним годам, срыв, – когда клонит в сон, шумит в ушах и от всякой мысли брызжут слёзы.
Они с мамой постояли у окна на кухне, близкие и недвижные, как два дерева, а потом разошлись по комнатам.
Что было делать?
«Позвоню я Андрюхе!» – в последнем отчаянии решил Иван и вызвал на мобильном его номер.
Забыв расхождения последних лет, он звонил ему, как встарь, как если бы только вчера они шли по солнечному, шмелиному разнотравью детства.
Андрей сразу почуял мрак и взялся допытываться.
– Да нет, – сказал Иван, – я так звоню. У нас дедушка болеет – острый бронхит, температура. А ведь у него сердце.
– Ты только не раскисай! – велел Андрей. – Ты ведь знаешь, это бывает с людьми, – и, подумав, привёл несколько примеров того, как счастливо выздоравливали от бронхитов и пневмоний самые старые люди планеты – все сплошь его знакомые.
Иван слушал невнимательно, разглядывая облако в форточке. Серое, с чернильно-фиолетовыми углублениями – очень весеннее, или даже летнее. Конечно же, оно плыло к ним на дачу, где он так и не удосужился утеплить дом.
– Ну, как мне тебя развеселить? – тормошил его Андрей. – Хочешь, давай приеду? Ты же знаешь, мне только в удовольствие полетать!
– Ты меня не развеселишь, – горько сказал Иван. – Ты тоже человек, как и дедушка, как все мои. Человек – это такое страдальческое, бесправное звание. Мне одна тоска оттого, что вы люди!
Андрей на другом конце удивлённо примолк.
– Что ж ты хочешь, чтоб мы сразу были ангелы? – наконец, нашёлся он.
– Да! – сказал Иван без улыбки.
Он чувствовал, что позвонил зря. Какой помощи можно ждать от человека, у которого нет привязанностей?
– Знаешь что, Иван, – продолжил Андрей серьёзно, – я думаю, надо взглянуть с другой стороны. Радоваться тому, что есть.
– Я не могу, – ответил Иван. – Сколько моим дедушке с бабушкой осталось? А они вполне даже довольны, как будто не понимают. Мама тоже всё ждет какого-то счастья. Костя носится со своей юностью. Макс рыдает, его Оля хочет от всего родного увезти в Малаховку. Всё равно увезёт… Вот и что после этого человек? Ты извини, что я себе тут позволил… – помолчав, заключил он.
– При чём тут «извини», ты чего городишь! – возмутился Андрей и сказал ещё несколько утешительных фраз, грозил приехать.«Ладно. Будем сами… Будем сами…» – бормотал Иван, с выключенным телефоном в руке гуляя по дому.
Комнаты были ему малы. Он исходил их все, но не растратил тревоги. Как всегда в кризисные моменты, ясная жизнь без подсветки, без житейской лупы, искажающей пропорции добра и зла, была перед ним, и видеть её он не мог.
В своей комнате Иван лёг и стал вспоминать, что было с ним в начале начал – какая погода, какие сапожки, сандалии, мелки, голуби… Он чувствовал, что детство – это евангелие из другой жизни, которая протекала в ином пространстве, но соединена с тобой. Это помощь, оказанная тебе свыше. В ней – все твои ключи. Детство, как эпиграф, реет над человеком.
Блуждая по дошкольному возрасту, Иван наткнулся на молодого дедушку с удочкой и, громыхая ведёрком, пошёл за ним на пруд. Взять бы силы из того летнего дня и дедушке в день сегодняшний – перелить, как кровь! «Веры нет, – думал он. – Отсюда мука – нет веры, одно безверие».
Опасаясь, как бы совсем не выпасть из жизни, Иван поднялся с постели, придвинул к окошку стул и попробовал вникнуть в картинку за стеклом. Перед ним был послеобеденный двор, сквозь голые мётлы деревьев отблескивали солнцем чужие окна. На ветках он насчитал два гнезда и четыре вороны. У подъезда дымила «Волга» с открытым капотом, наполняя двор ароматом парного бензина. Хозяин в шофёрской куртке аккуратно тёр её тряпочкой. «Всё-таки, какая-то замена корове… – дико подумал Иван. – Человек нуждается, чтобы было существо…»
За «Волгой», в миниатюрных Альпах, наваленных лопатой дворника, гулял спаниэль. У мусорных контейнеров кучей толклись голуби, а на детской площадке, в лодке, засыпанной песком и снегом, Иван различил человека. Этот человек был ему знаком. Чёрное пальтишко его было расстегнуто, на коленях лежал «этюдник», он что-то записывал в тетрадочку.
«Сидит… Надо же!» – удивился Иван, и тут огромный вздох прошёл по телу. Года три он так не вздыхал.
Этот вздох был, как испарина в разгар горячки. Сразу за ним, буквально в следующую минуту, Иван почувствовал себя лучше. Не то чтобы он перестал бояться за дедушку – страх остался, но какое-то величественное согласие с жизнью обняло его. Он ещё посмотрел в окно, хотел крикнуть Косте, чтобы тот поднимался к нему, но вместо этого лёг на диван и заснул.Ах, как он спал! Как славный чернорабочий, отпахавший за себя и за больного напарника! День и ночь мелькнули одним глотком. В полночь, не размыкая глаз, он спросил у мамы о дедушке, и опять провалился. А на следующий день, в половине первого, встревоженная Ольга Николаевна его растолкала. Она сунула ему в руки чашку кофе и приложила губы ко лбу. Но нет – сын был здоров, почти что весел, и сразу собрался в офис.
Перед работой он зашёл проведать дедушку. И хотя кашель был жуткий, звенел в ушах, отзвякивал в батареях отопления, теперь Иван знал, что Земля, скрипя навстречу солнцу, тащит дедушку на буксире, и вытащит.
День мелькнул, солнце зашло, но поворот Земли продолжался – Иван чувствовал его под ногами. В неплохом настроении он вернулся домой. Правда, гудела голова – сказывался пересып. Когда Иван вышел из лифта, на лестничной площадке, через приоткрытую дверь квартиры, послышался смеющийся голос мамы, и ещё чей-то смех, движение, шелест.
Не гадая, он шагнул на порог и сразу попал в объятия.
– А! Так ты живой! – вопил Андрюха. – Живой, живой! – Он сам только вошёл, был в куртке, холодный с улицы. – А чего такой помятый? – спросил он, чуть отодвинув Ивана и оглядев. – Перетрудился что ли? Вот жизнь! Пятница, шести ещё нет – а он уж дома! У меня по пятницам к девяти только всё начинается! Ну, Бог с тобой, живой – и ладно! – И Андрей снова смял его и встряхнул.
– Я-то живой! А тебя кто звал? – вырвавшись, грозно спросил Иван. – Я же говорил – не вздумай!
– Ты не волнуйся, – сказал Андрей, снимая свою весёлую оранжевую куртку. – Мне так и так надо было приехать. Представляешь, поговорили мы с тобой, думаю – дай позвоню родителям! Звоню – и выясняется, у отца гипертонический криз! Так что, надо тут с вами со всеми разобраться.
– Давно пора! – подхватила Ольга Николаевна. – Разберись, Андрюша, обязательно! Со всеми! Ну, давайте теперь, командуйте – что вам готовить? Как вас встречать?
Андрей сказал, что есть ничего не будет, потому что ему надо нагулять аппетит к ужину у родителей.
За кофе, который приготовила им повеселевшая мама, Иван пересказывал другу историю дедушкиной болезни.
– Ты понимаешь, – говорил он. – Я ведь готов платить, только бы обошлось. Готов сделать всё, что велено. Пожалуйста – допишу работу. Вон, Бэлке позвоню – она ведь в университете, пусть наладит мне контакт с австрийскими культурологами. Что ещё? Полечу к ней с интересным предложением: поменять Австрию на меня! Я ведь даже не поговорил с ней тогда по-человечески, разобиделся… Что ещё? Бизнес. Ладно – вникну, с отцом посоветуюсь, в конце концов. Стану адекватным человеком. А то вон маме стыдно за меня перед соседями. Я согласен совершенно на всё – только чтобы они были живы. На любую чушь.
– А какая тут связь? – удивился Андрей. – Между чушью и жизнью?
– Не знаю… – пожал плечами Иван. – Наверно, я думал – это будет такая жертва… Ты прав – никакой связи.
– То, что ты тут со своими – это правильно, – рассуждал Андрей. – Только надо немного расширить горизонт. Перераспределиться немного, понимаешь? Ты уж слишком отшельник.
– Да, – кивнул Иван. – Вот я и собираюсь. Перераспределиться… Буду себя менять. Только не знаю, в каком направлении.
– А ты начни – там посмотришь. Если что, по ходу подкорректируешь курс! – улыбнулся Андрей.
Тогда-то впервые Иван увидел в его улыбке зыбкость. Смазанным кадром двоились картинки европейских столиц, дрожали огни Москвы, бликующее море кружило голову – не за что было держаться Андрею. Он летел и на лету цеплялся за всё, что подворачивалось – друзья, поездки, «юная продавщица». И уже устал, уже мутило от карусели.
– Андрюх, а ты-то сам как? – спросил Иван.
– Да ты всё знаешь! – отмахнулся Андрей. – Вот, опять хромаю – связка моя, та самая, помнишь, в институте ещё, на теннисе? – Он вытянул ногу и поморщился. – И башка у меня трещит. И сердце у меня… как это там говорится? Одуванчик из него растёт – треснуло!
– А это не может пройти? – спросил Иван. – Говорят же люди – проходит.
– Нет! – мотнул головой Андрей. – Это у людей. А у меня – нет, точно! Мне только любопытно – откуда такой закон подлости? Почему вот так всё сложилось, что я даже попытаться не имею морального права? Наверно, так кому-то интереснее. А то, что тут интересного – взаимная любовь! Никакого сюжета, да? Нет, интересно, как будет Андрюха становиться человеком. Как он себя вот так вот и этак перемелет! – он улыбнулся от души. – А я смогу! Я даже её стекольному мастеру дурного не пожелаю…
– Ну а если поговорить с ней? – спросил Иван. – Что ты теряешь?
– Что я теряю? – возмутился Андрей. – Да всё! Как я с ними тогда буду нормально соседствовать? Предлагаешь играть в «пан или пропал» на нулевых шансах?
Иван вспомнил Костю, Женю и Машу. Да, это был дурацкий вопрос.
– У меня дедушка Олимпиаду смотрит, – помолчав, сказал он. – Там как раз сейчас должна быть эстафета по биатлону. Хочешь, тоже посмотрим?
Из комнаты Ивана они перешли в гостиную и включили телевизор. По снежной трассе средь сосен мчались лыжники. Минут сорок они с Андреем просидели рядышком. Снова – ближайшие существа на земле.
А когда наши выиграли, Андрей засобирался.
– Ты меня прости, – сказал он. – Мне ехать надо. Я маме к ужину обещал. Уже опаздываю.
– Я тебя провожу, – сказал Иван. – Ты на такси, или своим ходом?
Он заметил – идя по коридору, Андрей чуть прихрамывал.
Во дворе самая ранняя в мире весна обняла их от всего сердца, до костей. Рваный дым мчался по небу, а потом сгустилось, и пошёл сильный мокрый снег.
– Может, завтра пересечёмся где-нибудь в центре, как раньше? – предложил Андрей, когда они вышли к шоссе. – Да! И новую жизнь начать не забудь!
– Хорошо, – обещал Иван. – Если дедушка будет ничего – то обязательно.Вернувшись домой, он подсел на диван к занятой вязанием маме.
– Проводил? – спросила Ольга Николаевна. – Ну, что он там?
– Мама, – произнёс Иван, задумываясь, – ты не знаешь, почему люди не меняются? Ляпают одно и то же? Вот сколько я помню его – каждый раз влюблён навеки!
– А может это хорошо? Хоть что-то отработает на «пять»! – предположила Ольга Николаевна.
Иван кивнул.
– А я что буду на «пять» отрабатывать? – спросил он. – Мандраж за родственников?На ночь Иван заглянул проведать дедушку. Тот спал. Сегодня он опять остался «без динамики», но в этом вердикте Ивану больше не слышалось горя. Он твёрдо решил, что дедушке надо в этом году быть на даче, курировать ремонтные работы и осенью обжить утеплённый дом.
* * *
И много ещё чего Иван решил твёрдо. Что-то в нём устало. Душа устала созерцать красоту и помнить бренность. «Очень тяжело, – думал он. – Трудно ничего не делать. Наверно, если делать много и беспрерывно – суета подхватит и пронесёт над жизнью. Возьмусь!»
Работы по интеграции во всемирную суету Иван начал с дела, позволявшего продвинуть сразу две запущенных области – научную работу и личное счастье.
Отринув сантименты, он написал Бэлле письмо, в котором просил её разузнать: нет ли у них в университете кафедры культурологии, или чего-нибудь родственного, готового к обоюдовыгодному сотрудничеству с их институтом?
На сегодняшний день никаких иллюзий по поводу собственной «научной деятельности» у Ивана не сохранилось. Но как-то неловко было начинать новую жизнь с поражения. Довести до конца! Поставить уж, наконец, эту галочку! Он ещё и потому ждал Бэлкиного ответа, что надеялся разглядеть между строк – жив ли ещё их сказочный «хайдельберг»?Бэлка ответила на следующий день. За сутки она успела навести в университете все возможные справки, и даже добыла два электронных адреса, куда следовало по горячим следам написать Ивану.
С мутным сердцем Иван проглядел переписку и переслал адреса руководителю.
Тот высказал одобрение – с австрийцами они ещё не сотрудничали – и велел Ивану подъезжать в четверг, часикам к трём. При себе иметь для анкеты три на четыре цветное фото и загранпаспорт.
«Вот и славно!» – решил Иван, прочитав письмо. И «манная каша», и мамины упрёки, и Костин смех, и Олино высокомерие, и дедушка, дедушка! – всё это разом сошлось и вытолкнуло его из божественной неторопливости на скользящую поверхность мира.
Несколько секунд он подумал и, прикинув даты конференции, забронировал авиабилет от Берлина до Вены. «И предупредить в институте, что назад полечу сам», – записал он в блокнот.Оставшиеся до четверга вторник и среду Иван решил посвятить офису, и начал с того, что сообщил коммерческому директору о своём намерении серьёзно влиться в работу. Тот приуныл, но терпеливо ответил на все вопросы хозяйского сына. День мелькнул. Иван почувствовал, что «вливается», и к вечеру едва вспомнил, что ни разу не позвонил домой. Ответственность за дедушку сползла с его плеч. Подобрал ли её кто-нибудь, мама, или бабушка, или, может, Бог? «Страшное дело… – думал Иван, возвращаясь. – Надо всё-таки себя контролировать. А то, пожалуй, можно далеко усвистеть».
Шли третьи сутки его героического отречения от себя. В этот день жизнь предъявила Ивану ряд испытаний. Первое случилось в обед: ему на мобильный позвонил Костя. «Не могу, – твёрдо сказал Иван, когда тот потребовал встречи. – Может быть, вечером. Но не рано и ненадолго».
Через полчаса Костя стоял перед окнами офиса и названивал в домофон. Иван вышел. Костя бросился к нему, плакал без слёз и изъяснялся воплями. Большое отчаяние владело им.
Иван провёл его во дворик и усадил на скамейку. Под безнадёжным небом межсезонья, нахохлив плечи, вцепившись пальцами в доску скамьи, устроился Костя, и Иван сел рядом.
– Ну, что случилось? – спросил он довольно строго.
– Видел у института Женьку! – объявил Костя. – Он совершенно невозмутим. Поздоровался, как ни в чём ни бывало. Наверно, просто уже решил, что сделает со мной, и поэтому так спокоен. Он ведь с Машкой собирался жизнь прожить… Но вот я думаю: неужели за это можно убить человека? То есть, неужели ему месть как-то компенсирует счастье?
– Я уже тебе говорил, у тебя паранойя от угрызений совести, – сказал Иван и посмотрел на дверь офиса – как если бы его дожидались не терпящие отлагательств дела.
– Вроде бы жизнь такая хорошая штука… – произнёс Костя, подрагивая на своей жердочке. – Привыкаешь, тебе уютно. А потом вдруг её страшные пружины пропарывают обивку, и сразу понимаешь, как всё устроено…
– Да какие пружины! – сказал Иван. – Пока все живы и более или менее здоровы, – стыдно…
– Нет! – перебил его Костя. – Маша не здорова, нет! Она, знаешь, как в старину – чахнет. Чахнет конкретно. Изо всех джинсов вываливается. Носит на ремешке. И я теперь понимаю, что участвовал в «убиении». Я соучастник. У меня на душе – тачка глины. Ты не думай! – горячо взглянул он на Ивана. – Мы с Машкой стараемся, работаем над собой. Ходили в наш парк, катались на колесе обозрения. Мне так хотелось вывалиться! А потом смотрю – подо мной мир! Столько деревьев, птиц! Ничего – усидел! – Костя улыбнулся и помолчал немного. – Хочешь, я тебе открою мой тайный план? Вот потеплеет, буду жить в парке. Ночевать-то, конечно, дома, а жить – там! Так что, если меня нет – ты меня там ищи. Там всё-таки деревья, трава – может, полегчает на природе?.. Ты знаешь! – прибавил он, положив ладонь на горло, обмотанное шарфом. – Я чувствую клубок желаний, мыслей, каких-то резких…
Тут Костя сморщился, как от боли, достал из кармана бутылку минералки и, отвинтив крышечку, глотнул.
– Иван, почему птицы поют? – спросил он.
– Они весну зовут, – сказал Иван.
– Вот это бред – горланить в такую холодрыгу!
И правда, было холодно, сыро. И хотя по небу разносился тонкий весенний звук, ни воробьёв, ни синиц Иван не замечал. Костя был единственной птицей.
– Тебе надо передохнуть. Вон, поезжай к Бэлке… Я, кстати, уже забронировал билет – из Берлина в Вену! – сказал Иван. – Буду вести с твоей сестрой переговоры. Пусть возвращается в Москву. Пусть налаживает мои сердечные дела, мою жизнь.
– Зачем? – удивился Костя. – Понятно, да, я тебя сам гнал, мне было надо. А зачем тебе-то?
– Костя, у меня «новая жизнь» на дворе! – произнёс Иван со внезапной досадой и поднялся со скамьи, обозначая конец аудиенции.
– Это не новая жизнь, а какой-то самотеррор! – воскликнул Костя. – Вроде меня, решил дурака валять?
Тут он снова достал бутылку и, плеснув на ладонь, умылся.
– Эх! Заболеть бы мне! Голову под одеяло. Если у меня будет тридцать девять и пять – никто меня не тронет… – сказал он, растирая воду по лицу, и после короткого размышления прибавил. – Послушай! А можно я у тебя в офисе посижу? Буду тебе помогать. Ты ведь тоже не всегда был здоров. Бывал и болен – помнишь? «Кто знает, как мокра вода, как страшен холод лютый, тот не оставит никогда!..» Что же, не пустишь меня?
– Костя, – сказал Иван, отцепив его руку, – справляйся сам. Когда-нибудь надо начинать самому справляться.Первый бунт совести Иван выстоял на «пятёрку». В бодром жужжании дел, почти забыв о Косте, он пробыл в офисе до восьми, а на подступах к родному двору, ему позвонила Оля. «Ты дома? – спросила она. – У меня к тебе разговор!»
Выйдя из лифта, он увидел её на площадке.
– Ты понимаешь, – сказала Оля, – у мамы на работе такая ситуация, она где-то месяц не сможет водить Макса. Ну, на курсы при гимназии. Ты не смог бы её подменить? По вторникам и пятницам, с половины десятого до одиннадцати. Полтора часа! А оттуда отвозишь в сад. Ты же всё равно на работу поздно едешь. Это всего-то месяц, а потом опять мама.
– Я вижу, ты относишься ко мне по-родственному! – смеясь, отозвался Иван.
– Не хочешь – не вози! – обиделась Оля.
– Я хочу, – сказал Иван. – Но не могу. Занят обретением адекватности. Между прочим – по требованию друзей и близких. Так что, мне теперь в офис к девяти, а ещё я лечу в Берлин на конференцию!
В глухом ошеломлении, ничего не сказав, Оля пошла по ступеням вверх.
«Ну вот – контузило человека!» – усмехнулся Иван, заходя в дом. И вдруг через смех ему стало страшно.
«Ладно-ладно, – подбодрил он себя. – Уж хотя бы недели две я должен выстоять! А там посмотрим».
Был ещё вечером в среду трогательный звонок Андрея. Он звонил из Парижа справиться о здоровье дедушки.
– Вроде получше, – отвечал Иван. – Но пока лежит. Я, кстати, начал новую жизнь, как договаривались.
– Ну и как? – обрадовался Андрей. – Что чувствуешь?
– Чувствую тонус, бодрость. Приятную тупость в сердце. Готов подписывать судьбоносные решения пачками.* * *
В четверг с утра, прежде чем ухнуть на весь день во тьму «новой жизни», Иван зашёл к своим и увидел картину, от которой отвык – дедушка сидел на кухне и завтракал под телевизор! Конечно, он был исхудалый, бледный, но зато – намазывал маслом хлеб, звякал ложечкой, мешая сахар. «Иди-ка сюда, послушай! – махнул он Ивану. – Говорят про коммунальные платежи!»
Иван скинул куртку и, плюнув на расписание, на всё, какое угодно «новое», сел рядом с дедушкой.
Он не помнил, бывал ли ещё кому-нибудь так признателен, как в то утро – жизни. За чёрно-белую зиму – мирный январь, жуткий февраль, за то, что всё кончилось хорошо. Чистокровное, буйное счастье плескалось в нём. Назавтракавшись всласть, Иван оделся и пошёл в гараж, чтобы с огромным, любимым своим опозданием ехать в офис. «А может, лучше сразу в институт? – подумал он. – Поговорим, отдам, как условились, документы. И тогда успею ещё погулять!»
Как спасшийся пленник, Иван ринулся восполнять упущенную радость свободы. Улыбка несла его над детской площадкой, и над обледенелой тропой, и над проталиной, залитой паром из открытого люка. Изредка он замедлял шаги – полюбоваться, как не оставляя следов прыгают воробьи по бриллиантовой корочке снега. Кто-то, прошедший раньше, бросил им весёлую горсть пшена.
У края гаража дворники навалили снег. Отперев замок и добыв лопату, Иван перекидал рыжеватые комья и был опечален, что работа закончилась быстро, как мороженое. Даже лоб не взмок. А ему хотелось махать, вынимать кубы рассыпчатого сладкого снега, тратить избыток радости.
В лёгком разочаровании он сел за руль и повернул ключ, однако звука не услышал. Повернул ещё и ещё. Бодрая жизнь коня погасла. Оглядев машину, Иван заметил включённые габаритки и рассмеялся тихонько. Аккумулятор сел.
Весьма довольный своей неудачей, он направился к ближайшему магазинчику, купил игрушечную, меньше полулитра, бутылку итальянского шампанского и с приобретением вернулся в машину. На всякий случай ещё раз вжикнул ключом. В распахнутые ворота гаража светило солнце. Иван открыл дверцу и сразу хорошо, свежо ему задуло в бок.
«Жалко, – подумал он, – что не кабриолет. Был бы кабриолет!..» – И с удовольствием занялся пробкой. Влажный ветер дул в открытую дверцу машины. Пахло солоно – морем что ли? Иван понюхал дымок шампанского и отпил из горлышка. Что-то корабельное было в его укрытии. Он закрыл глаза, чтобы лучше услышать счастье, а когда открыл, у гаража стояла Оля.
– Ты в Москву? – спросила она, подойдя. – Может, подкинешь до метро, а то чего-то мне сегодня за руль неохота.
– У меня аккумулятор сел! – улыбаясь, сообщил Иван. – Я габаритки не выключил.
– А чего тогда сидишь?
– Да не знаю даже! – безмятежно отозвался он. – А ты что не на работе?
– Я утром упала в обморок! – сообщила Оля со скорбной гордостью. – Давление – восемьдесят на пятьдесят.
– Как восемьдесят на пятьдесят? – изумился Иван, искушённый в вопросах давления, и тут же выскочил из машины. – Так куда ж тебя несёт? Иди домой, ложись!
Оля поглядела с насмешкой:
– А работать кто будет? Проект кто будет доделывать? Если человек не может работать, как люди – ни чёрта он больше не получит, ни одного нормального заказа. Ручкой помашут.
– Да никто не помашет! – возразил Иван. – Ты как-то неправильно думаешь о людях. Ну да, есть всякие, но в массе…
– Это я неправильно думаю о людях? – изумилась Оля. – А ты, значит, правильно? Ты их вообще видел, людей? Ты, может, думаешь, они на деревьях растут? – смеялась она, расходясь. – Тебя волшебным лесом обсадили по периметру и нагнали ангелов, чтоб не скучал! А ты, дурачок, думаешь – это люди! Костя твой, Андрюха твой, Макс мой, бабушки-дедушки твои бессмертные! Это ангелы чистейшие! Люди – это у нас на работе! И поэтому у меня восемьдесят на пятьдесят, а я к ним прусь!
Иван, сбитый с мыслей счастливым днём, не нашел подходящих слов. Тут взгляд Оли попал на его руку с бутылкой.
– А это что у тебя? – спросила она ошеломлённо. – Ты что, сбрендил? По утрам в гараже пьёшь? А в гараже почему? От мамы прячешься? А я-то вечером тебе хотела сплавить Макса – думала, хоть отлежусь в тишине! Ты вообще себя контролируешь?
– Да это я так, – сказал Иван. – Машина не завелась – ну и, думаю, ладно!.. – Он взглянул в насмешливое, но какое-то нежное, светлое от болезни Олино лицо и запнулся.
Если взять у Макса несколько цветных брусков пластилина и, размяв тщательно, смазать в шар, получилось бы то, что Иван почуял внутри себя. Вот он – малиновый Олин размыв, синий Костин, золотой – Макса. Ни один цвет нельзя изъять из сплава. Разве только раскурочить шар насмерть.
– Оля! – произнёс он. – Ты бы не увозила Макса!
– Что? – изумилась Оля.
– Всё-таки у него здесь бабушка с дедушкой, – чуть оробев, пояснил Иван. – Друзья, да и я тоже. Игрушки, комната…
– А твоё-то какое дело? – почти с ненавистью проговорила Оля, но тут какая-то мысль или чувство сбили её воинственный пыл. – Хорошо! – сказала она осипшим голосом. – Молодец! Добился! – И быстро пошла прочь.
«А и ладно! – легко подумал Иван. – Бог с ней. Пусть, что хочет…» После долгой тревоги, смирения, трудоёмких попыток самоотречься он, наконец, почувствовал зелёный свет и не мог так запросто «сдать» свою радость.
Немного жалея, что купил полулитровую бутылку, а не обычную ноль семьдесят пять, Иван поставил пустую тару на снег у гаража и огляделся. Февральское солнце, помноженное на солнце шампанское, ослепило его совсем.
«Чем хорош этот день? – разбирал он с улыбкой. – Тем, что дедушке лучше – да, очевидно. Тем, что воробьи его как будто любят. И Костя. Вероятно, и Оля тоже. Да и сам он далёк от равнодушия! Вот этим и хорош день. Чем ещё? Тем, что скоро весна, что обещают большой тёплый циклон. Нет, не то, не то… Или то, да не только! “И прелести твоей секрет разгадке жизни равносилен”»! – наконец, вспомнил он и успокоенный, доверившись авторитету, пошёл к остановке маршрутки.
На тропе лежал снег. По нему было приятно пройтись и почувствовать сырь в подошвах. Иван был рад. И то, что сказал-таки Оле о Максе, и что из-за аккумулятора предстояло ехать в метро, среди людей – всё казалось ему удачей.
Выйдя из метро, Иван взглянул на уличные часы. До встречи с научным руководителем была еще куча времени. Не спеша он двинулся в сторону института и дорогой раздумывал, на какое бы удовольствие употребить отрез прекрасного весеннего дня. Он бы выпил где-нибудь чая, но было жаль променять на стены такую хорошую землю и небеса. Иван осмотрел внимательно улицу, готовый к улыбке, и сразу увидел то, что искал.Из новенького четырёхэтажного особняка вышли мама и сын, ровесник Макса. У мальчика в руках была лопатка и пластмассовое ведро. Иван знал местные дворики – здесь не водилось детских площадок. Может быть, там дальше есть скверик? – понадеялся он и пошёл следом, влекомый любопытством: где же ребёнок будет копать? Время от времени малыш приостанавливался и собирал снег в ведёрко прямо с тротуара.
Дальнейшее преследование показалось Ивану неудобным. Он свернул и по оттепели, растекшейся вокруг него, грязной и чистой, как юность, вышел к бульвару.
Ряд скамеек звал его насладиться последними днями зимы. Иван выбрал одну, на пересечении бульвара с переулком, и, смахнув снег ладонью, сел. Сразу же над головой включили весеннюю музыку – синица затенькала, а к ногам подскакал воробей – принять волшебный заказ. «Мне, будьте добры, ума, сердца, смелости, и ещё шампанского!» – пожелал Иван.
Воробей вспорхнул. Иван перевёл взгляд – в двух шагах от скамейки на мокрый снег села большая ободранная собака. Одно ухо её было поранено, шерсть на нём слиплась. Внимательно и терпеливо она смотрела Ивану в лицо, дожидаясь знака. Он кивнул ей. Собака подошла и шустро обнюхала куртку.
– Ничего нет, – произнёс Иван. – Я в институт иду.
«Нет – так нет», – ответила взглядом собака, но не ушла, а легла возле скамейки. Иван смотрел на её шкуру цвета летнего сена и испытывал непонятное душевное удовольствие: подумать только! С ним рядом – такое большое живое существо, способное благодарить и надеяться, привязываться и сострадать. Иван протянул руку и потрогал шкуру. Собака огрызнулась.
– А-га! Я понял! – кивнул Иван и, встав со скамейки, пошёл через дорогу, к киоску мороженого. Там, среди прочего нашлись в уголке витрины пельмени.
– А микроволновки у вас нет? – спросил Иван, заглядывая в окошечко. – Мне бы разморозить для собаки!
Пока пельмени грелись в микроволновке, продавщица нашла пластмассовую крышку из-под торта и предложила Ивану в качестве миски. Иван умилился и взял.
«“Ну, это очень поэтично!” – скажет Оля, – думал он, таща добычу на бульвар. – “Ты погряз в сантиментах!”»
Ему повезло – собака оказалась голодная. Со скамейки Иван любовался, как быстро и аккуратно она поедает обед. Доев, собака села у края скамьи и прижалась головой к ноге Ивана.
Странно было Ивану оказаться на этой лавочке, в этот день и миг: он как будто вступил в другую эпоху, в иную пору жизни, когда у него уже есть внуки, и сам он стар, а, может быть, и бестелесен. Вдруг ему показалось, что вес собаки как будто сделался больше. Иван нагнулся и посмотрел ей в лицо. Сощурив глаза, собака дремала. Тогда и он задремал тоже.
Иван дремал, не закрывая глаз, глядя, как послеобеденное солнце топит снег. Скоро с ручьями потекли его ноги, и совершенно ясно он расслышал, как одна синица говорит другой, будто неподалёку некто Миша повесил свежее сало.
Он очнулся оттого, что собака встрепенулась, приподнялась и, отольнув от ноги Ивана, потрусила вперёд. Из переулка вышла женщина в шубе, в большой старомосковской зимней одежде, чуждой Европе и всему прогрессивному человечеству. В руках без варежек она держала два простых пакета, наполненных собачьей едой. Иван различил макароны и куриные кости.
Собака рванула и, в секунду достигнув хозяйки, заплясала вокруг. «Ах, ты моя хорошая!» – женщина опустила пакеты в снег и погладила собачью голову.
– А я думал, она ничья, – поднявшись со скамейки, сказал Иван.
– Как же ничья! Наша! Все наши! – говорила женщина, вытряхивая кости в оставшееся от пельменей корытце. – Они раньше на стройке жили, под бытовкой. Их оттуда выгнали, так они теперь, дураки, бродят, где попало, шныряют под машины. Ну, ешь, Петровна, ешь! Что ж ты! – волновалась она. – Ты у меня как себя чувствуешь? Ухо где разодрала?
– Она пельмени съела, – произнёс Иван. – Мы их погрели в микроволновке.
– Это вы молодцы! – обрадовалась женщина в шубе.
И какой-то свет занялся тогда над бульваром. Он шёл от тающего снега. Зима светилась, уходя в облака. Звенела синица.
– А почему её Петровна зовут? – спросил Иван.
Женщина взглянула, удивившись.
– Даже и не знаю! Так всегда её звали. Старая собака. Видите – шерсть седая… Вы смотрите, ничего не выбрасывайте! – строго наказала она Ивану. – Всё приносите. Они знаете, какие голодные! Особенно кормящие. Вот пойдёмте, я вам покажу мамочку. Пойдёмте, тут во дворе! Петровна, пошли! А если у вас что-то молочное остаётся, творожок – вы прямо туда, щенкам!
Не то чтобы весенний день лишил Ивана воли. Он вполне мог отказаться: тороплюсь, извините! Но ему мелькнул шанс, дверь в «параллельную» Москву приоткрылась. Секунду Иван подумал и решил, что щенков посмотреть стоит.
Едва они свернули во двор, им навстречу выбежала чёрная облезлая собака, заволновалась, заплясала вокруг знакомой шубы, не забыв облаять Ивана.
– Фу! – отругала её женщина. – Жуча, фу! Место.
Пристыжено Жуча вернулась к детям. Под тополем, из простых картонных коробок для них был сложен кров. Женские руки воткнули по периметру несколько палочек, чтоб картонки не сдуло ветром. У порога стояли корытца с едой и водой. Иван поглядел и догадался сердцем, что это – Ясли.
Год назад, в декабре, приехав к маме в Вену, он видел на уличных ярмарках множество рождественских яслей, и все они ему не нравились. А эти – не то что нравились, эти первые – были!
Захваченный родством, Иван сел на корточки, и Жуча не погнала его. Она ела из корытца. Ей мешали три маленьких чёрных щенка, лезли лапами в макароны с тушёнкой. Петровна с порванным ухом вежливо стояла рядом с хозяйкой.
– У нас тут во дворах стройка, – махнув рукой вглубь двора, сказала женщина. – Они так хорошо там жили! Что вы думаете? Всех погнали! Охранники пускали, а начальство приехало – им шею намылило. Им бы только деньги! Что им живое! А отсюда дворники гонят. Идёшь и каждый раз думаешь – тут они ещё, или всё разорили. А у них, если дома нет – они чёрте где бегают. Мы перед Новым годом еле выходили собачку – добегалась, попала под «Волгу». Вот, где Эльбрус? Где Дочка? Где-то носит их! – озабоченным взглядом она оглядела стороны света и вернулась к Ивану.
– А у вас никому не нужны щенки? Может, кому в деревню?
– Я бы взял, – сказал Иван. – Тем более, если зимой жить на даче, можно и двух. Конечно, тут всё зависит, как у меня будут дедушка с бабушкой… Ну, а даже и в городе. Правда, у меня мама…
И тут как будто прорвало его. Он сидел на корточках у картонного дома и, трогая шкуру сытой Петровны, рассказывал первой встречной тётке о чудесном устройстве своей судьбы, о долгах и любовях, о дедушке, который только пошёл на поправку. Она слушала его с внимательным сочувствием, а Иван говорил и говорил – как плакал. И выговорился бы, наверно, лет на двадцать вперёд, если бы в какой-то миг женщина не прервала его.
– Вы простите, я побегу! – сказала она. – Мне ещё за внучкой! Пока, Петровна! Пока, Жученька! – она нагнулась к «яслям», погладила Жучину голову и, махнув Ивану рукой, ринулась вздымать ручьи бульвара своей большой шубой.
Петровна навострила уши, но за ней не пошла. Жуча с детьми улеглась на подтопленном талой водой картоне. Пахло хлевом, паром, молоком, раем, на глазах зрела весна.
Тут Иван заметил, что Петровна смотрит на него строго, и как будто копытом бьёт. «Загостился ты, брат!» – имела она в виду.
Иван покорно встал, и они вместе двинулись к бульвару.
Сворачивая, он оглянулся на приют у тополя. Сбылась его догадка на счёт «параллельной» Москвы, залитой светом, как память. Оттого-то и блуждал отчуждённо по камням мегаполиса, что знал о ней, да не мог найти дверь. Не то чтобы этот двор был счастливым местом; взять метлу покрепче – и разлетится картон, покатятся по асфальту беспомощные чёрные свинки…
Пока он оглядывался, Петровна, собака практичная, чуждая пустых мечтаний, ушла по делам. В одиночестве вернулся Иван на бульвар, к своей скамейке. Он потерял мысль, потерял намерение, с каким выходил сегодня из дома, и стоял, как покупатель на рынке, у которого стянули кошелёк. Но солнце грело, синица пела. Как в четырёхлетнем детстве, Иван вытер грязные руки о штаны и вдруг увидел: брюки и куртка сплошь были в следах собачьих лап. Он подумал было отмыть их снегом, но только засмеялся, махнул рукой и пошёл куда глаза глядят.Как скоро он понял, глаза его глядели в знакомую сторону – к Мише.
Вот завиднелась вывеска Мишиной «Кофейной», и рядом деревцо с подвешенным на ёлочную дождинку салом. «Не наврали синицы!» – не то чтобы удивился, но отметил Иван и, войдя в тепло, сел к окошку. Улица била через стекло первым не зимним солнцем. Надо было пойти, вымыть руки, но он боялся утратить связь между собой и весной, синицей, «яслями». Тут, опередив официантку, из-за кулис возник Миша и подошёл поздороваться.
– В воскресенье у нас экскурсия, – обронил он с достоинством. – В ходе её будет определён темперамент отдельных московских мест и всего города в целом согласно четырём типам Аристотеля. Присоединяйтесь. Я вам выпишу контрамарку.
– Темперамент отдельных мест? – восхитился Иван.
Тем временем Миша разглядел на вешалке его куртку.
– Я вижу следы животных! Где это вы продирались? – спросил он.
– А у меня вот ещё и брюки, – похвастал Иван. – Тоже следы!
– Ага! – сказал Миша и решительно, не спросясь даже, чего прежде с ним не бывало, подсел к Ивану за столик. – Можете у меня неделю ужинать бесплатно, если я ошибусь! – объявил он. – Но я не ошибусь. Вы вступили в полосу серьёзного международного кризиса. То есть, международность нынче – за, а вы – против.
– Это Вы по следам животных судите? – спросил Иван.
– Ну почему же! Не только по следам, – возразил Миша, – я и вообще мудр!
– На бульваре ко мне подошла собака, – объяснил Иван. – Представьте: сегодняшняя погода, синицы! Я на радостях купил ей пельмени. Она меня благодарила – вот вам следы! Но ужинать у вас я не буду, потому что, конечно, вы правы! – искренне заключил он.
– Ага, пельмени… – произнёс Миша и повольней расположился в кресле. Реплика Ивана не удовлетворила его любопытства. Он ждал продолжения.
– Ну, хорошо, – сдался Иван, – ещё я видел в одном дворе рождественские ясли. Картонный домик, в нём собака и три таких чёрных свинки, то есть, щенка. Я не знаю, как вам это объяснить словами… Миша, вы на Пасху обещали куличи, вы поститесь? Я тоже не пощусь. А говорят, кто честно постится, и душой, и телом – тому бывает пасхальная радость. Вот сегодня мне была пасхальная радость. Я только думаю – за что? Может, потому что дедушка болел, и нервотрёпка сошла за пост?
Миша слушал внимательно, не зная ещё, как вступить в эту песню без фальши. Он любил исполнить партию с блеском.
– Ещё сегодня видел в метро старика, – продолжал Иван. – У него был какой-то безмерно затрёпанный справочник по химии, там сзади на обложке цена – рубль двадцать. Он его читал. Потом достал записную книжку, тоже всю развалившуюся, и из неё – несколько карточек. И на одной очень аккуратно написал дату, фамилию с инициалами, ещё что-то. Почти каллиграфически – несмотря на качку. Я всё думал: кто он?
– О! Я вас понял! – смекнул Миша и подхватил. – Выхожу я с салом в скверик кормить синиц и вижу – мне навстречу прогуливается солидный господин, везёт самосвал на верёвочке. Я в ужасе осведомляюсь: где ребёнок? Потому что ни одного ребёнка поблизости нет! Вы, говорю, его, часом, не посеяли на повороте? Оказалось, внук дома, его бабушка одевает. А деда выставили на воздух – чтоб не сопрел в дублёнке.
– А я вчера пошёл за хлебом, – продолжал Иван. – И передо мной – разговор совершенно анекдотичный. Старичок рассказывает продавщице. Я, говорит, творю давно. У меня и проза есть, и лирика. Она его спрашивает: что же, печатаете? – Теперь, говорит, уже да – портативную машинку сын принёс.И они обменялись еще несколькими историями. У Ивана их было много. Он по осенним и зимним улицам их нагулял вагон. А сколько таких «вагонов» было у Миши! Весна пролетела, осень прошла, века сменили века. Собаки, которых кормила женщина в шубе, пожили и ушли. Далёкое их потомство слонялось по вечным бульварам. Чуткий бармен микшировал чай из Мишиной коллекции и с новым чайничком подсылал официантку за столик к хозяину. И подсылал официантку с кофе, а затем и вовсе доставил им коньяку. Они выпили, не заметив.
Наконец, Мишина официантка убрала со стола пустые чашки. Словно какие-нибудь старинные фарфоровые часы они отзвенели конец разговора. Он завершился в положенный срок, как музыкальная пьеса или стихотворение. Никому и в голову не пришло попытаться его продлить.
– Хотите тайну? – спросил напоследок Миша. – Пиратскую! Я вам скажу.
– Валяйте! Я весь внимание! – кивнул Иван.
Миша взялся ладонями за борта столика и, склонившись к Ивану, шёпотом произнёс:
– Я уезжаю! Речь идёт о побеге на фрегат. Мы оставим Москву и двинемся в направлении Чёрного моря!
– И вы на море! – возмутился Иван – Что вам всем на суше не живётся!
– А что? Закроюсь! – продолжал Миша, – Вывезу барахло к мамочке, а помещение сдам.
– Миша, если не секрет, а зачем? – спросил Иван. – Такой крутой поворот – должны быть причины! Что, тоже международный кризис?
– А кто меня тут любит? – спросил Миша, – Кто тут любит хорошие вещи? Может, вы знаете кого-нибудь, кто тут ценит стиль? Не шутите со мной!
Иван внимательно слушал Мишу.
Ему вдруг стало жаль, что он ни разу не предпринял попытки заглянуть за двери Мишиной театральности. А теперь уже, видно, время ушло.
– Поеду, поеду на Чёрное море! – заключил Миша, поднимаясь из-за столика. – Там люди хотя бы ценят хорошие помидоры.
– А вы не хотите взять с собой на Чёрное море щенков? – вдруг вспомнил Иван. – Вырастут псы – будут охранять помидоры!
– Щенков? – переспросил Миша. – Хорошо бы еще ворон, синиц, воробьёв. Знаете ли, в Москве полно желающих эвакуироваться. Нет, не могу. На Чёрное море следует уезжать в одиночестве.
– А, может, не надо так далеко? – спросил Иван на прощанье, уже застегивая куртку, – Поехали бы лучше к нам на дачу! У нас там участки продаются, у леса. Были бы с вами соседями.
Он заметил, что предложение о соседстве ободрило Мишу, но всё-таки тот не сдался.
– Вы поймите, уехать недалеко – какой смысл?Больше возражений у Ивана не нашлось. Он вышел из Мишиного тепла, перед ним была снежная улица и меж сугробов – плачущий тротуар. С утра его посыпали солью, и теперь он стал такой ясноглазый, летний! На полпути к метро закапал редкий дождик. Под этим дождём чудесно Ивану подумалось: вот, он Зиму перевёл через мостик и отпустил!
В целости Иван довёз свою «пасхальную радость» до дому, а когда заходил во двор, ему вспомнилось утро – шампанское, Оля, и то, как гадал, чем хорош этот день? А вот, чем!
Свернув на детскую площадку, он сел на лавочку и позвонил Оле. Ему захотелось узнать, как её давление, и не нужно ли откуда-нибудь встретить Макса.
– А может это тебя нужно встретить? – спросила Оля. – С чего это ты вдруг озаботился?
Она была дома и, за минуту одевшись, спустилась во двор.
Иван поглядел на её бледное лицо, в котором от болезни проступила нежность, и подумал: «Буквально Ассоль!»
– Ну! – сказала «Ассоль», остановившись у лавочки и достав сигареты. – Давай, говори, я слушаю. Мне сегодня было так погано, что я теперь полна доброты. Что у тебя?
На какой-то миг Ивана окатило стыдом – что Оля так легко его разгадала. Он хотел было соврать: «ничего». Но не смог отказать себе в удовольствии похвастать правдой.
– У меня был хороший день! – сказал Иван. – Во-первых, дедушке получше. Потом, утро было, ты помнишь, – сплошное солнце. У гаража расчистил снег… Зашёл к Мише в кафе. Он вроде бы так Москву обожал, а всё-таки и его доконали. Собрался на Чёрное море. Да, и ещё! Ко мне на бульваре подошла собака! Я ей купил пельмени. Говорили с одной женщиной, которая их кормит.
– Ну, ты, как всегда, патетичен без предела, – заметила Оля. – Ты что думаешь, ты доброе дело сделал? У тебя просто новая форма эгоцентризма. Ты пойми, все эти кормильцы, они их кормят – для-се-бя!
Иван рассмеялся.
– Форма эгоцентризма, говоришь? – переспросил он, резко поднялся со скамейки и, обхватив Олю руками со сжатыми кулаками, крепко к себе прижал. Не касаясь ладонями, ничего не говоря объятием, он продержал её так секунд десять.
– Я тебя сигаретой прожгу, – крикнула Оля, с трудом высвобождая руку.
Иван, смеясь, её отпустил.
– Ну и что это за выходка? – сказала она, очутившись на свободе. – Думаешь, ты меня осчастливил?
– Да, – сказал Иван. – Думаю, что да. Тебя, себя… Конечно! Мы очень, очень близкие люди.
– Я пойду в аптеку, – сказала Оля. – Мне надо купить кордеамин.
– А это что такое? – спросил Иван, в силу семейных обстоятельств интересовавшийся фармацевтикой.
– Это чтобы вместо восемьдесят на пятьдесят стало девяносто на шестьдесят, – объяснила Оля.
Вдвоём они дошли до аптеки и обратно, ни о чём почти что не поговорили и простились в большом согласии.
Иван шёл от лифта смеясь, гадая, где у этого дня дневник, чтобы влепить ему за каждый предмет пятёрку!– Ну как, поговорили? – спросила Ольга Николаевна, когда её сын вошёл в дом.
– Да в общем, нет. Просто прогулялись. Купили «кордеамин»… – отозвался Иван, улыбаясь самой безмятежной за последние годы улыбкой.
– Какой «кордеамин»! Я тебя о конференции спрашиваю!
Иван посмотрел на маму обескуражено, понемногу припоминая, о чём она ведёт речь.
– Мама, я забыл! – наконец произнёс он. – Вылетело начисто! Как считаешь, надо, наверное, извиниться, или уже всё равно?
Схватив мобильный, он нашёл номер своего научного руководителя и позвонил.
– Дело в том, что я тут встретил… – объяснялся он, – совершенно вылетело из головы!… Нет, конечно, не ерунда, а свинство! Но я подумал – это и к лучшему. Не надо никакой конференции. Мне кажется, то, чем мы в институте занимаемся, это и вообще нехорошо, потому что уводит человека от ясной мысли и доброго дела в какие-то заросли…
Выслушав ответную реплику, Иван зажмурился, извинился ещё раз и нажал «отбой».
Ему было стыдно, но не слишком.– Ну, и кого ж ты встретил? – спросила Ольга Николаевна, когда он договорил.
Иван посмотрел с удивлением, не выйдя еще из разговора.
– Ты сказал «я тут встретил». Кого же? – Ольге Николаевна хотелось блеснуть проницательностью, но она боялась ошибиться. Главная её версия была – в Москву прилетела Бэлла.
– Собаку! – неожиданно ответил Иван.
– Собаку? И что?
– На бульваре встретил собаку. А потом мы с Мишей пели псалмы.
– Какие еще псалмы? – начинала сердиться Ольга Николаевна.
– Обыкновенные! – сказал Иван, смеясь над мамой. – Во славу Божьего мира! И зря вы все меня стыдили – нет никакой ошибки. И не надо никуда дёргаться. Так и буду жить, как жил, ясно? – заключил он.
– Господи, что же это такое! Не человек, а несчастье! – воскликнула Ольга Николаевна, и Иван, успокоенный, вольный, пошёл к себе за компьютер. Сегодня ему ещё предстояло трудное дело – написать Бэлке.
Собственно говоря, ничего судьбоносного он не сообщил ей в своём послании. Извинился, что зря потревожил с венскими культурологами. Сказал, что намерен бросить, потому что их научный труд сильно проигрывает в человечности любой собаке. Не удержавшись, написал и о «яслях».
Ему казалось, нескольких правдивых фраз должны всё объяснить ей.В ту ночь радость дня не отдавала тоской, как это было обычно. Иван засыпал с миром в душе – как будто жизнь его обняли и разом сняли всю маяту.
Он проснулся перед рассветом, разбуженный сильным шорохом, идущим со стороны улицы. Споткнувшись о стул, Иван пробрался к окну, дёрнул створку, и обомлел – город таял. Как, бывает, тайком от детей разбирают ёлку, так Москва втихомолку, ночью, снимала с себя снег. Ничто не спало – всюду шуршало, постукивало, облака источали реденький дождь. Пахло водой и гнилью, как будто гигантское илистое озеро проступило из-под земли.
Величина и тайна происходящего не отпустила Ивана досыпать ночь. Он вдыхал и слушал. Ему нравилось, что это большое дело творится вовсе без участия человека. Никто из людей не знал загодя, что это произойдёт сегодня, и не мог повлиять на сроки. Это только солью посыпать снег на дороге человеку по силам.
С трудом усмиряя восторг, он поймал две строчки, и ещё две. И ещё восемь!* * *
С приходом весны сами собой рассосались зимние умиротворяющие занятия – «гитара и вышивание». Вообще, в жизни не осталось ничего зимнего – дома не было прежнего уюта. Весна, как солёное море, выталкивала наружу. Снег стаял. Во дворе на детской площадке узнала большую воду деревянная лодка-песочница. У дворовых собак вымокли шкуры.
Из вопросов, намеченных к разрешению, дальше всего удалось продвинуться в направлении отца. За март Иван позвонил ему четырежды, а мог бы и больше. Предлог, выдуманный им, был многоразового использования: он консультировался с отцом по поводу дачного ремонта. Через кого из партнёров будет лучше купить материалы? Сойдёт ли родная звукоизоляция за утеплитель? Кого нанимать? Когда начинать? Где бурить скважину?
Отец отвечал терпеливо, но вопросы сына не иссякали. Наконец он взорвался. «Раз ничего не соображаешь, так и не берись!»
Остальные дела продвигались к решению сами собой, без какой бы то ни было инициативы с его стороны.
Как-то раз, дождливым вечером возвращаясь домой, Иван увидел в песочнице Макса. Тот был обут в резиновые сапоги и лопатой сокрушал жидкий лёд, надеясь прорыть канал.
Оля сидела поблизости, на качелях. Волосы её из рыжего снова были перекрашены в мирный цвет и завиты. На коленях лежали розы. Иван подошёл поздороваться, и был удивлён тем, как явно возражало её лицо цветам и кудрям.
– Ну, как дела у вас? – спросил он, подсаживаясь к ней на длинную доску качелей.
– Дела блеск! – сразу отозвалась Оля. – Видал – замуж зовут! Переживает парень, что всё никак к нему не переедем… – и, подвинув розы, чтоб они не царапали руку Ивана, оттолкнулась от земли носком сапога. Качели поплыли.
– Нет, – подумав, сказала она. – Так меня укачает… – И притормозила. – Башка у меня трещит. – Она прижалась виском к холодной штанге качелей и закрыла глаза. – Не хочу я ничего. Хочу спать. Прислониться и спать всю жизнь. Помнишь, – ещё плотнее зажмуриваясь, продолжала она, – ты сидел в машине с шампанским, а я шла на работу. Ты ещё сказал, чтобы я не увозила Макса. Я потом в маршрутке так горько плакала. Если бы хоть кто-нибудь сказал мне: Оля, останься дома! Куда ты рвёшься! И странно ещё, что ты тогда вечером поинтересовался – как я? Очень странно. Ты сказал, что мы родные люди. И что же? Вот! – она тряхнула розами. – Думаешь мне хоть на грамм это надо? Я хочу быть маленькой девочкой, играть в песке на даче. И чтобы обо мне всё время заботились мама с бабушкой, приносили бы мне попить, надевали бы кофточку, если ветер. Чтобы с меня сняли всю ответственность и гладили по голове.
На этом, хорошенько обдав себя и Ивана слякотью, Оля спрыгнула в лужу под качелями и закричала:
– Макс, домой!
Макс обернулся и увидел Ивана.
– Эй, иди сюда, у меня тут плотина! – крикнул он, замахав ему.
– Ты слышал меня или нет! – грянула Оля.
Макс вскочил, подобрал свой совочек и побежал к подъезду.
В лифте они с Иваном стукнулись ладонями: привет-пока! «Доедешь с нами до седьмого?» – спросил Макс. Руки у него были ледяные и мокрые, со штанов стекала талая вода. «Ты попробуй мне простудись!» – пощупав Максову шею, сказала Оля и вытолкала сына из лифта. Свои розы она несла головами вниз. Помедлив секунду, Иван раздвинул смыкающиеся двери, и выскочил следом.
– Оля, мне бы тебя на минутку! – сказал он.
Оля сунула Максу опостылевшие цветы и, втолкнув сына в квартиру, вернулась к лифту.
– Ну? – произнесла она утомлённо.
Её тоску Иван чувствовал в себе – как свою вину и ошибку. Как-то ржаво, за всё цепляясь, било сердце, когда он смотрел на Олю, и требовало, чтоб он немедленно всем пожертвовал, всё починил.
– Я тут подумал на счёт ваших курсов, – сказал Иван. – Чёрт с ней, с работой. Отказаться от утра с Максом! Что же я, враг себе?
В тот вечер он вышел на балкон подышать и увидел во дворе под фонарём юную пару. По какой-то причине девочка упиралась, не хотела заходить в дом, хоть парень и тянул её за руку, и даже взялся потом кантовать, упёршись в спину. Несколько минут дети ссорились, по-итальянски махали руками. Наконец, парень повернулся и, засунув руки в карманы, зашагал в сторону подъезда. Девочка ещё погоревала и двинулась вслед за исчезнувшим в подъезде героем.
«Похожа на Машу», – беспечно заметил Иван и, глядя ей вслед, прикинул, сколько времени прошло с тех пор, как Костя приходил к нему в офис. Сперва он считал машинально, не понимая толком, чем занят, и для чего. Вдруг сновидческий ужас сковал его – как будто бы он оставил ребёнка на вокзале, у киоска с мороженым, а сам побежал в кассу, но забыл и уехал один. И вот теперь, много дней спустя, нёсся назад в безумной надежде, что ребёнок ещё ждёт его там. Если же нет…
Большим мёртвым шагом Иван пошёл по дому – искать мобильный. И куда только зашвырнул? На окошко? На пианино? Забыл у бабушки? Позвонив с домашнего, он обнаружил свой телефон в кармане куртки, и сразу же вызвал Костин номер.
Абонент был «недоступен».
Тогда, собравшись, внутренне приготовившись к испытанию, Иван пошёл на кухню и за кружкой чая попытался восстановить по мелочам тот разговор на скамейке у офиса – когда, единственный раз в жизни, он отказал Косте в участии. Ничего, кроме «тачки глины» и «колеса обозрения», не шло ему на ум.– Ну, что ты кислый? – раздался голос Ольги Николаевны. Она вошла на кухню и посмотрела на сына, упёршего локти в стол.
Иван обернулся, с трудом выбираясь из леса тревоги на мамин голос.
– Я, мама, как-то у одного важного для меня поэта прочёл… Характеристика, которую он под конец жизни дал своей судьбе. Вот, как там было… – Иван замолчал, стараясь припомнить дословно. – «…От мгновения слишком яркого света… через необходимый болотистый лес… к отчаянию… и потом к рождению человека, мужественно глядящего…» Вот как-то так. И это так понятно! Как будто каким-то малым кругом все мы проходим то же самое. А у Кости только начинается «болотистый лес». И ему надо выстоять. А там он уж пойдёт, пойдёт, и проживёт хорошую жизнь. Только выстоять юность, выстоять молодость.
– Выстоять зрелость, выстоять старость… – подхватила мама. – А там уж мы пойдём, пойдём…
– Что это за жизнь у людей? – продолжал Иван, не слыша маминой шутки. – А у собак, что за жизнь? Да и вообще, на Земле! Оле хочется быть маленькой девочкой, чтобы её гладили по голове. Косте тоже хочется – заболеть и под одеяло. Почему не живётся людям?
– Потому что они позволяют себе распускаться! – сказала Ольга Николаевна. – У меня тоже бывают депрессии, но я выбираюсь из них в два дня!
Иван не стал возражать ей, только покачал головой.
– Мама, я за Костю боюсь! – поднимаясь из-за стола, произнёс он. – Может, мне пойти его поискать?
– Поищи! – зевая, отозвалась Ольга Николаевна.Иван лёг за полночь и всё думал о Костиных пожарах и подвигах. Заснул, бог знает, как, и под утро проснулся в тоске.
На балконе, куда он вышел спросонья, его мгновенно окутал сладковатый пар. Почудилось было – черёмуха! Но Иван сразу одумался – бензин. Этот запах, как дым, пропитал собою город. Всюду присутствовал его тёплый грязный вкус. Серо, с дождём, темнело небо перед рассветом. Не дышалось. Ивану захотелось схватить бабушку, дедушку, самые необходимые вещи и сбежать от неявной, но мощной угрозы в чистоту. Конечно, и на даче случались дожди, хмурь во всё небо. Но какая это была чистая хмурь!
Тревога его разгулялась. Махнув балконной дверью, Иван помчался к маминой спальной и прислушался. Мама дышала ровно.
Тогда он взял ключи и, выйдя на площадку, беззвучно, как взломщик, отпер замок соседней квартиры.
Из спальни доносился утешительный бабушкин храп, а в гостиной тихо пел телевизор. Дедушка заснул за новостями. Иван пригляделся, колышется ли плед. В его стариках давно уже не осталось ничего надёжного. Организм был изношен, как старое полотно. Над этой ветошью Иван дрожал.
Присев возле спящего дедушки, он взял его руку и нашёл пульс. Пульс нанизывался как разнокалиберные бусины, то мелкие, то тяжёлые. Иван держал эту волшебную нить, с ней в руках ему было спокойно. В какой-то миг близко придвинулся сон, и оказалось, бусины дедушкиного пульса – изо льда и на глазах тают, становятся крохотными – исчезли совсем! Это пальцы Ивана ослабли. Он очнулся, сжал запястье и, послушав ещё немного успокоительный стук, пошёл к себе.
Всё избыточное отхлынуло. Опять, как во время дедушкиной болезни, проглянул остов бытия – несколько дорогих людей и попытка сквозь какое угодно бурление вихрей не разъединить рук. Даже если всё исчезнет – что-нибудь да останется – смело решил Иван. – То, что их вместе держало! И тут с внезапным примирением ему подумалось о чистых могилах, которые будут у его стариков, и о собственной старости в дачных полях, которую Костя смутит иногда шумным визитом. И о сильном славном Максе, и о преданной Оле, которые не оставят его.От этих мыслей Иван как будто утешился, но лечь не смог. Напротив, ему захотелось бежать, вырваться из дому на улицу. В дорожном мандраже он проверил вещи – права, ключи. Сунул в карман мобильный и совершенно не удивился, что через пару минут карман засверкал, дрогнул, и чистый голос звонка запел по ночной тишине.
«Вот оно!» – произнёс он вслух и достал трепещущий телефон.
Звонила Маша.
– Они улетели куда-то на Кавказ! – рыдала она. – Костя и Женька! У них будет дуэль на скалах! Наверно уже была, и теперь неизвестно, где они!
Мобильные номера мальчишек, по которым непрестанно звонила Маша, не отвечали. Решено было ехать.
Иван вышел из дома, пересёк тёмный двор, сел в машину и отправился за Машей в Измайлово. По жёлтым светофорам, ведомый накалившейся интуицией, он доехал к незнакомому дому без карты. Маша ждала его у подъезда, дрожа в своём «мать-и-мачиховом» пальтишке. Машина бабушка охраняла внучку с балкона.У дома Фолькера они припарковались и принялись звонить в ворота. Пахло близкой рекой. «Это сон! – твердила Маша. – Когда все телефоны и звонки не отвечают – это сон!»
Тёмной тропинкой они спустились к реке и, помыкавшись вдоль берега, поаукав возле необитаемого катера, вернулись к машине.
На рассвете Иван отвёз Машу домой, к бабушке. Как в дурмане он помнил: они сидели в гостиной, за большим железным кофейником, и Машина бабушка рассказывала им истории из своей юности. Ему казалось, комната была целиком сложена из цветов и картин – всё в сладостном кофейном дыму. Наконец, Иван сообразил, что чужие воспоминания не приведут его к Косте и, превозмогая дурноту, простился.– Мама, где мне искать Костю? – спросил Иван, вернувшись утром домой. – Бабушка, где мне искать Костю? Ты многих в жизни искала. Где?
– Где мне искать Костю? – повторил он, позвонив Оле.
Никто не ответил ему. Оставалось «спросить у ясеня». Иван упал на кровать и исчез часа на два. Его поднял звонок мобильного.
– Женька нашёлся! – кричала Маша. – Он у Фолькера! Поезжайте к ним, узнайте о Косте!
По Машиным сведениям, они действительно полетели – вот же понёс их чёрт – во Владикавказ! Нашли скалу, вскарабкались каждый метра на три и, дружно образумившись, слезли. Женя вернулся домой, а куда делся Костя, осталось тайной.
– Отлично! – сказал Иван и, ничего не соображая, почти не отслеживая собственных действий, оказался минут через тридцать у ворот Фолькера.
Ему открыл хозяин. На этот раз он был без тёмных очков. Ярчайшее солнце марта жгло его больные глаза, Фолькер поставил ладонь козырьком и вгляделся в тревожное лицо гостя.
– А, да это ты! – наконец разобрал он.
– Да, это я. Где Костя? – сказал Иван и без церемоний устремился к дому. Фолькер, хмыкнув, пошёл за ним. – Мне нужно поговорить с Женей! – требовал Иван на ходу. – Пусть расскажет! Всё, как было, на чём расстались! Пока не поговорю, не уйду.
– Да и не уходи! Кто ж тебя гонит? – удивился Фолькер. – Наташ! Позови брата! – гаркнул он женщине в фартуке, выглядывавшей из дверей.
– Покурим? – спросил он, кивнув Ивану на полированное брёвнышко у ступеней.
Иван машинально сел и посмотрел, как Фолькер достаёт сигареты. У него было тёмное, заросшее, измученное лицо. Видно, и он не спал сегодня. И вот это – человек с необычайным бизнес-талантом? – невольно изумился Иван. – С могучей силой воли? Враньё!
Тут с прозрачным лицом и тихой досадой во взгляде на крыльцо вышел Женя.
– Где Костя? – вставая, спросил Иван.
– Не знаю я, где ваш Костя. Далеко не убежит – у него денег нет, – утомлённо объяснил Женя. – Отстаньте от меня все.
– Не отстану! – сказал Иван. – Напряги мозги – где он может быть?
Фолькер поглядывал в обе стороны, как судья на поле. Но не дождался развязки.
– Сами напрягайте! – отозвался Женя и пошёл назад в дом.
– Значит, он не знает… Он ведь не подлый человек, ваш Женя? Знал бы – сказал! – кивнул сам себе Иван и медленно побрёл к воротам.
– Послушай! – догнав его, задушевно произнёс Фолькер. – Я в детстве убежал в Питер. На месяц. Меня с милицией искали. А твой парень, что он – дитя? Взрослый пацан. Жив будет, не боись. Он у тебя только в шутку лихой. А как всерьёз – вещмешок за плечи и привет! Я его понял, – и Фолькер усмехнулся. – Мы всех обзвонили, – продолжал он. – Информации нет. Ты погоди, сам придёт. Он виноват – поэтому дрейфит. Пошли-ка давай. Я гитары тебе покажу. Ты таких гитар в жизни не видал!
И Фолькер, положив руку на плечо размякшего немного Ивана, повёл его в дом. Через сказочные декорации, пески и степи, устилающие пол, вдоль стен, глинобитных и тростниковых, они добирались до студии. Иван всюду находил запустение – нелепое расположение предметов и нежилой, резкий дух моющих средств. По-видимому, в доме бывало теперь всего три человека. Фолькер, Женя и приходящая уборщица Наташа. Ни охранника, ни прислуги, о которой в своё время с гордостью сообщал ему Костя, Иван не обнаружил.
– Что, не идут дела? – с внезапным сочувствием произнёс Иван. После дикой ночи он утратил чувство такта. Но Фолькер никак его не осадил, напротив, ответил с охотой:
– Дела надо вести, чтоб они шли, – разумно объяснил он. – Ты перестал вести дела – стоп! Они встали. Ты их снова повёл – пуск! Они пошли. У нас сейчас «стоп». Капитан соображает. Детям не нужны воздушные шарики! А у него их – полон трюм! Куда их сбыть? Поэтому капитан соображает. Ну а как капитаны соображают? Сам знаешь! – на этих словах Фолькер свернул на лесенку, ведущую в цокольный этаж и, поманив за собой Ивана, спустился в винный погреб.
Полки его были голы. Регулярное опустошение при отсутствии пополнения сделало своё дело. И всё же в уголке Фолькер нашёл склянку изысканной формы. Коньяк или виски – Иван не различил.
С откупоренной бутылкой, то и дело предлагая отхлебнуть упиравшемуся гостю, «капитан» добрался-таки до студии.
– А… да они все электрические! – увидев гитары, разочаровано протянул Иван.
Фолькер ухмыльнулся и вынес ему из соседней комнаты восхитительную испанскую гитару. Иван взял её в руки и наиграл прелюдию Баха. Фолькер сел рядом. У него было резкое открытое лицо человека, испытавшего уйму страстей. Он всё-таки нравился Ивану. Иван сыграл для него еще и Генделя.
Фолькер улыбался его экзерсисам, как детскому рисунку, и всё прихлёбывал из бутылочки.
– Молодец! – похвалил он. – Вторую струну подстрой. И руку так не гни. Дай, я тебе покажу, как надо! – сказав это, он забрал у Ивана гитару, и пронёсся по струнам. – Надо так, чтобы из всего зла человеку осталась только смерть… А всё остальное – это должно искорениться. Вот как надо! – приговаривал Фолькер, отбивая двенадцатидольный испанский ритм. А потом вдруг соскользнул в довоенное танго.
Игра его для профессионала была не чистая, но великолепная для любителя. К этому делу у него имелись большие способности, и можно бы долго слушать…
– Нет, – вдруг сам себе сказал Иван и поднялся. – Всё-таки надо узнать, где Костя! Я думаю, надо позвонить в аэропорт. Мы хотя бы поймём, вылетел он или нет.
– Ну иди, звони, – сказал Фолькер и, встав вслед за ним, пошатнулся.Голос гитары ещё долго звенел у Ивана в ушах. По дороге домой он пытался пощупать шестое чувство – жив ли Костя, нуждается ли в поисках? Шестое чувство молчало. Из этого Ивану хотелось сделать вывод, что ничего ужасного не произошло.
Вечер он провёл в аэропорту «Домодедово» и, выказав нечеловеческую настырность, добился приза. Теперь ему было известно, что вчера днём Костя прибыл в Москву. Дальше следы терялись.
Следующий день Иван запомнил сонным пятном. Во-первых, потому, что не спал. Во-вторых, потому что ничего не происходило. Звонила Маша, дежурившая возле Костиной квартиры. Позвонил протрезвевший Фолькер и по новой рассказывал, как в детстве он убежал в Питер.
Под вечер Иван решил, что пора обеспокоить Бэлку.
– К тебе случайно Костя не прилетал? – спросил он.
Довольно долго они обсуждали подробности исчезновения и сошлись на том, что Бэлка летит в Москву, а Иван идёт по всем местам, где бывает Костя и на всех стенах пишет: немедленно позвони близким! Веру Сергеевну, маму Кости и Бэллы, решили пока не волновать.
Не то чтобы беседа с Бэлкой сильно ободрила Ивана, но ответственность была поделена. Он лёг и уснул.А утром проснулся под дождь. Иван услышал его за окном, накинул куртку и вышел на балкон. Тяжести не было. Он попытался наметить зоны поиска, но ничего кроме Костиной квартиры и берега реки не приходило в голову. Иван вздохнул, подставил дождю ладонь и умылся. У него были прекрасные отношения с атмосферными осадками, он мог рассчитывать на их помощь. И теперь, глядя внимательно в лицо тонкоструйному ливню, Иван припоминал, что уже где-то видел похожее ненастье. Нет, не на даче … Весенний лесопарк плыл на него из дождя, и совершенно ясно он вспомнил теперь Костины горестные слова на скамье перед офисом: «Потеплеет – буду жить в парке!»
Иван летел к гаражу, смеясь от надежды, ужасаясь собственной глупости. Ну конечно, в парке! Там Костя провел своё геройское отрочество. Противоливневый капюшон с козырьком! Там их давно пропавший друг пел свои светлые и опасные песни. Там Бэлка впервые взглянула с любовью. И я там был, мёд-пиво пил! Пусть даже это совсем другая история, всё равно – в парк, в парк!
Иван бросил машину у опушки и ступил в мокрый лес без листвы. Он шёл стремительно, на грани бега, и смотрел как можно дальше, насквозь – нет ли Кости. Наконец, показался доминошный домик, скамейка, и Иван замедлил шаги, увидев его живым.
Костя вскочил со скамьи, где вполне уютно расположился со своим рюкзаком и курткой, и помчался к нему по кустам.
– Как же ты меня вычислил? Что, метод дедукции? – засмеялся он, обнимая Ивана.
– Позвонить ты не мог? – грозно спросил тот.
– Прости! – улыбнулся Костя. – Ты понимаешь, я ведь тут не просто так. Я хочу искупить. Пока Женька с Машкой не помирятся – буду здесь, под открытым небом.
– Мама твоя хоть знает, где ты? – перебил Иван, чувствуя, как начинает в висках постукивать кровь.
– У меня мобильник сел, – беспечно ответил Костя. – Вообще-то я её приучил к нерегулярному поступлению информации. Я ей сказал: будешь меня допрашивать – уйду совсем.
– А ещё кого ты приучил… к нерегулярному поступлению? – спросил Иван и взрывная злость на дурака, вымотавшего близким столько сердца, поднялась в нём, вздыбилась алой волной. Иван сжал пальцы и, на мгновение всё себе разрешив, треснул «крестника» в скулу. Это была не пощечина и не подзатыльник – честный удар в морду. На топливе праведного гнева он вышел красивым и резким.
Костя отлетел немного, но не обиделся.
– Ого! – произнёс он, задохнувшись, ладонь прижав к щеке. – Ты, правда, так думаешь? Хорошо – я исправлюсь. Я поработаю над собой. Работал же я над репортажами! И над собой смогу! – тут он задохнулся совсем и умолк.
Иван хмуро стоял на прежнем месте. «Слава Богу, – думал он, остывая, – всё Слава Богу».
– Слушай, как мне нравится, что ты мне вмазал! – восклицал тем временем Костя, держась за гудящую голову. – Ты читаешь мысли! Я ведь звонил Женьке каждые пять минут и умолял: давай подерёмся! Отлупи меня за Машку! А он говорит – не хочу, нет никакой ненависти. Просто жалко жизни – могли бы с Машкой жить, родить четверых детей, она бы, мол, меня в старости похоронила. А теперь ищи ещё десять лет какую-нибудь дурочку, и всё равно будет не то. Ты понимаешь, – захлебываясь, городил Костя, – у него бабушка с дедушкой поженились очень рано – в двадцать лет, и целую жизнь прожили душа в душу, и мать с отцом то же самое. У них это традиция, и Женька, оказывается, уже был совершенно расположен к Машке, это было для него решённое дело. И тут я! Понимаешь, это ведь жутко, когда твоя любовь-навеки так легко начинает глядеть в чужую сторону. Но и Машка не виновата! Она только потому глядела, что я уж больно заметный! Я как алые паруса – если уж возник на горизонте, на меня нельзя не смотреть. Притяжение творческой личности!
Он говорил без остановки, не имея сил унять череду слов.Иван встал и, не замечая Кости, только тряхнув плечом, когда тот попробовал его удержать, направился прочь. Он шёл по вытоптанному московскому лесу к шоссе, и терялся в чувствах. Перебродивший адреналин ныл в груди. Хотелось бежать, но не было сил, снаружи ещё посверкивал гнев, а внутри уже поднималось блаженство от сознания, что Костя – совершенно жив! Жив и точка!
«Беречь. Беречь их всех!» – горячечно думал он и, выхватив из кармана телефон, позвонил Бэлке.
– Не прилетай, – сказал Иван. – Нашёлся! Он в парке.
И дальше шагал, чувствуя, что ветер кружит его, как вальс, что радостный Бэлкин голос, как вальс, его кружит.– Костя нашёлся! – сказал Иван звонко, на всю пустую квартиру, и только потом понял, что мамы нет дома.
Тогда он достал телефон и позвонил.
– Костя нашёлся! Где бы ты думала? В парке! – сообщил он ей счастливую новость.
– Да? – отозвалась мама. – А я, представляешь, шла, и тут у нас, оказывается, фитнесс-клуб! Очень приличный, с бассейном. Я так ободрилась! Неужели снова стану человеком! Уже говорила с тренером. Будешь со мной ходить?
– Конечно, нет! – сказал Иван. – Но всё равно – хорошо, что сегодня у всех всё находится. Пойду узнаю, что нашлось у бабушки.
И он пошел было, но встал на пороге. «Как так? – мелькнуло ему. – Маме всё равно, что с Костей. Как же так жить?»
И вдруг ясно, во все глаза, Иван увидел корень своего одиночества. Рядом с ним нет ни одного человека, кому было бы дело до Костиного спасения. Каждый волновался только за тех, от кого зависел сердцем. «Ах, мама, как же! Ты должна была прослезиться от радости!.. Ну да, это было бы чудо. Это Христос должен быть…» – примирительно подумал он и, выйдя на площадку, зазвонил в дверь к бабушке с дедушкой.Бабушка, прошаркав по коридору, открыла ему. Иван её обнял и, сильно склонившись, приник щекой к плечу. В этой неловкой позе, пока она ворчала на внука и хлопала по загривку, он рассказал ей, что Костя в парке, живой.
– Отпусти! – наконец, решительно его оттолкнув, сказала бабушка. – Мы смотрим беседу о климате! – и вернулась в комнату, к шумящему телевизору.
Иван нашёл тимуровский выход своему чувству – вымыл на кухне стопку тарелок, стоявших в раковине, и в уме посветлело. Наконец он сформулировал: у него был Праздник Целости Всех Своих.На волне благодарной щедрости он разыскал в старой книжке телефон Бэлкиного и Костиного отчего дома и позвонил Вере Сергеевне. Костина мама узнала его по голосу, хотя ни разу, даже в пору дружбы с Бэлкой, им не довелось увидеться.
Иван представился.
– Да, да, я узнала, узнала! – испугалась она. – Что с ним?
Иван сказал ей, что Костя в парке, укрыт, сыт. Как человек закалённый, простудится вряд ли.
– Мне бы поговорить с вами! – воскликнула Вера Сергеевна. – Я бы в любое время, когда вам удобно! Если только у вас найдётся полчасика. Если вас не затруднит.
Иван, смущённый её испугом и суетой, сказал, что заедет хоть сейчас.
Они договорились на завтра.* * *
Вера Сергеевна оказалась похожа на Бэлку – тоненькая и темноглазая. Она жила со своими умершими родителями, взглядывая нежно и часто на фотографии.
То, что Костя ей не по силам, стало видно сразу. Ивана она приняла взволнованно и виновато, как если б он был классным руководителем нашкодившего ребёнка.
Из коридора Иван мельком увидел бледные комнаты и легендарную кухню, выкрашенную в «цвет тоски». Он не раз слышал о ней от Кости, но и представить не мог, что и в самом деле бывает на свете такой оттенок зелёного. На большом подоконнике не приютилось ни одного цветочного горшка. Скромная кухонная мебель, белая на тоскливом, бесцветные шторки…
Чай пили в комнате и разговорились легко. Иван рассказал про бабушку с дедушкой. Оказалось, когда-то Вера Сергеевна работала на фармацевтическом производстве, а потом ушла в аптечный киоск. Заговорили о болезнях и лекарствах. Подкованность Ивана в вопросах старости растрогала Веру Сергеевну, она провела его вдоль увешанных фотографиями стен и познакомила со своими покойниками. Всё это были хорошие люди. Папа – врач, мама – учитель немецкого.
Иван смотрел на Веру Сергеевну, как смотрят на русскую осень – с чувством родства и печали. В ней виделся ему пример нисходящего течения человеческой жизни вообще. «Всё шиворот-навыворот! – думал он с грустью. – Наверняка ведь Бог задумал, чтобы данный человеку урок вёл его – от страдания к радости, от одиночества к единству. А кто-то взял и перевернул. И по сей день, наверно, веселится над шуткой». В какое-то мгновение Ивану стало жаль, что он не родственник Костиной маме, и не имеет права утешать её и рассуждать об исправлении жизни.
В ответ на робкие расспросы Веры Сергеевны Иван рассказал ей о Фолькере, о том, как его жалко, потому что он добр и, вероятно, не перенесёт краха своей утопии. Рассказал о Жене. А о Маше рассказывать постеснялся.
Вера Сергеевна не знала ровным счетом ничего. Каждое слово о сыне было ей, как милостыня. Иван вглядывался и не мог понять – почему Костя изо всех сил отстраняется от такой тихой, не тиранической вовсе мамы? Неужели просто сбежал из печали в жизнь?
Ему очень хотелось спросить о Костином отце. Кто он, не от него ли унаследовал сын свой характер и дар? Но Иван сдержал себя, боясь нарваться на тайну.За разговором он так слился со странным домом, где выросли два близких ему человека, что совершенно забыл время, забыл приличия и постепенно переложил из вазочки к себе в розетку всё варенье. Это было сказочное варенье из терновника, очень сладкое. Вероятно, оно и оказалось противоядием от грусти.
Костина мама, несказанно ободрённая этим его дурным поступком, полезла было в буфет за новой порцией, но смущённый Иван уже вставал из-за стола.
– Ну а всё-таки, как мне быть с Костей? – тихо спросила Вера Сергеевна, пока он одевался в прихожей. – Может, что-нибудь надо такое… – предпринять?
Иван задумался. Что он мог посоветовать ей? Сделайте так, чтобы жизнь вам полюбилась? Чтобы вы стали бодры и веселы? Это было бы хорошее издевательство.
– Перекрасьте кухню! – от всей души ляпнул он.
И Вера Сергеевна закивала согласно, как будто только об этом сама и думала.
От Костиной мамы Иван выходил весёлый, взбудораженный, вертел в пальцах ключи от машины и ясно видел – кризис отболел. Теперь, в ближайшее время, уже ничего плохого не случится ни с Костей, ни с ним, ни с дедушкой, ни с остальными, кто есть поблизости.
За рулём эйфория прошла, но осталось солнечное послевкусие, как в день, когда он праздновал дедушкино выздоровление и встретил на бульваре собаку.
Он свернул с шоссе и поехал длинной дорогой – успокоить чувства. На дороге этой дома городские и деревенские, склады, перелески и кладбища сменяли друг друга. Это была та черта, где волна Москвы находит на встречную волну природы и возникает мало приятная глазу, но трогающая сердце смесь.
В одной из таких деревень, нелепо приставленных к самой Москве, Иван остановился, из машины аккуратно вылез в лужу, и сразу же плюнул на аккуратность, потому что она не спасала – повсюду плыл талый бензин. Иван прошёлся вдоль снежных остатков, твёрдых, как известняк, вдоль заборов и старых домов – всё это было выкрашено одинаковой густо чёрной грязью. Поверх грязи блестело немного солнца. Это же солнце пекло ему в висок. Иван закрыл глаза – зазеленело, машины просвистывали, как шмели, он с удовольствием послушал их разнокалиберные «вжики».
«Как они здесь живут?» – думал он, глядя на чёрный садик.
А затем увидел, как из соседнего двора, толкнув калитку и перебравшись через ручьи, вышла женщина. Статная, без возраста, она прошла по обочине, зорко глянула в обе стороны и, встав одной ногой на дорогу, принялась голосовать. На локте у неё висела сумка. Под курткой колыхалась на ветру зелёная летняя юбка.
Если б Иван умел написать увиденное маслом – несчастный садик, солнечную, грязную даль, в которую глядит лицо женщины, то назвал бы картину: «Весна опаздывает в Москву».
С улыбкой он пошёл к машине, тихонько завёлся и, стараясь не брызгать, подполз к голосующей. Оказалось, ей надо было недалеко – в Химки.
И хотя при ближайшем рассмотрении дама не обнаружила никаких хоть сколько-нибудь весенних черт, Иван был доволен.
«Весну везу!» – смеялся он про себя, и, подбросив её до Химок, в прекрасном настроении погнал домой.Мамы не было дома, как и вчера. Видно, она пошла опробовать недавно найденный фитнес. А из бабушкиных дверей пахло жжёным сахаром. Бабушка макала хлеб в молоко, посыпала песком и жарила на сковородке. Иван вошёл на кухню, как в рай. К гренкам был кофе с цикорием.
– Бабушка, можно я скажу банальную вещь? Мне очень хочется.
– Какую такую банальную?
– Люблю ужасную дорогу от Химок до Долгопрудного! Мне кажется, поэты что-то похожее имели в виду, когда говорили, что любят Россию. Понимаешь – всё мило!
– Опять тебя в дебри понесло, – строго сказала бабушка. – Любишь – и ладно.
– Ты права! – признал внук. – Но как промолчать? – и пошёл на балкон, обдумать на воздухе, что делать с Костей.
Хотелось немедленно загнать его к Вере Сергеевне. Сей же час! Иван принялся мысленно репетировать речь. «Понятно! – собирался сказать он Косте. – У тебя слишком дорогая жизнь, чтобы потратить кусочек на каких-то там скучных предков. В таком случае, у меня тоже дорогая жизнь, и я хочу проводить её в обществе порядочных людей. Намёк тебе ясен?»В тот же вечер Иван поехал вызволять Костю из парка, весьма рассчитывая при этом обойтись без нотаций и оплеух.
Лёжа на скамейке, под голову сунув рюкзак, Костя пересказал ему своё замечательное приключение: как скрупулезно они с Женей прописывали в самолёте условия дуэли; как взяли в аэропорту такси и поехали искать скалу; как нашли и долго выбирали место, пригодное для их доморощенного скалолазания; как вскарабкались метра на три, переглянулись и дружно, можно сказать, наперегонки, полезли вниз.
Иван рассмеялся.
– Ну а ты как думал? Страшно! В нас ведь нет дворянской выучки. И, по-моему, это правильно. Честь – это только часть жизни. Как же она может весить больше жизни? Жизнь всегда весит больше всего остального, потому что жизнь – это наш единственный шанс на всё. Другое дело, если жертвуешь собой ради кого-то, как на войне. Тут жизнь идёт за жизнь. Это оправдано. Но это не наш случай… Так вот! – продолжал Костя. – Мы сползли оттуда, на камушек сели, коленки дрожат. Мне даже обнять его захотелось, бедный Женька! Я ему стал объяснять. Я же с Маши тоже ничего не взял, кроме вдохновения! А не турнула она меня потому, что так по-дурацки сложилось. Бабушка, сомнения, угрызения совести. Вот я это ему втолковывал. Женька говорит: я всё понимаю, но уже ничего не починится. Пускай даже по глупости разбито. И он пошёл на дорогу – чтоб его кто-нибудь в аэропорт подбросил. А я ещё где-то полдня пошатался, пообедал там в каком-то кабаке, и тоже в аэропорт. Там ещё пошатался, пока рейса ждали. И мне так тошно стало! Думаю – как буду жить после такого поганства? И тут меня озарило! Ведь в чём смысл? В покаянии и искуплении! Верно? Я решил: пойду в лес и буду жить под небом, сколько надо дней, пока у них всё не наладится. Вот так – под небом, под дождями! Конечно, я, как трезвый человек, не должен верить в подобные методы. Но моя жизнь показывает, что вопреки всей логике и физике, они действуют. Так что – буду. Уже, между делом, три дня прошло.
– Что же ты, правда, безвылазно тут сидишь?
– А что, не заметно?
– Пожалуй… – усмехнулся Иван, оглядев его. – И сколько ещё собираешься?
– Сколько надо. Мне не впервой, ты же знаешь. Вот наладится у них с Машкой – тогда уйду.
– Хочешь взять судьбу измором?
– Говорю же тебе – искупить! – уточнил Костя. – И ты бы, если был добрый человек, не мораль бы читал, а принёс бы поесть чего-нибудь.
– Ага, так поесть, значит, можно? А я думал, ты вроде как в пустыне, – сказал Иван. – Вставай и пошли домой.
– А как же зверские муки совести? – спросил Костя, обнадёжено садясь на скамейке.
– Муки совести – полезная вещь. Вставай и пошли. Это твой последний шанс хоть немного спасти себя в моих глазах! – предупредил Иван и, повернувшись, через лес направился к трассе.
– Да иду я! Дай хоть вещи возьму! – крикнул Костя.
У машины они остановились. Костя курил.
Мимо свистали автомобили, и большое рыхлое небо над лесом протекало немножечко.
– Не верится, что я проберусь сквозь такие облака, – выдувая в небо дымок, говорил Костя. – Не верится, что такой огромный город весь станет летним.
– А куда же он денется? – сказал Иван. – Даже если ему и невмоготу – станет.
– Это ты про меня, да? – оживился Костя. – Это я стану? Как ты нравишься мне! Ты у нас редкое растение – меланхолик-оптимист! Всегда в печали, но помнишь, что хэппи-энд неизбежен.
Костя докурил и втоптал окурок в землю.
– Поехали! – сказал он, плюхаясь на сиденье. – Моя гадкая юность кончилась.* * *
Без задержек и церемоний апрель вступил во владение Москвой и пригородом.
Крыши цвета мокрого асфальта, полный воды воздух, первые зонты – вот так вошёл этот месяц, еще хмуроватый, но знающий своё дело. Погодите, дайте только ему освоиться!
Сюжет весны переполнял Ивана. Он думал о нём по нескольку раз на дню – начиная с утра. Ещё не открыв глаз, не видя окна, не определив цвет неба и температуру воздуха, он знал погоду, из чего делал вывод о наличии в своём организме некоего метеорецептора, наподобие барометра. Едва проснувшись, лежал он и вытягивал из кучи голубых лоскутов то одно, то другое старинное впечатление. И особенно ярко вспомнилась бурая полянка с пятнышками мать-и-мачехи во дворе на Большой Грузинской, где они с Андреем провели детство. Как глупо, что весна первым делом селится там, где проходят трубы отопления. Что за нелепое потакание городу! На месте весны он бы вообще не захаживал в город! Пусть знают!
А между тем, эту весну ему хотелось держать на вожжах, чтобы не мчалась очертя голову. Чтобы успеть прожить основательно каждый её денёк.
Для полноты весеннего чувства он даже сгонял на дачу, поглядеть – много ли воды. Дом стоял притихший, как будто поблёкший, как будто даже подобравший полы – посередине великой апрельской лужи. Ивану захотелось стиснуть в объятиях этот дом. Наверное, он и стиснул бы, став на миг великаном, если бы не увидел под карнизом гнездо. Какие-то мелкие птички собрались в этом году жить с ними под одной крышей. «Ура!» – воскликнул он мысленно и повёз новость домой.
А дома, во дворе, подумал: и здесь хорошо! Как будто сдуло с земли гарь мелких человеческих безобразий – дыма, шума, брани. В глаза била одна весна.
И особенно хороша бывала весна по утрам во вторник и пятницу, когда Иван возил Макса на занятия. Это были подготовительные курсы при гимназии. Оля намеревалась отдать в неё Макса на следующий год, конечно, если они всё-таки не переедут за город. Причастность к такому важному этапу в биографии ребёнка вдохновила Ивана. Он с удовольствием вписал это маленькое утреннее мероприятие в поредевший реестр своих будней и теперь дважды в неделю, устроившись возле кабинета на банкетке, ухом и сердцем приникал к занятиям Макса.
Ему нравилось слушать, как ровно раскладываются месяцы – в четыре группки по три, и как легко поддаётся сортировке животный мир. «Максим, как ты докажешь, что на картинке апрель?» – спрашивала учительница, и Иван испытывал блаженство от того, что апрелю и в самом деле есть доказательства.
С удовольствием выслушивая Максовы уроки, он вспоминал столпы солнечных лучей на дачных лугах – в них был тот же порядок. И ему было жаль, что в детстве родители не сумели увлечь его естественными науками, а отдали сына на съедение фантазии. Да, тут ничего не попишешь, – фантазия растерзала Ивана. Тогда как если бы он увлёкся химией или биологией, ясный мир физических явлений сообщил бы ясность уму и сердцу. Пожалуй, его могла бы привлечь география со своими счастливыми подразделениями – геологией, гидрологией, метеорологией. Ну да что жалеть! Теперь главное – не упустить Макса.
И он думал о том, как трудно не упустить Макса, и как ещё труднее не упустить Костю. А не упустить себя – это вообще нечеловеческий труд. И очень хочется, очень нужно с кем-нибудь поделить его. Но никто, кроме незримой правды, к которой обращаешь молитву, тебе не поможет.
В один из апрельских дней Иван пошёл в магазин, и оказалось, по всей земле женщины моют окна. Они мыли их с весёлым остервенением. Видно, только этого им хотелось всю зиму, но не давал мороз.
И Костя, как выяснилось, тоже мыл окна. «Я мою окна! – вопил он по телефону. – Приезжай посмотреть! Может, это только раз в жизни!»
Иван поехал по двум причинам. Во-первых, нельзя отказывать человеку, заново отстраивающему себя. Во-вторых, предыдущий визит к Косте, когда тот болел, не слишком удался. Хотелось его переписать.
Дверь в квартиру была не заперта. Иван вошёл и услышал свежий запах уборки. Костя стоял на подоконнике, как на сцене, с тряпкой в руке и орал приветствия.
– Ну что, прояснилось что-нибудь? – спросил Иван, задирая голову на труженика.
– А что, сам не видишь? – Костя кивнул на вымытую половину окна. – Прояснилась великая туманность! Человек перестал путать голос желания с голосом совести! Вот смотри, чего я хочу? Я хочу создавать великие творенья и распылять по земле. Хочу владеть Машей, Женей, Фолькером и еще многими – располагать их любовью, уважением, всем! Хочу преодолевать собственные пределы, двигаться во всех направлениях. Хочу узнавать и изменять Землю, охватывать взглядом одновременно всё, – он сделал паузу и улыбнулся. – Так вот всего этого не будет! Перебьюсь! Ведь верно же?
Костя спрыгнул с подоконника и, схватив свой вечно включенный ноутбук, показал Ивану. – Видишь, я всё стер, даже «корзину»! – всё! Думаю – ну, заживу теперь! И тут, представь, до меня доходит: а сколько всего моего у Фолькера, у остальных – как я это сотру?
– А какая разница, что у других, – утешил его Иван. – Если ты сам вырос из той поры – ты свободен.
– Да, – согласился Костя. – Но всё равно как-то стыдно. Сколько мне ещё будет стыдно?
Иван, прищурившись на солнце, поразмыслил.
– Думаю, пару лет, – сказал Иван.
– Ого! – присвистнул Костя. – Значит, два года вон. А хотя, у меня всё равно нет никаких планов. Меня вообще тошнит от созидания. Решил: ничего пока не буду планировать. Просто приведу мозги в порядок. И дом заодно – а то Бэлка на Пасху приедет. Времени стало – полно! Сплю, учу историю, учу английский. Но как же меня ломает! Я так уже чувствую, бросить баламутить мир – это всё равно, что бросить курить. Ну, ничего, придётся. В конце концов, у меня – Машка. Уж раз так вышло – будем с ней. А что ты думаешь? Меня, между прочим, принимают в доме! Аудиенция – дважды в неделю. Пьём чай – я, Маша и бабушка.
Иван молчал, давая Косте высказаться. Он не слишком-то верил в прочность его нынешнего благоразумия, но послушать было приятно.
– А в будущем, – продолжал Костя. – Когда меня перестанет тошнить от созидания, я займусь чем-нибудь безусловно прекрасным. Есть у тебя идеи на этот счёт?
– Ты знаешь, – сказал Иван, задумываясь, – когда у меня болел дедушка, я был поражён. Оказалось, даже лучшие стихи – плоские в сравнении с жизнью человека. Если уж кто безусловно прекрасен – так это мой дедушка. И моя бабушка. Ну, и ты ничего… – заключил он с улыбкой.
– Ты не понимаешь меня! – замотал головой Костя. – Я тебя спрашиваю: есть на Земле для человека безусловно прекрасное занятие? Прекрасное само по себе, а не для пользы тела или души?
Иван хотел было отделаться полушуткой, сказав, что мытьё окон – безусловно прекрасно. Но ему показалось стыдно шутить.
– Я думаю, – произнёс он, терпеливо подбирая слова, – надо очень сильно дорожить друг другом. Просто души не чаять. И не давать себе слабины. Потому что, конечно, хочется всё бросить, лететь свободно. Нельзя – надо возвращать себя к этому… не чаянию души. Больше ничего безусловного у меня, пожалуй, и нет.
Он произнёс свою сентиментальную реплику с удовольствием, нисколько не опасаясь насмешки. Но Костя и не подумал смеяться. Он молчал и смотрел с любопытством.
– Ты бы лучше окно домыл, – напомнил Иван. – А то болтаешь ерунду, и меня сбиваешь. Вон, у тебя одни разводы.Он взял с подоконника тряпку и, пшикнув раствором, принялся аккуратно сводить со стекла оставленные Костей туманности.
– Да брось! Я сам домою! – крикнул Костя. – Я вообще тебя не затем звал. Не чтобы ты для меня, а наоборот. Я знаешь, зачем тебя звал? Хочу для тебя что-нибудь сделать! Мне сердце велит! Буквально долбит мне в мозг: сделай что-нибудь для этого зануды! Но я пока не вижу, что именно тебе нужно. Ведь это должна быть не моя фантазия – но то, в чём ты действительно нуждаешься. Мне хотелось бы обустроить твою жизнь Бэлкой – но видишь, ты упёрся. А зря – вы истинная родня, и то, что я её брат, подтверждает это. Главное, я знаю, в чём препятствие. Ты опасаешься, что твоя Олька с горя «поседеет» из рыжего в фиолетовый!
– Да, опасаюсь, – признал Иван, отдавая Косте тряпку. – Видал, как мыть надо? – сказал он, любовно оглядывая сливающееся с небом стекло.
Дольше оставаться у Кости ему было незачем. Он вытер руки о валявшееся на стуле полотенце и пошёл в коридор.
– Я все-таки очень хочу что-нибудь для тебя сделать! – повторял Костя, провожая его. – На совесть – как для себя! Обещаю, в ближайшие дни я буду тебя серьёзно обдумывать!
– Поступи для меня в институт, – сказал Иван, – ты меня очень обяжешь!
* * *
С тех пор они виделись часто. Вечерами, где-нибудь к ужину, Костя забегал и пересказывал свой день, больше теперь похваляясь не разнообразием, но стойко выдержанной рутиной. Несмотря на внешнюю бодрость, в его визитах была пристыженность, подпольная нежность к хозяевам, столько месяцев терпеливо предоставлявшим ему сочувствие.
– Если ты думаешь, что я захотел жить – напрасно! – однажды признался он Ивану. – Но умом понимаю – нечего поддаваться, надо самому себя обманывать, будто всё в порядке. Просто притвориться. А там, глядишь, войду во вкус, и Машку приведу в чувства.
Буксиром, за который он ухватился, была Страстная неделя. Костя принял её всерьез. «Я не знаю, что там и как. Это всё недоказуемо. Но раз есть такая неделя – надо её прожить», – рассуждал он, точь-в-точь, как бабушка Ивана.
Костя ел только яблоки и чёрный хлеб, а чтобы никто не подумал, что он постится, обдирал колбасную кожуру и жевал её вместе с хлебом. «Я не пощусь! – заявлял Костя. – Я терплю ради всех невинно пострадавших от сволочей вроде меня. Ради Женьки. И ради Христа. Кто знает, может, я бы тоже требовал, чтоб его распяли?»
Пиком Костиного поста, ибо всё же это был пост, стало паломничество в зал иконописи Третьяковской галереи. Он поехал туда один и пробыл полдня возле «Спаса» и «Троицы», надеясь прорубить время.
– Сильные вещи, – сказал он, вечером заехав к Ивану. – Тепло, как от печки. Но они уже давно не про меня, не про нас всех. Если Толстой ещё где-то про нас, то Рублёв – уже нет. Точно так же, как какой-нибудь Боттичелли. Люди другой формации. Думаю, в те времена святость была ближе к человеку, люди Божий мир кожей чувствовали и писали вот такие вещи. А мы что? Вышел – смотрю на машины, на всю гарь, и думаю: какие же мы сироты!
– Да какие сироты! Ты на дачу к нам поезжай, выйди в поле! – возразил Иван, но сам почувствовал, как, сойдя с тропы, заскользило сердце. – Вообще, не надо об этом, – решил он. – Завтра у нас что? Четверг. Бабушка будет красить яйца. Хочешь, приходи.
Догадавшись, что за яйцами последует выпечка куличей, а затем освящение их, крестный ход в местной церквушке и утренние поцелуи, Костя хотел остаться у Ивана в гостях до самой Пасхи, но хозяин не позволил.
– Нет, – сказал он строго. – Куличи будешь печь дома, с мамой. Растормошишь её, понял!
– Понял, – немедленно согласился Костя. – Но у нас там дурдом. Ничего нельзя печь. Она кухню красит!
– Ну так иди и помогай красить! – велел Иван.
И Костя пошёл. От души ли, а может, с меркантильной целью быть «хорошим» – этого Иван не знал, но в любом случае остался доволен.В четверг мама взялась красить яйца магазинной краской, бабушка – луковой шелухой, а Иван уехал в офис. На улице Большой Татарской, среди церквей Замоскворечья, он поглядывал – есть ли хоть какое предчувствие праздника? Или, может, страстная скорбь? Ничего не унюхав, он отнёс в офис печенье и кофе, проверил почту, пустую, как никогда, и вернулся домой.
Дома печальная мама мыла плиту.
– Всё покрасили, всё сделали. Хотела печь. Уже достала миксер, изюм, но бабушка говорит – завтра, – пожаловалась она сыну. – А сегодня тогда что?
– Давай погуляем! – предложил, растерявшись, Иван. – Хочешь, поехали в центр?
– Я ещё хотела сделать пасхальное гнёздышко, – прибавила Ольга Николаевна. – Знаешь, как в Европе… Только зря герань общипала!
Тут жалость к себе одолела маму. Она бросила тряпку на плиту и заплакала.
Иван знал, что в канун праздников чувство личной неустроенности обостряется. «Вот поэтому…» – подумал было он, и вдруг ему стало страшно: как вышло, что он сам великолепно, роскошно устроен в жизни, а мама – нет?
– Нет, так не пойдёт! – переламывая растерянность, объявил он. – Давай разбираться, чего тебе хочется!
Но оказалось, мама не нуждалась в разбирательствах. Она отлично знала ответ.
– Да… – сказала Ольга Николаевна, промокая слёзы кухонным полотенцем. – Я всё это время заглядывала в себя, и теперь начинаю понимать: мне всё-таки скучно без твоего отца. Без этого памятника. Хочу, чтобы этот памятник был хотя бы в Москве. Чтобы его можно было взять под руку и прогуляться – хоть на выставку. Пусть даже молчит себе, как молчал. Может, напишем ему на Пасху эсэмэску? «Христос Воскресе!»?
Иван покачал головой.
– Он не ответит, мама. Потерпи до лета. Позову его разбираться с офисом, у нас там бардак. Тогда поглядим. Никуда не денется… Влюбится и женится! – заключил он.Утром в канун Пасхи Иван проснулся и увидел дождь: он падал медленно и невесомо, как снег. В старые времена хмурые весенние дни оказывались лучшими для работы. В такую погоду уютно было сгинуть до вечера в книге и что-нибудь такое отмечать себе в тетрадь. К сожалению, Иван вырастал понемногу из этих добрых занятий. Теперь ему нравилось относиться к полезным дням бескорыстно – проживать их, как есть, никакой не извлекая пользы. Он оделся и вышел на улицу.
Стоял тихий, свежий, серый денёк, притупивший немного остроту апреля. Было приятно отдохнуть в нём от солнечно-синего, с тайной зеленью внутри, напора весны.
Во время прогулки с Иваном произошло два события. Маленький всклокоченный старичок, почти юродивый, подкатился к нему и спросил, где тут можно купить вермишели. Содержание вопроса изумило Ивана, и всё же, он осмотрелся, оценивая, какой магазин ближе.
Вдруг резко и нелепо – как будто покрутили ручку приёмника – затрещал и припустил дождь. Иван проводил взглядом бегущего по водяным пузырям охотника за вермишелью, и на углу увидел ещё несколько бесценных кадров: долговязая женщина, укрывая распахнутым плащом, как крылом, девочку лет четырёх, спешила по улице, волоча свободной рукой детский велосипед и пакет картошки. Из дырки, прорванной педалью велосипеда, уже высыпались две картофелины, но Ивану и в голову не пришло врываться со своей подмогой в эту картину счастья, нарушать равновесие дождя и укрытости, сиюминутной спешки и вечной любви. Нет уж. Пусть сами тащат свой велик!
Довольный, с «вымытой» головой, Иван направился к дому и дорогой размышлял о своем везении. Какой парадокс! – думал он. Вроде бы он один, но это ничем не напоминает одиночество. Разве одинок человек, у которого полное сердце стариков и детей, и которого случайный попутчик спрашивает о вермишели!Вечером они с мамой решали – идти ли на Крестный ход. Доводы «за» у Ивана были такие. Во-первых, всегда хорошо выйти на улицу. Во-вторых, Христос воскрес для всех, поэтому больше праздника проникает в сердце, если встречаешь его вместе со всеми. Но главное – надо пойти ради бабушки. Сама она в последние годы была вынуждена смотреть пасхальную службу по телевизору, но и помыслить не могла, чтобы ни одного представителя семьи не явилось в храм.
Когда подходили к воротам церкви, Ивану вспомнилось, как два года назад он тоже отправился сюда – не по зову сердца, скорей от душевного отчаяния. И всё было хорошо – и место досталось хорошее, и вокруг были хорошие люди с детьми, и отзывался он вместе со всеми: «Воистину воскресе!» Но легче ему не стало. Он смирился с этим – не стало, и ладно. Вероятно, смирение и было единственным даром, который он мог тогда в себя вместить.
А теперь им с мамой даже не хватило места в церкви, они остались во дворике, и свечей не успели купить, но вся Пасхальная была их!
Уходить домой сразу после Крестного хода не хотелось. Ольга Николаевна остановилась у ворот поговорить со знакомой, а Иван огляделся. Невдалеке от церкви стояла беременная барышня в платке и с аппетитом ела яичко. Ещё подальше, их сосед, старый Василий Петрович, вынув из кармана пакетик, разговлялся куском магазинного кулича.
Прямо из церковного двора Иван решил позвонить Андрею, известному ценителю православного Воскресения и Рождества.
– А я и забыл, что Пасха! – расстроился Андрей. – У нас неделю назад была. Хорошо, что ты позвонил! – и он замолчал, потерянный и изумлённый. – Нет, этак не годится! – вдруг воскликнул он. – Надо всё передумывать заново. Только, ты понимаешь, трудно возвращаться с нулём!
– Какой же у тебя ноль! – сказал Иван. – Ты столько повидал!
Андрей помолчал – как будто вёл подсчет, и, наконец, безрадостно отозвался:
– Да сколько?На следующий день, любуясь за праздничным завтраком бабушкиными куличами и дедушкиной белой рубашкой, Иван был умилён – как всё-таки рады бывают люди примкнуть к традиции! Ему и самому нравилось, что солнце, согласно пасхальному обыкновению, разогнало облака и весело светило. И нравилось, что бабушке то и дело звонят – родственники, приятельницы, отрывают от трапезы, восклицают «Христос Воскресе». После завтрака он позвонил Оле – вызвать Макса на яичный бой, но, оказалось, они уехали. Иван почуял было тень, но не успел расстроиться, потому что сразу же загудел мобильник, и на экране появился номер Кости:
– Целую тебя! Люблю, дорожу и благословляю! – умудрённым голосом произнёс его «крестник» и прибавил еще немало благодарных вдохновляющих слов.
Иван нашёл, что Костя переигрывает с пасхальным умилением, но всё равно был рад, что смягчилось его злое сиротство – наконец, ребёнок был дома, с мамой.
– Воистину воскресе! – отозвался он на Костину длинную реплику.
– Мне на самом деле очень темно. Несмотря на Пасху, – продолжал Костя. – Но я терплю. Ты ведь сказал, что это пройдёт. Пройдёт ведь?
– Даже не сомневайся! – искренне подтвердил Иван.
– А ты знаешь, – произнёс Костя вдруг, как если бы не хотел говорить, но передумал. – У нас Бэлка! Прилетела сегодня утром.
– Всё-таки прилетела! – растерялся Иван. – Послушай, Костя, спроси у неё – она не хочет со мной увидеться? Мы ведь сколько не виделись. Я бы мог в любое время!* * *
Они встретились легко. Свернув с центральной площади, легко зашагали по тихой улочке. Парижская его мечта о весенней Вене сбывалась в Москве! Иван заметил: Бэлка внутренне приподнялась по сравнению с тем временем, что они провели вместе. Трагическая интонация ушла. Резкость, если и осталась, то только во внешнем. Она была без макияжа, без каблуков, в подростковой куртке, самостоятельная, по большому счету спокойная, хотя и чуткая, как встарь. Ушла её общая с Костей огнестрельная энергия, остался ветер, но уже без пуль.
По привычке Иван заговорил было о Косте, но тема не удержалась, и вот уже Бэлка расспрашивала его о нём самом. Кое-что она знала об Иване от брата, но совсем немного.
Иван не стал отнекиваться и охотно выдал ей всё, на что набрела память: об обеих поездках к Андрею, о велосипеде, трёхдневном снегопаде, собаках, даже о Мише с его черноморскими планами. Бэлка слушала сочувственно. Может быть, временами ей и становилось смешно от детских забот Ивана, но она не выдавала улыбки.
– Вот ты видишь, что творится – бездельничаю напропалую! – весело выговорившись, подытожил Иван. – Удивительно – как земля меня терпит и кормит? Всё думаю – ведь надо бы сделать в жизни хоть что-то существенное! Хотя бы отца помирить с мамой… Мама согласна! Потом, хотим с дедушкой на даче перестраивать дом, чтобы можно было жить зимой. А в феврале дедушка болел! – вспомнил он и рассказал ещё и про дедушку.
– Я это всё проходила, – сказала Бэлка. – У меня дедушка тоже был «мой». Я над ним тряслась. Но ты подумай, глубокая старость – это ведь в порядке вещей. Это хороший, правильный порядок – ведь так? Это счастье, в сравнении с тем, что иногда у людей бывает.
– Да, – кивнул Иван. – Я действительно, скорее рад…Они прошлись по нескольким улицам, наобум выбирая, куда свернуть. Весеннее солнышко напекло им головы, а затем нашли облака, засквозил ветер. В старом, пахнущем весной переулке им попалась кондитерская с тремя столиками. Один они заняли.
Бэлка сняла свою полудетскую куртку и осталась в чёрной водолазке, обтачивающей подбородок. Внимательно глядел Иван на светлое, взволнованное лицо человека, который был когда-то готов разделить с ним жизнь: вот она, Бэлка! Камень сказочного благородства, прекрасный горный осколок, со своими планетарными тайнами, но не умеющий ни течь, ни гнуться.
Ивану хотелось оживить её бледность, дать ей в руки маки. Собираясь на встречу, он думал о цветах, но дарить букет показалось ему неловко, даже пошло. Зато теперь его осенило: надо было принести ей из дому чудную белую герань, всю в цвету.
Под лепет радио, заслонённые этим звуком, как ширмой, они продолжили прерванный разговор. Просто и кратко, не напуская никаких тайн, Бэлла пересказывала Ивану своё житьё-бытьё.
– Я снимаю квартиру возле большого парка, – говорила она. – У меня холостяцкий быт, но всё удобно, всё даже с маленьким шиком. Иногда приезжает подруга из Москвы. Больше никого не бывает. Я теперь очень тихо живу.
Иван кивнул согласно. По земным меркам за ошибки юности с них взяли немного, но достаточно, чтобы оба перестали суетиться по пустякам.
– Почему ты не хочешь вернуться? Всё-таки у тебя здесь Костя, родители, – спросил он, но не так, как Андрея, без укора, напротив, желая услышать надёжное оправдание.
– Видишь ли, – отвечала Бэлла. – Мама – вся в прошлом. Собирает какие-то воспоминания, историю семьи. Как я её оттуда вырву? Зимой гостила у меня две недели – и вся извелась. Ей всё хотелось в Москву семидесятых. Понимаешь – не просто в Москву! Так что, мама живёт прошлым. А Костька живёт будущим, и я ему нужнее в Европе – может, ещё учиться ко мне приедет. А, кроме того – деньги. Я ведь не одна, на мне вся компания. Там всё-таки больше можно заработать, чем здесь…
– Зато здесь вы были бы вместе, – сказал Иван.
– А это пока никому не нужно, – возразила Бэлла. – Можно, конечно, искусственно подогревать своё гнездо, устраивать чаепития. Только зачем? Ещё успеем. Мама состарится, Костька перегорит, что при его темпераменте неизбежно – вот тогда вернусь. Ты не сомневайся – я вернусь, когда придёт время.
Иван не сомневался. Горестного практицизма Оли не было в Бэлке. Она летала выше и видела ясно, как следует поступать.
– Я даже и сейчас могу остаться, – вдруг произнесла она. – Если Костя или мама попросят. Работа, Европа, перспективы – это всё такая игра! Неужели я из-за бирюлек брошу живого человека? Если только хоть кому-то буду нужна…
Она вздохнула прерывисто, точно, как Костя в пору невзгод, и закурила.
«Ну вот, и у Бэлки ничего нового», – про себя подытожил Иван. И снова, уже не в первый раз, почувствовал, что с ростом души отличительные черты, изюминки характера, всё более стираются в человеке, он становится проще и обобщённей, и больше пропитывается вечными истинами. На непосвящённый взгляд может даже показаться, что он скучнеет, тогда как в его простоте – не пресность, но соль.
– Бросай курить! Я бросил – очень нетрудно! – сказал Иван.
– Да. Хорошо, – сразу отозвалась Бэлка. – Попробую, – и потушила сигарету. – Я и сама хотела – но меня никто не просил. Если тебя просят – это намного легче, чем просто самой для себя. Так ведь?
Она взяла со стола почти полную пачку сигарет и, чуть смяв её в кулаке, положила в пепельницу, поверх окурка.
Иван не удивился. Бедная Бэлка! – думал он. – Какая бессмысленная это свобода – когда человека никто не просит вернуться, и не просит бросать курить. И какая же радость, когда кто-нибудь, наконец, его этой свободы лишает!
И тут же он почувствовал, что острое и доброе чувство, которое было у него к Бэлле, не сгинуло никуда, а спокойно теперь просыпается, расправляет плечи.
– Рада и не рада, что мы встретились, – сказала она. – Я, по правде сказать, очень тоскую. Я позвала бы тебя с собой. Или даже сама осталась. Но у тебя дела и долг, так ведь?
Эти слова она произнесла спокойно и искренне, безо всякой игры, и сразу, чтобы паузой не вынуждать Ивана к ответу, принялась рассказывать о студенте, на днях притащившем ей свой перевод Лермонтовского «Паруса» – крик измученной благополучием австрийской души.
Иван слушал, и большая нежность поднималась в нём, отряхивала долгую дрёму. Он чувствовал, как славно было бы снова попасть в Бэлкины руки. Она использовала бы свою любовь, как прибор навигации, и нашла бы им на двоих дом, дорогу и дело – точно под ритм сердец. Это был бы союз двух людей, бесконечно бережных к своему совместному бытию. Не жирное, избыточное блаженство, но ветерок счастья.
Иван знал, что всё поправимо между людьми, пока они живы. Тот давний, неудавшийся опыт его не расстраивал, наоборот, он видел в нём необходимую ступеньку. Сию минуту, не поднимаясь из-за столика, он мог бы взять и исправить жизнь. Но не имел возможности свободно распорядиться собою. Во-первых, у него была Оля. Не то чтобы Иван чувствовал на себе обязательства, но устроить свою жизнь прежде, чем она устроит свою, казалось ему вероломством. Во-вторых, бабушка с дедушкой нуждались в его полной осёдлости, тогда как Бэлла – существо перелётное.Пора было оканчивать встречу, чтобы затянутый финал не нарушил её красоты.
– Ну, мы ещё увидимся, – сказала Бэлка.
Он подумал: надо бы её обнять на прощание, к сердцу прижать, но не стал, потому что знал – мозги съедут набекрень, и потом разбирайся.
Они простились, как самые добрые знакомые. Иван не сомневался: Бэлла, как и он, довольна плодами встречи. Прошлое забыто, взаимопонимание очевидно, они другие люди, они больше не ставят точек, не торопятся и не гадают.
Потому был немного обескуражен, когда Костя сообщил, что Бэлка поменяла билет и той же ночью улетела назад в Вену «по срочным делам».* * *
Прошла пасхальная неделя и унесла с собой счастливую силу праздника.
Не то чтобы тоска – тоску Иван умел отшить, – но какая-то несветлая растерянность завелась в нём. Он опять не занимался ничем.
После завтрака, если не надо было везти Макса на занятия, он вёл бабушку прогуляться на утреннем солнышке. Они обходили вокруг дом и детскую площадку, а затем усаживались на лавочку, под деревца. И сидел Иван среди бела дня, в окружении детей и рябинок, бабушкины приятельницы здоровались с ним, соседские собаки его узнавали.
Жизнь как будто нарочно не давала Ивану работы. Менеджеры в офисе без охоты доверяли ему клиентов. Бухгалтер не одобрял стремлений Ивана вникнуть в дела. Одна только добрая сотрудница Таня иногда сама подзывала его – поправить запавшую клавишу или поменять краску в принтере.
Случалось, выйдя из офиса, богатый досугом Иван испытывал желание поехать в направлении института. Но что ему теперь было делать там?
Как-то раз он вспомнил, что Миша обещал на Пасху фантастические куличи. И хотя Пасха давно миновала, даже такой просроченный повод к встрече было жаль упустить. «Поеду к Мише!» – решил Иван и отправился на институтскую улицу. Там ждал его сюрприз.
Возле входа в «Кофейную» стояла лошадь с небольшой изящной тележкой. «Конноспортивная школа» – значилось на борту. Телега была оборудована скамеечками для пассажиров. Вот на эти скамейки, а так же между ними потный Миша в тюбетейке и вратарской, с длинными рукавами, майке грузил свой изысканный скарб.
Новоселья не раз уже приносили Ивану друзей, но отъезд, да еще такой лихой, он видел впервые.
Он остановился поодаль – подойти близко показалось ему неудобным. Оказывается, не так уж прочно было их приятельство с Мишей, чтобы Иван посмел вмешаться в этот странный перфоманс. Даже просто поздороваться было бы теперь лишним и могло сбить Мишу с его никому не ведомого толку.
«Вот и Миша, – думал Иван. – Прощальная гастроль…» Он смотрел издали, уже без удивления, и ему казалось, что он предвидел Мишин отъезд. Не бывает долго поблизости таких персонажей. Их, как Мэри Поппинс, ветром уносит.
В это время лошадь заржала. Миша встал у самой её морды и начал что-то строго ей объяснять.
«На редкость гармоничная жизнь, – думал Иван, уходя. – Одно “не знаю” перетекает в другое “не знаю”, ничего не происходит, и в то же время, всё меняется. Ах, если бы схватить и обнять эту реку!»
Заряженный романтикой Мишиного переезда, Иван в тот же вечер взялся штудировать дедушкину послевоенную книжку «Как своими руками построить дом». В этой книжке почти на каждой странице было несколько слов о Сталине. Иван читал её с увлечением, а когда прочёл всю, выяснилось, что никакой практической информации он не запомнил. В голове остались сплошь посторонние впечатления – солнечные просторы пятидесятых, молодость, физическое и нравственное здоровье, счастье труда. Ничего о строительстве!
Тогда он зашёл в магазин и купил себе новую книжку.
В тот же день на строительном рынке Иван приценился к железу, вагонке и половой доске, и привёз дедушке полный прайс-лист. Теперь они могли составить смету летнего ремонта. Дедушка хотел считать сам, но его руки не справились с мелкими кнопками калькулятора. Он сбивался, шутил, сердился, наконец, обиделся на машинку всерьёз и лёг отдыхать. Тогда на его место заступила бабушка и принялась ругать внука за нетрезвость идей и глупое потакание стариковской причуде. «Какой ему дом!» – ворчала она.
«Ничего… – думал Иван. – Наука идёт вперёд. Мы найдём какое-нибудь лекарство. Сильное лекарство от старости»…Через неделю, в самую изюминку московской весны – к распустившимся почкам, забежал Костя. Не проснувшийся толком Иван на утренней кухне слушал его монолог:
– Значит, было так! Женька звонит мне и назначает встречу. Я готовлюсь. Надеваю всё чистое. В последний раз оглядываю прекрасный мир. В общем, жду от него всего. Прихожу – а он протягивает мне руку. Ладно, говорит, хватит валять дурака. Через мелочи надо уметь переступать. Если о каждую мелочь спотыкаться – все коленки обобьёшь. Мы всё, мол, выяснили – давай работать дальше. Тем более что Фолькеру нужна поддержка. Он, говорит, весь в разрухе. В общем, зовёт меня.
– А ты что? – заволновался Иван.
– А сам как думаешь? Угадай, а я скажу – так или нет!
Иван молчал.
– Ладно! – засмеялся Костя, довольный, что сумел заинтриговать друга. – Давай лучше, записывай мой новый номер! Я тот заблокировал – всё! В новую жизнь – с новым номером! А новая жизнь такая! – И смеясь, не в силах больше держать при себе свою тайну, сообщил Ивану, что принял решение. Никакого Женьки! Никакой журналистики вообще! Он пойдёт в какой-нибудь слабенький технический институт, в инженеры. Во-первых, там нет конкурса. Во-вторых, ему необходимо укреплять разум и логику, чему способствует математика!
– И вот что ещё! – продолжал Костя, пока Иван справлялся с потрясением. – Одолжи мне свой велик! В отсутствии вдохновения организму нужны спортивные стрессы!Они вместе вышли из дому и направились к гаражу. Иван выкатил велосипед на весёлые апрельские лужи, мелкие, с голубым небом. Костя сел и, плеща небесами, объехал двор.
– Ну, пока! – крикнул он, проезжая мимо. – Спасибо! Я погнал. Я тебе позвоню.
«Неужто доедет до Краснопресненской? – размышлял Иван, стоя у гаража со свободно опущенными руками и глядя на поворот дороги, за которым исчез Костя. – Вот так-то… – думал он с чувством вины. – Взял и сбил человека с жизни…»
Оглянувшись на машину в гараже, Иван вспомнил, что и ему надо ехать – нельзя же совсем не показываться в офисе! К сожалению, слово «надо» играло скудную роль в его судьбе. «Надо бы» звучало чуть лучше, но тоже не помогло. Иван закрыл гараж и в печали, невесть откуда напавшей, пошёл на реку.
«Что, может, велик пожалел? – допрашивал он себя дорогой. – Может и тебе нужны в отсутствии вдохновения спортивные стрессы?»Потерянный, какой-то лишний, он дошёл до реки, помочил ладонь в воде и вернулся обратно. Настроение, необъяснимо рванувшее вниз, не улучшилось. К тому же, он застал во дворе ужасную сцену, касающуюся его самым непосредственным образом.
У подъезда стояла машина Оли. Макс, рыдая, выдёргивал из открытого багажника пакеты с игрушками и нёсся с ними к подъезду. Оля догоняла его и за шиворот, чуть ли не за волосы, волокла назад к машине. Макс вырывался, подбирал обронённые в борьбе мешочки и снова рвался в подъезд. Звуков, сопровождавших борьбу, Иван не распознал, он стоял поодаль, словно в снегу, глухой и ошеломлённый.
Наконец, Макс победил и скрылся. Оля с двумя дамскими сумками и рюкзаком на плече оцепенело встала у машины. Её руки шевельнулись, в них взялись откуда-то сигареты, она закурила. Издалека Иван увидел отчётливую дрожь пальцев.
Быстрым шагом он подошёл и спросил:
– Что случилось?
Его вопрос прозвучал строго, он подумал даже, что Оля не станет отвечать на такой.
– Мы переезжаем, – сказала она с хрипотцой, и прокашлялась. – Будем пока жить на два дома, чтобы Макс привык, а летом совсем переберёмся.
– А если он не привыкнет? – спросил Иван, чувствуя, как закладывает грудь ледяным кирпичом.
– Привыкнет! – отрезала Оля. – Соседство с тобой – это, конечно, большая ценность, но не всё, понимаешь? И не надо меня шантажировать счастьем ребёнка.
– А может, как раз надо? Кто же это знает наверняка? – несмело, но искренне предположил Иван.
– Я это знаю наверняка! – крикнула Оля. – А ты на меня давишь из эгоизма, чтоб было, как тебе лучше. И добьёшься ведь! Я всё раньше за тебя волновалась, думала – смоет тебя со свету вместе с твоими бабушками и дедушками. Чепуха полнейшая! Это обманное впечатление. Ты дико целеустремлённый и никогда не погибнешь. Просто цель у тебя довольно-таки странная – халявить по жизни и оказывать мелкие милости детям и старикам. Природу ещё ты любишь, да? Ну вот, у тебя и вышел в короткие сроки такой эксклюзивный рай – минимум напряга, максимум добродетели. И ты будешь жить долго и счастливо. Ты красивый, добрый. У тебя всё получается. Ты и женишься ещё на Елене Прекрасной! Так что не прибедняйся!
– Это всё не так, не о том!.. – заговорил было Иван.
Оля, полуотвернувшись, курила. Лямка рюкзака сползла с её плеча на локоть. Иван хотел поправить, но только вздохнул и, покачав головой, пошёл к подъезду.
Там ждало его спасение. Едва войдя, не успев ещё вызвать лифт, он услышал дальний топот. Это сверху бежал Макс – ему не разрешалось одному ездить в лифте. Иван взлетел по лестнице навстречу. На пролёте второго этажа он поймал горячего, потного Макса прямо в руки и отёр его щёки от слёз, как от дождя. А затем подсадил на перила, чтобы поговорить серьёзно, лицом к лицу.
– Ты поезжай спокойно, – сказал он тихо, но строго. – Вы там не останетесь. Я как раз сейчас это устраиваю.
– А это долго? – шепнул с надеждой Макс.
– Не знаю, как получится, – отвечал Иван. – Пока терпи. Но только маме ни слова, ты понял? А то всё испортишь.
И Макс, с одной стороны не доверяя, с другой – безусловно веря Ивану, поскакал вниз по лестнице, чтобы в заговорщицком настроении, без всяких капризов и слёз, поехать с мамой.Дома Иван сел за закрытое пианино и попробовал представить себе Олину жизнь: как она встаёт – с застрявшей в виске пулей будильника – и идёт мыть больную голову под душ. Потом включает на кухне фен, и сквозь его гул орёт на Макса за то, что он плохо ест и медленно собирается, и за то, что у него насморк…
Всё – дальше думать не требовалось. Иван и раньше знал, но не решался сформулировать жёстко: кто еще виноват в Олиной жизни, кроме него?
Он поднял крышку пианино и тихонько, без педали, начал играть, что помнил. За каких-нибудь пять минут музыкой продуло, проветрило его ум.
Он встал и спустился во двор. Оля с Максом ещё возились возле машины.
– Оля, – произнёс он, не слыша своего голоса. – Я прошу тебя. Ради Христа, останьтесь!Подниматься домой было тяжелей, чем спускаться. Никогда ещё в жизни Иван не брал таких крупных долгов, как сегодня. И всё же, если вспомнить Макса на лестнице – то и не жалко. Не жалко ещё и, если вспомнить…
Так, перебирая, что было ценного и за что готов платить, он смотрел из кухонного окна на пустой двор, и потихоньку вернул себе ровность духа.
Его спокойные мысли перебила Ольга Николаевна.
– Ты что это? – спросила она, войдя на кухню и встав за его спиной.
– Да ничего, – сказал Иван, отвернувшись от окна. – Ты видела, Оля с Максом переезжают! Я обещал Максу, что он не уедет.
Иван взглянул на маму и подождал. Ольга Николаевна молчала – до конца ещё не убитая, но уже готовая к обмороку.
– Знаешь, мама – мне не то чтобы хорошо… – произнёс он. – Парадокс… Мне кажется, благодаря этому долгу, я, наконец, свободен и могу поступить по совести. То есть – я как будто у собственной совести одолжил…
– Я не понимаю твоих метафор! – с напряжением произнесла Ольга Николаевна. – Ты хоть отдаёшь себе отчёт, что это такое – взять на себя заботу без любви? Принять эту вечную тревогу, лишить себя свободы передвижения, свободы чувств… Всего – понимаешь? Пойдёшь пахать с утра до ночи. Пойдёшь, пойдёшь – тебе будет стыдно, что ты плохо кормишь семью. Но учти – эту ношу никто на тебя не взваливает. Ты хватаешь её сам, как дурак.
– Она лежит на моей дороге. Причём, давно, – сказал Иван.
Больше Ольга Николаевна не могла держаться.
– Нет, это кошмар какой-то! – вскипела она. – Вместо того чтобы бороться за счастье, ты униженно озираешься – кому бы пригодиться! Кому пригожусь – с тем пойду! Это я тебя упустила в детстве! Нет-нет, молчи! – замахала она. – Молчи! Ещё одной тирады про долг я не выдержу! Ты молчи – а я скажу! У человека в твоём возрасте есть прежде всего долг перед своей судьбой! У него есть долг перед своим талантом, который он обязан реализовать, перед своей душой и, если хочешь, телом! Вот эти долги у него есть. А чтобы грехи замаливать – для этого у тебя будет старость.
Иван опустился на стул и смотрел снизу вверх на гневную маму. Она бушевала, как берёза в сильный ветер, и гнев её был родной.– Знаешь, дорогой мой, зря я молчала! Всё, чем ты тут занимаешься – никакая это не святость, это пошлая трусость жизни! – подытожила Ольга Николаевна и, довольная собственной прямотой, ушла.
Хорошо было сидеть Ивану в наступившей тишине. По стеклу заклевал дождик, но это тоже был звук тишины – он ему не мешал. Устало и ласково он следил за картинкой внутри себя: вот катит по бережку вялый физкультурник. Использует планету в качестве велосипедной дорожки. Мозги использует в качестве… Редкостная, сортовая никчемность. «Ладно, – мягко сказал он себе и ладони упёр в колени. – Поднимайся». Ноги ленились, не хотели вставать, большая грусть была во всём теле, но всё-таки Иван встал, в коридоре влез в ботинки, взял курточку и, Бог знает как, догулял день.
Надеясь, что за ночь Господь поможет, он лёг в тот вечер довольно рано и спал крепко, но недолго. Проснулся же по вине воробьёв, расшумевшихся на первое солнце. И в самом деле, ему полегчало. Как будто во сне за него решили задачку.
«Ну что? – спросил он себя, улыбаясь и чувствуя, что совершенно утратил навык думать о себе всерьёз. – Тридцатник? Не влюблён. Везучий халявщик, бездельник. Бабушка с дедом, а значит – две смерти во вполне обозримом будущем. Дети, не свои, – двое. Несостоявшийся человек!» – спокойно констатировал он и пошёл гулять.
Он шагал по бережку, под самым ранним солнцем дня, и думал о дачных холмах. Они покрыты сейчас прошлогодней пожухшей травой, полной талой влаги. Сквозь неё, как сквозь потные волосы, просвечивает тёмная кожа Земли. А дальше – лес. Вот уехать туда насовсем! Иван подумал, что когда-нибудь засядет на даче и напишет летопись о временах года. О таланте и щедрости Февраля, о героическом мужестве Марта, обо всей умной и доброй погоде, которая утешает и укрывает их. Мама, Костя, Оля и Макс будут его читателями.
Он шёл, улыбаясь, потихоньку, не дерзко, мечтая, и вышел к забору яхтклуба. Там, растолкав спящего вахтёра, за малые деньги и мобильник в залог он добыл себе лодку.
У берега воду кое-где стянул тончайший ледок – как пенка на молоке. Лодка прошла по нему игрушечным ледоколом. Крохотные льдинки, как цветы, прибились к бортам.
Выплыв на середину реки, Иван устроился поудобнее, уютно опёрся о весла, и течение понесло его.
Лодка качалась на гибкой, словно бы мускулистой спине реки, и берега сквозь сонный взгляд казались дальними странами. Это было так здорово, что Иван сильно на себя удивился – отчего, живя на реке, никогда по ней не плавал? Конечно, вода была грязная и берега застроены, но какая-то древняя суть, главная мысль осталась.
Если б не отдал мобильный, он бы позвонил маме, или Андрею, или хоть Косте и рассказал, как хорошо на середине реки! Как близко и в то же время далеко оба берега, ты имеешь к небу большее отношение, чем это бывает на суше, и большее отношение имеешь к себе самому. Под тобой нет земли, но ты человек и придумал лодку, на воде ты сам себе создал твердь.
Проплывая мимо маленькой бухточки, Иван увидел яхту, и на ней парня в зелёном платке-бандане, почти таком же, как у Андрея на фотографии. Парень бодро гулял по палубе, поднимал люки, дёргал дверцы, обстукивал борта, два раза дал гудок. Сперва Иван не понял смысл его действий, а потом догадался: парень будил свою лодку от зимнего сна! Очарованный предположением, удаляясь, Иван смотрел на зелёный платок и думал о вымирающем виде влюблённого мореплавателя и о том, как славно было бы посвятить жизнь сохранению этого вида. Ведь борются же люди за животных из Красной книги…
Вдруг ему сделалось тяжело от мыслей. Он встал и поймал лицом ветер. Каким отличным парусом он был, стоя в лодке посередине колышущегося, но прочного полотна реки!
«Этак заплыву в Берендеево царство», – беспечно думал Иван.
Через несколько минут ему надоело быть парусом. Он сел и, полудремля, наслаждаясь припекающим солнцем, отдался течению времени и воды.Его разбудил близкий звук мотора. На него мчался катер, и это был катер Фолькера. Он узнал его по золотой полосе на борту, и уже в следующий миг различил за штурвалом Женю.
Иван сжал вёсла и сразу ощутил всю нелепость сцены. Вот он сидит в лодке. Один, как дурак, посередине грязной реки, и на него несётся махина. Впрочем, катер уже сбавлял ход.
Не то чтобы Иван был подавлен случайностью. Он понимал, если разобрать случайность по винтикам, выяснится, что Женя с тоски частенько «прогуливает» лодку брата. Выходит на реку рано, до того, как проснётся население прибрежных домов, и плывет прочь от Москвы. Река не достаточно широка, чтобы можно было на ней разминуться. Стараясь принять событие со спокойствием в сердце, Иван взял вёсла и сделал вежливый «шаг» навстречу.
– Вот это да! – крикнул Женя, снимая тёмные очки. – Здравствуйте! По делам плывёте, или как?
Иван пожал плечами.
– Пригласить вас на борт, наверное, будет сложно?
– Да я у вас уже был! – отозвался Иван. Он внимательно смотрел на Женю. Рубашка под распахнутой ветровкой, голые запястья, ни одного фантастического аксессуара. Печальный отличник с бледными волосами.
– Можно с вами кое о чём поговорить? – смело начал Женя. К сожалению, из-за расстояния и ветра ему пришлось напрягать голос.
– Конечно! Пока течением не унесло – почему бы нет? – отвечал Иван.
– Я сразу к делу, вуы не против? – крикнул Женя громко – встречный ветер сносил его голос за спину. – Ваша жизненная позиция очень обаятельна! Я знаю таких людей и, в общем, люблю. У меня отец может пять лет биться над холстом, пока совсем его не запишет. Но все вы не знаете нынешнего состояния мира, и не хотите знать. Если бы вы знали, вы бы нашли лучшее применение отпущенному времени!
– У тебя какое-то ко мне конкретное дело? – спросил Иван. К несчастью, из-за расстояния интонация не удалась. Слова прозвучали резко.
– Да, у меня к вам конкретное дело! – крикнул Женя в ответ. – Нам нужен Костя. Несмотря на мои личные чувства, он нам нужен. Мне плевать на его сволочизм, я этой грязи не хочу замечать. Мне главное делать дело, поэтому я Вас прошу: повлияйте на него! К вам, конечно, с этим глупо обращаться – но к кому ещё?
Разделённые водой, они смотрели друг на друга внимательно, ища, как свести противостояние к миру. Им обоим хотелось исполнить простой закон, согласно которому два здравомыслящих человека не имеют морального права быть во вражде.
– Иван, хотите, я буду честным? – произнёс Женя. – У меня брат, я за него боюсь! Наш проект себя не оправдывает. Так что, начинаем потихоньку сворачиваться. Что-то оставим, конечно, будем спокойно работать, без наполеоновских амбиций. Но мне сейчас главное, чтобы Фолькер этот провал нормально принял – понимаете? У него же мозги набекрень! А тут Костя. Пашка его в дом допустил, песни ему свои доверил! Ну ладно, говорит, дуэль, пострелялись, но не убил же ты его! А раз не убил – где он? Почему номер заблокирован? Я ему сказал, что Костя в Австрии, у сестры. Я вас прошу, хоть ради Фолькера, скажите ему, чтоб он вернулся! Нельзя же всё время допускать предательства!«Что мне делать? Вот влип!» – между отчаянием и смехом думал Иван. Над водой пахло мать-и-мачехой – сладким ветром с полян. Хотелось скорее доплыть до берега и вернуться домой, с тем, чтобы всю оставшуюся жизнь прожить ясно, ни единым словом не ввязываясь в полемику о долгах и смыслах.
К сожалению, вот так, запросто, взять и уплыть он не мог. Женя ждал, что он скажет. Вместе с ним ждала земля, ждали тающие арктические льды, бедственные леса и водоёмы, несокращённые вооружения и неизученные вирусы, глупые подростки и Фолькер с больной головой. Все ждали, когда же Иван даст ответ и отпустит Костю заняться их нуждами.
– Знаешь что? – произнёс Иван. – У каждого человека своя совесть. Ты действуешь по своей. Но я-то не могу по твоей. Ты ведь это понимаешь?
– Да! – отозвался Женя. – Ну, до свиданья тогда, – и быстро зашёл в рубку.
Иван взялся за весла и поплыл назад, к пристани. Сердце стучало громко, как по железу, и казалось, всё, что он выбрал в жизни – выбрал неправильно. Но самое страшное – оказывается, он выбрал неправильно ещё и за Костю!
Физическим трудом избывая чувство вины, Иван продвигался вверх по течению. Парень в зелёном платке – волшебное напоминание об Андрее – всё ещё возился на своей яхте. Он взглянул на Ивана и, шагнув в рубку, дал гудок. Это было приветствие собрату по речным путешествиям. Иван бросил весла и ответно махнул рукой. И сразу стало свободно на сердце. Женина пуля прошла мимо. «Не зацепило!» – понял он.
На берегу Иван привязал лодку, чудом вспомнив, забрал у вахтёра мобильный и пошёл по протоптанной вдоль канала весенней тропке – в город.
Во дворе дома он встретил консьержку из своего подъезда. У неё была большая беда – на прошлой неделе она поскользнулась на мокром полу и сломала руку. Зато была и радость – внучка собралась замуж, и парень хороший, заканчивает институт, работает.
Иван выслушал её со вниманием, охотно принимая лекарство случайного разговора, и домой вернулся спокойный, любовно лёгкий.
Дома он вынул из холодильника апельсины, яблоки и к пробуждению мамы «надымил» в соковыжималке мутного оранжево-зелёного сока. В кофеварку засыпал кофе. Что ещё полагается к завтраку? Овсянка, подсушенный хлеб. «Вот так, – думал он с удовольствием, – овсянка и кофе везут на себе жизнь, как душу везёт тело». Иван накрыл всё, что может остынуть, и отправился к дверям маминой спальни, пошуметь чем-нибудь, чтобы она проснулась.– Мне приснился чудесный сон! – сказала мама, перемещаясь из комнаты в ванную. – Вот только что буквально – я с ним проснулась. Над садом встаёт такое рыже-зелёное облако апельсинового аромата, такое весёлое, родное, и я в нём!
– Это я сок нам выжимал, – растолковал её сон Иван и, подождав, пока мама выключит воду, сказал. – А я сегодня был на реке. Плавал на лодке… – он хотел рассказать маме о встрече с Женей, но передумал и сказал о другом. – Видел там на пристани парня… – произнёс он, встав на пороге ванной и глядя в зеркало на занятую макияжем маму. – Он возился со своей яхточкой. И я вдруг сразу как-то понял Андрея. Вот он рвётся себя исполнить, как ему на роду написано. А я что с ним сделать хочу? Какое море, какая ещё любовь – быстро к родителям, и на ночь – две строчки! Это всё равно, как если бы я захотел, чтобы в пьесе, например, «Три сестры» все до одного актёры вышли на сцену Тузенбахами. Очень стыдно.
– Ну а чего же стыдно? Раскаялся – молодец! – произнесла Ольга Николаевна, подмахивая ресницы. – Ты бы сделал мне крепкий кофе. А то я сплю.
– Уже есть тебе кофе! – с улыбкой объявил Иван. – А ещё знаешь, с кем встретился? – всё-таки не сдержался он. – У нас не река, а какой-то Невский. Плыву, а мне навстречу Женя на катере. Ну, Костин Женька. Стал меня стыдить – почему я сам не спасаю мир, и Костю не пускаю. А что я могу сделать, мама? Я не верю в большие дела! Мне кажется, все они… как это сказать? – «от лукавого» что ли. Вот в тунеядство моё я верю! – продолжал он, улыбаясь от души. – Верю в лес, в огород, верю даже в строительство зимнего дома – надо только отклониться от тунеядства и чего-нибудь подзаработать.
На кухне, у окна, он сложил руки биноклем и, прицелившись, различил на вымытом асфальте улицы розовый фантик. Затем медленно поднял «бинокль» и посмотрел вперёд и вдаль.
– Ну что, видно что-нибудь? – поинтересовалась мама, садясь за накрытый стол.
– Ещё бы! – сказал Иван.
Над неровным забором домов, небольшую полоску заняв у неба, светло зеленели тополя, их сменяла дымчатая синева туч.
Он любовался и думал, что мирным взглядом в окно, безо всяких международных усилий, можно будет однажды спасти всех больных, потушить пожары и войны, унять отчаяние.* * *
И он повеселел снова. Лето, ещё не вступив в права, издали поддерживало его. В дачной зелени Иван надеялся отмыться ото всех неясностей и больше не прикасаться ни к чему, что лежит за пределом главных жизненных обязательств. Никаких институтов, Жень, Маш, Фолькеров. «Ну а как не прикасаться? – тут же подумал он. – Что, и Костю выгнать?» Выгнать Костю было нельзя, он входил в Главное. А значит и всё, что он притащит с собой, придётся пустить в дом. И всё-таки, Иван решил крепко положиться на лето.
В последние дни апреля, с лёгкой душой отпустив персонал на майские праздники, он поехал на дачу. Шины хрустели по лужам, затянутым утренней льдинкой. Родственники остались дома. Дедушка рвался присмотреть за работой внука, но его удержали, и Иван приступил к стройке один.
Он начал с того, что вытащил раскладушку, настелил курток, чтоб над студёной землёй не мёрзла спина, и пролежал под небом до обеда. Птицы пели над ним лучшие песни земли, и ни у одного из соседей не заводили музыки.
А потом за забором протрубил грузовик – привезли заказанные накануне материалы. Пришлось подниматься и объявлять сезон строительных работ открытым.
«Что же они такие длинные! Хоть бы в половину!» – негодовал Иван, таская на плече прогибающиеся доски, и до вечера еле успел всё разместить под навесом.
В тот день, не считая дневного блаженства под небом, было ещё много такого, ради чего стоило жить долго. Иван позвонил своим и обрадовал дедушку докладом о качестве доставленной вагонки, вроде бы неплохом. Затем он ужинал на крыльце – лицом к лицу со звёздами, и на сон грядущий, без малейшей запинки сложил четыре строфы в честь Двадцать девятого апреля.
На следующий день он проснулся от стрельнувшего в комнату солнца, умылся, живо передвинул мебель и безо всякого завтрака приступил к разрушению старого. С удовольствием Иван обдирал обои, и целые стенды давнишних газет открывались ему. Он ими зачитывался. Под газетами обнаружилась фанера в ржавых потёках вокруг гвоздей. Когда он снял её, из стен посыпалась труха старого утеплителя.
Пока Иван отдирал, подметал и мыл, прошёл день. А там настал следующий. На доски следовало закрепить утеплитель, взятый с офисного склада, и уже сверху обшить вагонкой. За кочевым костром холодной ночью Иван определял фронт работ на следующий день и чуть не плакал над своей черепашьей скоростью. Ему хотелось сделать скорее. Постепенно спешка его переросла во вдохновение. Иван раздвинул края рабочего дня и трудился над комнатой, как над главой романа, добиваясь от стен незримого очарования, какое сразу почувствуют и мама, и бабушка. Вскоре, правда, он догадался, что очарование зримо и кроется в подборе рисунка досок.
Изредка распрямляясь от работы, Иван смотрел в окно на синюю даль холмов. В последние годы он стал опасаться, как бы красоту не растащили на коттеджные посёлки. Хотелось самому, первым, купить эти холмы и дать им вольную.
Работа на воздухе, с инструментами и доской, меняла его. Он стал внутренне лёгким, сильным. Тёплые городские привычки сами собой отпали. Иван больше не накрывал красиво стол, а ел кое-как – на крыльце, на коленях. Забыл, что по утрам надо пить кофе, и совершенно перестал волноваться, порядок ли на кухне и в спальне.
За работой он не скучал. Близкий лес читал ему вслух свои стихи. Иван их понимал и задумывался даже о переложении на русский. В перерывах между работой он заходил в лес, как в душ, – смыть жар труда, и всегда возвращался с добычей. Достаточно было сорвать всего одну еловую хвоинку или одну ивовую пушинку, чтобы стать обладателем целого, звучного лесного аромата. У него в кармане набралось вдоволь подобного сора. А однажды он выпутал из еловых лап длинную берёзовую прядь. Это была тонкая и гибкая ветвь без листьев, около полутора метров в длину, с бордовой кожицей в крапинку. Видно, ветер её сорвал в ту пору, когда ещё не набухли почки. Иван взял эту нежную ветку, и почувствовал растерянность – как если бы он держал смычок от удивительного инструмента, но не знал, где найти то, на чём им можно сыграть.
Лес с первой зеленью умиротворяюще действовал на него, был при нём, как большой спокойный друг. И вдруг, в одну ночь, всё встало с ног на голову.
Однажды за поздним ужином на крыльце Иван прислушался к звону леса и понял, что готовится праздник. Ему сделалось любопытно. Он вышел к опушке и на десять шагов окунулся в рощу. Чёрное пространство вокруг него сверкало звуками. Иван понял, что попал на таинство, не предназначенное для ушей и глаз человека. Но, может быть, майский лес позволит ему постоять на пороге?
Он остался под сенью берёз и елей, оглушённый многоголосьем. Только гулкий бэк-вокал кукушки был отчётлив, остальное сошлось в единый вспыхивающий узор.
Внезапно ему захотелось примазаться к славе оркестра. Он свистнул – вышло не слишком ловко. Подлаживаясь, посвистал еще, и, забыв о времени, весь ушёл в подражание. Наконец, Ивану почудилось, что талантливый коллектив принял его. Ободрённый, он отозвался на соловьиную реплику. Ещё на одну – и опомнился. Но чувство причастности лесному оркестру осталось.
Несколько ночей Иван спал, словно через прозрачный тюль, донимаемый лесными ариями, и только тем сумел пересилить майское буйство леса, что перебрался из восточной, «лесной» мансарды в западную – «огородную».
Чтобы окончательно справиться с соловьями, он нашёл себе книгу и читал её в постели, пока сон не сваливал его. Это было «Слово о полку Игореве» – брошюрка советских времён из серии «Классики и современники», сразу распавшаяся по страницам.Так, между природой, книгой и молотком, Иван провёл почти две недели. Причём, отдал работе так непривычно много себя, что почувствовал: душа стала от физического труда, как ветка с прочной кожей, которую не так-то запросто теперь и поранишь, тем более, сдерёшь.
Он бы остался ещё. Но в одном из обычных утренних созвонов с родными, мама обронила полуобиженно:
– Ты вообще-то домой собираешься? А то мы тут еле держимся!
Иван был поражён.
Как будто проснувшись, он осмотрел комнату. Три стены были обиты вагонкой, одна оставалась в листах утеплителя. Сколько же он здесь пробыл? А сколько они там, в Москве, пробыли без него? И ему показалось, что вторая величина значительно больше первой.
Он укрыл доски полиэтиленом, чтоб они не отсырели под майскими ливнями, и помчался в Москву.
Над зелёным полем с жёлтыми букетиками сурепки трепетали белые бабочки – штук сто. «Материю» эту Иван взял бы в городскую квартиру, на занавески. «Что за благословенное время – лето!» – думал он растроганно, никаких других соображений не находя в опустевшей своей голове.
Тогда же, по дороге домой, ему вдруг страстно захотелось поехать в Вену. Летний город, знакомый, но не узнанный ещё до конца, поплыл перед ним. И какая-то надежда мелькнула, что всё у них сложится – у мамы, у Оли, у Кости, и у него.* * *
– Ух ты! – воскликнула Ольга Николаевна, увидев на пороге весёлого загорелого сына. – Что там у тебя произошло?
– Ничего! – отозвался Иван, складывая сумку с плеча и крепко целуя маму. – Помахал молотком, разогнал кровь! Может, поеду летом в Вену.
– Рада за тебя. А я тут с ними чуть с ума не сошла. Что не сделаю – всё не так! Конечно – ты им позволяешь себя беспочвенно упрекать, выполняешь маразматические пожелания, коробочки из-под сметаны не выбрасываешь, и остальная чушь. А я так не могу! Я всё-таки человек, и не могу, как раб подчиняться!
– Просто у тебя очень юный характер, поэтому тебе трудно! – примирительно заметил Иван. – А я большую комнату почти закончил! И террасу, – похвалился он. – Там на два дня работы осталось. Давайте – собирайтесь, можем хоть завтра поехать. Погода хорошая. А в офис я прямо с дачи буду ездить.
– Ты знаешь, – сказала мама, – что-то меня пока не тянет на дачу. Вы если хотите – поезжайте. Вон, дедушка рвётся…
Иван потом поприглядывался к маме – не обидел ли он её чем? Но нет, сложив с себя попечение о родителях, мама обрадовалась первой зелени и запела, как птичка. Она пела «Севильского цирюльника» и, оказывается, на вечерних прогулках её теперь сопровождал полковник с соседней улицы, тоже при старушке-матери. Ничего особенного, но у Ольги Николаевны вновь появился повод одеться с изяществом и из дюжины пар босоножек тщательно выбрать одну, под костюм. Иван любовался неисправимой маминой лёгкостью.
Поговорив с мамой, он пошёл проведать бабушку с дедушкой, и сразу рухнул со своей радостной высоты. За какие-то десять дней они состарились так заметно! – или это отвыкли глаза? Никакой Вены не осталось в его голове – вымело в миг. Зачем он поедет? Того, что ему нужно, тех молодильных яблок, в поездках нет. С тяжёлой душой Иван сел за стол, и пока пили чай, бабушка упрекала его: что уехал надолго, что дедушке скучно без внука, что мать отбилась от рук и, того гляди, снова рванёт гулять по «европам». Дедушка тоже был в обиде. Оказывается, внуку не следовало прибивать без него вагонку, а надо было лишь подготовить стены. Тогда бы они вместе взялись. Ведь каждому ясно – обшивка идёт ровнее, когда вдвоём.
«Ну, кто ещё на меня обиделся?» – поразмыслил Иван и, решив не прятаться от возмездия, вечером того же дня позвонил Оле.
Как он и ожидал, Оля встретила его немилостиво.
– Ты бы хоть предупредил, что уезжаешь. Хорошо ещё мама отпросилась Макса водить, – сказала она.
– Так ведь праздники… – попытался оправдаться Иван.
– Праздники, да. Ну а потом? Ладно, – сжалилась Оля. – У них завтра репетиция утренника. Сможешь? У Макса там роль зайца. И фотоаппарат возьми.
Иван был рад искупить вину.Он зашёл за Максом в назначенный час, и, держа в одной руке его руку, в другой – пакет с костюмом, спустился во двор. Макс был мрачен и жаловался совершенно по-взрослому, что роль зайца – это идиотизм. Иван утешал его, как мог. «Давай считать, кто больше! – предложил он, когда они сели в машину. – Ты джипы, я – букашки».
За бессмысленным этим занятием они весело провели полпути, как вдруг его взгляд споткнулся – он и не понял сразу, обо что именно. Иван уставился на возникшую перед ними тонированную «шестёрку» и не поверил своим глазам – на заднем стекле, куда обычно наклеивают предупреждения в виде буквы «У», «туфельки» или «ребёнка в машине», сверкало два нецензурных слогана, обращённых к сотоварищам по движению.
Макс принялся разбирать слова.
– Подожди-ка!.. – загораясь, проговорил Иван, и, перестроившись в мелькнувший пробел, на светофоре влез впереди «жигулёнка». Манёвр был невежливый – ему погудели.
– Ты зачем его обогнал? – восхищённо завопил Макс.
– Сейчас узнаешь, – пообещал Иван. – Пристёгнут? – и мельком оглянулся на Макса. – Смотри, он дистанцию не держит! – с удовлетворением произнёс он, глянув в зеркало.Это было верное наблюдение: когда на первом же разгоне Иван дал по тормозам, водитель «Жигулей» беспомощно вплыл ему в бампер.
Удар был не сильный – весело чпокнуло, и они встали.
Иван включил аварийку.
Он бы с удовольствием вышел и разобрался на кулаках, получил бы свой фонарь под глаз и уехал на битой машине, с чувством выполненного долга. Но устраивать мордобой при Максе было нельзя. Пришлось сподличать, запереть все двери и вызвать гаишников.
«Ну что, поробингудствовал? – для порядка поддел он себя. – Бездельник!»
Ему было вовсе не страшно, а, напротив, забавно смотреть, как колотится в дверцу молодой бритоголовый дурак. Несмотря на наклейки, и на весь кавардак, никакой особенной неприязни он к нему не испытывал – кто без греха? Но всё-таки поделом. В другой раз не будет сквернословить при детях.
Макс, заразившись его безмятежностью, показывал дураку язык.
ДПС приехала быстро. Вышел юный сержант, и под гром и молнии владельца «Жигулей» осмотрел повреждения.
– Дистанцию не держите? – спросил он, перебивая вопли.
– Абсолютно не держит! – подтвердил Иван. – И вы, пожалуйста, наклейки с заднего стекла у него снимите. Но сначала запротоколируйте.
Сержант взглянул на заднее стекло, сосредоточенно кивнул и стал что-то записывать в бланк.
– Это зачем? – робея, спросил жигулёвец.
– А я в суд на тебя подам, – спокойно отозвался Иван. – За то, что ты всю дорогу оскорблял меня и моего ребёнка.
Слова Ивана опечалили парня. Тот бродил вокруг обеих машин и шёпотом ныл ругательства. Ивану хотелось утешить его: «Да ладно, не подам. Шутка», но из педагогических целей он смолчал.Как выяснилось, ущерб, понесённый Иваном при столкновении был невелик – немножечко треснул бампер. Но время оказалось упущено. На репетицию они опоздали, и Макса, временно избавленного от роли зайца, потянуло в пиццерию. В уютном её закутке, наслаждаясь радостной кухней Италии, они обсуждали вопрос: говорить ли о «подвиге» Оле?
Оля нагрянула вечером. Иван открыл ей дверь и отступил, сбитый волной эмоции.
– Как ты мог устраивать аварии, когда с тобой ребёнок? А если бы удар был сильный? – крикнула она, движением кисти словно бы что-то швырнув ему в лицо, и задала ещё много обвинительных вопросов, и ещё много обвинительных жестов совершили её возмущенные руки.
Иван молчал, оглушённый внезапностью атаки, и вдруг, на каком-то пассаже, внятно услышал, как Оля горда им, согласна с любым его действием, предана на века и бушует, только чтобы излить переполняющее её восхищение.
Иван не знал, как ответить на столь внушительный дар.
– Давай, я как-нибудь искуплю вину! – наконец, сказал он. – Я могу, например, исполнить желание. Практически любое, если ты будешь умно загадывать.
– Умно – это значит, с учётом твоей низкой волшебной квалификации? – уточнила Оля. – Хорошо, я подумаю!И хотя Иван надеялся, что шутка сойдёт ему даром, через полчаса у двери раздался знакомый Олин звонок, чуть более лиричный, чем всегда.
– У меня есть желание! – сообщила она безо всяких вступлений. – Я подумала: чего мне надо для счастья? Надо, чтобы из памяти стёрлась вся дрянь – это первое. И второе – чтобы всё хорошее никуда не делось. Можешь ты это сделать?
Иван хотел отшутиться, но Оля смотрела на него неотрывно, как на вечный огонь.
Тогда он позвал её на кухню, включил чайник и, ни говоря ни слова, поставил на стол чашки и сахарницу. Оля молчала тоже.
Кипение чайника, как песочные часы, отмерило время раздумья. Наконец, Иван заварил чай и, сев напротив Оли, произнёс:
– Я так думаю, всё плохое стирается раскаянием и прощением, это понятно. Плохое так и так в вечность не пустят. Не пройдёт оно фэйс-контроль. А хорошее – наоборот. С ним пойдём. Так ведь и сказано – копите сокровища на небесах… Так что, в общем, не о чем волноваться! – заключил он неуклюже, но бодро.
– А почему ты решил, что всё это так? – спросила Оля, грея свои ледяные руки о горячую чашку. – У тебя есть достоверные сведения?
– Достоверных сведений нет, – сказал Иван. – Но ведь мы можем надеяться…
Оля смотрела настойчиво. Видно, ей всё-таки хотелось достоверных сведений.
Решающая реплика по-прежнему была за Иваном. Уже много раз, почти каждую встречу с Олей, он чувствовал этот «матч-бол» – возможность одной фразой завершить старую жизнь и открыть новую.
«Потом… – решил он, откладывая подвиг. – Не сейчас. Позже…»
Допивая чай, они поговорили о школе, в которую на будущий год отправится Макс. Наконец, Оля вздохнула:
– Ладно… Спасибочки за чаёк. Пойду спать, – и, поднявшись, направилась к двери.* * *
Со всеми вещами, лекарствами, с прибором для измерения давления и снятыми с подоконников ящиками рассады, бабушка, дедушка и разочаровавшаяся в полковнике мама открывали дачный сезон. В тёплую субботу без дождя Иван перевёз их. Началось ещё одно райское лето его жизни.
На работу он уезжал после завтрака и возвращался к ужину. К пробкам относился по-родственному, потому что и сам не любил торопить жизнь. Удовольствие же, какое доставляло ему привозить из пекарни, что возле работы, пакет душистых булок на всё семейство, стоило того, чтобы ездить за ним в Москву.
В свободные от офиса дни, под присмотром деда, он обшил остаток стен, так что бабушкин день рождения праздновали на обновлённой террасе.
Хороший ли это знак, Иван не гадал. После всех тостов, после чаепития и мытья посуды, он подошёл к имениннице и просил её совершенно серьёзно, чтобы она жила до ста лет, на что бабушка с ответной серьёзностью согласилась.
– Только, – сказал она, – ещё пойди договорись с дедом.Как хорошо расположился Иван в этом июне на даче – всей душой! Его несло на луг, и в лес, где ещё не было никаких грибов. Носило его и на рыбалку. На велосипеде он уезжал к озеру и безо всякой удочки смотрел в туман. Он так и гулял бы напропалую, но его держал ремонт. На очереди была мамина спальня. Сдвинув мебель, он начал перестилать пол.
К тому же, Ивану приходилось выполнять бабушкины многочисленные распоряжения и просьбы. Бабушку расстраивали заросшие грядки, не ухоженные должным образом клумбы, сор на дорожках, облупившийся газовый ящик, беспорядок в дедушкином сарае. Все эти поводы для огорчений Иван был призван устранять, и выходило, что его день плотно забит смешными делами. Доказывать их неважность бабушке он не пытался, поскольку знал: в них заключен моторчик её жизни. Чем больше находилось дел, требующих бабушкиного руководства, тем лучше её сердце перегоняло кровь.
Смирение давалось Ивану легко. Он с улыбкой смотрел, как надув губы, по-детски, протестует против бабушкиного порядка мама. «Мы можем позволить себе купить огурцы в магазине! И ящик красить я не пойду!» – заявляла она, хлопая в подростковом запале трескучей калиткой. Потом Иван находил её в чистом поле, в белой шляпе.
Изредка на юную строптивость Ольги Николаевны набегала стариковская мудрость. «Всё понимаю», – говорила она, и, вспомнив, что поставила себе цель напитывать дом оптимизмом, шла мириться с бабушкой.
Клубничный мусс и составление планов примирения с отцом – вот были её дела.
К тому же, в этом сезоне Ольга Николаевна великодушно избавила сына от магазинной повинности.
В их дачном магазинчике обитала достопримечательность – полоумная Глаша. С детских лет она сидела возле прилавка на стуле. Теперь это была женщина за тридцать, выглядевшая болезненно и старо. Нынешним летом, в первый раз зайдя в магазин, Иван был изумлён выражением её лица. На нём появилась улыбка, неясная, но направленная точно по адресу – в ответ на чей-нибудь взгляд. Это была сострадательная ухмылка больного ангела, знающего беду человека.
– Мама, ты помнишь эту дурочку, Глашу? – спросил Иван, вернувшись. – Что с ней стало? Я не пойду… – сказал он, и магазин безропотно на себя взяла мама. Тем более что ей так и так было нужно выходить в свет.В последней трети июня набежали тучи, Иван обрадовался им, как всегда найдя в пасмурной погоде друга по сердцу. Устав возиться с досками, он шёл на мокрый луг – оглядеть несолнечные дали. Плохая дачная погода оказалась богата воспоминаниями. То наплывало, как он встречал со станции маму, то – как готовились с Андреем к институтским экзаменам. Это было хорошее время, все душевные кости тогда были целы.
«Человек с целыми “костями” в любую погоду видит солнечную долину и может до неё дойти. Тогда как человек с травмами никуда уже и не рвётся, потому что трезво оценивает собственные возможности – не любить горячо, не ходить далеко. Дай Бог прожить в тишине, беречь потихоньку близких», – говорил он маме, и мама смеялась над ним, потому что тысячу раз всё переворачивалось в её жизни, и ни одна точка не оказывалась последней. Иван и сам над собой смеялся. Он знал всё это и без мамы, но ему доставляло радость послушать её возражения.
Что касается Андрея, о котором на даче Иван думал всегда, потому что Андрей, дача и детство были для него синонимичны, – тот звонил периодически. Он начал впадать понемногу в чувство «ошибки», всё стало ему не так – жара в Париже, дурацкий бизнес, бессмысленные знакомства и дружбы. «Я думаю, – жаловался он, – мне надо ехать домой. Не знаю почему, но – пора, надо. Может, приеду в отпуск». Говорить о своём новом доме у него не было настроения. «Не знаю, что это. Не понимаю. Не хочу», – отмахивался Андрей. Иван не настаивал.
Из своей восточной башенки он оглядывал крыши и лес, даже клинышек синей русской дали был виден в окошко. Глядя на этот кусочек вечности, на неоспоримое свидетельство Божьего бытия, он недоумевал: отчего так быстро человек меняет свои «правды»? Как же так – не прошло и года, и Андрей уже усомнился в море! «Наверно, – решил Иван, – дело в том, что его друг, как и мама, ещё очень молод». Дрейфуют материки, из подводных вулканов рождаются острова. Следовало ли из этого, что он, Иван, стар?
Половину лета Иван толком ничего не слышал о Косте. Они изредка созванивались. Голос Кости был собран и ясен. «Занимаюсь, – говорил он. – Живу нормально». И Иван не волновался, потому что подспудно знал: трудный подросток сидит на диване с яблоком и сигаретой, и зубрит английский к экзаменационному тесту.
В последних числах июля Костя позвонил ему и назначил свидание в странном месте – на восточной ветке метро.
Когда Костя вышел из перехода, Иван его не узнал. Мрачный, трущобно-петербургский стиль подевался куда-то, не сохранился даже в волосах. Костя был подстриженный, в весёлой зелёной футболке с рыжей каймой, бледный, но как будто внутренне потеплевший.
– Я тебе кое-что покажу. Пошли! – сказал он.
И они зашагали по грязным скверам и загруженным улицам, в направлении, которое Костя с довольным смехом скрывал от него. Вскоре Иван обнаружил, что они движутся в толпе попутчиков. Никогда ещё он не видел столько сиротливых и странных мальчишеских лиц. С пивными бутылками в грязных кулаках, одетые вразнобой, длинноволосые и стриженные под «ёжик», они текли в одном с ними направлении – вдоль дымной трассы к парку.
– Послушай, куда ты меня тащишь? – в очередной раз спросил Иван. – Это что, студенческий городок?
Он почти угадал. Скоро они вошли в ограду, и на дверях скучного здания Иван, леденея, прочёл название одного из множества технических вузов Москвы. Тут Костя подтолкнул его к увешанной листами доске и показал на список.
– Ты что, поступил сюда? – растерялся Иван, найдя среди прочих фамилию Кости. – Ты и математику сдал? Что ты здесь будешь делать? С кем ты будешь общаться? – он риторически огляделся. – Ты вообще, осознаешь, что на что променял?
– Конечно! – заверил Костя. – Я променял яркую жизнь планеты на скромный труд и твое приятное общество. И ты знаешь, что это не с бухты-барахты. Это взвешенное решение. Скалы Кавказа были моими гирями!
Смеясь и торжествуя он смотрел на обескураженного Ивана.
– Ну, ты чего? Ты же рад! Ты же испытываешь за меня зверскую гордость!
– Может быть, – произнёс Иван. – Ты не знаешь, есть тут какое-нибудь приличное заведение? Я не могу соображать стоя.
Они набрели на стеклянную кафешку и сели за столик.
– Ну а родственники что говорят? – тревожно спросил Иван.
– Мама рада! – заявил Костя, изучая меню. – Макарон хочу, макарон! – воскликнул он. – И пива. Ну, пива, ладно, пусть будет ноль три. Мы трезвеем и начинаем ценить ясный рассудок. Ну вот – мама рада. Бэлка тоже рада. Она и сама у нас чудит – бросила курить. Ищет себе по Интернету работу в Москве. Думаю, всё это с тайной мыслью о тебе. Но это ладно, речь пока не о вас. Так вот, она говорит – это лучше, чем сборище снобов. Я не смогу здесь набраться дурного, потому что моя голова располагается в сферах, недосягаемых для моих будущих сокурсников. А вот на журфаке – мимо моей башки летали бы метеориты и пули с ядом. Так что Бэлка довольна. Да и я доволен.– Ну а как же призвание? – не унимался Иван. – Послушай, это ведь я тебя сбил?
– Да ты тут причём! – отмахнулся Костя, уплетая свои макароны. – У меня был великолепный год! Теперь я знаю, как это – взять и одной своей прихотью разбить будущее двоих людей. Такой опыт дорогого стоит, ведь правда? Интересно, чем мне судьба отплатит за это? – он улыбнулся. – Я боюсь, но не очень. И потом, были и хорошие уроки. Я, во всяком случае, больше не соблазнюсь тратить себя на каком-нибудь грязном поприще, вроде политики или общественной деятельности. Там ведь человек идёт в разнос – амбиции растут, всё искажается. А я хочу сохранить свой взгляд в чистоте. Я ведь и так уже испорченный человек – всё знаю, чего и не надо. Как испорченному человеку создать доброе? Но остались же во мне какие-то хорошие крохи. Вот их я и пущу в дело.
Иван смотрел с удовольствием, как бодро Костя уминает свои макароны.
– О чём же ты будешь писать, если тебе не мила журналистика? – спросил он.
– А о чём бы ты написал? – бросая еду, спросил Костя. – Скажи! Мне нужно!
– Я бы ушёл вообще в другую плоскость, – отозвался Иван, подумав. – Написал бы подробно о каком-нибудь ерундовом занятии. Как человек делает, скажем, резной балкончик.
– О себе, то есть!
– Ну нет, у меня руки кривые, я вагонку-то прибиваю косо… – покачал головой Иван и, подумав ещё, произнёс, – может, написал бы какие-нибудь простые смешные рассказы. А вообще я бы лучше стихи писал. Вот, как у Окуджавы: «Мне нравится то, что в отдельном \ Фанерном домишке живу, \ И то, что погодам метельным \ Легко предаюсь…» – Вот что-нибудь такое.
– Ну, правильно, – кивнул Костя, – сидеть в домишке и предаваться погодам – это то, что ты умеешь лучше всего. Пиши – у тебя получится. Осенью дам тебе мастер-класс.
– Спасибо, – сказал Иван. – Ну, а у тебя какая задумка?
– О, да у меня их куча! – воскликнул Костя. – Я вообще хочу, чтобы под конец жизни у меня был такой «донжуанский список» – перечень всего, что я любил, всех людей, всех погод, всех мест. Это будет мой жест любви – упомянуть! И никакого дёгтя! Пусть будет просто ложка лучшего цветочного мёда – и всё! Мёда на целую бочку на земле вряд ли насобираешь. Так мне и ложки довольно. С ложкой этой в рай пойду!
– Это всё хорошо, жест любви, ложка мёда, – сказал Иван, совсем размякший от чувства Полной Победы Добра. – Но зачем тебя в инженеры-то понесло?
– Я ж тебе объясняю: для чистоты! Не мутить чтобы душу!На ближайшие пару недель Костя собирался уехать к Бэлке.
– Надеюсь, что вернусь с большей ясностью! – сказал он.
Они вышли на улицу и оглядели окрестность. Костины возможные однокурсники стаями и поодиночке тянулись к метро. «Много серости, грубые, масляные ребята, – оценил Иван. – Но с ними Косте не будет трудно – он гуманист. Некоторых из них он полюбит и возьмёт в свой “этюдник”».
– Да нет, я потом на метро. У меня тут ещё дела, – сказал Костя, когда Иван предложил его подвезти. – У меня много дел. Я всего себя застроил. Надо ведь Машку как-нибудь перебить…
– То есть, как перебить? – изумился Иван. – Вы что, поссорились?
– Я не ссорился, – сказал Костя. – Но она как-то без энтузиазма. Не звонит, и так смотрит – как будто платочком машет с корабля. Я подумал: ну что я! Всё человеку поломал и теперь лезу! В общем, так…
Иван слушал его хрупкий, уже надтреснутый сигаретами голос, как песню. «Ну что же… – думал он. – Есть грустные песни, они красивы, их поют. Перевести их в мажор невозможно».
– Ладно. Прилетишь – звони, – сказал Иван. Прощально он смотрел в Костино лицо и желал ему беззаботности, такой, как его нынешняя одежда – зелёная майка, рыжий шов.* * *
Волнами средней величины колыхалась жизнь. Иван подметил, её накаты перекликались с временами года. Эмигрантская тема мамы и Андрея отболела в осенне-зимний сезон. Костина путаница разрешилась к Пасхе. А мелочи вроде загула в культурологию и вовсе казались ему теперь песочком прошлых столетий.
Он ждал и любопытствовал, чем на этот раз захлестнёт? Ему не было боязно – он надеялся на бережность судьбы, потому что и сам давно уже не расставлял локти.
И действительно – захлёстывало, ещё как – но всё больше сказочными вещами. Как-то раз Иван проснулся ночью и увидел в окно мансарды гигантскую новогоднюю ёлку. Точнее сказать, это была липа, сплошь усеянная мягкими серебряными огоньками. Они светились изнутри кроны. В изумлении он созерцал чудо, пока не догадался взглядом обогнуть липу и увидеть справа и сверху звёздное небо.
Иван спустился в сад, нашёл открытое место и оглядел космос. «Надо же, – думал он, – А я и забыл, что мы – летим!»
От этой мысли настроение его сделалось превосходным. На несколько минут всё трудное, с чем боролся или смирялся, от чего не хотел жить, предстало в другом масштабе. Это был утешительный, счастливый масштаб, стирающий все огрехи. В самом деле, что ж они все так трясутся над своей одной триллионной в триллионной степени и так далее!..
И тут же Иван усмехнулся, опровергая себя. Интересно, как это можно не трястись над близкими? Нет, ребята, любовь – это штука посильнее какого угодно космоса, плевать ей на ваш масштаб!
Удовлетворённый победой любви над астрономией, Иван вернулся к себе в мансарду, посмотрел ещё на липу в сквозных огоньках и мирно уснул.
Далёкий магазин люстр – звёздное небо августа – ещё несколько ночей до прихода циклона светило ему, но больше он не соблазнялся тайной, а смотрел на него, как на душистые ночные цветы.
И как-то само собой его лирический взгляд нашёл себе дело. Однажды утром Иван взял с дедушкиного стола коротенький карандаш из «Икеи», более или менее острый, и нарисовал липу в огоньках. Передать впечатление звёздной ночи не удалось, но он не расстроился, а упростил задачу – отыскал блокнот в клетку и нарисовал кузнечика. И дело пошло.
Привычный режим «совы» не подходил для такого солнечного дела, как живопись. С тех пор целую неделю он вставал на рассвете, насильно себя вынимал из молочного сахара сна, из сливочной его помадки. Нос не чуял, мысли были чисты и тупы: «Здравствуй, утро!», «Развеет или затянет?»
Наконец, Иван отходил ото сна и улавливал какой-нибудь яркий запах – сырой земли, кофе, флоксов. Тут уж можно было взять карандаш, листок и заняться делом художника.
Это было то самое маленькое творчество, которое «благословил Бог». Оно нравилось ему ещё больше, чем садоводство. Потому что в садоводстве практическая цель затмевает бескорыстный интерес друга, какой способен проявить художник к былинке или жуку.
Вскоре Иван открыл, какой надёжный характер у подорожника, констатировал глупое выражение «анютиных глазок», и понял, что самое изысканное существо среди цветов – полевой алый мак, самурай и инфанта в одном лице, похожий чем-то на Бэлку. Иван был так поражён тончайшим огнём его крыльев, его чёрным взглядом, что не стал рисовать, и сбежал в смородину. Очутившись в гуще куста, он впервые узнал, что на одной гроздочке может оказаться целых четырнадцать ягод.
Увлечённость его длилась неделю, а потом что-то устало в душе, Иван почувствовал механистичность штриха, жадность поскорее закончить – и оставил совсем.
Никакого костра он не растопил своим августовским блокнотом, но и не сохранил, а потерял где-то среди дедушкиных журналов с телевизионной программой и брошюрок по садоводству. «Найду когда-нибудь, опять порисую», – с удовольствием загадал он.Каждый день августа Иван запомнил, как особенное событие: если в том дне был дождь, ему ничего не стоило вспомнить, когда он начался и чем закончился – туманом ли, холодом, радугой, или ясным тёплым солнцем. Если была работа по саду – он мог запросто рассказать, чего, где и сколько пропололи, пересадили, собрали.
По сути, август был точным повторением двух предыдущих месяцев, но близость осеннего края придавала ему остроту.
Теперь под вечер Иван всякий раз мучился – как излить свою любовь к такому хорошему дню? Что этому дню подарить, и как это сделать? Слать вдогон закату воздушные поцелуи? Сложить серенаду?
О счастье! Никогда не кончайся! Пусть ветер не переменится!
Так, посмеиваясь над собой, он искал и всё-таки находил выход своему восхищению. Например, в честь пятого августа им была сплетена корзина из лоз дикого винограда, который ему было велено прорядить. Корзина вышла неловкая, но оказалось, в неё всё же можно положить яблоки.
Несколько дней он прославил велосипедными подвигами, мерил овражки, сменил две шины и был особенно рад, когда однажды не одолел брёвнышка и рухнул в ручей.
И пинг-понг, и бадминтон по голубому небу – всё это тоже было во славу лета.
Когда мама была не в настроении, Иван играл с неожиданно повзрослевшей соседской барышней Дарьей. Он нисколько не любезничал с ней, ленился лишний раз слазить в кусты за воланчиком, и был совершенно обескуражен, получив на прощание гордый взгляд через линзу слёз. На остаток лета родители увезли Дарью куда-то то ли в Грецию, то ли в Турцию. Иван вообразил себе тёплое море, но ничто не шелохнулось вслед. Его сердце было окончательно отдано подмосковному лету.
С отчаянием он выбирал дни, чтобы съездить в офис, каждый было жалко! И тот, с дождичком, и этот, ясный, и жаль пропустить обещанную грозу, и варку яблочного варенья. Когда же Иван, наконец, решался и ехал в Москву, настроение бывало испорчено. Он становился зол и безудержен, как сказочный герой, разлучённый с возлюбленной. О, как, оказывается, ненавидел он летние города! Наскоро проверив дела, Иван мчался обратно, и чем реже по мере удаления от Москвы становился поток машин, тем сильнее был стыд за собственную избалованность. «Доиграешься! – стращал он сам себя. – Погорит твоё дело, пойдёшь работать менеджером, с девяти и до последнего, как все».
Но ничто не замирало внутри от угроз. Даже если и «погорит», и «менеджером»… – может этого-то и надо! В его бесстрашии была всё та же разумная вежливость человека, отдавшего жизни право первого хода.В один из несчастных дней, принесённых в жертву делам, Иван перед работой заехал домой полить цветы и за дверной ручкой, увидел конверт без марки. Он подумал было: от Макса! Таким славным – неровным и крупным почерком было выведено имя. Но нет, Макс ещё не освоил прописи. Внутри оказалась записка: «Пожалуйста, когда сможете, позвоните мне вот по этому телефону… (Я Ваш случайно стёрла, а у Кости спрашивать неудобно, поэтому вот пишу). Мне нужно с вами встретиться хотя бы на пять минут. Подъеду, куда скажете. Этим вы облегчите мою участь. Маша». Не отпирая двери, Иван позвонил и попал удачно – Маша забирала в институте документы. Она сказала, что подождёт его в сквере.
На углу, не доехав немного до института, Иван оставил машину и зашагал по знакомой улице. Всё нравилось ему – благоустроенные витрины, одетые со вкусом прохожие. Нравились шедевры машиностроения, припаркованные вдоль обочин, и ритмичный ход подростков в наушниках. При этом он спокойно сознавал, что идёт в пустыне, один с Богом.
«А вдруг не уехал Миша?» – подумал он, и пустыня дрогнула, большой, весёлый в ней зазеленел кактус. Иван пошёл быстрее. Но нет – витрина была завешена сеткой. Под ней шёл ремонт.
Помедлив у руин «Кофейной», он пересёк дорогу и свернул за институтом в сквер. Над зеленью клёнов и лип висела большая синяя туча. Она уже съела солнце и приближалась понемногу. «Значит, поговорим быстро», – подумал Иван и тут же увидел под клёном на дальней скамье одинокую девочку.
– Маша! – крикнул он и по старинке махнул рукой.
– Здравствуйте! Большое спасибо! – произнесла она, подойдя. – Я Вас ненадолго.
Иван узнавал Машу с трудом. Она словно поблёкла. И сразу Иван понял, что дело в глазах. Маша больше не сверкала и не стреляла ими, а использовала исключительно как прибор навигации – смотрела туда, куда шла.– Я хотела извиниться, – быстро проговорила Маша. – Перед всеми извинилась. Теперь перед вами. Помните, на катере? Вот простите меня. Только не отмахивайтесь, а скажите чётко: прощаю!
– Я-то думал, что за тайна! – разочарованно сказал Иван. – Да пожалуйста: прощаю на здоровье! Вы мне лучше скажите, как вообще у вас дела? Как бабушка себя чувствует?
– Бабушка ничего, – сказала Маша, прячась под деревце от начавшегося дождя.
Жалко было, что вздох облегчения не прошёл по ней. Иван, чуткий на подобные мелочи, видел – не было вздоха. «Что, плохо простил?» – затревожился он про себя.
– А что в институте? Может быть, можно будет восстановиться? – спросил он.
– Может быть, – кивнула Маша. – Я не узнавала.
– Как же… – удивился было Иван, и вдруг увидел: Машины глаза, как в романе, наливаются большими слезами. Но нет, она не хочет плакать, а хочет перетерпеть, переждать, значит, и ему надо умолкнуть.
Постояв немного, Маша качнулась, ухом припала к стволу и замерла. В этой горестной позе она пробыла минуту или две. Иван стоял не шелохнувшись. Гудел набирающий силу дождь. Маша делилась с деревом своей тяжестью.
Наконец, слёзы вылились.
– Как мне стыдно! – выговаривала Маша сквозь плач. – Это даже не стыд, а просто меня уже несколько месяцев жарят на сковородке! Мне сначала было обидно – почему все вокруг делают, что хотят, и никаких мук совести! Как с гуся вода! А мне за то же самое – и такое мучение! А сейчас думаю – что же я! Радоваться надо, что вышел такой стоп-кран! А то далеко бы ещё уехала. Правда?
Иван кивнул. Всё это он проходил, знал, и мог обнадёжить Машу.
– Я решила на будущий год поступать в Текстильный, – объявила Маша и сморкаясь, вышла на залитую дождём дорожку. – Факультет прикладного искусства. Я же это люблю. Главное, там мало мужчин.
Иван засмеялся:
– Вы сговорились что ли с Костей? Оставляете журналистику на растерзание невесть кому.
– Не знаете, он уже всё сдал? – спросила Маша, пряча платок. – Ничего не знаю о нём. Конечно, он привык к моему развязному поведению – чтоб я смеялась, пиво с ним пила. А теперь, когда во мне такая тяжесть – ему это скучно! Он мне уже и не звонит! – и она снова расплакалась, но теперь уж легко, по-девичьи.
Ускоряя шаг вместе с дождём, они вышли из парка.
Иван предложил подвезти её.
– Нет, – твёрдо сказала Маша. – Хватит мне уже кататься.
И в косых волнах ливня побежала к метро.
Иван включил фары, дворники, но не выехал – в зеркалах бушевала вода. Он сидел, пережидая кипящий дождь, и подводил итог: какая Маша хорошая девочка, открытая и самобытная, без комплексов, но с душой!
Утвердившись в этой мысли как следует, Иван достал телефон и набил Косте послание.
«Здравствуй, глупый ребёнок! – писал он. – Когда вернёшься – поезжай к Маше и пойми хоть раз не себя, а другого человека!»Под шум стихающего ливня Иван включил поворотник и влился в поток. Бурлящие улицы, заполненные машинами, как валунами, провели его по своим руслам к шоссе. В хорошем настроении, внутренне окрепший, он вернулся на дачу.
На следующий день, в ответ на эсэмэску, Костя прислал Ивану на электронную почту письмо.
«Поздравляю нас с тобой! – писал он. – Вокруг Бэлки ошивается некий славист, Юрген, с детских лет влюблён в Достоевского, намерения серьёзные, исторический дом на ручье. Так умильно шпрехает по-русски, что с ним даже весело. Единственное, что обнадёживает – Бэлка с ним всё равно одна. Вообще, рядом с ней одиночество ощущаешь с дикой силой, как будто она его излучает – на манер солнца.
Вот послушай, Иван! Достаточность друг друга для двух людей доказана. А если человек – один? Тогда как? Конечно, порядочная душа и сама себя прокормит. И потом, в одиночестве можно с чистой совестью отдать себя миру. Одинокий человек – не инвалид. Он даже совсем не обязательно эгоист. Но почему тогда у меня чувство, что одинокий я – калека? И одинокая Бэлка – калека! А вот про тебя у меня чувство, что ты – здоровяк, потому что носишься с бабушкой. И, конечно, ещё ты гад, потому что из-за тебя – инвалид моя сестра!
Машке я уже написал – много всего, про любовь, семью, жизнь без иллюзий, в общем, развёл, – она ответила. Не знаю, спасёт ли это нас от «инвалидности», но будем пробовать. Возвращаюсь послезавтра. Когда приеду, будь добр, встреть меня, как человека, безо всякого снисхождения».Иван решил, что освободит для Кости восточную мансарду, а сам переберётся в западную. Отпоить его рассветами, как молоком! Будильник ему на пять тридцать! А ночью пусть будет в деревьях шумно, пусть спит с открытым окном и проветривается до полной ясности.
Иван перетащил свою постель «на запад», смёл из распахнутой рамы пыль, мошек, мелкий сор штукатурки, убрал сушившийся на столе зверобой. Ничего лучшего, чем это окно с балконом он не мог придумать для своего «крестника».
Так, уповая в большей степени на природу, чем на себя самого, он приготовился встретить обновлённого Костю.* * *
Был холодный августовский утренник. Серый с золотом яблочный спас. Иван проснулся на звук. Ему снилось: кто-то негромко окликал его, шатал калитку.
Кое-как одевшись, он вышел в ледяной сад и увидел Костю. Тот стоял за забором и ругался вполголоса:
– Да пусти ж ты меня! Что, мне надо вопить на всю деревню, чтобы ты проснулся?
Иван скорее подошёл и повернул щеколду.
– Я на первой электричке! – объяснил Костя, скидывая с плеча рюкзак. – А дальше пешком!
– Ты что, с ума сошёл? – спросил Иван. – Тут же пятнадцать километров!
– Ну, я не все пятнадцать. Меня подвезли.
– Ах ты паломник мой! – растеряно воскликнул Иван.
– Я посплю, – сказал Костя. – Я же только вечером прилетел, сумки бросил – и сразу к тебе. Где моя кровать?
Иван принёс ему в мансарду подушку и одеяло. Потом спустился вниз и вернулся с чашкой молока и вчерашними бабушкиными сырниками.
– О! Это да! Давай! – сразу ожил Костя и под сырники с молоком взялся докладывать свои обстоятельства. Прежде всего – Бэлка возвращалась в Москву!
– Ну что, рад? – улыбнулся Костя. – Смотри мне! Я на вас надеюсь. Я вот тоже: берусь решительно за перемены! Хочу победить своё сумасшедшее детство! Это со стороны выглядит, как проигрыш: мол, грезил судьбой Великого Комбинатора, а вместо этого погряз в морали! А мне плевать, пускай. Я вообще думаю, надо пораньше жениться и пораньше завести детей. Это хорошо во всех отношениях. Во-первых, сразу – облом всем мечтам. Во-вторых, придётся работать – не отвертишься уже. В-третьих, кровь успокоится. Тоже хорошо. Слушай-ка, может, возьмёшь меня к вам в контору монтажником?
– Ты хочешь сказать, что уверен в себе? В том, что это не минутное? – спросил Иван.
Костя спокойно пожал плечами.
– Кто же на этой земле может быть уверен? И в чём?
Иван удовлетворенно кивнул.
– Но ты ведь не струсил? – уточнил он.
– Нет! – улыбнулся Костя. – Просто это всё ничего не стоило. – Конечно, – добавил он тут же, – я не стану монтажником навеки. Мне ещё предстоит много раз опускаться в искусство, осознавать, осмысливать. А куда я денусь? Буду древних читать, примусь за историю. Спущусь в этот Дантов ад, пройду насквозь и снова поднимусь к тебе на грядки.
– Я вижу, ты стал за мной повторять, – сказал Иван, нахмуриваясь. – Придётся тебя от меня изолировать… Ладно. Спи пока.
Он примял Костину голову к подушке, собрал посуду и вышел в сад. Под краном умылся жгучей водой – от неё пахло снегом. О нет, это не летнее утро – август подул зимой! Взяв из дома куртку, Иван присел на качели и стал думать о Косте. Это было поэтическое и вместе с тем трезвое размышление. Он думал о том, что юность вся состоит из ветров. Ветры приходят из дальних стран, из дальних сердец, все они не твои, но чьи-то. Ты просто наслаждаешься тем, как треплют они твои волосы, дуют в шею. Время идёт, и вот, в какой-то момент ты чувствуешь: в соли моря, наконец, зародился, затвердел твой кристалл. Может быть, и Костя уже понял себя? Рановато, конечно, но если учесть, что он и всегда был вундеркиндом…К счастью или к сожалению, всё оказалось не так уж и судьбоносно, как того боялся Иван. Никаких глобальных перемен не произошло с Костей. Он остался, как был. Просто сам, своею волей, решил сменить декорации. Главное, Костя по-прежнему был охотником за вдохновением, и приехал не с пустыми руками.
В первый же день он разложил перед Иваном две повести – два гигантских отреза на паруса.
«Повестью о Фолькере» называлась одна, другая, без названия, посвящалась Ивану. Обе истории были задуманы сказочными, и намечены Костей только вчерне.
– Обо мне-то хоть не надо – завязнешь! – предостерёг Иван. – У меня бессюжетная жизнь.
– А зачем мне сюжет? – возразил Костя. – Мне не нужен сюжет – в моей сказке будет сплошная правда! Штук сто снегопадов и не меньше полсотни дождей. Скажешь, это не про тебя?
– Наверно, про меня, – согласился Иван.
– «Иван» – это будет имя снежного циклона, – продолжал Костя. – Он каждый год приходит и укрывает очумелую Москву. Вот так из века в век тащит на своей облачной телеге утешение. Я напишу роман про атмосферное явление, исполненное старинной добродетели!
– Тебя освищут, – сказал Иван.
– Знаю! – щедро улыбнулся Костя. – Но я буду горд. Потому что только свободный рискнёт в наше чертовски новое время воспеть старинную добродетель! И потом, я не однобок – у меня есть ещё «Повесть о Фолькере»!
Костя составил пошаговую биографию Фолькера и, зная вектор, смело предсказывал будущее героя. «Я думаю, – заключил он, – разочаровавшись в подростках, он начнёт собирать по улицам бомжей и возить их в баню мыться!»
Иван слушал задумавшись.
– Костя, это не шутка, – сказал он. – Для этого надо сначала погибнуть насмерть, потом долго, долго воскресать, и уж потом… Обычному человеку, как ты и я, до этого далеко.
– Ты думаешь? – озадаченно спросил Костя. – То есть, как бы, после сайтов надо ещё пару лет пропустить?
– Да вообще не надо о таких вещах! – вдруг рассердился Иван. – Это ведь живой человек!
– Да ладно, не волнуйся! – легко согласился Костя. – Так и быть, напишу добрую сказку!
Но Костины заверения не помогли. Иван вспомнил речную встречу с Женей. Что-то в этом месте души было не так. Тронул – и загудела тревога. «Надо будет проведать их, – решил Иван. – Вернёмся – съезжу на велике…»Костя остался у Ивана на неделю и провёл время с толком. Облазил все деревья в округе, загонял Ольгу Николаевну в бадминтон, раз двадцать проиграл дедушке в шахматы. Когда выглядывало солнышко и трава подсыхала, он брал том Пастернаковских переводов, с оригиналом на левой странице и переводом на правой, и шёл на луг, в гущу отцветшей ромашки – знакомиться с «англичанами». Луг этот Иван любил и сам показал Косте. С него было видно вечность и рай, и Русь, и ещё кое-какие вещи, которые нельзя увидеть в обычной жизни.
– Англичане, я вам скажу, – это вещь! – восклицал Костя, приходя с луга. – Я и не думал, что так серьёзно, сильно, можно написать о природе! И понимаешь – там что-то такое есть… Не могу передать! Это такая редкость, когда люди здоровыми земными словами могут сказать о вечной славе! И я так хочу!
Иван слушал его внимательно, без улыбки.
«Экзальтация, шум – всё это уйдет, – про себя думал он. – Вопрос, что останется. Трудно, чтобы в нынешнем мире что-то осталось…»
В эти дни Костин талант представился ему в виде древесной кроны. Нельзя, чтобы ствол слишком сильно гнулся под ветром, чтобы морозы пробрали листву, чтобы воды не хватило. Ничего этого нельзя – иначе будет один скелет. А это значит, за Костю – вечное волнение.Пробыв неделю, Костя собрался в Москву. Пора было что-нибудь предпринять, тем более что и погода испортилась. Иван соблазнял его погостить ещё, дразнил грибами. Как человек, не терпящий сомнений, Костя решил гадать по ветру.
– Хорошо, – сказал он, взглянув на флюгер. – Если завтра тоже будет северо-западный – я уеду! А нет – поглядим.
Вечером, на всякий случай, они отметили проводы.
– Ты только смотри, не запускай себя в моё отсутствие! – предупредил Костя. – Ты же знаешь, творцы вырастают во втором поколении. Обязательно кто-то в семье прорубил начерно их путь. Так вот, я думаю, что я и есть твоё второе поколение. Поэтому мне жутко важно, что у тебя. Ты – мой предвестник.
– Тогда мне надо стараться, – покорно Костиному замыслу, сказал Иван.
Впереди ему было видны поля своих стараний. Не напугать Костю плохой судьбой, больше того, вдохновить хорошей – какой бескрайний объём работы! И при этом его надо уложить в срок.Следующим утром, задрав головы, они оба долго смотрели на петушка, упёршегося клювом в «норд-вест». Над ними висели почти неподвижно низкие облака и сыпали мелким дождём.
– Ну что, подбросишь до станции? – спросил Костя.
На перроне они стояли друг против друга, невесёлые, но спокойные. В конце концов, они могли встретиться в любой момент – хоть завтра. Невидимая, но густая водяная пыль пропитывала их понемногу.
– Слушай, я ведь про тебя ничего не узнал. А у тебя-то какие проблемы? – спросил Костя, забрасывая на плечо рюкзак и «этюдник».
Как умиляло Ивана это Костино совестливое «А у тебя» – и обязательно одной ногой в электричке!
– А у меня такая проблема, – честно сказал Иван. – Не знаю, кого идти провожать первого сентября – тебя в институт или Макса в школу.* * *
Когда Костя уехал, Ивана одолела грусть, чувство, что жизнь давно уже не крылата. Не она несёт его, а он её подымает с земли, как мешок, и тащит к назначенной цели. Старая метафора, и сам он старый, раз нет жара вершить судьбу. Как ещё измерить возраст человека?
«Так и должно быть, – утешил себя Иван. – После весёлых дней положено быть печальным». И пошёл трудиться на огород. И даже съездил на следующий день в офис – собрать плоды своего многолетнего равнодушия к делу. Но грусть не отошла. Она стояла вплотную к сердцу, совершенно наплевав на то, что ещё прошлой осенью ей отказали от дому.
«С чего бы?» – удивлялся Иван.
А затем позвонил Костя, и всё объяснилось разом.
– Досачковался! – вопил он в трубку. – Ну ты и гад! Слушай, что она пишет!
И прочитал ему без всяких церемоний послание от Бэллы. В нём она ласково и с обилием «смайликов» уведомляла брата, что её университетский контракт, ввиду новых обстоятельств, продлён еще на три года. А обстоятельства такие: они с Юргеном надумали пожениться. Свадьба намечена на октябрь.
– Я тебя просто ненавижу! – вопил Костя. – Ты что сделал с моей сестрой! Она всё надеялась, дурочка! Думала – ах! У него долг совести! А ты ведь даже и «Чемоданова» ей не отвёз! И скажу тебе, я рад! Наконец-то! Я и вообще им желаю любви до гроба! А от тебя одни обломы! Я уж лучше буду, как кто угодно, чем, как ты!
– Что я мог? – автоматически произнёс Иван.
– Что ты мог? Да бросить всё и помчаться! А ты – прилип к бабушке, связался с этой дурой Олей! Она же злая тётка! Она твоих родственников со свету сживёт!
– Я однажды увидел несколько цветов пластилина, смазанных в шар, – сказал Иван. – Как будто это сердце… Вот там есть Макс, ты, все мои, и Оля. А Бэллы там нет. Она снаружи. Костя, как мне сказать? Я чувствую, вот это, что внутри, пусть не прекрасное, не лучшее – но это моё Божье Царство.
Костя с прибывающей ненавистью слушал его.
– Ну ты зануда! – крикнул он. – Сиди один! Всю жизнь просидишь! – и дал отбой.
Иван сел на ступеньку. Ему стало тяжело, он согнулся, локти положил на колени и понял, что, пожалуй, не донесёт. Всякие печали можно тащить, но груз собственной глупости непомерен. Вдруг его тоска сжалилась над ним – сгустилась, собралась, надавила на горло, и он заплакал.
Прячась от родственников, Иван поднялся в мансарду. Там было душно, но открыть окно в такой ветреный день нельзя – сдует травы, разложенные на просушку. Угол марли придавлен учебником Чемоданова. Как билет или пароль, он всюду таскал его с собой. И вот, наконец, – всё.
Осторожно он снял пропахший мятой учебник и отправился сушить глаза над костром.
За баней, в старом мангале Иван развёл костерок из обрезанных смородиновых веток. Сначала огонь дымил, а потом затрещал, как надо. Иван потрошил учебник и кидал в костёр – как неудачную рукопись. «Чемоданов», не повинный ни в чём, мучился у него на глазах и исчезал. Гибли жёлтые листы советской эпохи. Австриец, надо же!.. Поделом тебе, русский Обломов.
Тут страшно, по-былинному, ему захотелось приникнуть к земле, уйти в неё замертво, но не навек, а так, чтобы сложить груз и вернуться лёгким.
Перед домом, на лужке с белым клевером, он распластался и земля, как капустный лист, оттянула боль. Успокаиваясь, Иван видел простые истины: никто, кроме него, не совершал этот выбор – раз; он не смог бы выбрать иначе – два; и три – страдать за свою дурь полезно. Кто сказал, что человеку на земле вредно страдать?
«Вставай – простынешь!» – шаркая мимо, велела бабушка. Дедушка поддакнул ей из окна: «Ты что это вздумал? Ночью заморозки! Иди, возьми раскладушку!» Тут вышла мама в белой шали – наперекор чёрной дачной земле. «Отстаньте от него! – сказала она. – Вы что, не видите – у человека затменье солнца!»
Иван со вздохом встал и больше уж не пытался сбыть вину ни в огонь, ни в землю. Только бабушке, не утерпев, обмолвился, как устал от собственной натуры, бездеятельной, с комплексом вины. Бабушка, однако, посчитала его претензии на сочувствие сплошной халтурой: «Устал – так меняй!» Тогда он и сам перестал себе сочувствовать, взял молоток и пошёл что-нибудь к чему-нибудь прибить. Благо, в доме было ещё довольно ветхих стен, утеплителя и вагонки.
В те дни на его одинокий мобильный пришёл звонок. Звонил Андрей и попал своим настроением точно в ноту Ивана. «Здесь такая жарища! У меня даже депрессия началась. Весь мир – какой-то Дисней-лэнд. И я, дурак, уж который год шатаюсь по аттракционам. Море чужое, болтовня пустая, деньги – пыль. Никаких желаний. Единственное, чего по правде хочу – чтобы жара спала!»
Как помочь ему, Иван вот так, в пять минут, придумать не смог. Они уже хотели прощаться, как вдруг Андрей ляпнул:
– А ты знаешь – я ведь набрался духу, поговорил с ней! Пришёл и говорю: я к вам без цветов, чтобы вас зря не компрометировать. Выходите за меня замуж завтра, или через год – если вам, допустим, меня надо узнать, проверить…
– И что? – с тревогой спросил Иван.
– Ну а сам как думаешь? Покачала головой и говорит: может быть, вы очень даже отличный человек, вполне допускаю, но проверять не стану. Я свой выбор сделала, у меня Луиджи. А если начну сомневаться – так меня в клочья разорвут рыцари вроде вас… Луиджи – этот её стекольный мастер, – он, оказывается, с пятнадцати лет её любит. Но пока на дом они никак не накопят, потому и не женятся. Вот так-то.
– Ну а ты что ей ответил? – живо спросил Иван.
– А я, как в сказке. Повесил голову и ушёл. Конечно, горько, стыдно. Но и смешно – как я понял по разговору, я далеко не первый к ней вот так завалился!.. И, знаешь, вроде бы отпускает это безвыходное чувство, примиряюсь. Всё равно, конечно, разруха. От работы тошнит, от жары тошнит… Я уж думаю: пойти что ли, рисовать поучиться? Или петь? Помнишь, я в детстве пел в хоре?
– Конечно, – бодро отозвался Иван. – Обязательно! Пойди, поучись! И вообще, давай, возвращайся!Сознавая формальность своих советов, сердцем чувствуя отчаянное положение друга, он предпринял иррациональный, но всё же, обладающий внутренней логикой шаг. Взял у бабушки молитвенник и – за Андрея – прочёл с форзаца стих Богородице. Андрей любил Богородицу. Нестабильно, чередуя раскаяние с претензиями, он всё же сознавал своё Православие, и Иван ему в этом завидовал. Во всяком случае, он надеялся: прочитать за Андрея молитву – не пустое дело.
Август сворачивал к осени. На дожди у дедушки разболелась спина. Он лежал на кровати крючочком. Конечно, радикулит – не самая опасная болезнь, понимал Иван. И всё же, в такие дни жизнь ложилась на него, как плита. Напрасно он называл себя распущенным нытиком. Это не помогало. «Не хватает веры, – понимал он. – Веры, доверия у меня нет – вот в чём беда».
Накрытый своей благополучной жизнью, совершенно ею придавленный, Иван попытался понять парадокс и пришёл к выводу: наверное, потому так происходит, что в ясную погоду человеку видно, что в действительности это за зверь – жизнь. А когда штормит, тебе не до обобщений. Ты просто борешься со штормом, побеждаешь – и счастлив.
Но нет, и шторма ему не хотелось. Как-то безвыходно, сунув в карман ветровки складной нож и пакет, он бродил по душистому предосеннему лесу. В густом аромате мелькали то семейка опят, то подберёзовик. Приняв дары, Иван возвращался и с полным пакетом шёл к бабушке.
А дальше начиналась маята. Бабушка садилась при нём и диктовала, как чистить грибы, на сколько частей разрезать, как мыть – в скольких водах, в какой кастрюле, как и в чём варить. Иван исполнял беспрекословно череду её указаний. И чувствовал между делами, что теряет остаток равновесия. Все тревоги, какие случались с ним за год, разом собрались с силами и налетели. Он раздумывал: велика для Бэлки беда – выйти замуж за этого австрийца? И сразу затем: как там сложится у Кости? И дальше: не увезла ли Оля Макса в Малаховку? Нет, – утешал он себя. – Не могла увезти. Через его просьбу «Ради Христа!» – вряд ли…Однажды под утро ему приснился ясный, ветреный сон: по всей Руси, мимо заброшенных коровников, мимо пьяных деревень, он мчится, и чем древнее луга, тем легче на сердце. Как-то раз Иван уж ездил с бухты-барахты в глушь – подо Ржев, там без вести пропал его прадед. На лугу, в окружении перелесков, он устроил тогда привал. Бросил на траву куртку, лёг и минут через пять почувствовал, что весь состоит из природы. Как будто всё сложное содержимое вышло из него, и на освободившееся место зашли леса и луга. Как аквариум полон водой, так он оказался залит Иван-чаем, белыми и розовыми головками клевера, крупной ромашкой. Да, отличное, первозданное место досталось ему. Видимо, людям ещё не позволено было залетать в этот рай, только шмелям. И даже тот факт, что часть луга оказалась кем-то скошена, не нарушала красоты иллюзии. Мало ли что скошено! Может быть, само как-нибудь…
Иван решил переговорить с мамой. Не обидится ли она, если он уедет дня на три?
Как всегда в конце августа, Ольга Николаевна была растеряна, полна детских печалей об уходящем лете. Три месяца оно напрасно грело землю, не послав ей ни любви, ни работы. С горя она села вязать сыну свитер.
– Ну как, побудете без меня? – спросил Иван.
– Мне уже всё равно, – объявила Ольга Николаевна. И Иван пошёл сообщить об отъезде остальным.
Бабушка надулась, дедушка примолк.
– Ну что вы обижаетесь! Три дня! – возмутился Иван. – Так ведь тоже, в конце концов, не честно!
И вечером уехал в город – с тем, чтобы завтра на рассвете стартовать в путь.* * *
В день отъезда он вышел из дому позже, чем собирался – чуть-чуть проспал. Начинался час-пик. Иван подумал, что, пожалуй, успеет ещё проскочить до пробок, но у гаража его поймала Оля.
– Подвезёшь до метро? А то у меня машина в сервисе.
– А что случилось? – спросил Иван, открывая ей дверцу.
– Да так, фару стукнула, и ещё по мелочи.
Они ехали молча, нисколько не волнуясь о затянувшейся паузе, потому что давно уже были люди, связанные не дружеской даже, а родственной, двоюродной близостью.
– Помнишь истерику Макса с переездом? – заговорила Оля. – Знаешь, что он сделал? Совершил пошлую вещь, но я тебе расскажу, ты ведь всё-таки Максом интересуешься. Он сказал Володьке, чтобы он не рассчитывал попасть к нам в семью, потому что никто его здесь не любит. К нему хорошо относятся – это да. Но любви нет. Вот парень – взял и сказал! А я стою и не знаю, что делать. Думаю – надо бы Макса треснуть. Стою и молчу. Ну а Володька тоже – чудак человек, обмяк, начал курить, курить, сел и уехал. Ещё и извинился, таким странным голосом – как будто не туда попал. Ты понимаешь, Макс прав, конечно, просто всем хотелось стабильности. Я думала – уйду с работы. Думала – будем жить на природе, пройдут все мои неврозы. И вот пожалуйста – ребёнок выступил! Конечно, мы потом встретились, объяснились. Но это уже без толку. Володька такой парень честный, стыдно перед ним. Вообще-то, у меня даже облегчение – слава Богу… А ты куда? – помолчав немного, спросила она. – На работу? Бизнес-то цел ещё? Ты ж всё лето прозагорал.
– Нет, я не в офис, – улыбнулся Иван. – Я, наверно, куда-нибудь подо Ржев.
– Как подо Ржев? – изумилась Оля. – А чего тебе там?
– Да ничего. Просто хочу покататься. Хочу понять: так живу или не так? – прямо сказал Иван.
– Ну ты даёшь! – изумилась Оля. – Так чего ж ты со мной время теряешь! Сказал бы! Давай я на маршрутке доеду!
Иван мотнул головой.
– Скажешь потом, что надумал? – спросила Оля, и вдруг её озарило славной практической мыслью, – слушай-ка! А про меня заодно можешь подумать – мне-то как быть?
– Нет, конечно! Что я тебе, старец? Думай сама! – строго сказал Иван, и пожалел, потому что сразу вслед за отказом Олино воодушевление сменилось обыденной горечью.
– Действительно, бред! – насмешливо проговорила она. – От тебя подальше отсаживаться надо – а то у тебя фантазии заразные! – И отвернулась.
На перекрёстке возле метро Иван притормозил – две глупых собаки перебегали дорогу на красный свет. Они торопились через центральную площадь – первой чёрная, бодрая, за ней – рыжая, на трёх ногах. Не пытаясь избегнуть смерти, они смело спешили на тот берег. Их дело было не смотреть по сторонам, но держать скорость. Трёхлапая отставала, и было видно, как огромны её усилия догнать товарища.
Иван мельком взглянул на Олю. Она сидела, поднеся к лицу обе руки, оставив над ладонями только глаза, следящие за скорбным бегом трёхлапой.
– Как вот эта, рыжая, будет жить? – зло сказала она. – Лучше б сдохла поскорее!
Иван подъехал к обочине и остановил машину.
Мужественно неся свои тонны слёз, не расплескав ни крохи, Оля вышла.
И Иван вышел тоже – побыть под открытым небом. Это была одна из ясных минут, когда все земные дела – как на ладони. «Ну что ты ещё высчитываешь себе, какую судьбу?» – подумал он, хотя давно уже ничего не высчитывал.
Он чувствовал, что остаться с Олей будет чисто и хорошо, тогда как всё прочее – дурно. Руководствуясь одним этим знанием, он вот так, вдруг, определил свою дальнейшую жизнь. Мнение Оли нисколько не волновало его, потому что в данном вопросе Иван полагал себя ответственным за обоих. Больше того, он знал, что согласие её будет сопровождаться волшебным преображением. Бледность, дрожь, седина, рыжина, сигаретный дым, злоба – всё сойдет с неё. Она расколдуется ото всех чар сразу, о её красоте и милосердии внуки сложат легенды. Произойдут ли и с ним самим какие-нибудь перемены, Иван не гадал. Он только почувствовал, как это легко и праведно – решать свою жизнь исходя из того, что есть, не одалживая у будущего. И вовсе не жалко жизни, нет этого чувства гиперцены, которое так мучит в юности страхом, что прогадаешь.
Не решив, как будет выглядеть его действие, зная только, что такие серьёзные вещи складываются или не складываются сами, Иван сел в машину. Луга под Ржевом больше не ждали его. Он поехал в центр. Ему хотелось проститься. Не с кем-то конкретным – тем более что и не с кем было. Миша уехал. (Как там твои черноморские помидоры, Миша?) Просто хотелось окинуть улицы старым взглядом.
Он свернул на Бульварное кольцо и, сориентировавшись по киоску мороженого, припарковался. Ноги сами пошли во двор, где стоял картонный дом с собакой и щенками, лежал тяжёлый весенний снег. Может быть, – думал Иван, – встречу ту женщину в шубе.
Во дворе он увидел тополь – дерево, седеющее раньше остальных. Листва, сметённая дворником, шевелилась на месте картонного дома. Следов не было. Даже ям от колышков не осталось, хотя Иван пристально оглядел землю. Вдруг его пробило: какая шуба – август на дворе! Какие щенки – давно уж взрослые псы, если живы! Куда он ехал?
Старушка у подъезда, заметив его растерянность, полюбопытствовала: что ищет молодой человек?
– Тут были «ясли», – сказал он, не в силах соврать.
– Ясли? Может, садик? Это вам надо через бульвар.
– Да нет, – качнул головой Иван, и вдруг его озарило. – А где тут ближайшая стройка? – спросил он.Несколько разномастных дворовых собак облаяло его из-за ограды. Иван старался различить среди них Петровну и Жучу. Жучи не было. А на Петровну претендовали две очень похожих псины. Надо было только разглядеть – у которой драное ухо.
Иван решил подождать. Он надеялся, что придёт женщина в шубе. То есть, без шубы, конечно, но та самая. «Всё-таки, утро, – рассуждал он. – Люди идут на работу, по дороги заносят остатки ужина».
Но женщина не пришла. Зато прискакал парнишка на костылях, ровесник Кости.
– Не знаешь случайно, а какая из них – Петровна? – спросил Иван, кивая на двух одинаковых рыжих собак.
– А вы по какому поводу? – вопросом на вопрос ответил паренёк, и во взгляде его была сотня причин для недоверия.
– Да ни по какому, – сказал Иван. – Я тут был в феврале. Мне одна женщина, в такой большой шубе, коричневой, показывала рождественские ясли. Там, под тополем.
– Это Жучины! – сразу догадался его собеседник. – Жуча весной облезла и сдохла. Мы её лечили – без толку. Она уже старая была.
– Очень жалко, – сказал Иван.
Парень взглянул на него пристально, как-то насквозь. Вдруг его собранное лицо распахнулось улыбкой.
– А! – воскликнул он, чуть не подпрыгнув на своих костылях. – Я же вас знаю! Мне Надежда Васильевна рассказывала! Эта, которая в шубе. И тётя Света из «мороженого». У нас про ваши пельмени легенда ходила! Вот, говорят, нахальный гражданин! Разморозьте, мне, говорит, пельмени! А? Вы? – смеялся он. – Ну, раз вы – тогда нате, помогите! – и он протянул в растерянные руки Ивана пакет. – Вот сюда им насыпьте, в корытца. А Петровна – это вон та, с драным ухом. Да не бойтесь, тут ничего грязного. Это сухой корм, и макароны совершенно свежие, мама варит.
– Где тебя угораздило? – спросил Иван, высыпая корм. – На доске или на велике?
– Да нет! Это так, для маскировки! Они мне не нужны, – он прислонил костыли к забору и сел на корточки рядом с Иваном. Собаки, столпившиеся у мисок, накрыли его с головой. Отбившись кое-как, он продолжал. – Я вообще подхрамываю, такая у меня болезнь детства. А тут – Катерина! Не видели? Она теперь здесь часто. Может я не прав, но вот так сразу явиться с моей шикарной походкой как-то мне было, знаете… А так – считайте, у меня перелом! Перелом ведь – не болезнь. Ну, грохнулся, с кем не бывает! Мне надо, чтоб она меня восприняла без предвзятости, а потом – уже не важно. Если да – то да.
– Значит, вводишь в заблуждение?
– Наоборот. Хочу, чтобы было честно. Правда о человеке ведь не в ногах!
– Это так, – кивнул Иван.
– Меня из наших ещё никто не выдал, – прибавил паренёк, взглядывая внимательно на Ивана.
Иван не знал – верить или нет такой нелепой, несвоевременной откровенности? Или у них тут свои законы? Он чувствовал, что забрёл ненароком в какую-то новую воду. Если сейчас убежать, – подумал Иван, – ещё можно остаться дома. Но бежать не хотелось. Как будто ласково и твёрдо ему сказали: вот твоя служба, приглядывайся. Конечно, никаких загранпоездок – увы. Домоседство тоже придётся умерить. Зато у тебя будет много улиц, дворов, домов, зверей, людей. Вот увидишь – тебе понравится!
Наевшись, четыре псины – две Петровны и два худеньких, уже взрослых щенка, полезли ласкаться к хозяину. «Отстаньте! – говорил парень. – Фу! Хорошие, хорошие!» – и гладил их морды. И словно бы дуло февральским ветром, талым снегом.
– Слушайте, а вы не за щенком? – спросил он Ивана. – Хорошие щенки, классные! В июле одного девчонка взяла. Я её через Интернет нашёл – оказалось, рядом живёт. Ещё два осталось. Возьмёте?
– Да нет, – сказал Иван, поднимаясь. – Я, наверно, рано пришёл. Мне ещё надо завершить…
– Ну давайте, – вдруг обиделся парень. – Успехов. – И, схватив свой реквизит, лихо ускакал по дорожке.Ладони, пахнущие кормом, Иван вытер о бумажный платок, но это не помогло. Запах «новой воды» въелся крепко. Странно было ему на сердце. Он понимал: всё равно однажды придётся перебираться в эту чудесную, изнурительную святую жизнь. Но не сейчас – потом. За слово «потом» он уцепился.
Потом – когда-нибудь. Когда будет пора – узнаем. А пока что – задраим небесные люки. Мы не будем сдавать экстерном. Мы, может быть, даже останемся на второй год. Пусть земные ветры нас простуживают и треплют – они нам по силам. А за ангельские подвиги примемся, когда закалимся всерьёз.
Так рассудил Иван и, успокоившись, вернулся за руль, к наезженным мыслям.
Дорогой он думал о своём фантастическом жизненном везении. Сколько людей – бабушка, мама, Костя, Андрей! Сколько счастливого времени. Как прошлая осень была хороша арбузами! Как со слякоти было здорово завернуть в «Кофейную» к Мише! А зима?! Праздник трёхдневного снегопада, каша с орешком! Лодка посередине весенней реки. Выживший на дуэли Костя. Ах, как жаль вечного утра с мамой, кофе и снега, гитары и вышивания! Жаль божественной неторопливости, в которой теперь уж нельзя остаться. Но, может быть, шагнув за её предел, он почувствует свободу и радость идти. Здравствуй, Свобода-и-радость-идти! – скажет он. – Давненько тебя не видел! И хотя не лесами-лугами она поведёт его, а скорбью и жалостью, по грязной подкладке Москвы – он пойдёт с ней предано и доверчиво.Весь день в растерянности Иван промотался по городу, заезжал в офис, а вечером, свернув во двор, увидел, как с другой стороны дома на своей отремонтированной «Ладе» подъехала Оля. Усмехнувшись манёврам судьбы, Иван оставил машину и пошёл навстречу.
На заднем сидении спал Макс. Оля вышла и зажгла сигарету.
– Что, вернулся уже? Или не доехал? – спросила она.
– Доехал, – кивнул Иван. – Но не туда. Попал, знаешь, как будто в другую Москву, на стройку… Там парень, инвалидность что ли у него какая-то, не знаю… У них целое содружество – занимаются уличными собаками. Такой там весенний ветер, свет…
– Какой весенний? – сказала Оля. – Ну ты докатился! Бред в мягкой обложке! А хотя, может, с убогими ты себя и найдёшь. Будешь там у них – молодец среди овец. Макса растолкаешь? – бросив окурок, спросила она. – А то он сегодня с дедом в шесть утра на рыбалку попёрся – теперь дрыхнет.
Оля взяла сумку, а Иван попытался разбудить Макса. Макс брыкнулся. Тогда он осторожно вынул его из детского кресла, положил голову к себе на плечо и понёс в подъезд.
Подняв Макса к Оле, он вернулся в машину за своим рюкзачком и, открыв багажник, постоял несколько секунд, глядя на двор. Просто смотрел на качели, на дверь подъезда и думал: «Господи, спасибо». Наконец, взял рюкзак и пошёл домой.
На площадке пятого этажа, у двери лифта, его ждала Оля.
– На минутку можно тебя? – спросила она довольно раздражённо. – Я тебе давно хочу сказать: ты мне своими неправдоподобными персонажами только карту путаешь! Я в них верю, как дура, а на самом деле их нет!
– Почему же нет? – удивился Иван.
– Этих твоих собак, этих всяких случайных пронзительных встреч! Этого нет в жизни!
– Как это нет? – спросил Иван, всё еще удивляясь.
– Этого нет! – крикнула она так, что Иван мысленно отшатнулся. – А есть дикая усталость – и вовсе не от праведных дел, как у твоих небожителей, а оттого, что я работаю и борюсь! А этого всего – нет, нет! И не будет никогда! Ни у кого! Ясно?
Иван не нашёл, что ответить. Он подумал вдруг, что виденное им и правда не существует для Оли. Да и вообще, его опыт не может быть полезен ей хотя бы потому, что у него нет ребёнка. Человек без ребёнка и человек с ребёнком – это две разные планеты. Это, как птица и мул. Что в них общего?Дома Иван лёг сразу, но сон долго не приходил. Он лежал с закрытыми глазами и брёл по оранжевой глине стройки. А потом ступил на лесную опушку и в соснах нашёл маслёнок.
На следующий день он поднялся, и, умывшись, как следует, холодной водой, отправился на дальнюю пристань, где зимой стоял Женин катер. Иван шёл туда не просто так, а по делу. Ему надо было увидеть Фолькера.
«Человек, живущий на реке, должен каждый день хоть на несколько минут выходить на реку», – рассудил Иван, сел на деревянную тумбу и принялся ждать, когда сбудется его простое предвидение. Ожидание Ивана скрашивали воробьи. У Макса в книжке «Окружающий мир» он прочёл, как отличить воробьёв домовых от полевых. Этих знаний хватило ему, чтобы увлечённо провести минут сорок. Потом на пристань пришли девочка с бабушкой и принялись кормить всех, как один, домовых воробьёв печеньем. Появился откуда-то из лесу подросток с баночным пивом в пакете, сел к воде и, врубив на мобильнике музыку, принялся добывать посильный кайф. Неторопливо, под сигарету, он тянул своё пиво и по мере опустошения тары пускал кораблики. Скоро флотилия из трёх баночек в сопровождении белых шлюпок-бычков поймала волну и двинулась на Серебряный Бор, а её владелец, захмелев, утопал в лесок. Иван остался один и сидел в полудрёме, нежась на солнце, пока по его плечу не постучали. Обернувшись, он увидел Фолькера – в чёрных очках, чёрной майке и камуфляжных штанах.
– Наконец-то! – приветствовал его Иван.
– Ты ко мне что ли? – спросил Фолькер. – А чего не заходишь? Я смотрю – сидит. Чего сидишь?
– Рыбачу, – сказал Иван.
Фолькер посмотрел внимательно на его пустые руки и сел рядышком. И сразу тьма отгородила Ивана от лета и воробьёв.
– Я хотел узнать, как у вас дела, – сказал Иван, приспосабливаясь ко мраку.
– А какие дела? – удивился Фолькер. – Трафик сдох! Просто зря профукал кучу бабок. Детям не-ин-те-ресно.
– В Америку поедете?
Фолькер вытащил из кармана мятую пачку и закурил. Горький дым поплыл Ивану в лицо.
– В Америку? Нет. У меня в Америке человек. Он работает на меня. Он может моментом всё вынуть из моих рук – я даже не поборюсь. Просто он пока не догадывается, что я умер. А если я приеду – он догадается. По моей роже. Не-а, не поеду.
– Что будете делать, если не секрет?
– От тебя секретов нет! – кашляя, отозвался Фолькер. – Скажу, как есть. Вот слушай: сначала у меня был смысл – срубить денег. Потом у меня был другой смысл – вот этот проект, скупка сайтов. Теперь – что? Теперь у меня тоже проект – крышу чинить! – И он постучал себя по голове. Уголёк сигареты упал на волосы, запахло палёным. – Или гильотина – лучшее средство? – ухмыльнулся он, прихлопнув пепел, как комара.
– Да нет, – возразил Иван. – Не лучшее. Я, конечно, сайты не скупал, но в остальном было похоже. Была иллюзия, что всё смогу, перешагну пределы. Хорошо потом летел! Но, видите – голова на плечах. Значит, есть средство лучше, чем гильотина.
– Скажи.
– Смеяться будете.
– Ну, посмеюсь. А тебе жалко?
– Если пару лет продержаться с более или менее чистой совестью – всё пройдёт.
– Ага, – кивнул Фолькер. – С чистой. Понял. А химчистка где?
– Не знаю, где ваша. Где моя – могу сказать. Где ваша – не знаю.
– А где твоя?
– Моя дома, – сказал Иван. – Очки снимите, Вам же в них темно. Я с Вами говорю – мне и то темно.
Фолькер снял и, проморгавшись, огляделся.
– О! – воскликнул он. – Вижу химчистку! У меня в Ирландии есть приятель. Шон. Он продаёт диски. Он это… продавец дисков. Но он на самом деле скрипач. Играет, знаешь, на скрипке народные ирландские мелодии. Народные английские мелодии. Народные еврейские мелодии. Хороший парень. У него жена Джулия. Она поёт. Она тоже продаёт диски. Но она хорошо поёт. Народные ирландские песни. Народные английские песни…
– Я понял, – ободряюще кивнул Иван.
– Ну вот. Я их к себе выпишу, в гости. Мы сядем с ними на причале, тут вот. Вот сюда, вместо тебя, посажу их. Как раз вылезут одуванчики, там… мать-и-мачеха, череда, вот это всё. Будем сидеть хоть месяц.
– Месяца не хватит, – покачал головой Иван. – Надо год, а то и два.
– Согласен, – кивнул Фолькер. – Год, два… А вообще, это всё ерунда. Не починится ни хрена. У меня же есть башка на плечах – что, я не знаю жизни? Я знаю жизнь, я знаю себя, пожил вдоволь, попинал землю. Пора и честь знать.
– Посидишь на пристани – всё пройдёт, – повторил Иван.
– Ага. Думаешь – Шон прямо скрипку под мышку, и на два года со мной тут на пристани околачиваться? Шон, он, знаешь! У Шона дело жизни – магазинчик дисков. Так он и поехал! Нету выхода. Жалко, что совесть грязная.
– Да надоел ты со своей совестью. Пожалуйста – вот есть я. Я на скрипке не играю, но на гитаре немножко играю. Давай, хочешь, буду тебе вместо Шона. Иван, Шон, гитара, скрипка – какая тебе разница? Конечно, с утра до ночи я тебя пасти не могу. Во-первых, работать как-то надо, согласен? Потом, у меня родственники. У тебя психоз, а у них – старость. Психоз и старость. Есть разница? Но, скажем, ежедневную часовую репетицию я могу тебе обещать, – заключил Иван, передразнивая нечаянно синтаксис Фолькера.
– И что я тебе за это буду должен?
– Что должен? Ничего не должен. Должен будешь не отлынивать.
– Ага. Понял. Ты меня, то есть, будешь лечить. Слушай, брат, а хочешь я тебе подарю моё имя? Будешь Фолькер – классно!
– Вот уж спасибо, обойдусь! – сказал Иван и, встав с мостков, зашагал к дороге.
– Ну что, завтра во сколько? – крикнул Фолькер.
– Завтра не могу! – обернувшись, сказал Иван. – Смогу в сентябре, когда моих с дачи перевезу. Подождёшь?
– Ну, это как пойдёт! – усмехнулся Фолькер.
Быстро удаляясь от черноты, спасаясь в солнце реки и зелени, Иван шёл к дому. «Ах, как не хочется…», – думал он. Тут резкий запах собачьей еды всплыл из памяти. Вот какая она была, набегавшая понемногу «вода». Было трудно, невмоготу прикасаться к ней – как к запущенной ране.* * *
Вечером Иван вернулся на дачу. Родственники встретили его зелёными щами, оладьями, и кучей дел по хозяйству, накопившихся в его отсутствие.
В канун первого сентября он позвонил Оле и спросил, кто пойдёт провожать Макса первый раз в первый класс. Оказалось, пойдут все – Оля, её мама и папа. Примазываться к такой большой компании показалось Ивану неудобным. Конечно, и Костю провожать в институт – это глупости. Тем более, если вспомнить их последнюю беседу по телефону.
Так рухнул его прекрасный план на первое сентября.
Зато второго Костя, забыв, как видно, о своих проклятьях, сам позвонил ему.
– Ты куда сгинул? – вопил он в трубку. – Чего не звонишь? Ты сегодня будешь в Москве? Я по расписанию в два заканчиваю! Могу потом подъехать к вашему офису! Скажи только, когда? В пять? В шесть?
– Давай в четыре, – сказал Иван, искренне не понимавший, зачем бы ему сидеть в офисе до шести.
Они встретились на Большой Татарской и пошли во дворы. В одном из них сам собой нашёлся и позвал их присесть пустой доминошный стол с лавками. Стол был новенький, из светлого ещё дерева, но уже инкрустированный вечными надписями.
Над головами шатался тополь, пыльный, пропахший городом великан. Его листья и семена засыпали стол. Иван смёл их ладонью на край, поближе к себе, и сразу ему стало уютно. Он взялся было расспрашивать, как прошёл студенческий дебют Кости, но тот замотал головой.
– Нет! – возразил он. – Говорить будем о тебе. Не хочу обо мне! Надоел я себе, ты бы знал, как! Пора ведь и мне стать человеком! Так что давай, рассказывай!
Ивану не хотелось держать отчёт, но он видел: Костя не отстанет. Раз решил, что ему нужна практика бескорыстного внимания к людям – значит, будет теперь добиваться её, вытряхивать из каждого встречного.
Он задумался: как бы так сказать Косте о найденной им собачьей Москве, чтоб это не вызвало в нём раздражения, схожего с Олиным? Как тут скажешь? Нет, пожалуй, не скажешь никак.
Тогда в двух словах он рассказал о Фолькере.
Костя выслушал его серьёзно, без воплей.
– А почему ты решил, что ты за него отвечаешь? – спросил он въедливо.
– Ничего я не решал, – неохотно отозвался Иван. – Отвечает тот, у кого есть похожий опыт. Что, разве Женя будет виноват, если с Фолькером что случится? Да он ни черта не знает, кроме своей драмы с Машей! Ну и здесь – то же. Лучше уж я сто раз схожу к нему на реку, чем однажды – на похороны.
– Вот забавно! – улыбнулся Костя. – Каша моя – а ты расхлёбываешь.
Иван не ответил. Он нашёл спичинку и принялся вынимать из процарапанного посередине стола любовного уравнения землю и сор. Ему хотелось, чтобы буквы, раз уж кто-то вырезал их, были чистыми.
Костя следил за его действиями с любопытством.
– Иван, я должен тебя обрадовать! – вдруг произнёс он. – Твоя жизнь так видна мне! Я знаю досконально тебя и твои обстоятельства, и могу без проблем рассказать тебе будущее. Не оттого, что я провидец, а чисто логически. У нас с тобой наработано достаточно, чтобы дальше роман сам вёл автора.
Иван положил руки на стол, как на парту, и приготовился слушать. Как интересно живётся! – завидовал он сам себе. – Какие экспромты приходится наблюдать!– Я буквально вижу это кино! – продолжал тем временем Костя. – Шаткий дом, осень, ты с молотком, обивающий стены вагонкой, внутри и вокруг тебя – люфт, который ты стараешься заполнить природой. Твои родители помирились под старость и заняты друг другом, у них «бабье лето». Бабушки с дедушкой нет – ты взял себе вместо них жену и сына. Но, хотя тебе и казалось, что они твоё предназначение, ты не прирастаешь к ним настолько, чтобы вернуть доброту и спокойствие. Твой характер портится. Ты лупишь свою вагонку и, сжав зубы, велишь себе держаться, любить вопреки, не изменять совести. Дальше мне не понятно – согнёт ли твоя воля тебя, или ты согнёшь свою волю. В том смысле – дашь ли ты себе взорваться, или законсервируешься в том положении, которое находишь правильным.
– Вот спасибо! – усмехаясь от накатывающей тревоги, произнёс Иван.
– Спастись с твоим душевным устройством ты не сможешь! – в волнении, бледнея от собственной дальновидности, продолжал Костя. – Разве только твоя дура Оля проявит великодушие и сама от тебя откажется. Но это из области фантастики. Так что, я прощаюсь с тобой, дорогой герой! – подытожил он, привстав. – А мне так хотелось поместить тебя в зимний день со снегом – и включить, как песню, на «репит»! Ты сам знаешь, рискованно снимать продолжение, если первая серия удалась. Зачем мне продолжение о тебе, когда ты – удался?
Во всю силу западного циклона тополь раздувал над Иваном воздух, но всё равно ему было жарко от Костиной наглости.
– Ты думаешь, это полезно – набалтывать человеку такие вот жизненные программы? – спросил он с укором. – Это что, польстит твоему самолюбию, если ты угадаешь?
– У меня гигантское самолюбие, – сказал Костя. – Такая мелочь ему не польстит. Я просто боюсь, что ты забьёшь себя в гроб совести и будешь всю жизнь платить долг, которого нет. А я хочу, чтобы ты жил.
Иван собрался возразить, но вдруг заметил – женщина из окна смотрит на них, приостановил свой ход таджик с тележкой, и старухи у подъезда сидят, дружно повернув головы.
«Ну и ладно!» – подумал Иван. В конце концов, он и сам бывал рад, когда удавалось подглядеть какой-нибудь забавный уличный эпизод. И как-то сразу весело стало ему от такого количества зрителей. Ничего не ответив, Иван поднялся из-за стола.
– Пошли, – сказал он Косте, тряхнув его за плечо. – По-моему, мы достаточно обо мне поговорили. Теперь я буду тобой интересоваться. А ты мной не будешь. Понял?
Остаток прогулки Костя с охотой отзывался на его интерес.
– …И потом, – объяснял он, – Я же её люблю! Это тогда у меня от страха любовь отшибло. В страхе, в депрессии – там любовь не живёт, это я уже понял. А теперь ничего, отмораживаюсь потихоньку. Мы с Машкой поженимся, и будем жить у её бабушки. А нашу квартиру на Краснопресненской можно сдавать. Бешеные деньги. Часть пойдёт маме, а часть – нам с Машкой. И потом, я же ещё пойду работать! Днём работать, вечером учиться. И ребёнка поскорее. Хочу увешать себя, как ёлку, – трудом, детьми, вообще всяческой ответственностью. Чтобы уж не вырваться. Чтобы сквозь эту броню уже не прошёл никакой соблазн!
Тут Костя приложил ладони к лицу и минуту простоял неподвижно. Видно, ему было крепко себя жаль.
– Ты же сам мне говорил. Если себя завинтить, то потом взорвёшься с треском, – напомнил Иван.
– Ты думаешь? – с надеждой посмотрел на него Костя. – Ну ладно, ребёнка пока не будем.* * *
В тёплые дни сентября под руководством деда Иван сколачивал ящики для цветов, травы и клубники – всё это мама собралась разводить зимой на балконе, который ему же, Ивану предстояло теперь утеплить и снабдить подсветкой.
Наивная мамина выдумка – перевезти с собой в город куски летней свободы, напомнила Ивану, как в прошлом году он сам готовился к суровой зиме.
Наконец, настал день более или менее окончательного переезда в город. Иван вывел машину. На заднем сидении бабушка с дедушкой притулились друг к другу плечами, впереди села мама.
Он вернулся в сад запереть гараж, проверить воду. Небо ласково выглядывало сквозь ветки сада. Солнце не слепило. Иван уже направлялся к калитке, как вдруг увидел юную яблоньку. Один единственный плод уцелел на её ветвях, но какой золотой, румяный! Он задержался поглядеть на этот крохотный урожай, и вдруг всем сердцем понял: ровно столько и нужно для душевного мира – вот это маленькое совершенство.
У ворот, с ключами в руках, Иван постоял ещё – неизвестно чего дожидаясь. Дождался собаки, протрусившей мимо забора по своим бродячим делам, и сел за руль.
Москва окурила их дымным небом и, как только выехали на кольцо, зажгла фонари. Открывался новый городской сезон.
Как и в прошлом году, в одну ночь наполнив двор своим влажным голосом и одеждой, к ним вошла осень. В завершение каникул Иван, как лев Бонифаций, получил свитер. Ольга Николаевна довязала его, вшила рукава и заскучала.
– Знаешь что, – сказал ей Иван, – я теперь буду носить только то, что ты мне свяжешь. – И лишь потом догадался, что заявлением этим трудоустроил маму на всю оставшуюся жизнь. Теперь навеки у неё было дело – вязать сыну свитеры и шарфы, подпуская в нитку любовь.
Не плача, чтоб не испортить нежную шерсть, но, пребывая где-то неподалеку от слёз, Ольга Николаевна взялась за новую вещь. Какого-то витамина не хватало ей для жизни, или, напротив, какого-то было в избытке. Иван склонялся ко второму варианту – его мама ещё была молода. Без счастья ей не дышалось.
Он задумался, чем помочь такому человеку. Как-то раз, проходя мимо вновь отстроенной церкви, он услышал колокольный звон, зашёл и у ближайшей от входа иконы Богоматери попросил для мамы победы над хандрой. Он смотрел на Мать и Младенца тем же взглядом, что и на дачные луга – как на средоточие прекрасного, ему было легко передать в их ведение свою просьбу.Молитва о маме возымела быстрые и неожиданные последствия. Вернувшись домой, Иван застал Ольгу Николаевну за сбором дорожной сумки.
– Не хочу больше ждать! – сказала она. – Еду в Питер. Будем мириться. Как думаешь – наверно, гордая позиция тут не подойдёт? Надо будет всплакнуть и как бы отдать ему роль сильнейшего?
– Ну, попробуй… как бы отдай! – улыбнулся Иван.Неумение одинокого и немолодого человека зажить новым, его иррациональная тяга к старому, пусть негодному – всё было маме на руку. Из Питера она перевезла свой «памятник» в дом и поставила посередине гостиной. Тот огляделся, узнавая.
Дальше Иван не присутствовал. В смятении, мысленно уже перебравшись с вещами на дачу, он попытался осмыслить восстановление семьи, к которому так стремился. Что станет теперь с их доброй домашней вечностью?
Но, оказалось, отец и не думал возвращаться домой. Он всего лишь переехал из Питера в Москву и, пару ночей проведя в гостинице, снял квартирку на Речном Вокзале.
«Значит, пока – отдалённое соседство и дух взаимного уважения», – успокоено подытожил Иван. Тем сильнее было его удивление, когда отец предъявил свои родительские права. Он желал видеть жизненный план сына.
Иван не возражал: он рассказал подробно о своём нынешнем нечегонеделании и набросал примерный план ничегонеделания в будущем. Ни детской скованности, ни раздражения против отца в нём не осталось. Иван был, как гора, которой нечего не стоит стряхнуть туман, но она стоит и не стряхивает, подчиняясь природе вещей. «Пусть будет, как будет, – решил он. – Пусть ругает. Буду слушать».
Но отец промолчал. Даже бровью не выразил гнева. «Я даю тебе две недели – навести порядок в делах, – заключил он. – Потом заеду в офис, и ты мне отчитаешься».
Тронутый странноватым благородством отца, – что не вдруг нагрянул с ревизией, а дал время, – Иван и впрямь собрался было заняться делами фирмы, но тут дедушке позвонил сосед по даче. В лесу пошли опята! «Опята!» – заволновался дедушка. И они втроём – бабушка, дедушка, внук – уехали на выходные, а там прихватили ещё и понедельник, и вторник…
Опята и правда были. Иван находил в изобилии расцветшие грибами поляны и пни и навеки запомнил, как дедушка ждал его на опушке. «Ну?» – встревожено спрашивал он, различив за деревьями внука. «Есть кое-что!» – отвечал Иван и, пройдя последний кордон лесной крапивы, ставил перед дедушкой свою огромную, заваленную на две трети корзину. Ну и ну! Вот это да! Вот насолим! А бабушка ещё не хотела ехать!
Есть тысячи способов порадовать ребёнка, юнца, молодую женщину. Радости дедушки – наперечёт. К тому же, все их приходится добывать своими руками. Но в охоте за ними Ивану не было равных.
Эти метры от леса до дома он чувствовал себя Иваном-царевичем, добывшим таки молодильных яблок. Он завидовал сам себе, своему найденному и исполненному призванию, и, негодуя, жалел, что нельзя отдать ему жизнь. Вот если бы шли и шли эти опята, так же, как счастливой зимой идёт и идёт снег. Если бы бродил и бродил он по лесу, принося в дом то одну, то другую радость, как дровишки. «Наверное, – думал Иван, – это так же опасно, как усталому заснуть в снежном поле».К середине недели с ведром солёных грибов и несколькими ящиками антоновки в багажнике они вернулись.
Иван долго звонил в дверь, но, несмотря на уговор, дома мамы не оказалась. Тогда он открыл дверь ключом и зашёл в пустую квартиру, не пыльную, но без уюта. Кофе не пахло, цветы чуть подвяли.
– Ну, ты где? – спросил он, позвонив маме.
– Мы с папой на книжной ярмарке! – сообщила Ольга Николаевна. – Очень интересно! Куча переводной литературы – и с немецкого, и с французского. Вот, ходим, знакомимся, у меня уже целый список издательств!
– Ясно, – улыбнулся Иван и, не откладывая телефона, позвонил Оле.
Подошёл Макс.
– Макс, ты ешь кислые яблоки? – спросил он.
– Да! – сказал Макс. – Их надо в печку с сахаром.
– Тогда приходи, – сказал Иван. – У нас на антоновке есть несколько веток, повёрнутых к солнцу. Там яблоки наливные. Знаешь, такие прозрачные. Вот приходи – забирай.
Они пришли вдвоём с Олей, дружно ввалились в дверь и встали, ожидая подарков. Футболка Макса была в розоватых потёках, а у Оли на волосах блестело семечко арбуза. Иван не смог сдержаться и рассмеялся.
– Ну, и чем ты доволен на этот раз? – спросила Оля.
– Рад вас видеть, – объяснил Иван. Он оглядел свой не разобранный ещё дачный багаж, переставил ящики и, найдя нужный, сказал, – это вам!
В нём были замечательные плоды. Прозрачно-жёлтые, с оранжевинкой на солнечном боку. Точно такие же стояли в ящиках на балконе у бабушки с дедушкой.
Макс схватил в обе руки по яблоку и тряхнул их, как маракасы.
– А зёрнышки видно? – спросил он, примериваясь на свет.
Иван взял одно и тоже глянул.
– Мне надо тебя сфотографировать вот с этими яблоками и повесить на стенку, – сказала Оля. – И любоваться – как люди жить умеют!
– Раньше надо было любоваться, – возразил Иван. – У меня отец в Москву вернулся – буду держать ответ за всё безделье.
– Не дрейфь, – сказала Оля. – Мы тебя не бросим. Мы, если что, тебе сочувствовать будем.
– Спасибо, – кивнул Иван.
– Давай я тебе расскажу про школу! – тем временем дёргал его за руку Макс. – Я сижу на пятой парте, потому что у меня хорошее зрение! И у меня нет пятёрок. Нам за пятёрку дают красный кружочек! Я таких могу сто штук вырезать!
– Да! – согласился Иван, загораясь первой школьной обидой Макса. – А у нас давали красные звёздочки. Кстати, можно еще нарезать треугольников, квадратов, чего угодно, и ты сам будешь их раздавать на переменах, кому захочешь. А хочешь, я вырежу и отнесу твоей учительнице синюю грушу?
Макс засмеялся.
– Ну и как мы это попрём? – спросила Оля, кивая на ящик.Сумбурным репликам, тяжести ящика, который ему пришлось нести до Олиной двери, смеху Макса – всему Иван был рад. «Такие родные люди!» – твердил он себе, но так ничего и не предпринял. Не смог самовольно сдвинуть хрупкое равновесие – словно одобрения или благословения не хватало ему.
А потом Иван и вовсе забыл свои намерения, потому что бабушка, сливая картошку, ошпарила себе руку. Сошла кожа. Вид раны, нестерпимый для глаз, вытеснил из его мыслей Олю и все раздумья о будущем. Рука заживала плохо. Иван сопровождал бабушку на перевязки, и вдруг открылось, как долог для старых ног был короткий путь к поликлинике.
* * *
Однажды в счастливый день конца сентября, когда они с бабушкой пришли с перевязки, мама встретила их у дверей с листом картона. Лист был раскрашен, Ольга Николаевна пальчиками держала его за края. Свежий рисунок напомнил Ивану античную фреску – выцветшее золото, много пыльной белизны и тусклого розового.
– Ну, как? – спросила она.
– Отёк спал! – отозвался Иван, снимая ботинки и весело поглядывая на рисунок. – Наверно, обошлось, как ты думаешь?
– Конечно, обошлось, я и не сомневалась. Но вообще-то я вот про это спрашивала! – сказала мама немного обиженно и кивнула подбородком на золотой лист. – Помнишь, как я той зимой рисовала! Всё-таки, это лучше вязания, правда? Вот я снова взялась! Ты знаешь, мне тут пришло в голову: может, освоить профессию дизайнера? Я думаю, что как творческий человек, вполне смогу. Ты погляди, какая вышла роскошь! Вот представь, если это на шёлке! Потом, я думаю, человеку необходимо всё время осваивать новое, чтобы он сам себя уважал. И чтобы другие его уважали. Надо для этого что-то из себя представлять.
– Мама! Ты и так представляешь из себя достаточно! Очень много! – заверил её Иван. – Ты моя мама – вот хоть это! – тут он взял у неё лист и, пройдя за стол, стал разглядывать цветные разводы. – Конечно, очень здорово! – одобрил он. – Да и помимо этого – посмотри, какая ты юная, ты оптимист, ты – сплошное обаяние, любишь жизнь, чувствуешь красоту, ты переводишь даже лучше, чем некоторые пишут…
Ольга Николаевна подошла и склонилась над столом.
– И вот это сиреневое – ты приглядись повнимательнее! – велела она. – Вот это – очень хорошо!
Иван пригляделся.
Пока он рассматривал листы, в кармане его оставшейся в коридоре куртки зазвонил мобильный.
– Сиди, не отвлекайся! Я принесу! – крикнула мама. – Тебя – Андрей! – сообщила она, взглянув на номер, и, подала ему звенящий телефон. – Скажи – пусть приезжает! Все по нему соскучились. Скажи, что я соскучилась! Мне для душевного комфорта его необходимо видеть не менее раза в квартал!
– Ладно! – смеясь, обещал Иван.
«Я в Москве, – сказал Андрей. – У отца инфаркт. Не знаю, что будет».
Иван стоял у окна в каком-то шуме. Ему казалось, что он плачет навзрыд. Не по несчастью в семье Андрея, но по живому существу вообще. Птиц, собак, стариков, азиата-дворника – всех, кого было видно во дворе, он хотел собрать и спрятать от жизни в какое-нибудь безопасное место. Разбить там для них цветник, насадить леса, пустить реки. – Ты что застыл? Что случилось? – трясла его мама.
Андрей появился через неделю. Смотреть на него было больно. Вот приехал домой человек. Зря истратил все волшебные лепестки и вернулся. Он был в старой одежде. В джинсах со следом зелёной краски, какой лет сто назад у Ивана на даче они красили теннисный стол, и футболке из того же хорошего времени. Старые вещи сидели на нём незнакомо. Точнее сказать, они висели. Он похудел.
– Ты это где откопал? – спросил Иван.
– У мамы, – сказал Андрей. – Просто так, захотелось.
– Не модный ты какой-то.
Иван тронул его плечо и повёл в самое спасительное место своего дома – на кухню.
– Ну, как там? – спросил он.
– Да плохо, – отозвался Андрей. – Но, может быть, чуть получше. Я вот, сразу к тебе – чувствую, уже всё, не могу, надо. А потом мне ещё в больницу… От нашей Аньки ушёл муж. Десять лет, понимаешь? Нашёл время – отец в больнице, а он чемоданы собирает! Такое чувство, что всё погибло, но я сам спасён. Мне кажется, с отцом такое случилось из-за меня. Потому что никак иначе было невозможно привести меня в чувства.
– Много тебе чести, – сказал Иван. – Не из-за тебя.
Встав у кухонного окна, они смотрели вниз, на тёплый сентябрь. Только берёзы возле магазина намекали на осень.
– Помнишь нашу Большую Грузинскую? – заговорил Андрей. – У нас дома есть кинохроника, где мы маленькие. Мы тебе показывали, да?
– Раз пять, – кивнул Иван.
– Там сначала, как родилась Анька, потом я… А помнишь, какой у нас был джип? Нас весь двор считал империалистами! Там вместо багажника можно было сделать третий ряд сидений, и тогда мы все, с бабушкой, с дедушкой помещались. А потом папа на нём попал в аварию. Джип всмятку, а у папы только очки разбились. Я помню, мы так все ржали из-за этих очков, на нервной почве. Потом нас мама всех поставила перед иконой – и мы благодарили. И мы все были счастливы. А потом от нашей общей жизни отпочковалась моя собственная хреновая жизнь.
– Но мы неплохо провели юность, – произнёс Иван.
– Конечно.
– А институт – ты вспомни!
– Это да, – кивнул Андрей.
– А сколько ты мне помогал! – не унимался Иван. – Ты, можно сказать, только один меня и спас, помнишь, в тот год дурацкий? А потом ты занялся делом.
– И началась моя деградация.
– Неправда. Ты же должен был становиться на ноги. А что касается личного беспорядка, я знаю, к каждому новому человеку ты относился с большим уважением.
– Иван, ну и забавно ты выражаешься: «к каждому новому человеку»! Это ты кого имеешь в виду? Ни к кому я не относился. Я просто шлялся. И пока шлялся, развалилась моя семья. А мне давно уже надо было подменить отца, чтобы он отдыхал. Мне надо было разобраться с сестрой. Я же видел Аньку – как она вся скомкалась. А я думал только о людях, которым не нужен. А на тех, кому нужен, у меня просто не было времени. Так что можешь мне паспорт выдать, что я ангел.
– И с морем этим, – продолжал он. – Если б мне было лет семнадцать – понятно, можно бы простить. Столько денег угрохал на свои сопли! А деньги сейчас, может, очень будут нужны. Неизвестно, что отцу понадобится, какое лечение… И вот, ты знаешь, что удивительно? Больше всего стыдно не за какие-нибудь явные гадости, а за то, в чём чувствовал себя правым. Разве это были плохие желания – быть нормальным парнем, от которого всем радость, любить, возделывать сад? И вот такая у всего этого обратная сторона.
Он потёр обеими руками свое растерянное лицо.
– Иван, у меня к тебе просьба! Если меня снова понесёт, ты мне напомни всё это. Так и скажи: сиди, дурак.
– Не скажу! – неожиданно отрезал Иван. – Не дождёшься! Кто тебя знает? Может, тебе правда надо эту твою барышню из кондитерской! Мало ли, что она там сказала! Сто раз ещё передумает! Тебе просто нужно сообразить, как ты всё это объединишь. Может быть, ты привезешь её в Москву, а на отпуск будете ездить туда. Ну, чего ты сдрейфил! Работай! Завоёвывай девушку!
Иван охрип и замолчал.
– Ну, это было сильно! – одобрил Андрей. – Это ты меня что, типа спасаешь? А может лучше коньячку?
– Какой коньячок – забудь! Тебе ещё в больницу.И тут в их встрече произошло доброе – как если бы они вышли из леса, или кончилась полярная ночь.
– Слушай, раз тебе коньяку жалко, я у тебя поем чего-нибудь! – решил Андрей.
Вдвоём они заглянули в сказочный холодильник Ивана и обнаружили в нём ветчину, помидоры и коробку деревенских яиц для большой яичницы.
«Кушай, брат!» – про себя улыбнулся Иван и отправился к бабушке взять у неё солёных грибочков.
А когда вернулся, нашёл Андрея у себя в комнате.
Он осматривал поредевшие книжные полки, вытащил одинокий том Стругацких – другие давно уже унёс Костя, и ещё зачем-то детскую «Одиссею капитана Блада».
– Я возьму, ладно? – спросил Андрей. – У отца, может, буду сидеть, почитаю… – и протянул Ивану свободную от книг ладонь – проститься. Это было самое полезное рукопожатие в их жизни – жест скорее лечебный, чем дружеский. Словно бы из руки в руку перетекала общая, им обоим родная сила. Как бывает, на даче обхватишь дерево, и ветер начинает гудеть в тебе, и гибкая мощь ствола сообщается тебе вместе с гулом.Наконец, они разжали ладони, и Андрей уехал к своим, раскочегаривать новую праведную жизнь.
В том, что Андрей рождён быть праведником, Иван не сомневался. Конечно, было бы лучше, если б его друг смог полюбить обычные дни и блёклую природу. Но на «нет» и суда нет. Пусть он будет праведником на море! Пусть он будет праведником с виноградником, возлюбленной и детьми!
Ещё пару минут Иван пробыл в мечте о том, как славно быть ближайшим другом капитана и виноградаря. А затем вдруг нахмурился, встал к окну и всерьёз попросил жизнь и Бога, чтобы Андрюхин отец выздоровел.* * *
На следующий день, ровно в девять утра на мобильный Ивану позвонил отец. «Я месяц жду, – сказал он спокойно. – Больше ждать не имею возможности. Сегодня в четыре я подъеду в офис. Буду признателен, если ты введёшь меня в курс дел».
С половины четвёртого Иван дожидался отца на улице, у дверей в офис. Наверное, лучше было бы, если б отец застал его за рабочим столом, но какое-то притворство виделось в этом Ивану. И он остался гулять.
– Ты почему небритый? – спросил отец, выйдя из машины и оглядев сына. – Расхолаживаешь сотрудников и позоришь фирму, – сделал он вывод.
Иван начал с того, что похвалил отцу менеджеров, секретаря, бухгалтера и монтажников, и радостно объяснил, как легко ему было бездельничать, прикрываясь их честным трудом. В особенности – честным трудом коммерческого директора. Без него бы тут всё прахом пошло.
– Да ты, я гляжу, у нас барин! – заметил отец. – Прохлаждаешься себе, а честный управляющий тебе из деревни тыщи шлёт?
Они пробыли в офисе часа два и вышли «подышать» во дворик. Отец, закурив, поглядел на дерево, шатром укрывшее двор, потом на сына.
– Я тебя увольняю, – спокойно произнёс он. – За лень и безынициативность.
После некоторого молчания он добавил:
– Ты человек не умный, но догадливый. Надеюсь, я могу тебе не объяснять причину.
– Хочешь, чтобы я стал человеком? – благодарно предположил Иван.
– Можешь забрать из офиса свои вещи и получить расчёт, – сказал отец.Произошла хорошая перемена – так воспринял Иван отцовский педагогический жест. Область, в которую долгое время не вкладывалось ни души, ни труда, наконец, отмерла. Больше не было желающих спонсировать его разгильдяйство.
Ивану ещё предстояло пережить удивление – как же так, неужели денег действительно может не быть? Но пока перспектива бедности его не тревожила. «Как хорошо и справедливо! – думал он. – Наконец-то!»
Он и в самом деле был рад. Вознаграждение, которого не заслужил, только зря тяготило душу. Без него сразу задышалось свободнее.Идя по двору, Иван смотрел неотрывно на небо меж приглушённо-зелёных крон и угодил в лужу. Нога промокла. Видно, за лето он так избегал кроссовки, что кое-где расклеились швы. Иван остановился и поглядел под ноги на своё отражение. Весь он был какой-то потрёпанный. И почему-то в старых дачных джинсах с пятном от машинного масла. На миг ему сделалось стыдно. Но он тут же подумал: «И Бог с ним!» – чувствуя, как ещё одна бессмысленная забота свалилась с плеч.
Ему хотелось поделиться новостью с кем-нибудь близким, но не по телефону, а с глазу на глаз.
– О-ля! – заорал он под окнами. Через раскрытые створки она должна была услышать его. Так и вышло. Оля была дома и сразу высунулась в окно. Иван махнул рукой, приглашая её во двор.
Через минуту Оля сбежала вниз.
– Ну, чего хотел? – спросила она, оглядев его нежно и пристально, и заметила. – Дичаешь понемногу?
– Отец будет переструктурировать фирму. Он меня уволил за лень и безынициативность, – сообщил Иван с улыбкой, как вполне себе хорошую новость.
– Что, правда? – ахнула Оля. – Что же ты будешь делать?
Иван пожал плечами.
– А Бог знает! Наберу переводов, куплю чая и сухарей, сяду к окошку… Буду переводить. Думаю, что буду доволен, – он помолчал, размышляя сам с собой.
И Оля молчала, вцепившись в него взглядом.
– В сущности, всё, на что эти деньги шли – полная глупость, – продолжал Иван. – Конечно, надо бабушке с дедушкой на врачей, и вообще, чтоб они не чувствовали… Ну, уж на них-то я заработаю.
– Вижу, ты рад! – усмехнулась Оля.
– Наверно, да, – кивнул он. – Рад. Почти счастлив… – И взглянул на Олю с вопросом, как будто и сам был озадачен таким положением вещей.
Оля стояла с полуусмешкой, чуть покачиваясь, поглядывая на облака. Тонны слёз подступали, надо было сдерживать их напор, что есть сил.
– Как всё-таки тебя недооценил твой папа! – вдруг со злостью заключила она. – Он-то, небось, думал, начнёшь стараться, назад запросишься. Вот наивный! Так не знать своего сына! Умотаешь теперь на дачу, будешь грибы-ягоды собирать, картошку сажать. И чао-какао!
Иван хотел возразить ей, что он никогда не выбирал крайностей, и теперь не выберет их. Вовсе он не собирается жить одной картошкой. Но не нашёл духу спорить и промолчал.Как-то так сложились обстоятельства осени – начиная с бабушкиного ожога и заканчивая драматическим возвращением Андрея, – что всё избыточное, в том числе способность к спору, отшелушилось в нём. И остался человек, растекающийся в нежности к жизни, не усвоивший правил игры, но вполне гармоничный в своей неуместности. Как гармонична бывает собака в мире людей, или человек – в мире берёз. Вот такой был Иван, и сам это знал, и другими был за это любим и признан.
Следующим утром, ни о чём не думая, не окидывая мыслью возможных поприщ, он поехал на дачу. У него было дело – бабушка забыла очки. Неделю они искали их дома, заказали новые, но без толку – только те, старые, понимали бабушкины глаза и умели проявить к ним сочувствие. Наконец, Иван вспомнил, что, запирая дом, видел их на крышке дачного телевизора, поверх программы.
Машину бросив за забором, он пошёл по дорожке, мимо кустов и деревьев к крыльцу. По верхам, до треска сгибая ветви, свистал западный ветер, а внизу сохранялась уютная тишь. В этом шуме и тишине Ивану сделалось хорошо, весело на сердце.
Из прощальной осенней воды он вскипятил себе чаю и устроился за садовым столом. В чашку ветром насыпало берёзовых крестиков, он взбалтывал их и думал о заснеженном саде, какой их встретит зимой, о слегка утеплённом приюте, где всем хватит места. Камин пусть будет на половине у бабушки с дедушкой… Утром расчистить снег…
Предстоящих перемен, схождений и разлук Иван твёрдо решил не бояться. И, пока пил чай, вот так, без тревоги, всецело положившись на вечность, оглядел свои дела:
«Во-первых, – подумал он, – надо как-то определиться со средствами к существованию.
Во-вторых, бабушка с дедушкой. Что тут скажешь? Тут на Бога вся надежда.
В-третьих, мама с отцом. С отцом не сойдёшься, пока не докажешь ему, что ты человек. Нет, доказывать – это нехорошо. Пусть он сам догадается.
Дальше – Оля с Максом.
И Костя. С Костей будет нелегко.
Надо же, чуть не забыл – Андрей! Ну, Андрей – это не дело. Это счастье – что он снова неподалёку».
Иван смотрел перед собой, мысленно продлевая список, улыбаясь его красоте. Всё это были его небесные сады и пастбища. В них он был спокоен, весел и мудр, в них хотел остаться но, учитывая опыт прошлых лет, знал, что даже и этого не надо желать слишком.
А как не желать? Ах, желает он всё-таки, есть в нём буря!Он встал, подошёл к березе, которая так щедро насыпала ему в чай своей заварки, и спиной попробовал ствол, пошуршал лопатками о кору. Тут по кроне прошёлся ветер, и спина разделила гул.
Засыпающие соки стояли в корнях, у него под ногами. Иван задышал глубже и медленнее, подлаживаясь под ритм древесной крови, и страшная жажда окончательно выйти из подчинения охватила его. Порвать все компромиссы с городом! Весной засеять поле картошки. Летом работать. Зимой предаться истории и поэзии, и уйти далеко, по их родным, но забытым дорогам. Жить созвучно со всеми реками, деревьями, полями, утихшими к снегу!
Вздохнув, он присел на корточки: земля была усыпана осенним сором. Осень придвинулось близко, но ещё не размокла, её сухие сокровища лежали у него под ногами – собрать их горстями, насыпать в сундук! А в Москве, – думал он, – по сокровищам ходят люди. Бездомные собаки спешат за людьми в надежде на подаяние. Есть ещё кошки, вороны, воробьи, голуби. Есть ровесники Макса и ровесники бабушки с дедушкой, за которыми надо следить в гололёд. Куда он от них поедет?
Тут Иван заметил жука, пробирающегося по своим осенним делам, и понял, что хочет нарисовать землю в её живой жизни, со всеми обитателями, с рожденьем и тленом – не разгадывая тайн, но любуясь. «Вот, наверно, что движет художником!» – догадался Иван, представляя себе свой кадр. «Ещё займусь этим», – решил он, вставая, и долгая жизнь, полная любящего проникновения в красоту, перед ним мелькнула, как рай.
На террасе он нашёл упавшие за телевизор очки и домой вернулся к обеду. Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg



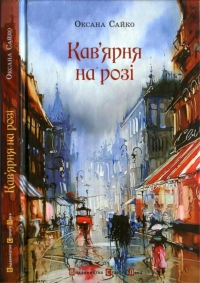


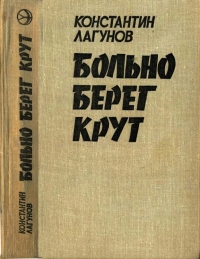

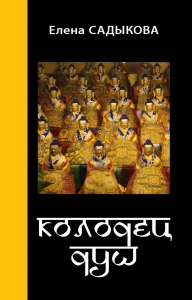



Комментарии к книге «Рад, почти счастлив…», Ольга Анатольевна Покровская
Всего 0 комментариев