Сергей Малицкий Каждый охотник (сборник)
Каждый охотник
«Нет, дружочек! — Это проще,
Это пуще, чем досада!»
Марина Цветаева01
Время в наших краях густое. Словно в лодке лежишь, шуршит по днищу, не переставая, а закроешь глаза, унесет неведомо куда, замучаешься возвращаться. Главное — не попасть в туман. Серега-болтун как-то попал, вернулся к полудню — волос белый, лицо в морщинах, руки трясутся, на плече татуировка — баба с рыбьим хвостом. Неделю озерную воду через тростниковую трубку сосал, пока не оклемался. Потом еще с полгода вспоминал, кого как зовут. Ничего, выдюжил. Волос снова потемнел, руки окрепли, лицо разгладилось, даже улыбка образовалась. Вот только татуировка не сошла, да болтливость не вернулась. Раньше, бывало, Серега прохода не давал, по сотне раз одну и ту же байку каждому встречному-поперечному пересказывал, а теперь примолк. И не так молчит, как будто память ему отбило, а так, словно знает много, да говорить не велено. Или нечем. Я даже язык его показать просил. Показал. Обычный язык. На месте.
02
Никто не верил, что Лидка за меня пойдет. Я плавать не умею. Воды боюсь. Болтун, когда еще болтуном был, вдоволь надо мной покуражился. Проходу не давал. Ветра, спрашивал, ты не боишься? А рыбы? А тростника?
— Нет, — улыбался я ему по десять раз на дню. — Ветра я не боюсь, Серега. Ветер легкий, а я тяжелый. И рыбы я не боюсь. Где она, твоя рыба? Ту, что не вижу, в воде, чего ее бояться? А ту, что вижу — или дохлая на берегу валяется, или на сковородке скворчит. И тростника не боюсь, я из него циновки вяжу. А воды боюсь.
— Почему? — не понимал Серега.
— У нее края нет, — отвечал я. — И дна.
— Есть дно, есть! — орал он и порой даже прыгал с берега, показывал черные от ила пятки.
— Глубже зайди, глубже, — предлагал я ему.
— По воде не ходят, по ней плавают! — ржал Серега. — Ты же не лодка.
И добавлял, стирая пучком травы с пяток ил:
— Циновки он плетет… Половички, а не циновки.
Да как ни называй. Их все равно никто не покупает. Лидка велела их в сарай складывать. Я и складываю.
03
— Папка, а море какое?
Файка как раз в вопросительном возрасте. Пять лет, как пять пальчиков, ни убавить, ни прибавить.
— Море? — я откладываю в сторону плетение. Не получается в этот раз вытащить рисунок. Или тростник блеклый, или пальцы не слушаются. — Море, Файка, соленое.
— Горькое? — жмурится Файка.
— Нет, — терпеливо поправляю я, — соленое — это соленое. А горькое — это горькое. Ну, смотри. Горчица горькая.
— Горчица гадкая и жгучая, — брезгливо морщится Файка.
— Хорошо, — с Файкой лучше не спорить, нальет глаза слезами, с чем угодно согласишься. — Горькое — это гадкое. А море соленое. В нем соли много.
— А если наше озеро посолить? — Файка опять начинает жмуриться. Она всегда жмурится, когда что-то затевает. Глаза Файку выдают, обо всех ее хитростях оповещают — или блестят, или бегают, или таращатся, поэтому она жмурится. Или закрывает глаза ладошками. Серега, когда еще болтуном был, рассказывал, что далеко на севере живут белые мишки, которых выдает на снегу черный нос. Так вот они, когда подкрадываются к полынье, чтобы поймать рыбу или тюленя, закрывают нос лапой. Я пересказал эту историю Файке. Теперь Файка закрывает ладошками глаза. Но это уж в тех случаях, когда тайна так и рвется наружу.
— Море не получится, — огорчаю я Файку. — Во-первых, соли нужно очень много. Во-вторых, если посолить озеро, только озеро и получится. Просто будет соленым. Ну, и наконец, а о тварях озерных ты подумала? Они же тут же все передохнут!
— А если с краешка? — она собирает крохотные пальчики в щепотку. — Если совсем чуть-чуть? Чтобы не все озеро в море превращать, а только кусочек?
— Тогда, — мне не хочется обрывать Файкину мечту, — тогда это будет очень маленькое море. Крохотное.
04
Наш остров маленький. Нет, конечно, бывают и еще меньше, взять клочок земли того же Кузи Щербатого, даже дом не помещается, под кухней сваи в ил забивать пришлось, чтобы дом с острова не сполз, ну так и народу у нас побольше, чем на острове Щербатого. Да и дома три, а не один. С одной стороны острова лачуга болтуна, с противоположной — маяк Марка, в центре наш дом. Ну, не в центре, чуть в стороне, в центре родник из земли бьет, да все одно, считай, что в центре, до дома болтуна пятьдесят шагов, до Марка пятьдесят восемь. Да на окрестные стороны по паре десятков шагов всяко будет. Кирьян-торговец смеется, как ты, улыбчивый, за Лидкой своей следишь? Будешь халупу от болтуна оборонять — Марк тебя оплетет, станешь Марка стеречь, болтун сваю под тебя подобьет. Никак, смеюсь в ответ. Зачем им Лидка? У Лидки семь дочек, кому охота семь довесков заполучить? Шесть, — отчего-то начинает загибать пальцы Кирьян, — Ксения, Ольга, Жанна, Зинаида, Галина, Софья. Шесть?
— Семь, — смеюсь я. Файка ползает у моих ног, лепит куличики из песка, ковыряет в носу грязным пальцем, чихает как котенок, окунувший в молоко мордочку.
— Да хоть восемь, — кривит лицо Кирьян. — Лидка сказала, что часы у вас встали. Батарейки будешь брать? Или часы обновишь?
Я вытаскиваю из кармана мелочь, передвигаю на ладони монеты от безымянного пальца к большому.
— Не хватит на часы.
— Хватит, — уверенно говорит Кирьян и подает лодку к берегу. Половина лодки застелена досками, на досках товар. Банки, крышки, чашки, ножи, ложки, веревки, батарейки, гвозди, молотки, спички. На носу лежат часы. Круглые, с цифрами, в золотом ободке, Лидка как раз такие и хотела. Повесить в обеденном зале на стену в самый раз.
— Ходят? — сомневаюсь я.
— Сейчас, — успокаивает меня Кирьян, наклоняется, вытягивается над товаром, подхватывает часы, отщелкивает крышку, вставляет батарейку, показывает циферблат. Стрелки уверенно ползут слева направо. Не прыгают, не отщелкивают, а ползут, вкручиваются буравчиком в мою голову. Беспрерывно. До боли.
Я отшатываюсь назад. Закрываю глаза ладонью.
— Стрелки почему не прыгают?
— Такие часы, — не понимает меня Кирьян. — Зато и не тикают. Но время точно показывают. Будешь брать?
— Нет, только батарейки.
Я протягиваю Кирьяну ладонь. Торговец сбрасывает с нее нужное количество никеля, подает мне пару батареек в пластике, отталкивается веслом от берега.
— А за Лидкой следи, — подмигивает мне обоими глазами. — Дело ж не в довесках. Когда жеребец на кобылу смотрит, что ему телега, в которую она запряжена?
— Где ты видел жеребца? Кобылу? Телегу? — кричу я ему.
— В Городе, — уже издали откликается Кирьян.
— Папка, — дергает меня за штанину Файка. — Я хочу лошадку посмотреть.
05
Город на Большом острове. Точнее, весь Большой остров — Город. Он рядом. Не совсем рядом, полкилометра, но что там полкилометра, если Город сам километр на полтора? Я нагружаю лодку циновками, накрываю их мешковиной. Сажаю Файку на корму. Файка в надувном круге-уточке. Глаза у нее блестят, и она уже готовится закрывать их ладошками. На мне спасательный жилет. Над спасательным жилетом смеются все, кто меня знает. И кто не знает, тоже смеются. И пусть смеются, что мне их смех? Я сам смеюсь, не переставая. Я не утонуть боюсь, я боюсь Файку одну оставить. Файку, а так же Ксению, Ольгу, Жанну, Зинаиду, Галину, Софью. Хотя, толку от меня не много, всю семью тянет Лидка. И от этой мысли я и в самом деле начинаю тонуть. Изнутри.
Файка сидит на корме, чертит ладошкой озерную воду и посматривает мне за спину. Я гребу. Лодка движется плавно, но неведомо куда. Куда — знает Файка. Она должна предупреждать меня о других лодках и плавучих островках. Но Файка чертит озерную воду и второй ладошкой закрывает глаза. Я оглядываюсь. Так и есть, забрал влево, еще немного и воткнулся бы в кочку Кузи Щербатого. Кузя щерится на меня из открытого нужника. Нужник у Кузи устроен тоже на сваях. Хотя, чего там было устраивать? Отгородил закуток, вырезал дырку в полу, поставил стульчак. Сиди, получай удовольствие, а откроешь дверцу, удовольствие будет двойным. В руках удочка. На удочке леска. На леске поплавок да крючок. На крючке наживка. Прошлый улов, пропущенный через Кузины кишки, падает в воду, новый улов насаживается на крючок тут же.
— Кузя! — порой кричит Щербатому Кирьян. — Ты что, рыбу прикармливаешь?
— Нет, — откликается из нужника Кузя. — Остров свой увеличиваю. Земли у меня мало!
Ему бы Филимона позвать для увеличения острова. Филимон в два раза больше Кузи. Он бы ему точно остров увеличил. Но Филимон в Кузин нужник не войдет. А войдет, так сваи в ил собственным весом загонит. Так загонит, что Кузе по колена в воде сидеть придется. К тому же у Филимона и собственный остров не шибко большой. Нет, придется Кузе самому свой остров увеличивать. Интересно, правда ли, что он гальку глотает, чтобы новые части острова не расплывались по озеру?
— А что он делает? — спрашивает Файка.
Я продолжаю грести и уже вижу остров Филимона, который приближается по правому борту. Филимон гончар. Остров у него глинистый, из этой глины Филимон лепит горшки. Потом обжигает их в печи. Дрова на растопку печи Филимону поставляет как раз Кузя. Кузя плавщик. Плавник собирает. На всякую деревяшку, что в воде плавает, как ястреб бросается. Случалось, прямо из нужника выпрыгивал, штаны забывал надеть. Выловит, на крышу отволочет, сушит. Если начинается дождь, грозит небу кулаком. Продает Кузя деревяшки недорого, но Филимон отдает ему за дрова горшки и ругается на Щербатого. Тот перепродает Филимоновы горшки в городе и перепродает по той же цене, что и Филимон, но в отличие от последнего не требует с покупателей к цене полведра земли или камней или осколки от такого же разбитого горшка. Поэтому горшки покупают у Щербатого в первую очередь. А стребовать с Щербатого за горшки землю или камней Филимон не может, потому как у того у самого остров меньше кукиша, да и не деньгами Щербатый Филимону за горшки платит, он ему дрова поставляет. И понимает Филимон, что никак ему Щербатого не сковырнуть, а все одно злится, остров-то у него маленький, изведешь его весь на горшки, а жить потом где?
— Кузя дрова ловит, — отвечаю я Файке.
— А Филимон? — смотрит в другую сторону Файка.
— Филимон лепит горшки, — говорю я. — Горшки, тарелки, миски.
— Зачем? — не понимает Файка. — Зачем их лепить, если их можно у Кирьяна купить?
Хороший вопрос. Каждая дочь в пять или шесть лет задавала мне его. Зачем ты плетешь циновки, отец? И каждой я отвечал одно и то же, так надо (Ксения, Ольга, Жанна, Зинаида, Галина, Софья, Фаина).
— Кому надо? — был следующий вопрос.
— Во-первых, он хочет заработать, — отвечаю я Файке. — Во-вторых, он хочет, чтобы его остров хотя бы чуть-чуть увеличился.
— Он из острова горшки лепит? — спрашивает Файка.
— Из острова, — отвечаю.
— То есть, Филимон расходует остров, чтобы его увеличить? — пытается докопаться до истины Файка.
— Получается так, — пожимаю я плечами, не переставая грести.
— Странный он, — жмурится Файка. — Хотя, я ведь тоже такая. Чтобы у меня появилась новая конфетка, мне нужно съесть ту, что у меня уже есть. Ведь так?
— Так, — смеюсь я. — И где же твоя старая конфетка?
Фантик шуршит, рот захлопывается, и конфетка обозначается изнутри Файкиной щеки.
— Нету!
— Держи новую.
06
Я не люблю Город. Он грязный. Слишком много домов, слишком много людей. Но в городе Школа, куда я вожу дочерей. Летом на лодке. Зимой по льду на санках. На санках Софью и Галку. Остальные добираются на лыжах или, если лед чистый, на коньках. Галка со следующего года тоже встанет на лыжи или на коньки. Файку пока не вожу. Она еще маленькая. Ей работать моим хвостиком еще целый год, а то и два.
Еще в Городе есть Завод, где работает Лидка и многие другие. Где и я пытался работать, но у меня не вышло. В Городе Контора, где заполняются всякие важные бумаги. Комитет, который предписывает и запрещает. Управа, которая всем управляет. В Городе много чего — Газета, Милиция, Суд, Тюрьма, Магазины, Техникум, Больница. И в Городе Рынок, на котором я изредка продаю циновки. Лидке не нравится слово «продаю», Она настаивает, что я не «продаю циновки», а «пытаюсь продавать», причем «безрезультатно». Она не против того, чтобы я плел циновки и сидел с ними на рынке, но желает точности в определениях.
— Где лошадка? — крутит головой Файка.
«Я — лошадка», — хочется мне ответить дочери, потому что связку циновок от пристани я тащу на себе. Обычно ее удается пристроить на тележку к Филимону, но сегодня я задержался, и Филимон уже со своими горшками на месте. Мы торгуем на аппендиксе, в ряду для народных промыслов. Народу там мало, зато места бесплатные. Филимон грустный, его горшки блестят новой глазурью, но покупателя нет. Он равнодушно смотрит, как я раскатываю по серым доскам циновки, и явно собирается сказать какую-то гадость. Я его опережаю:
— Привет, Филимон. Кирьян сказал, что в городе лошадь появилась. Не видел? Файке хотел показать.
Пару минут Филимон смотрит на меня как на идиота, потом зло сплевывает и выщелкивает из портсигара сигарету. Портсигар — гордость Филимона. Внутри него сигареты, снаружи кнопка. Нажмешь — из уголка портсигара появляется язычок пламени. Красиво. Был бы у меня такой портсигар, я бы тоже курил. А так-то, никакого смысла. Опять же расходы.
— Я отойду на час, — лениво бросает Филимон через плечо. — Посиди тут. Цену на горшки знаешь. Скоро буду.
Сунул крепкие пальцы с глинистыми полосками по заусенцам в карманы, зашагал в сторону Завода. Плохо дело, Если пошел на Завод, да еще злой, значит без торговли уже с неделю. У Филимона жены нет. Его никто не тащит по жизни, он сам тащится. Не продаст горшок, ляжет спать голодным. Понятно, что вокруг его острова не одна верша закинута, но лишь рыбой сыт не будешь. С другой стороны, детей у Филимона нет. А на себя можно и наплевать. Правда, сначала надо выпить.
Я заглядываю под стойку. Файка уже на любимом месте, в тенечке, на пачке тех циновок, что я уже и не предлагаю. Лежит, тычет пальцами в электронную игрушку, укладывает корявые фигурки друг на друга, поворачивается ко мне:
— Что с лошадкой?
— Пока ничего, — отвечаю я и вздрагиваю от прикосновения.
07
— С кем вы там?
— С кем?
Я выбираюсь из-под стойки и вижу…
— Вы…
— Я? — она недоуменно сдвигает брови, потом называется. — Маша. Если вы об имени, конечно.
Я выбираюсь из-под стойки и вижу, оказывается, Машу. Она среднего роста, стройная, без излишеств и без недостатков. У нее милое лицо, русые волосы, нос с маленькой горбинкой, полные губы. От нее пахнет озером, и ее платье надето на мокрое тело. Я, как дурак, пялюсь на ее грудь.
— Там дочь.
— Дочь, — она удивляется и зовет. — До-о-очь! Ты что там делаешь? Как тебя зовут?
— Файка! — словно новогодняя хлопушка выстреливает Файка из-под стойки, прикусывает нижнюю губу и пускает слюну, что бывает с нею только в минуты предельного восторга. — Я там играю в тетрис! И еще папа обещал мне показать лошадку!
— Лощадку? — удивляется Маша. — Разве в Городе есть лошади?
— Ему Кирьян-торговец сказал, что есть, — тут же выкладывает Файка и прячется под стойкой. На ближайшие десять минут ее смелость израсходована.
— Понятно, — заговорщицки кивает Маша и переводит взгляд на горшки. — Где гончар?
— Отошел? — расплываюсь я в привычной улыбке и слушаю. Слушаю ее обоими ушами, но каждым ухом по разному. Одним ухом слышу голос, другим пытаюсь понять смысл произносимых ею слов. И почему-то не отвечаю ей, а спрашиваю в ответ.
— Вы можете мне помочь?
— Помочь?
«Ну перестань же, перестань улыбаться, как идиот!» — твержу я себе.
— Да. Сколько стоит вот этот горшок?
— Двести рублей?
— Двести рублей, — она выбирает из ряда коричнево-зеленоватых крынок ту, что облита глазурью щедрее других, протягивает мне две сторублевки и объясняет. — Молоко из крынки другое. Пробовала и из пакета, и из банки, и из бидона — все не то. Только из крынки!
Я, кажется, киваю. Лицо от улыбки вот-вот парализует. Она опускает крынку в пакет и из вежливости подходит к моим циновкам. Я убираю локти, встаю. Возвышаюсь над нею на половину головы и примерно лет так на двадцать — худой, нескладный, неудачливый. Или неудачный? Нет, неудачный, но удачливый. Все-таки семь дочек.
Верхняя циновка самая яркая — я красил тростник разноцветными чернилами, а потом собирал из него что-то вроде орнамента, в котором кружочки и квадраты пересекают друг друга до мельтешения в глазах, и тайком покрывал Ксюхиным лаком для волос. Мне самому не нравятся такие циновки, но покупателю нужно яркое. Всегда нужно что-нибудь яркое. Циновки, правда, в последнюю очередь.
— Сколько? — скучнеет она на глазах.
— Пятьдесят рублей, — говорю я в ответ и тут же понимаю, что меньше. Ну, конечно же меньше.
— А можно я посмотрю еще? — спрашивает она из вежливости.
Конечно можно, теперь уже скучнею я. Те, которые снизу, лучше, но они некрашеные. Все оттенки — золотой, почти белый, желтый, серый, коричневатый и зеленоватый. Те цвета, которыми одарило тростник солнце и обычная вода. Все.
Она осторожно отворачивает мою старательную яркость в сторону и замирает. Смотрит долго, минуту, другую, потом поднимает взгляд к небу, в котором висит палящее солнце, и отходит в сторону, чтобы ее тень не ложилась на рисунок. Я приглядываюсь. Да, на солнце циновка блестит, но солнце слепит. Нужно смотреть в пасмурную погоду. Тогда все становится тем, чем должно. Солнца в сухом тростнике и так предостаточно.
Она возвращается назад, поднимает яркую циновку, держит ее в руках так, чтобы прикрыть тенью ту циновку, которая лежит верхней в пачке, потом поднимает взгляд на меня.
— Почему я?
— Вы? — я наклоняюсь над циновкой и вижу там Машу. Да, на рисунке она. Белесыми и серыми линиями — вода. Зелеными линиями поперек воды — тростник. В просветах между тростинок золотом — Маша. Силуэт, лицо — все ее.
— Это Сиринга, — кашляю я. — Наяда. Из мифа.
— Это я! — приподнимается она на носках и шепчет мне прямо в лицо. — Я! Да смотрите же вы!
— Да, — соглашаюсь я. — Очень похоже. Совпало.
— Беру обе, — оставляет она на стойке сто рублей. — Вот эту яркую на пол брошу, на крыльцо. И буду надеяться, что ее затопчут как можно быстрее. Не делайте так больше. А вот эту себе. Только…
Она накрепко зажмуривает глаза и скатывает выбранные циновки в трубку, не глядя. Так же не глядя, подхватывает со стойки пакет с крынкой и открывает глаза, только уже сделав шаг в сторону. Я не могу оторвать взгляда от ее стана.
— Боюсь опять увидеть яркое. Загляну еще. Высмотрю что-нибудь.
— Папка, — высовывается из-под стойки Файка. — Мороженое купишь?
— Купишь, — ошалело отвечает папка.
Больше ни одного покупателя.
— Ну что, — появляется через два часа Филимон. — Продал что-то?
Я кладу перед ним двести рублей.
— И то хлеб, — радуется Филимон и показывает тяжелый промасленный мешок размером с его голову. — Я тоже с добычей.
— Что это? — интересуюсь я.
— Подшипники, — отвечает Филимон. — Шарики от подшипников. Не шибко большие, миллиметров по пять, то что надо. В масле, зато не ржавые. Одна приятность — что на пальцах, что на языке.
— На языке? — я не могу понять. — Зачем тебе шарики от подшипников.
— Как зачем? — удивляется Филимон. — Кузе Щербатому. Ему надоело гальку глотать. Толку мало. Да и непроходимость в животе у него какая-то образовывается. Да и найди эту гальку. На городском пляже и горсть песка с собой не унесешь. Досматривают!
08
Мы идем с Файкой к лодке. Я тащу рулон циновок, которых стало меньше на две, Файка лижет мороженое в стаканчике с кремовой розочкой. Филимон остался на рынке. А нам нужно домой. Сегодня должна вернуться с Самого Большого Острова Ксюха. Она поступила в Институт. По этому поводу дома будет праздник.
— Папка! Папка! Смотри! Вон же лошадка!
Я оборачиваюсь. У заводского забора стоит ослик. Он прядет ушами и без особого желания обтрепывает верхушки подзаборных сорняков. Хозяин ослика, судя по приставленной к забору лестнице, добывает что-то нужное на территории Завода.
— Это ослик, Файка, — говорю я.
Она смотрит на меня снизу строго, как учительница. Даже грозит пальчиком.
— А какая разница? — и добавляет через секунду. — Ты что, заболел?
— Почему заболел? — не понимаю я.
— Ты улыбаться перестал, папка! — горячо шепчет Файка. — Влюбился, что ли?
— Глупости! — делаю я страшное лицо.
Наверное, примерно так визжат маленькие поросята. Даже в ушах зазвенело.
09
Я гребу к нашему острову. Лидка не любит лодку. Нервничает от скрипа уключин, от низкой скорости, от сырости под ногами. Добирается до дома или на маршрутном катере, или берет моторку. Хочет купить свою, что-то подсчитывает. До нашего острова на катере — десятка, на моторке — четвертной. Туда и обратно — одна циновка. Попробуй еще продай ее. Ксюха должна приплыть на большом катере. Он остановится у пристани Города, Ксюха сойдет на берег, где ее уже будет ждать Лидка. Она обнимет дочь, поцелует, затем отстранит от себя, осмотрит, принюхается и только после этого снова поцелует. Лидка строгая. Ксюхе только семнадцать, но она тоже строгая. Вся в мать. Кто из них в меня? Наверное, Ольга. Но Ольга все время молчит. Молчит и смотрит. Молчит и смотрит. А вот в кого Файка, пока непонятно. Она еще не определилась. На данном этапе Файка сама в себя.
— Что там? — спрашиваю я неугомонную, которая наконец расправилась с мороженым, облизала губы, облизала пальчики, потом прополоснула пальчики в воде, умыла ими рожицу и замерла, раздумывая над продолжением собственной беззаботности.
— Ничего, — Файка зевает, ее беззаботность требует отдыха. — Маяк торчит, но не горит. День потому что. Но над нашим домом дым. Наверное, мамка уже дома, и Ксюха уже дома. Готовятся к застолью.
«Готовятся к застолью, — повторяю я про себя. — Позовут Серегу и Марка. Девчонки будут смотреть на Марка влюбленными глазами. А мы с Серегой будем молчать. Как всегда. Вся разница между нами в том, что я улыбаюсь, как дурак, а Серега не улыбается. Но тоже сидит как дурак».
— Папка, — спрашивает Файка. — А что ты купил Ксюхе?
— Портмоне, — смеюсь я.
— Портмоне, — закатывается в хохоте Файка. — Какое смешное слово! Портмоне!
10
Марк — красавец. Профиль точеный, глаза голубые, волосы на взгляд жесткие, но лежат как нужно. На худых щеках и подбородке — легкая небритость. Плечи широкие, в теле — ни капли жира. Я как-то спросил его, Марк, откуда стать такая? Маяк, ответил он. Все маяк. Высота — сорок метров. Двести ступеней. Поручни. Десяток раз за день ручками-ножками вверх и вниз, вверх и вниз. Стать сама собой нарисуется.
У меня маяка нет. Но руки сильные, от весел. Ноги конечно да, подкачали. Длинные и худые. А Серега-болтун все равно завидует. Раньше завидовал. Говорил, что если плыть устанешь, нужно щупать ногами дно, вдруг мелко. У тебя, — говорил, — на целую голову больше шансов выжить. Глупость сказал. Какие шансы? Серега-болтун плавает как рыба. Раньше плавал. Больше не хочет. Наплавался.
Сейчас Серега сидит с торца стола рядом со мной. Сидит, молчит, ковыряется в тарелке. Марк по длинной стороне. Слева от него Ксения, справа — Жанна. Ухаживают. Подкладывают разных вкусностей, которых сами и наготовили, рассказывают ему какие-то глупости. Напротив сидят Софья, Галина и Зинаида. Стучат ложками, уши врастопырку, ни слова стараются не пропустить. Они мой средний класс. От семи до одиннадцати лет. Ксении — семнадцать. Жанне — тринадцать. Ольге — пятнадцать. Ольга сидит рядом с Лидкой, помогает ей, приносит из кухни тарелки, блюда, столовые приборы. Вытаскивает из кадушки со льдом вино. Лидка любит холодное. А Ольга смотри на меня, глаз не может оторвать, словно взгляд ее приклеился к моему виску. Она единственная черненькая из всех. Остальные светлые. Всех оттенков. А Ольга черненькая. Когда была маленькая, таскалась за мной, как Файка. Кирьян одно время тыкал мне пальцем на Ольгу, глаза таращил, на Марка намекал. Только Марк появился на острове, когда Ольге уже пять было. А до него смотрителем маяка был Рыжий. Был рыжим, и рыжим помер. Потом стал Марк. Но Ольге уже было пять лет. Да, она единственная черненькая из всех. Ну так и Лидка черненькая. Сидит, слушает щебетанье Ксюхи, которая все-таки стала студенткой, собирается приобрести какую-то сложную специальность, нужную для Завода. Лидка на меня не смотрит. На меня смотрит Ольга. А на руках у меня Файка, орудует ложкой в моей тарелке. Я улыбаюсь, время от времени вытираю Файке щеки, заляпанные тушеной картошкой. Наконец, слышу голос Лидки:
— А что скажет отец?
Я снимаю с коленей Файку, медленно поднимаюсь, смотрю на Лидку. Она красивая. Лицо нежное, фигура, все при ней. Если бы встретил восемнадцать лет назад ее еще раз, опять бы женился. Даже если бы знал, что будет так, как будет. Что раздражать ее буду и улыбкой, и всяким пустяком, и даже тем, чего нет. Что упоминая мое имя, она будет махать в сторону рукой. Что сначала будет терпеть мои ласки, потом ссылаться на больную голову, потом и терпеть перестанет, и ссылаться тоже. Что обиду будет носить в себе на меня неведомо за что. Сколько мы уже не ложились с нею в одну постель? Три года? Четыре? Какая разница? Мне уже и не хочется. Ее не хочется. Хочется, но не ее. Кого-то еще. Хотя ни с кем не было так, как с нею. Но ее не хочется. Это как пить чай из любимой чашки, если перед этим его туда не налить.
— А что скажет отец?
— Вот, — я протягиваю Ксюхе портмоне. — Тут немного внутри, пятьдесят рублей. Только на развод. Ты молодец. Горжусь.
Дочь поднимается, тянется через стол, трется через холодный шелк платья бедром о легкую небритость Марка, да так, что он жмурится. Берет простенькое дерматиновое портмоне, старательно улыбается, потом бросает его за спину, на комод, где стоит сумка, с которой она приехала. Обычная сумка, плетеная из тростника, своими руками сделал перед отъездом.
— Ты бы лучше еще парочку сумок сплел, — говорит небрежно. — Подружкам понравилось. Говорят, что прикольно..
— Хорошо, — говорю я, медленно сажусь, снова помещаю на колени Файку, случайно ловлю взгляд Лидки. Она смотрит на меня с такой ненавистью, что внутри у меня что-то обрывается. Обрывается, но не падает, а повисает где-то между сердцем и животом. Улыбаюсь, а что еще делать?
— Ты чего, папка? — оборачивается Файка.
— Ничего, — с трудом выдыхаю я. — Все хорошо.
Серега, который сидит рядом, пихает меня локтем и подвигает стакан.
— За тебя, Ксюха, — подношу я его к губам.
Она кисло кивает.
11
Утром я иду на гнилой бережок, который лежит с южной стороны островка, где пляжа нет, и песка нет, только ил, и открываю сарай. Стопа сплетенных мною циновок почти упирается в потолок. Потолок, правда, низкий, и двух метров не будет, но все же. Я начинаю вытаскивать циновки на траву. Файка пытается мне помогать, потом ей надоедает и она начинает собирать одуванчики. С этой стороны острова у нас луг. Четыре метра бурьяна, за ними пятнадцать метров луга. До самый воды. Кузя очень завидует. Не раз говорил мне, что мечтает сходить по нужде на луг. Чтобы сидеть, слушать стрекотание кузнечиков, и чтобы трава щекотала ему задницу. Я помнится, пообещал ему тогда голову открутить.
Нижние циновки отсырели, даже почернели по краям, считай, что половина сделанного. Я укладываю их на камни, на которых разогреваю воду для отпаривания тростника, и зажигаю.
— Зачем? — подбегает Файка.
На голове у нее венок, пальцы черные от одуванчикового сока.
— Они умерли, — объясняю я Файке. — Видишь, чернота по краям? Все, эти циновки уже никуда не годятся.
— Почему? — надувает губы дочь. — А в Музее? Помнишь, мы ходили в Музей?
Я помню. Музей стоит между Школой и Заводом. В нем четыре зала. В первом — чучела рыб. Во втором — предметы быта и какие-то окаменелости. В третьем — картины. В четвертом — поднятый со дна озера маленький торпедный катерок — ржавый и бессмысленный. В том зале, где лежали предметы быта, Файка нашла истрепанные циновки, расписанные краской. Циновки обветшали, из распадающегося плетения на нас с Файкой смотрели лица неизвестных людей.
— Помню, — отвечаю я. — Те циновки уже попали в историю, поэтому они ценны. А наши еще не попали.
— Но ведь так они и не попадут уже? — пытается что-то понять Файка.
— Из этого сарая они никуда не попадут, — объясняю я. — Они не доживут до истории. Лучше уж превратить их в дым. Пусть летят, куда хотят.
— Когда человек умирает, он тоже становится черным по краям? — осторожно спрашивает Файка.
Она не знает, что такое смерть. Когда умер Рыжий, Файки еще не было.
— Не сразу, — отвечаю я. — Эти циновки были живы, когда я складывал их в сарай. И умерли они постепенно. А человек умирает сразу. Правда, иногда сначала долго болеет.
— Понятно, — тарабанит заученные наставления Файка. — Нужно мыть руки и смородину перед едой, не сидеть подолгу в воде, зимой одеваться тепло.
— Правильно, — смеюсь я и добавляю в разговор немного ужаса. — Если человек болеет долго и тяжело, тогда может и почернеть по краям.
Но Файку испугать трудно.
— А может быть, они больные, а не мертвые?
Файка подходит к костру, ойкает от взлетающих хлопьев пепла, смотрит, как тонут в пламени лица, фигуры, силуэты, линии, пятна, тени.
— Нет, — отвечаю я. — Они умерли.
— А что ты собираешься делать с остальными циновками? — теряет она интерес к пламени.
— С этими? — я растаскиваю десятки, сотни уцелевших работ по траве. — Думаю выбрать штук десять получше, а из остальных сделаю сумки. Только смотри внимательно на воду. Увидишь Кирьяна, скажи мне. Бечева у меня есть, но мне будут нужны ленты. У меня их мало.
— Зачем тебе столько сумок? — восторженно шепчет Файка. — Ведь Ксюха просила только парочку?
— Эти сумки будут нужны нам всем, Файка, — с улыбкой обнимаю я дочь. — Надеюсь на это. Лучше помоги мне выбрать десять лучших циновок. Представь себе, что тонет катер, на нем много людей, А у тебя в лодке только десять мест. Выбери тех, кого ты возьмешь в лодку. Хорошо?
— Нелегко это, — бормочет Файка.
— Конечно, — киваю я. — Найти что-то стоящее в куче барахла, особенно если стоящего там нет.
— Нет, — не соглашается Файка. — Выбрать лучшее из очень хорошего.
«Я люблю тебя, Файка» — думаю я.
Не говорю, думаю. Незачем говорить. Она и так знает.
12
Они все разные. Вылеплены из одного теста, но разные. И не потому, что пеклись по-разному, кто-то в середине противня, кто-то с краешку, кто-то остался чуть сыроват, кто-то подрумянился, кто-то в самый раз, нет. Просто они разные. Мы делаем все, что можем. Растапливаем печь, сдвигаем угли в сторону, смазываем гусиным пером противень. Готовим вылепки, пробегаем пером и по ним, присыпаем нашими надеждами, ожиданиями, нашей нежностью, задвигаем в печь и ждем. Следим, чтобы жар не был слишком мал или слишком горяч, передвигаем противень, беспокоимся. Даже тогда, когда печь уже остыла, и от нас почти ничего не зависит. Еще бы, ведь мы не знаем, что за начинка в наших вылепках? Ее явно закладывает кто-то третий, в тот самый миг, когда мы настолько увлечены друг другом, что забываем о тесте напрочь. Поэтому, каждая из семи — тайна.
Ксения знает себе цену. Она первенец. Может быть, самая красивая из семерых. Она не ходит, она носит себя. И не смотрит, а показывает себя. Есть чего показать, есть. К тому же умница, помощница, без надрыва, но помощница. Правда, порой слишком безапелляционна и резка. Это от мамы.
Ольга — как открытая рана. Черненькая, тонкая, то быстрая, то окаменелая. То бегом, то шепотом. То нервно, то тихо. Она как тонкий слух, который годен, чтобы различать шорохи, и никуда не годится, чтобы прислушиваться к грому. Вся — на пуантах. На кончиках пальцев. В кого она такая?
Жанна — кремень. Губа прикушена. Волосы затянуты в хвостик. Плавает — лучше всех. Берется «на слабо», но с умом. Понимает больше, чем говорит, но если говорит сама, то коротко и точно. Проломит все, что нужно, лишь бы не сломалась, когда наткнется на кого-то, кто еще тверже. А ведь бывают такие, бывают.
Зинка. Копия Жанны, но в пол-оборота. Тоже твердая, но тоньше. Плавает чуть хуже. «На слабо» вовсе не берется, иногда знает, что «слабо», иногда не хочет показывать, что «не слабо». Говорить может много, но не сказать ничего. Молчит хорошо. Пока еще как маятник — куда качнется, к уму или к хитрости?
Галка. Почти мальчик. Коленки содраны, нос расковырян, ногти сгрызены. На носу веснушки. Видит только то, что перед носом. Зато все остальное слышит. Слышит и мотает — усов нет, значит мотает на нос. Честная до неудобства. Когда кто-то рядом врет, белеет. Губу прикусывает. Но не ябедничает. Хотя, разобраться с вруном может. Трудно ей будет в жизни. А может быть и легко. Галку все любят.
Сонька. Коробочка с сюрпризом. Угловатая коробочка. Прочная. Без музыки, без присвиста. Молчаливая, медленная, как черепаха. Настойчивая. Очень добрая. Но не настырная. Вот уж из кого мамка получится высший сорт. Лишь бы одиночеством ее не накрыло. Подставляется со своей добротой.
Файка — человек-говорун. Не белый листок, нет, уже написано что-то, но мелко. Мне уже не разглядеть. А хотелось бы. Интересно.
И что в них во всех от меня?
Лидка говорит, что ничего. А если что-то и проявится, каленым железом будет выжигать.
13
Ольга подходит к нам по узкой тропинке, осторожно отстраняется от лопухов, смотрит, чтобы не поймать репейник на кислотную маечку. Мы не богаты, кроме семи дочек никакого богатства, дом и тот на ладан дышит, но одевает дочек Лидка на совесть.
— Что делаешь?
Вопрос из тех, которые задаются просто так. Узелок.
— Сумки.
— Ксюхе?
Когда любая из шести прищурилась бы, черненькая Ольга только шире глаза распахивает. Похожа на Марка. Но нет. Он после на острове появился, после.
— Ей нужны две, а я делаю много сумок, — весело объясняю Ольге.
Она особенная. И люблю я ее по-особенному, словно диковину какую, что прижилась и стала дороже прочих. Она знает.
— Дай мне одну, — просит.
Это что-то новенькое.
— Выбирай.
Я успел собрать пару десятков. Из готового проще. Раскроил, края прихватил рыбьим клеем, по склеенному набил дырок, прошнуровал лентой. Лента пока есть, но мало, нужно Кирьяна напрячь. Я ею циновки по краю обметывал, теперь вот остатком прошнуровываю по углам сумки да ручки оплетаю из ивового прута. Проваренный прут имеется, зимой корзинками занимался. Но корзинки — не мое. Сумки, впрочем, тоже.
Выбрала одну, осмотрела, повесила на плечо, шагнула в лопухи, обернулась, спросила зло:
— Так ты и в самом деле ничего не видишь или притворяешься?
— Ты о чем? — улыбаюсь я в ответ, зная, что разозлю ее еще больше. — Файка, о чем она?
— Какая Файка? — начинает почти кричать Ольга. — У тебя шесть дочерей, шесть! Понимаешь? Шесть! Мамка аборт сделала пять лет назад! Забыл? Аборт!
— Не забыл, — отвечаю я и продолжаю улыбаться, хотя улыбка моя становится маской.
— Идиот, — шипит она себе под нос и уходит, забыв и о лопухах, и о репейниках.
— Ты идиот? — осторожно спрашивает меня Файка.
— Все люди идиоты, — беру я ее на руки. — Но некоторым не удается этого скрыть.
14
Назавтра Кирьян останавливает мою лодку за островом Филимона. Я один, Файка осталась дома, некуда было ее посадить. Кирьян таращится на гору сумок. А ведь я порезал за два дня только половину циновок. Просто ленты у меня нет больше. Хотя если буду сплетать именно сумки, то ленты потребуется меньше. Углы будет не нужно обметывать.
— Лента есть? — спрашиваю торговца.
— Будет, — напряженно высчитывает он что-то в уме. — Всех цветов будет. И по низкой цене. Ты что затеял, улыбчивый?
— Как что затеял? — удивляюсь я. — Сумки сделал. Везу продавать.
— Хочешь доказать Лидке, что ты полезный? — корчит Кирьян коммерческий прищур.
— Деньги нужны, — делаю я серьезным лицо. — Ксюха в институт поступила. Нужно. На книжки.
— На наряды, на косметику, на кафешки, — перечисляет Кирьян и высматривает, высматривает что-то. — А ну-ка дай одну пощупать?
— Я вытаскиваю из пачки крайнюю — узор на солнце блестит, лента по углам легла плотно, внутри все гладко, ни одной заусеницы, ручки на ощупь словно спинки у стульев на Лидкиной работе — загляденье одно. Или защупованье? Бросаю сумку Кирьяну.
Он ее трогает, рассматривает на вытянутых руках, потом утыкается носом. Выглядывает что-то на дне, изнутри, проверяет швы, дергает за ручки, с недоверием косится на мою улыбку.
— А если дождь?
— Да хоть два, — смеюсь я. — Клей с добавками, в сумке можно воду носить, если недалеко. Сразу не выльется, плетение плотное. И по весу. Ведро песка входит. Остров обошел от маяка до халупы Сереги. Ручки не оторвались.
— Сколько их у тебя? — спрашивает Кирьян.
— Сто пятьдесят, — гордо отвечаю я. — И еще будет. Где-то под двести. Ну, это уже с лентами. А торг пойдет, еще лучше буду плести. Без швов, без стыков. Цельные. И ручки буду сплетать из тонкой лозы, без лент.
— Сто, — решается Кирьян.
— Что сто? — не понимаю я. — Сто сумок?
— Сто рублей! — выдыхает торговец. — Даю сто рублей за сумку!
Я почему-то перестаю улыбаться. Продавать собирался за тридцать. Если я просил за одну циновку пятьдесят, то на сумку уходит половина циновки. Значит, двадцать пять, к этому лента, моя работа. Ну, пусть будет тридцать. Хотелось бы, конечно, тридцать пять, но уж больно число не круглое. Кирьян называет сто. Как я потом буду продавать остальные по тридцать? Узнает, обидится. Да и самому как-то неловко.
— Да ты что? — неверно истолковывает мое молчание Кирьян. — Я ж оптом беру. Больше не могу, самому на навар ничего не останется. К тому же плачу сразу. И все прочие, что сплетешь, тоже заберу. Только уж ты никому чтобы не продавал. А сплетешь без стыков, посмотрим, другую цену поставим. Да нечего думать! А ну-ка, перебрасывай мне связки, перебрасывай! По рукам? По рукам я говорю!
Вмиг забирает у меня все сумки, пересчитывает, довольно крякает, выуживает из-под лавочки барсетку, топырит защелку, отсчитывает ассигнации.
— Вот, дорогой мой, держи, — протягивает пачку пятисоток. — Пересчитывай. Я сказал, пересчитывай! А то скажут потом, что блаженного обманул. Сто пятьдесят сумок по сто рублей — пятнадцать тысяч рубликов. Тридцать бумажек по пятьсот. Все правильно? Эх, улыбчивый, да мы с тобой… Плети дальше, а я на Самый Большой остров. Дальше уже мое дело.
Заводит моторчик и закладывает вираж. Я ошалело тереблю в руках пятнадцать тысяч рублей. Потом прячу их в грудной карман рубашки, застегиваю на пуговицу, снимаю с воротника булавку и закалываю карман еще и булавкой. Сажусь за весла и разворачиваю лодку.
Даже не знаю, что и думать. Но улыбаюсь. Глупо, наверное, выгляжу. Постричься, что ли?
15
Дочки распластались на пляжном краю острова. Шесть точеных фигурок в разноцветных купальниках от детских, до почти взрослой. Головы накрыты от солнца лопухами. Файка в панаме роется в песке рядом, строит замок. Но песок сухой и замок у нее не получается. Она поднимает лицо к небу, жмурится на ясное солнце, что-то шепчет. Наверное, выпрашивает дождичек. Файка считает, что надо договариваться не только с живыми существами, но и с растениями, с предметами и явлениями природы. Уговаривает крапиву возле сортира, что бы та ее не жагалила, Просит воду в душе, чтобы вода ее не обжигала. Просит ветер, чтобы он не дул слишком сильно. Мороз, чтобы не морозил. Комод в родительской спальне, чтобы тот не оставлял острыми углами синяки на Файкиных ногах. Сейчас она что-то просит у солнышка. Впрочем, делает она это недолго, подхватывает ведерко и шлепает к воде. Да, песок нужно смачивать, иначе никакой замок не поднимется на берегу маленького моря. Точно, начатая пачка соли торчит из Файкиной майки в двух шагах. Значит, море будет.
Я загребаю вправо к лачуге Сереги. Как и большинство домов на островах, она построена из плавника. Когда Серега еще был болтуном, он смеялся, что теперь построить дом на ближних островах нет никакой возможности, потому как весь плавник вылавливает Кузя. Серега лежит на крыше своей халупы. Не загорает. Спит. Под боком клеенный-переклеенный надувной матрас, на голове лист газеты «Островная правда», на плече баба с рыбьи хвостом. Очень Файка интересовалась, как же это создание осуществляет естественные надобности, есть ли у нее икра и на что она надевает туфельки на высоких каблуках? Но Серега больше не болтун. Иногда он недоуменно разглядывает татуировку на собственном плече, но чаще всего спит. В последнее время это у него получается на зависть. А ведь до пропажи мог болтать часами.
Я огибаю лачугу Сереги и причаливаю к сараю. Нахожу в воде цепь, размыкаю замок и пристегиваю лодку к углу сарая. На всякий случай, бывало, что угоняли и лодки. Да и что ее угонять, вяжи к килю поплавок с фалом метра в два, да топи лодку где-нибудь на отмели, чтобы поплавок был на метр в воде. По началу лета, когда течения сильные, муть идет, никто лодку не разглядит. А как искать перестанут, поднимай, перекрашивай, пользуйся.
Я выпрямляюсь, поднимаю глаза и вижу на фонаре маяка женский силуэт. Женский силуэт в темно-зеленом. Темно-зеленое платье есть только у Лидки. Лидка на маяке. Рядом Марк. Бинокля у меня нет, но в том, что он обнимает кого-то в темно-зеленом, нет сомнений. Наверное, хвастается видами с маяка. Я поднимался наверх. Раньше часто, а с Марком один раз. Помогал ему поменять треснувшее зеркало. Виды сверху действительно отличные. Острова торчат из воды словно кочки. На каждом кусты, огородики, домики. Кажется, словно рассматриваешь картинку раскладку из детской книжки. Марк не слишком разговорчив. Не молчун, конечно, как Серега — бывший болтун, ну и не трепло какое-нибудь. Тогда он сказал сразу много слов. Разглядел, как я таращусь, кручу головой, подошел и выдал.
— Это не озеро, улыбчивый. Это океан. Огромный пресноводный океан, в котором набрызганы миллионы островов. Им нет числа. Этого не может быть, понимаешь? Поэтому я думаю, что мы все дураки.
— Особенно я, — рассмеялся я.
— Ты в первую очередь, — серьезно сказал тогда Марк.
Теперь он стоит там, у зеркал с кем-то в темно-зеленом и обнимает ее. А я стою у сарая, в котором еще осталось больше сотни циновок под разрез, и десять циновок, которые отобрала Файка, и которые я пока еще не видел, и думаю, что самое страшное, когда не хочется жить, но и умереть нет никакой возможности. И ведь еще и улыбаюсь при этом.
16
В середине весны ко мне в сарай пришла Жанна. Села напротив и долго, с час смотрела, как я заряжаю раму, как начинаю переплетать разложенные по цветам стебли тростника. Хмурилась, сопела, пока, наконец, не произнесла то, зачем пришла:
— Почему ты нас не бросишь?
— Почему я должен вас бросить? — перестал я улыбаться. Странно, именно говоря с Жанной, улыбаться я не могу. Еще с Лидкой. Но с ней по другой причине. Лидка взрывается от моих улыбок, они ее обжигают. А с Жанной по-другому. С нею я не умею улыбаться.
— Просто, — она не пожала, а как-то дернула плечами. — Тебе же нет от нас никакой пользы.
— Пользы? — удивился я. — Мне от вас пользы? Зачем мне от вас польза? Это от меня должна быть польза!
— От тебя много пользы, — стала загибать пальцы Жанна. — Ты смотришь за нами, особенно за мелкими. Возишь в школу на санках. Проверяешь табели. Читаешь вслух. Готовишь еду. Ну, пусть иногда готовишь еду. Убираешься вокруг дома, чистишь пляж. Плетешь циновки.
— Какая польза от циновок? — вздохнул я.
— Большая, — кивнула Жанна. — Если бы не твои циновки, остров бы зарос тростником. А ты его выдергиваешь. Посмотри, почти все острова вокруг в тростнике, а наш как картинка! Но и это еще не все. Ты держишь маму.
— Держу? — не понял я.
— Держишь в тонусе, — объяснила Жанна. — И отдохнуть ей позволяешь. Ей трудно на Заводе, она много работает. Приплывает домой, а тут ты. И если даже на работе проблемы, дома их нет. Дома одна проблема — ты. Поэтому можно на тебя ругаться, обижаться, кричать, шипеть, бросаться блюдечками…
— Ну, это было всего один раз, — запротестовал я. — И то лишь потому, что я нечаянно разбил мамину чашку, и блюдечко стало ненужным.
— Она разряжается на тебя, и нам меньше достается, — продолжила Жанна. — Мы все ее любимые дочки. Польза самая прямая. Пользы нет только для тебя.
— Стоп, — не согласился я. — У меня от вас всех очень много пользы! Еда, крыша над головой, твердая земля под ногами, ваша любовь…
— Любовь, — задумчиво повторила Жанна. — Любовь — это, конечно, очень интересно. Но где она, эта твоя любовь? Ты спишь в пристройке, в вашей спальне с мамой спит Сонька. Не всегда, но все же. За последние несколько лет мама ни разу ни обняла тебя, ни поцеловала, только щеку подставляет, когда уходит к утреннему катеру, да и то лишь тогда, когда мы на нее смотрим. Это любовь?
Я долго молчал. Потом отодвинул раму с начатой циновкой, посмотрел в глаза Жанны, взгляд которой я не мог выдерживать дольше пяти секунд, и сказал:
— Не хочу смотреть на все через пользу. Она как мутное стекло. Мелочи куда-то исчезают. Остаются только общие силуэты. Да и то… Хочу, чтобы без пользы. Просто так.
— Просто так? — с сомнением повторила Жанна. — Просто так ничего не бывает. Мама так сказала.
— Хорошо, — уцепился я за подсказку. — И я с вами не просто так. Я как смородина.
— Смородина? — не поняла Жанна.
— Ну да, скоро поспеет красная смородина. В палисаднике за пристроем. На грозди много ягод. Но отщипни хоть одну и посмотри. Уже через день она съежится, помутнеет. А остальные будут себе наливаться соком дальше.
— Ты не смородина, — вдруг налилась слезами каменная девчонка. — И мы не смородина. Мы живые. И мы, нет, я, я не хочу чтобы у меня было так.
— Как? — не понял я.
— Как у вас! — хлопнула она дверью.
17
Иногда я думал, что нужно было уйти. Когда была только Ксюха. Потом, когда появилась черненькая Ольга, я уже не думал об этом. Я не мог себе представить, что где-то буду я, а где-то отдельно будет все еще родная и желанная Лидка с двумя моими детьми. Что та же Ольга без меня начнет сначала переворачиваться, потом ползать, потом сидеть, потом ходить. Что Ольга без меня прочитает первую книжку, что не меня будет мучить бесконечными «почему». Что не я буду вставать ночью, сбивать температуру, укачивать, носить на руках. И что все это будет делать одна Лидка — тоже не мог представить.
Хотя, Серега, когда еще был болтуном, как-то сказал, что главное, чего нельзя делать в семейной жизни, это жертвовать собой.
— Почему? — заинтересовался я словами болтуна, который вроде бы никогда не был женат.
— Потому что второй, тот, ради которого приносится жертва, будет придавлен чувством вины, — объяснил Серега. — А уж если твоя жертва фигуральна, так сказать, и ты в виде домашнего экспоната продолжаешь маячить в поле зрения, готовься к глухой ненависти.
— Я не чувствую себя жертвой, — твердо сказал я. — Может быть, немного неудачником. Да и то! Семь дочек!
— Семь? — почему-то повторил Серега, задумался, потом махнул рукой. — Ты не понял. Не ты жертва. Лидка.
— Она? — удивился я.
— А кто же? — хмыкнул Серега. — Женщина отдает себя, вручает. Можно сказать, доверяется. Мол, неси меня, приятель к светлому будущему через желательно светлое настоящее. Но не успевает она оглянуться, как вдруг оказывается запряженной в тяжелую повозку, на которой сидит ее многочисленное потомство, а рядом идет и понукает ее любимый муженек.
— Я не понукаю, — ответил я тогда Сереге. — И не иду рядом. Я тоже тащу.
— Ага, — со смешком кивнул Серега. — Тащишь. Не понукаешь. Лидка в понуканиях не нуждается. Поэтому ты тоже взгромоздился на телегу и дремлешь на облучке.
Тогда я обиделся. Назавтра пошел к Сереге, чтобы разобраться с его словами. Но Серега пропал. Попал, как оказалось, в белый туман. А когда вернулся, ему уже было не до разговоров.
18
Я иду домой. Иду на почему-то подрагивающих в коленях ногах домой. Разуваюсь. Прохожу в спальню, в которой не появлялся уже несколько лет. Открываю шкаф, в котором стоят две стеклянные пивные кружки. На одной еще детской Ксюхиной рукой написано эмалью «мама», на другой — «папа». В Лидкиной кружке торчит пачка сотенных, не слишком толстая. И счет за свет. Я выцарапываю из кармана пятнадцать тысяч и кладу их в ее кружку. Потом выхожу на крыльцо, сажусь и смотрю на маяк. До него полсотни шагов. До Лидки — полсотни шагов и двести ступеней с поручнями вверх. А если ей до меня, то вниз. Если бы я остался работать на Заводе, то после смерти Рыжего мог бы занять его место. Меня бы откомандировали. Марка же откомандировали. Но я не остался на Заводе. Не смог. Не захотел. Кем только не работал — и сторожем в Музее, и мастером трудового обучения в Школе, и даже пытался торговать пивом. Ничего не получалось. Нет, с работой проблем не было, денег не получалось заработать. Одному бы хватило, а на семью… Так бы и мыкался, пока Лидка не начала нормально зарабатывать на Заводе сама. Тогда и сказала мне, теребя как-то в руках сделанный мною из тростника ее портрет.
— А попробуй. Может быть и получится что-то такое. Сплети жалюзи рулонные нам в бюро. Вдруг, пойдет?
Пошло. Только недолго. В Лидкином бюро десять окон, а не десять тысяч. Кому нужны жалюзи из тростника? Кому нужны циновки?
Я вспомнил Машу и задержал дыхание.
Почему мы не совпали с Лидкой? Да нет же, совпали. Да, не без шероховатостей, но притерлись же. Не хватило благополучия. Мы словно складывали наше счастье из камня, но камни были не слишком тяжелы, и не было благополучия, чтобы промазать швы, чтобы сложить из этих камней монолит. И счастье пошло трещинами. Если оно было. Нет, нас особо не трясло. Счастье пошло трещинами под действием собственного веса. Накопилось. Что-то такое накопилось. Или растратилось. Да, растратилось. И вот пустота.
«Папа, почему ты не бросишь нас?».
Потому что боюсь показаться самому себе еще большей сволочью, чем чувствую себя теперь.
Дверь маяка открывается, и оттуда выбегает Ксюха в темно-зеленом мамином платье. Пробегает мимо меня и недоуменно хмыкает. Значит, одной из точеной фигурок на пляже была Лидка. Она совсем не изменилась. Такая же как и раньше. Значит что-то изменилось во мне. Из маяка появляется Марк. Он медленно идет ко мне. Останавливается в пяти шагах, достает пачку сигарет, выстукивает одну с пятого удара. Закуривает. Ни капли жира, голубые глаза, подбородок, скулы — как на картинках из журнала мод. Но пальцы чуть дрожат.
— Жениться хочу, — говорит глухо. — На Ксении. Зарплата у меня нормальная. Жить есть где.
— Ну, я-то не Ксения, — улыбаюсь я хорошему мужику Марку.
— Это да, — кивает Марк и медленно бредет обратно к маяку.
Ксюха выбегает из дома через минуту — волосы распущены, купальник — две ниточки — одна с треугольничком, другая с чашечками. Дух захватывает.
— Марк хочет на тебе жениться, — говорю я ей.
— Пусть хочет, — кривит она губы. — А я не хочу замуж. За него не хочу. Подумаешь, смотритель маяка. Двести ступеней. Да и рано мне замуж.
— Тогда зачем ты ходила к нему? — не понимаю я.
— Мало ли, — фыркает Ксюха и бежит в сторону пляжа, оборачивается через пять шагов, бросает. — Поцеловаться, потискаться, потрахаться. Я уже взрослая, папочка.
Я несколько минут прихожу в себя. Потом медленно бреду на пляж. На ходу сбрасываю рубашку. Если не снимать брюки, я все еще неплохо выгляжу. Плечи так уж точно не уже, чем у Марка. Подхожу к Лидке, снимаю лист лопуха с ее лица, наклоняюсь, чтобы поцеловать. Она прячет губы.
Она прячет губы.
Отворачивается.
19
Если бы у меня было много денег, я бы купил остров. Большой остров. Метров сто на сто. Или бы нанял землечерпалку. Рабочие бы забили бетонные сваи, а землечерпалка намыла бы ил и завалила им пространство между сваями. Получился бы остров с высокими берегами. Так делают некоторые. Находят мель, забивают сваи, правда, деревянные. И начинают намывать ил. Обычными ведрами. Чаще всего это дело затягивается на несколько лет. Бывает, что сваи выпирает из дна, и ил размывается. А некоторые строят из всякого хлама плоты. Но это не для меня. Мне нужно твердое под ногами.
Чтобы остров был прочным, нужно туда же бросать что-то вроде арматуры или сталистой проволоки, сеток. Но это можно взять только на Заводе, а на Заводе взять что-то не так просто. Тот же Филимон рисковал, воруя подшипники. Если бы я послушался Лидку, то работал бы на Заводе охранником. Филимона я бы подстрелил точно. А когда бы сменялся со смены, то сам бы притащил кучу подшипников. И притаскивал бы что-нибудь каждый день. И подстреливал кого надо. А тот, кого не надо подстреливать, платил бы, и я бы имел две или три зарплаты сверху. И ведь никакой ответственности, потому что Завод и предназначен для того, чтобы с него все красть. Лидка так и не простила мне того, что я отказался от этой работы.
Но если бы я был богат, и купил бы остров, то устроил бы его так, чтобы с одной стороны был пляж. А с других сторон высокий берег. Я посадил бы на нем ивовые кусты, чтобы они скрепили ил корнями. И несколько сосен, чтобы они пришпилили мой остров ко дну озера опять же корнями. И построил бы большой дом, в котором и у Лидки, и у каждой дочери была бы большая комната. И отдельная кухня, мало ли, заведут семьи. И очень большая общая кухня. И теплые сортиры. И даже сауна. И много еще чего-то такого, о чем я даже не подозреваю. И еще я бы купил Лидке небольшой катер. И снегоход на зиму. И открыл бы счета в банке на каждую дочь с очень приличной суммой денег. А потом бы умер.
Умер бы.
Нет, уехал. Точнее умер бы, но так, чтобы все они думали, что я уехал. И даже прислал бы им свои фотки со счастливой физиономией, чтобы думали, что я сволочь последняя и просто променял их на кого-то еще. То есть умер бы, но чтобы никто меня не жалел. Потому что ни при каких обстоятельствах на самом деле я не мог бы оставить своих девчонок — Ксению, Ольгу, Жанну, Зину, Галину, Софью, Фаину. Да и Лидку, пусть не осталось ничего кроме досады за промелькнувшую молодость. Но ведь все они, все они из Лидки. Она их выносила. Не для меня, не для себя, просто выносила. Поэтому я живым их оставить не могу. Только умереть. Но я не могу купить остров, я ничего не могу. Только если сплести тысячу сумок. Десять тысяч сумок. Тогда да. Только тогда да.
— Почему вы в жилете?
Я выпрямился, встал, застыл с глупой улыбкой на губах. Раннее утро, лето, солнце светит, а я думаю о смерти.
— Я не умею плавать.
— В самом деле?
Маша удивлена. У нее на плече пляжная сумка, из которой торчит полотенце, бутылка воды, еще что-то.
— Я думала, что на островах все умеют плавать. Ладно, если здесь кто не умеет, но на островах-то…
— А мы разве не на острове сейчас?
Я недоуменно топаю ногой. Вокруг рынок, передо мной стол, на нем десяток свернутых в рулон циновок, которые я так и не развернул, Филимона нет, рано для него. Мы все на острове. Мы все на островах. Файка говорила, что каждый из нас на острове, потому что каждый — как маленький остров. Но кто-то большой остров, а кто-то как несколько свай и ведро для ила. И так до самой смерти. Что она понимает о смерти? Она же не знает о ней ничего, Рыжий умер, когда Файки не было еще.
— А, понимаю, — она смеется. — Здесь говорят так, потому что Город на Большом острове. На Б-о-л-ь-ш-о-м!
Она расставляет в стороны руки и надувает щеки.
— Поэтому все, кто живет на маленьких островах — именно что на островах. А мы вроде как на большой земле. А где Файка?
— Дома осталась, — говорю я. — Я рано поехал на рынок.
— Лето, — пожимает плечами Маша. — Сейчас все пойдут на пляж. Хотите я вас научу плавать?
— Меня? — я не знаю что ответить.
— Да, вас. И не спорьте.
Она подхватывает мои циновки и уходит.
— Не медлите. А то утащу. И не бойтесь. Я знаю укромное местечко, где нет никого. Там даже можно купаться голышом.
20
Я возвращаюсь на остров в сумерках. Стараясь грести без всплесков, огибаю лачугу Сереги, приковываю лодку, сарай не открываю. Иду на ватных ногах к дому. Циновки держу под мышкой, хочу с утра рассмотреть, что же все-таки отобрала Файка. В пристрое слышу рыданья. Даже нет, скулеж. Словно щенку перебили лапу, и он уже устал скулить и только поскуливает. Вместе с дыханием. Вдох — выдох. Вдох — выдох.
Рыдает Ксюха. Она лежит на моей постели, мокрая от недавнего купания и рыдает. Я откладываю циновки, сажусь рядом, нащупываю мокрое плечо, тянусь за полотенцем, вытираю ее. О чем тут говорить? Рядом с женщинами, даже маленькими, нужно уметь молчать. Особенно, когда они в слезах. Молчать и быть с ними. Уходить, когда они хотят, чтобы ты ушел, но оставаться поблизости. Слушать и слышать то, что они говорят, что не говорят, и что не хотят сказать. И ни словом, ни жестом не давать понять, что ты слышишь больше, чем тебе разрешено. И всегда помнить, каким было вот это рыдающее существо, да-да, то самое, которое уже умеет курить, и способно говорить гадости, и делать гадости, и способно обидеть смертельно, и испортить жизнь кому угодно, в первую очередь самой себе, всегда помнить, каким оно было лет пятнадцать назад. Как оно ело кашу с ложечки, как сосало мамкину грудь, как играло с собственными пальчиками, а потом радовалось игрушке, книжке, платью…
Я наклоняюсь и тыкаюсь носом в ямочку на шее. Целую. Прижимаюсь колючей щекой. Ксюха поворачивается, обнимает меня, прижимается, сильно прижимается, так, словно хочет забраться внутрь меня и начинает понемногу успокаиваться. И я обнимаю ее и глажу. Поддерживаю. Держу. Держу на весу.
Уже ночью, когда на небо выкатывает луна, Ксюха успокаивается окончательно. Завертывается в одеяло, садится рядом, кладет голову мне на плечо. Говорит тихо.
— У тебя мамка первая?
— Нет.
— А ты у нее?
— Спроси у мамки.
— А ты никогда не жалел, что вот с теми, кто был у тебя до мамки. Ну, что не вышло? А?
— Понимаешь, до мамки у меня не было ничего… серьезного.
— А что такое «серьезное»?
— Это когда глубже, чем просто так. Глубже. Когда под кожу. Внутрь. Понимаешь?
— А если все под кожу? Как отличить?
— Не знаю.
— Как ты отличил?
— Что?
— Что мамка та самая?
— Никак.
Разве она та самая? Разве вообще была в моей жизни та самая?
— Так чего же? — Ксюха чуть отстраняется. — На удачу?
— Не знаю.
Я ведь правда не знаю.
— А глупый вопрос?
— Валяй.
— Если бы снова, ну, на двадцать лет назад?
— Все так же.
— Почему?
Спросила так, словно ждала другого ответа.
— Потому что у меня есть вы. И мне нужны именно вы. Все. До единой. Поэтому никаких двадцать лет назад. Пусть все остается как есть.
— А мамка?
— А что мамка? — переспрашиваю я.
— Знаешь, — она вдруг ложится мне на колени грудью. — Вот Марк хороший вроде. Но он старый. Нет, ты не старый. А Марк старый. Ну, не сопи. Он младше тебя лет на десять. Ну и старше меня лет на двенадцать или тринадцать. Но он тусклый. Нет, так-то яркий, даже очень. И где надо горячий. Ну, не бери в голову, я же уже не маленькая девочка. Я давно не маленькая девочка. Но он тусклый, понимаешь? Ну, остывший. Как чай. Его можно разогреть до кипятка. Он сам разогревается до кипятка, но он тусклый. Ему уже ничего не надо. Понимаешь? Нет, меня ему надо конечно. Но…
Я слушаю Ксюху, ужасно ревную ее к Марку, удивляюсь, какая она уже взрослая, вижу, какая она еще маленькая, и спрашиваю себя, а я разве не тусклый? Я разве не остывший?
21
— Я правда знаю место, где можно купаться голышом. Да вы не смущайтесь, я же не заставляю вас купаться голышом. И сама не собираюсь. Я только хочу научить вас плавать. Уж больно нелепо вы выглядите в этом спасательном жилете. Жарко к тому же. Лето!
Да. Лето.
Мы идем вдоль заводской ограды к городскому пляжу. Уже издали я слышу крики и визг. Половина Города пытается пережить жару, забравшись в воду.
— Сюда, — зовет меня Маша.
Она стоит у пролома в ограде. Я знаю этот пролом. Он ведет на южную часть территории, там склады готовой продукции, особая охрана, собаки. Туда даже Филимон не суется.
— Да не бойтесь вы! — она тянет меня за руку. — Мы же не воровать идем. Спокойно, не скрываясь, пройдем вдоль колючки к воде. Тут по выходным купаются многие из заводоуправления.
«Лидка», — подумал я.
— А в другие дни никого. Но охрана никого не трогает. Вот ночью я бы не советовала.
За натянутой колючкой и путанкой полоса в десять метров шириной, за ней опять колючка и путанка, а дальше склады готовой продукции, в которых я не был, и даже не знаю, что за готовая продукция хранится внутри алюминиевых ангаров. В Городе никто не знает. Точно никто. Потому что самые страшные секреты вроде того, кто в заводоуправление с кем поддерживает отношения чуть более близкие, чем дружеские, знает в подробностях даже Кузя Щербатый, а что хранится на складах, никто не знает. И про Лидку Кузя ничего не знает. Или говорит, что не знает. Мне говорит. А может быть, моя Лидка что-то вроде тех же складов с готовой продукцией?
— Да не бойтесь вы, днем они даже и не лают. Лучше улыбайтесь. Вам идет улыбаться. С улыбкой вы естественны. А когда перестаете, словно маску натягиваете.
Собаки лежат в пыли и жарко дышат, вывалив языки. На них строгие ошейники, от ошейников цепи ведут к кольцам, закрепленным на тросах. Тросы тянутся внутри колючки от столба к столбу. Невеселая жизнь.
— Сюда, — Маша раздвигает кусты сирени, влечет меня в сторону от утоптанной тропинки. — Чтобы вы совсем успокоились, вот тут есть место, где не бывает вообще никого. Совсем. Но еще сто метров через бурьян. Только когда будете плавать, не кричите и не фыркайте, а то провалим явку.
За сиренью, за репейником, за ржавыми станками с ЧПУ, обвитыми хмелем, за крапивой (мне поднять руки, Маше ойкать с голыми коленками), за бузиной — крохотный пляж. Пятно чистого песка пять на пять метров в раме из реликтовой мягкой травы шириной метра в два. По бокам — непроходимые заросли бузины. У самой воды снова песок и мягкие волны. Большой пляж в стороне, его почти не слышно. Впереди только кочки островов. С этой стороны города нет ни одного ближе километра.
— Раздевайтесь, — говорит Маша и начинает расстегивать платье.
22
Утром Ксюхи уже нет. И Лидки нет. Ольга на кухне гремит чайником. Жанна, Зинка, Галка и Сонька о чем-то судачат во дворе. Точнее судачат Зинка, Галка и Сонька, а Жанна изредка резюмирует. И речь идет о Марке. Боже мой, они обсуждают его достоинства. Файка ковыряется у меня в ногах, пытается сообразить платье для плюшевого мишки из моего старого носка. Из чистого носка, разумеется. Поднимает на меня глаза.
— Не бери в голову. Они и не о таком говорят. Подожди. Они еще будут сравнивать тебя с Марком. Просто про тебя они говорят шепотом.
— И ты это слушаешь? — ужасаюсь я.
— Я бы заткнула уши, но с затычками ходить неудобно, — признается Файка. — А потом мне это неинтересно. Пока неинтересно. Но скоро будет интересно. И вообще, лучше бы они об этом у Ксюхи спросили.
— А где Ксюха?
— С мамкой уплыла в Город. У мамки деньги появились, хотят что-то Ксюхе купить.
«Хотят что-то Ксюхе купить», — повторяю я про себя и, кажется, радуюсь.
— Ты куда? — спрашивает Файка, видя, что я одеваюсь.
— К сараю, — отвечаю я. — Надо сшивать сумки. Ты пойдешь?
— Нет, — пыхтит Файка. — Надо мишке носок на голову натянуть.
— Кровать уберешь?
— Ага.
— Точно сможешь?
— Точно!
Мишка отброшен, ладошки у глаз. Точно что-то затеяла егоза. А не проверить ли мне Ольгу?
— Скажи Ольге, что я ушел в сарай. Пусть попозже принесет мне чего-нибудь перекусить. Скажешь?
— Ага.
Кивает, а ладошки от глаз не убирает.
— Ну, говори, что у тебя?
— Пап, а что такое сюприз?
— Сюрприз? — я думаю. — Хороший или плохой?
— Просто сюрприз?
— Сюрприз — это такой неожиданный подарок, — я подбираю слова. — Внезапная… радость, которой не ждешь. Что-то интересное, нужное, ценное, доброе, о чем ты не знаешь, но что тебе приготовил твой близкий человек.
— Понятно, — убирает ладошки от глаз Файка. — А то утром мамка с Ксюхой собирались в город, Ксюха что-то спросила у мамки, а та ей ответила, что для женщины всякий мужик как сюрприз, пока штаны не снимет, не узнаешь. Пап, а у тебя тоже в штанах бывает сюрприз?
23
Ольга появится ближе к обеду. Вместе с Сонькой. Я уже успею раскроить все оставшиеся циновки и буду усердно их клеить. Клей варится тут же в котелке. Сонька морщится от запаха, переворачивает пустой ящик, стелет на него тряпицу, берет из рук Ольги сумку и быстро и аккуратно расставляет — бутылку с чаем, два куска хлеба, сало, зеленый огурец, лук, соль, два вареных яйца. Делает шутливый книксен и, не говоря ни слова, топает по своим делам. Маленький идел женщины. Ольга ставит к ящику вторую сумку.
— Ленты. Кирьян был с час назад. Просил передать. Сказал, чтобы ты не расслаблялся, и он завтра-послезавтра все заберет. И чтобы ты не забыл про обещанный эксклюзив. Цена будет выше. И что даже много гнать не нужно. Если все срастется, то чем меньше, тем дороже.
— Хорошо.
Она подходит ближе.
— Ты постель не убрал, я убрала. А Сонька посоветовала отнести тебе поесть. Садись, я помогу.
Ольга может. Они все рукодельницы. Лидка позаботилась, но Ольга лучше всех. Однажды села со мной плести, словно свежей водой меня окатила. Такие узоры, такие блики вывела, что и в голову не приходили. И теперь так же. И минуты не смотрела на мои руки, и вот же, присела к столу и делает не хуже меня.
Я ем.
— Как думаешь, у Ксюхи все получится?
Я давлюсь яйцом.
— Почему ты не спросишь: как думаешь, у Марка все получится?
— Марк уже получился, — объясняет Ольга, — Он уже. Понимаешь, уже. Остыл.
— Умер, что ли? — пытаюсь я пошутить.
— Нет, — Ольга думает. — В другом смысле. Он уже холодный. Отлит. Его можно уже выколачивать из формы. Он уже не изменится. А если переливать, то надо плавить. А плавить, значит разогревать как следует. И без гарантий. Вот скажи, Ксюхе оно надо?
— Бесполезно, — говорю я.
— Что бесполезно, — не понимает Ольга.
— Бесполезно плавить, — говорю. — Если только расплавить и расплескать. Уничтожить. Стереть в пыль. Это да. Лучшее средство. А под другую форму бесполезно.
— Почему? — настаивает Ольга.
— Человек не меняется.
— Это как же? — она поднимает брови. — Ну, не становится лучше? Не меняется в мелочах?
— Мы же не о мелочах говорим, — поправляюсь я.
— Подожди, — она хмурится. — Но если был человек нормальным, а потом запил, превратился в мерзавца. А это что?
— Запить может каждый, а вот мерзавцем надо быть изначально, — объясняю я. — Давай так. Забудем о том, что с кем стало, и кто кем стал. Забудем об обстоятельствах и превратностях. Возьмем обычного человека. Представь его как… механизм. У него есть набор функций или опций. Что-то он может, что-то нет. Что-то делает хорошо, что-то не очень. В разных обстоятельствах работают разные его функции, но они все имеют место быть. И останутся.
— Человек не механизм, — не соглашается Ольга. — А если ты ошибаешься?
— Конечно ошибаюсь, — не спорю я. — В конкретных случаях. Но в целом, нет.
— И какой ты? — она смотрит на меня пристально, перестает клеить мои сумки. — Какой ты, вот неизменившийся с юности, один и тот же. Какой ты?
— Я? — думаю с чего начать. — Я обыкновенный. И единственный. Изнутри единственный. Наверное, эгоист. Латентный. Всегда казалось, что я один. Остальные — как проекция. Функция. Образы. А материальный, настоящий — я один. Я не поменялся, просто понял, что не один. Но эгоизм остался, он всегда найдет какие-то дырочки, чтобы устроить фонтанчик. Потом я ленивый, сомневающийся, одновременно наглый, но с умом, хотя умным себя назвать не могу. Глупостей наделал в жизни много. Многое вспоминать стыдно. Но без криминала. Но…
— Но… — оживляет меня Ольга.
— Но у меня, кажется, есть совесть, — думаю я вслух.
— И ничего не меняется? — уточняет Ольга.
— Все меняется, — улыбаюсь я. — Вот в эту минуту я совсем другой. А завтра обернусь на эту самую минуту и увижу опять все то же — эгоизм через самолюбование и самобичевание, глупость в том же самом, наглость, сомнения и лень там, где и всегда.
— А мама — это глупость?
Ведь глаз не сводит, паршивка. Молчу.
— Мама — это глупость?
— И да, и нет. Понимаешь, Глупость в той степени, в какой глупостью пронизано все. Глупость в том смысле, что глупы все, кто ищет одновременно и душевного и физического соития на всю жизнь, поскольку считает вечным преходящее. Но мудрость-то в том же самом. Нашел бы я семь золотых девчонок, если бы не споткнулся на этой глупости?
— Шесть золотых, шесть! — отрезает Ольга.
— Да сколько угодно, — улыбаюсь я.
— Послушай, — теперь думает, сомневается она. — Вот скажи. Тогда. Ксении семнадцать, значит восемнадцать лет назад. Тогда, когда ты начал ухаживать за мамой. За будущей мамой. За Лидой. На что ты надеялся? Что тебе давало уверенность, что ты завоюешь ее?
— Разве я уже ее завоевал? — смеюсь я.
— Не отвлекайся, — морщится Ольга. — Почему ты смел надеяться, что она станет твоей? И что ты хотел ей предложить?
— Ты сейчас о брачной раскраске самца? — пытаюсь пошутить я.
— Обо всем, — отрезает Ольга.
— Хорошо, — я вытираю пальцы, глотаю из бутылки. Опять пересластила Сонька.
— Хорошо. Я думал, я верил, я старался, я был лучшим.
— То есть? — не понимает Ольга.
— Послушай, — я морщусь. — Ты заставляешь меня говорить о вещах, которые я и сам все еще не могу обозначить точно. Это как огонь. Ты же сама начала с того, что Марк, к примеру, уже остыл. А я не был тогда остывшим. Я пылал. И я думал, что счастье мамы вот в этом моем огне. Ей только нужно откликнуться, согласиться. И тогда все будет хорошо. Во мне много огня, его хватит нам надолго. Очень надолго. Понимаешь, — я наклоняюсь к Ольге, — моя сила была в том, что я и вправду был уверен, что так, как люблю ее я, никто не будет и не сможет ее любить.
— В этом твоя глупость? — спросила Ольга.
— И в этом тоже, — вздохнул я. — Но больше всего в том, что я развел слишком жаркий костер. Ей не пришлось разводить свой.
— И? Твой костер прогорел?
— Нет. Не знаю. Нет. Но он ее уже не согревает. Давно.
— Может быть, она привыкла к холоду? — спрашивает Ольга.
— Может быть, я привык к холоду? — отвечаю я ей.
— То есть, все? — разводит она руками. — Все, значит, все?
Я думаю. Потом осторожно говорю.
— Не все. Но дальше, наверное, вот так.
— Не хочу так, — надувает губы Ольга.
— Я тоже так не хочу, — вздыхаю я. — А что делать?
24
— Раздевайтесь, — говорит Маша и начинает расстегивать платье.
Я путаюсь в пуговицах. Она отлично сложена. Не как Лидка, И дело не в возрасте. Хотя и в возрасте. У Маши чуть больше грудь, чуть уже бедра, но фигура не мальчиковая, а спортивная.
— Качалка, — объясняет она, поймав мой взгляд. — Тут на Заводе есть. Абонемент недорогой. Тренажеры, бассейн. Сейчас немного запустила себя, но тут, — она проводит рукой по плоскому животу, — даже были такие… квадратики. Ничего так?
— Много чего, — решаюсь я пошутить.
— Хорошо, — она подходит к воде, отворачивается, дает мне справиться с брюками. — Вода теплая, — переходит на ты, не глядя на меня. — Иди сюда.
У нее светлый купальник. В воде он сразу намокает и становится прозрачным. Я тороплюсь войти в воду по пояс. Мои совсем не плавательные трусы вздуваются пузырем. Она смеется. Ложится в воду у берега. Теплая вода чуть перекатывается через ложбинку спины. Я ложусь рядом. Она говорит тихо.
— Надо сначала привыкнуть к воде. Ничего нельзя делать насильно. Привыкнуть. Подружиться. Это как секс.
— Плавать — это как секс? — уточняю я. — Тогда я умею плавать.
— Файка — какой по счету ребенок? — спрашивает Маша.
— Седьмой, — гордо отвечаю я.
— Марафонец, — уважительно кивает Маша и улыбается. — Или спринтер. Семь раз.
— Ну, это уж… — я пытаюсь развести руками в воде, получается, будто я похлопываю плавниками.
— Пошли, — она поднимается, показывает на мгновение ставший прозрачным треугольник трусиков и тянет меня за руку на глубину.
Дно на этом пляже песчаное, твердое и чистое. Редкость.
— Успокойся, — волны облизывают ее грудь. — Ничего страшного. Человек сам по себе плавуч. Чтобы держаться на воде нужно минимум движений. Когда научишься держаться на воде, тогда научишься плавать легко. Вот так.
Она вдруг изгибается, плавно входит в воду, только ступни ее словно хвост русалки на плече Сереги-болтуна брызгают мне в лицо прощальным бульком, потом словно огромная рыба оплывает мои колени по дуге, впереди вздувается пузырь, голова Маши, плечи, почти сползший лифчик, тонкие, но сильные руки.
— Вот так, — повторяет она. — А теперь медленно, очень медленно ложись спиной мне на руки.
— На руки? — удивляюсь я.
— Не бойся, — она берет меня за плечо. — Медленно, медленно.
У нее и в самом деле очень сильные руки. Или это я теряю в весе, погрузившись в воду?
— Спокойно. Вот смотри. Ты лежишь в воде. Я тебя почти не держу. Нос, рот — над водой. Можно дышать. Это очень важное положение. Так можно отдохнуть. Долго плыл, устал. Полежал на воде, отдохнул, дальше поплыл. Усилий — минимум. Да. Вытягивай руки вдоль туловища. Да. И делай легкие движения ладонями вниз. Словно отталкиваешься от воды. Легче. Еще легче. Видишь? Ты не тонешь. На спине можно и плыть. Но это не теперь. Теперь давай попробуем подержаться на воде спиной вверх. Сейчас ты перевернешься. Опять медленно. Голову при этом держи вверх. Но не туловищем ее поднимай, а за счет шеи. Понял? Давай. Медленно. Не бойся. Я держу тебя.
Я медленно поворачиваюсь.
Она ловит меня рукой за причинное место. Случайно. Замирает. Выдыхает в ответ на мой вдох. Я встаю ногами на дно. Она смотрит мне в глаза и запускает руку под резинку. Обхватывает под основание. Сжимает. Закрывает глаза. Говорит так, словно у нее пересохло в горле.
— Пошли на берег.
Ведет за собой. Как будто вдоль троса.
25
— Папка! Тебя мамка зовет! — кричит Галка.
— Иду, — я с трудом разгибаю спину. День удался. Да и Ольга хорошо помогла, пока не убежала купаться. Мало того, что в плотных связках лежат двести готовых сумок, так ведь еще и перетряхнул снопы заготовленного тростника, прикинул, сколько нужно накосить еще, да каких оттенков, и пару новых сумок успел сплести. Без углов, почти без ленты, с оплеткой только по верхнему срезу, с хорошими ручками. Опробовал плетение, без рисунка. В два оттенка — зеленоватый с золотым. Играет на солнце.
— Папка! — не унимается Галка.
— Ну, иду же! — отвечаю я, закрываю сарай и отправляюсь к дому.
Дома праздник. Девчонки примеряют обновки. Светло-голубое шелковое платье у Ксюхи. Очередная кислотная маечка и шорты у Ольги. Спортивный костюм у Жанны. Курточка с отражательными вставками у Зинки. Сарафан на лямках у Галки. Пляжный комбинезон у Соньки. У Файки ничего. Она сидит, надувшись, в углу. Я подмигиваю ей и прикладываю палец к губам. Все будет нормально, Фаина. Завтра же.
Протягиваю новую сумку Лидке. Берет, окидывает мгновенным взглядом, но не улыбается. Впрочем, хорошо уж, что раздражение из глаз не плещется.
— Вот, — кладет на стол пакет. — Переоденься. А то ходишь как… Кузя Щербатый.
Я беру пакет, иду к себе в пристрой, открываю. Внутри рубашка-ковбойка, свободные джинсы, комплект белья, кроссовки, носки, суконная курточка-жилетка с кучей карманов. Переодеваюсь. Все впору, словно на меня сшито. Или мой размер не меняется, или Лидка иногда поглядывает в мою сторону. Иду в гостиную. Дочери уже накрывают на стол. Мое появление вызывает хор восторженных криков.
— Все за стол! — кричит Сонька.
Я споласкиваю руки у рукомойника, сажусь с торца стола, подхватываю подбежавшую Файку.
— Ничего не забыл? — смотрит на меня Лидка.
Все замирают. Я недоуменно оглядываюсь, показываю Лидке чистые руки. Виски и мочки ушей у нее белеют. Она суживает взгляд и начинает в тишине отчеканивает слово за словом.
— Сними жилет. За стол в верхней одежде не садятся. Сколько можно повторять? Сейчас же обляпаешь все…
26
Я опять на веслах.
— От любви до ненависти один шаг.
— Что ты сказал? — не понимает Файка. Она сидит на корме.
— Так, — мотаю головой. — Пустое.
— А… — кивает Файка. — Я тоже часто так… Говорю что-то, а получается пустое. — Она тяжело вздыхает. — А у тебя точно есть деньги?
Деньги у меня есть. С утра пораньше у сарая нарисовался Кирьян, без лишних разговоров забрал все сумки, посоветовал порезать на них же и последние десять циновок и «не заниматься больше разной ерундой». Потом показал липкие наклейки с чудными иностранными словами.
— Видел?
— Что это? — не понял я.
— Ты эти сумки не плел, понимаешь? Они импортные.
— Импортные? — все еще не понимаю я.
— С очень дальних островов, — поясняет Кирьян. — С очень-очень-очень дальних. Вот так.
Он снимает с одной из наклеек защитную пленку, приклеивает картинку на бок сумки, шуршит целлулоидом, превращая мое творение в заграничный продукт.
— Поэтому дальше все только через меня и только внутри сарая! — шепчет Кирьян. — Чтобы никому. Держи деньги.
Я пересчитываю двадцать тысяч рублей, пихаю их в карман жилетки. Сейчас Кирьян закутает мои сумки брезентом и поплывет превращать продукцию народных промыслов в таинственный загранпродукт и полновесные рубли. А я пойду в спальню, в которой не засыпал уже несколько лет, и вновь положу деньги в кружку с надписью «мама».
— Так, — таращит глаза Кирьян и выхватывает у меня последнюю сумку — двойняшку Лидкиной. — А это что?
— Вот, — пожимаю плечами. — Попробовал. Я же тебе говорил. Две штуки сплел. Вторая у Лидки.
— Сколько сделаешь таких в день? — почему-то переходит на шепот Кирьян.
— Две, — отвечаю я, потом прикидываю, морщусь. — Если сырье будет уже готово, да донышки заранее сладить, то и три.
— Мало, — чешет голову Кирьян. — Ладно! Посмотрим, может быть, дочек привлечешь, кому подзаработать надо. За такую буду платить двести. А пока в качестве премии. Вот.
Я получаю в руки еще две тысячи рублей.
— Лично от меня! — надрывно шепчет Кирьян, прыгает в лодку и толкается от берега. — Не пропадай, улыбчивый! У тебя золотые руки! И так даже лучше, чтобы без рисунка!
Двадцать тысяч я положил туда, куда и собирался. Две тысячи прибрал в карман нового жилета. Подхватил Файку и вот уже подгребаю к пристани. Десять циновок, которые Файка отобрала, подмышкой, в кармане две тысячи, впереди шумный рынок, над головой утреннее солнце, которое уже почти превратилось в полуденное.
— Нравится? — показываю Файке платье.
На платье два кармана, куча желтых цветов на салатовом фоне, оборки, рюшечки, но все в меру. Файка стягивает через голову выцветший сарафанчик седьмой доноски, ныряет в платье. Смотрит на себя в приставленное к столу уличного торговца зеркало, обнимает меня за ногу, утыкается носом в брючину, что-то шепчет. Я наклоняюсь, отколупываю от себя заплаканное лицо.
— Что ты говоришь?
— Потеряюсь, — отвечает Файка. — Я в этом платье потеряюсь на нашем лугу. Там тоже одуванчики.
— Не потеряешься, — успокаиваю я ее. — Сейчас мы еще купим тебе очень белую панамку и самые красивые сандальки. Хорошо?
— И котенка, — просит Файка.
— И котенка, — соглашаюсь я. — Но если мамка выгонит меня с этим котенком из дома, тогда мне придется уйти жить в сарай.
— Давай сразу уйдем жить в сарай, — предлагает Файка, и я понимаю, что мне очень хочется жить с ней в сарае.
— Но только до зимы! — предупреждаю я ее.
27
— Так бывает, — пытаюсь я оправдаться. — У меня давно ничего не было. Поэтому так бывает.
Маша лежит рядом, уже без купальника, восхитительная и недоступная. Она улыбается. Не смеется, а улыбается. И я начинаю понимать, что ничего не случилось, просто и в самом деле «так бывает», тем более, что у меня и в самом деле давно ничего не было, а если и было, то без Лидки, а так, как водится, и вообще…
— Хочешь я возьму?
Я молчу.
— Скажи мне, я хочу, чтобы ты взяла.
Мне вовсе не хочется, чтобы она взяла. Мне хочется самому ее взять, выпить по капле, почувствовать губами и языком каждый изгиб ее тела и даже больше.
— Я хочу услышать.
— Да, — послушно хриплю я. — Я хочу, чтобы ты взяла.
— Вот, — довольно говорит она и изгибается надо мной.
Потом, когда я наконец вспомню, что такое «быть мужчиной», когда вспомню, каково это, когда снизу в твои крылья бьет горячий воздух, как легко лететь, когда снизу бьет горячий воздух, как долго можно пролететь, когда снизу бьет горячий воздух, и как прекрасно срываться в отвесном падении и снова взмывать, срываться и снова взмывать, потом, когда она по-настоящему уставшая замрет возле меня уставшего в том же липком, свежем поту, как и я, и прошепчет что-то неразличимое, потом я вдруг спрошу ее:
— Зачем?
Она будет долго смотреть на меня, покусывая травинку, и когда я уже буду готов успокоиться, прошепчет:
— Просто так.
А когда мы уже одетые будем идти обратно вдоль колючей проволоки, добавит:
— Не заморачивайся. Когда я захочу тебя оставить, я скажу. Когда будет все, я скажу.
28
— Посмотри.
Она появляется не одна. Рядом с нею высокий молодой парень, который даст мне тысячу очков вперед. Определенно, я никогда не смогу ее любить так, как любит он. Конечно, если он ее любит.
— Посмотри, — она бросает на меня короткий взгляд, тайком показывает большой палец и разворачивает циновки. — Вот. Как тебе?
Он рассматривает их по очереди, потом смотрит на меня и снова рассматривает циновки. Щурится.
— Вам плохо?
— Нет, — с удивлением смахиваю капли внезапного пота со лба. — С чего вы взяли?
— Так, — он пожимает плечами. — Побелели что-то. Нет, Маш. В целом — неплохо, но сама стилистика не для современного интерьера. Тут ведь все сюжетные вещи. А нам бы подошло что-то не так уж четко оформленное, абстрактное. Понимаешь?
Она кивает, берет его под руку и они уходят. Файка, которая высунулась из-под прилавка в последний момент, замечает с какими-то почти старушечьими интонациями:
— Хороший парень. Но когда я буду в самом соку, он уже станет старичком.
— Вроде меня, — я собираюсь переложить циновки и заодно посмотреть, что выбрала Файка.
— Ты особый случай, — не соглашается Файка. — Тебя бы я выбрала в любом возрасте.
— И в любом состоянии, — качаю я головой. — Желательно спящим.
Из всех циновок Файка оставила десять одинаковых. На всех из них серым — вода, коричневатым — пузыри островов, зеленым — щетки тростника у берега. И все. Самые простые, самые слабые работы. Да, прав Кирьян, нужно бросать заниматься ерундой и плести сумки. Под последней циновкой листок бумаги. На нем ровным, уверенным почерком надпись: «Завтра у входа в Контору в двенадцать часов».
— Что там? — спрашивает Файка.
— Бумажка, — отвечаю я.
29
Вечером Лидка снова куда-то уезжает. Мы едим без нее. Ксения отварила макароны, Ольга из куриной тушки, помидоров, перца и еще чего-то изобрела чудный соус. За столом молчанье, только позвякивают вилки, да хлюпают девичьи рты, с шумом засасывая из тарелок длинные макаронины. Лидка живо бы всех построила и прекратило свинство. Я наклоняюсь над тарелкой и с шумом засасываю сразу две макаронины. Дочери следят за моими упражнениями с интересом, но повторить решаются только Сонька и Галка, остальные уже думают о фигуре. Фигура требует от них питания небольшими порциями, чтобы наполнение желудка не опережало насыщение. Файка переводит взгляд с Соньки на Ксению, и не знает, кому подражать. Наконец выбирает Ксению и продолжает чинно тыкать вилкой в тарелку. Понятно, что остается последней.
С криками — «морской закон» — дочери разбегаются, торопятся на вечернее купание, остается одна Ксюха. Она включает водонагреватель, моет посуду. Всю, кроме файкиной тарелки. Файкину тарелку всегда мою я. Так я поступаю и в этот раз. Файка блаженно разваливается на продавленном диване. Ксюха садится за стол, подпирает подбородок рукой, точно как Лидка.
— Ты не спросил у мамы, куда она отправилась, — напоминает мне Ксюха.
— Угу, — вытираю я руки.
— Все еще не можешь простить, что она сделала аборт?
— … сделала аборт?
Я мог бы работать эхом. Оказывается, это несложно.
— Пойдем, — Ксюха берет меня за руку и тянет за собой. Как маленького.
— Вот, — она толкает дверь девичьей комнаты. — Смотри. Шесть кроватей. Моя, Ольгина, Жанны, Зинки, Галкина, Сонькина. Шесть, понимаешь?
Выпрямляет перед моим лицом шесть пальцев — по три на каждой ладони. Поворачивается к другой стене.
— Видишь? Шесть шкафчиков! Шесть! Пошли, пошли!
Теперь мы в гостиной. Оказывается, что в трильяже шесть полок с книгами и тетрадями. И настольных ламп, простеньких, с кривыми кронштейнами, тоже шесть. Я оборачиваюсь. Файка стоит на пороге и сосет леденец на палочке. В самом деле, все всего по шесть.
— Что ты молчишь? — спрашивает Ксюха.
— Корабль плывет, — отвечаю я ей.
— Не поняла, — морщится дочь.
— Корабль плывет, — говорю я. — Может, уже и мотор заглох, и парус порвался, но он все еще плывет. Понимаешь? Берег еще далеко, но виден. Не нужно бросать якорь, чтобы начинать ремонт. Лучше его бросить там, поближе у берега. Может быть, он доплывет и так.
Ксюха молчит. Только бледнеет, оттопыривает нижнюю губу и дует время от времени на собственное лицо. Потом медленно поднимается и уходит. Едва не сбивает Файку. Останавливается в дверях и произносит по складам:
— Я так не хо-чу!
30
Мы с Файкой устраиваемся в сарае. На коленях у нее котенок. Он, кажется, даже не умеет мурчать. Файка его учит. Я, к ее восторгу, развешиваю по стенам все десять циновок. Стелю на топчане принесенную из пристроя постель. Затягиваю окошко от комаров марлей. Зажигаю свечу. Кипячу на костре воду, завариваю чай. Достаю купленный в Городе пакетик цукатов. Файка в восторге. Она сидит на топчане, гладит котенка, тянет из эмалированной кружки чай, хрумкает сладости и довольно смотрит по сторонам:
— Здесь очень хорошо. Давай навсегда переедем в сарай. Будем жить втроем.
Я плету сумки. Завтра мне будет некогда.
— Зимой в сарае будет холодно, — объясняю я Файке. — Зимой мы вернемся в дом.
— Вернемся, — соглашается Файка.
— А завтра я уплыву, — говорю я Файке. — Мне нужно в Город. Уплыву рано. Ты еще будешь спать. Не пугайся.
— Я не из пугливых, — жмурится Файка. — И я теперь не одна.
— Я закрою дверь сарая на крючок, — продолжаю я успокаивать Файку. — Крючок внутри. Я опущу его в петельку ножом. Так что ты будешь в безопасности.
— В безопасности, — смеется Файка, и мне кажется, что я предаю именно ее. Не Лидку, не Ксюху, не Ольгу, не Жанну, не Зинку, не Галку, а вот эту малышку с засахаренными губами.
— Красивые сумки, — говорит Файка. — Ты все равно рисунок какой-то вытаскиваешь?
— Не могу по другому, — признаюсь я. — Иначе тоска.
На желтоватом боку сумки вода, тростник, лодка и девичья фигурка спиной к зрителю. Она стоит в лодке и не решается прыгнуть в воду.
— Здорово, — шепчет, засыпая, Файка. — Мне сплетешь такую же?
— Обязательно, — обещаю я. — Лучше сплету.
— Не хочу лучше, — шепчет Файка.
31
Утром я просыпаюсь от настойчивого стука в окно. Осторожно снимаю с руки головку Файки, открываю дверь. За дверью Кузя Щербатый. Переминается с ноги на ногу, оборачивается к своему дредноуту, собранному из пустых пластиковых бутылок. На дредноуте несколько охапок тростника.
— Деньги давай.
— Какие деньги? — не понимаю я.
— Кирьян сказал, что тебе нужен тростник, — морщится Кузя. — Разных цветов, не ломанный, а накошенный. Сказал, что если я наберу тебе копешку такого тростника, ты заплатишь мне сто рублей.
— Сто рублей?
Я вглядываюсь в нарезанные Кузей снопы. Половину конечно на выброс, но половина пойдет в дело.
— Ну, так будешь платить? — весь извелся Кузя.
— Буду, — отвечаю я.
32
Зачем меня принесло на рынок? Да, уплыл рано, чтобы не тащить с собой Файку, но до двенадцати еще четыре часа. Надо их куда-то деть, а то сердце зайдется. Поэтому я на рынке. Сижу рядом с Филимоном, закинув руки за голову, дремлю. Филимон долго молчит, потом все-таки спрашивает:
— Половички-то твои где?
— Продал, — отвечаю ему, не открывая глаз.
— То-то я смотрю, что в обновке, — сплевывает Филимон. — А я вчера Лидку твою видел. И Кирьяна.
— Ну и что? — спрашиваю я.
Единственное, что может изменить мою жизнь, это новость, что кто-то видел Лидку мертвой. Хотя, если я продолжу так же плести сумки, то однажды смогу и сам умереть по-настоящему. Ну, а если представить? Представить, что нет Лидки? Нет Лидки, и нет Ксюхи, Ольги, Жанны, Зинки, Галки, Соньки, Файки? Все есть, я есть, а их нет? Метеорит уничтожил остров? Цунами? Воронка засосала? И что дальше? Что дальше? Свобода? Нет, приятель. Смерть. Немедленная. Мучительная. И за эти мысли особенно. Никогда. Никогда. Никогда. Идиот.
— Ты чего по голове себя кулаками долбишь? — спрашивает Филимон. — По голове бесполезно. Поверь. Хочешь сделать себе больно, щипай сам себя за сосок, да с вывертом. Вот ведь зараза, все что бабе на пользу, мужику во вред. Я говорю, что Лидку твою видел. И Кирьяна. Он ее на пристани подкараулил, сумку из рук считай, что вырвал, а ей в руки тысячную сунул. Ты бы поинтересовался, что за дела?
— Филимон, — спрашиваю я гончара. — Ты почему не женишься?
Филимон недовольно пыхтит. Потом нехотя отвечает:
— Ты бы еще Кузю Щербатого спросил, чего он не женится.
— Он никому не нужен, — отвечаю я.
— Ерунда, — сплевывает Филимон. — На всякий кусок дерьма муха найдется.
— Тогда повторяю вопрос, — почему-то я вовсе не боюсь Филимона. — Почему ты не женишься?
В этот раз он молчит дольше, потом вдруг шепчет:
— Я, улыбчивый, не могу так, как ты.
— А как я?
— Ты гнучий, улыбчивый. Тебя гнут, ты гнешься. Ветер подует, опять гнешься. Ветер перестал дуть, выпрямляешься. А я как горшок. Меня только разбить можно. А если не разбивать, то я сам кого хочешь разобью.
— Значит, так и будешь один маячить? — спрашиваю.
— Так и буду, — соглашается Филимон. — Если, конечно, единственную не встречу.
— А какая она должна быть, единственная? — спрашиваю я Филимона.
Он опять долго молчит, потом вдруг бросает:
— Как твоя Лидка. Или как твоя Ольга.
— А что тебя привлекает именно в них? — спрашиваю.
— Знаешь, какие перловицы у меня возле острова водятся? — вдруг сам спрашивает Филимон. — Когда вода спокойная, на мелкоте каждую можно разглядеть. Главное, Кузю Щербатого отгонять, потому что он, подлец, жрет их. Так вот, когда вода спокойная, я смотрю на них. Где помельче — совсем мелкие. Лежат, створки врастопырку, внутри что-то бело-розовенькое колышется. Это как раз как твоя Ольга. А чуть поглубже — большие. У них тоже розовое и белое внутри. Но они опытные, стерегутся. Щелку маленькую держат, или вовсе на замок и ни-ни. Вот эти — как твоя Лидка.
Повисает пауза. Я представляю лежащих на мелководье Лидку и Ольгу, Филимон тоже что-то такое же представляет, а потом вдруг говорит:
— Знаешь, почему у тебя с Лидкой не получилось?
— Это как же не получилось? — открываю я глаза. — Семь дочек!
— Семь? — сомневается Филимон, разжимает пятерню, вторую, долго загибает пальцы, потом раздраженно машет рукой. — Да какая разница? Семь, шесть. Я вот к чему. Да хоть десять. Дурное дело — нехитрое. Я про другое. Понимаешь, я хоть и не женат, но кое-что повидал. Родители у меня до сих пор живы, на Самом Большом Острове домик у них. Думают, что я тут чуть ли не начальник гончарной фабрики. Пусть думают. Так вот, у них все не так, как у вас с Лидкой. Они другие. Я когда к ним приезжаю, поверишь, словно на солнышке погреться выбираюсь. Они когда друг друга видят, они светятся. Радуются друг другу. Понимаешь, жизнь — такая штука, все время откуда-то может ударить. Ветер песчинку несет, раз тебя по щеке, вот уже царапина. Так вот секрет в том, что нужно залеплять царапины, а не расковыривать. Понимаешь? Сколько живешь, столько и залеплять. Но не на себе, а друг на друге. И не откусывать ничего друг от друга. Залеплять. А если откусывать, тогда люди превращаются в огрызки.
— Я не откусывал, — говорю я.
— Но и не залеплял, — пожимает плечами гончар. — Обиделся, наверное, что тебя не залепляют, а то и прикусывают при случае. А тут ведь как, отвечать за себя надо. А с остальным уж как повезет.
— Знаешь, — говорю я гончару, с которым и не говорил толком никогда. — Знаешь, Филимон. А ведь бывает и так. Вот живут двое. Была любовь, не была, или срослось просто и застыло, неважно. Вместе живут. И один любит, а второй терпит. И чем больше один любит, тем больше второй терпит. И чем больше он терпит, тем больше ненавидит того, кто любит. И тот, кто любит, вдруг понимает, что уже не любит. Устал любить. Не может больше. Но и не любить не может. Потому что срослось. И что тогда делать?
— Вот этого я и боюсь, — вздыхает Филимон. — Потому что если что, я раз залеплю, второй, а потом ведь и убить могу…
33
В двенадцать я у Конторы. Жду. Сердце колотится так, что впору виски пальцами зажимать. Мальчишкой так не волновался. И ведь и любви никакой нет. Просто словно родник эта самая Маша. Припасть бы и не отрываться. Пока зубы не заломит.
— Второй этаж, третья дверь справа, — выглядывает Маша в окно. — И быстро!
Взлетаю по лестнице. За дверями стрекочат машинки. В коридоре накурено. На третьей двери справа надпись — «Секретная часть». Машка высовывается в коридор, быстро оглядывается, хватает меня за карман и затаскивает внутрь, и еще защелкивая дверь, уже припадает к моим губам и пьет так же, как и я хочу пить из нее.
Потом, через час или через два часа мы сидим голые на кожаном потертом диване, пьем остывший чай и трогаем, трогаем друг друга, словно хотим убедиться, что мы есть. И я понимаю, что это конечно не любовь, но если и бывает любовь, то вот это отличная почва, чтобы она выросла. В такую почву и циновку брось, корнями и побегами разветвится. Но надо ли?
— Знаешь, — она смотрит на меня с каким-то странным смешком, словно боится моей усмешки и играет на опережение. — В тебе-то ничего особенного так вроде и нет. Но вот когда живешь, живешь, живешь, а вокруг все каменные истуканы, каменные истуканы, каменные истуканы, и вдруг бац — живой человек. Тогда уже все равно, кто он. Понимаешь?
— Примерно, — отвечаю я. — Хорошо, что ты появилась. А то я уже задыхался.
— Так плохо? — делает она участливое лицо, и я мгновенно понимаю, что плакаться нельзя. Нельзя плакаться.
— Нет, нормально, — отвечаю. — Просто хочется чего-то для души. Чтобы раствориться. Очень нужно.
— Да, — тянет она и откидывается назад, кладет ноги мне на живот.
Я ловлю ее ступни, ловлю ее удивительные, узкие ступни с невозможно длинными пальцами, наверное в два раза длиннее моих, поднимаю их и вдруг заглатываю большой палец, второй. Вылизываю. Сосу. Пью. И она замирает. Бледнеет, Изгибается. И шепчет, шепчет, срывая голос:
— Как, как ты догадался? Как ты догадался? Да!
34
Я бреду к пристани, где причалена моя лодка. Мимо катит тележку с горшками Филимон.
— Улыбчивый, а Лидка-то моторку взяла. Почти катер. С хорошим мотором.
— Да, я знаю, — вру я Филимону.
— Как дела? — ловит меня за локоть Кирьян уже у лодки.
— Нормально, — отвечаю. — Вчера сел, запозднился, но три сумки сообразил.
— Вот! — радуется Кирьян. — Новая жизнь, улыбчивый! Твоя Лидка, я слышал, моторку купила? То ли еще будет!
— Да, конечно, — соглашаюсь я и сажусь на весла. Гребу. Потом бросаю их, опираюсь локтями на колени, просто смотрю вокруг. Над моим островом торчит маяк. В маяке сильный, но тусклый Марк. Ни капли жира. А ведь он работал тогда на Заводе. Я же помню. Да, я попробовал, но не смог. Когда уходил, видел смуглого паренька. Он тогда еще так странно на меня смотрел. Когда это было? Ольге пятнадцать… Ну как раз. Ксюхе был год, Лидка все не могла ее от груди оторвать, но сосала Ксюха лениво, не хотела Лидкину грудь рассасывать, а от смесей отказывалась. Вот уж я тогда попрыгал с молокоотсосом вокруг Лидки. Да и самому приходилось прикладываться, чтобы грудь спасти. Ничего, кстати особо приятного в этом не было. А потом родилась Ольга и работала отличным молочным насосом целых полтора года. А остальные дети все как Ксюха. Только Файка другая. Что-то я не помню, как она сосала Лидкину грудь.
А потом Марк перебрался на маяк. Подстрелил, что ли на этом Заводе кого-то не того, не помню. Спрятался на маяке после смерти Рыжего, который все грозил мне пальцам, — упустишь Лидку, улыбчивый, упустишь, да так там и остался. Я еще ревновал тогда, даже присматривал. А Лидка тогда только румянилась. Все хорошо тогда было. Как мне говорил лет десять назад Кирьян, знаешь, говорил, улыбчивый, когда передернешь с какой-нибудь девицей где-то по случаю, дома — просто райский сад. Чувствуешь вину, что ли, начинаешь ухаживать за женой, она прям расцветает. Со всех сторон польза.
Польза, значит. А теперь Марк с Ксюхой. Может быть, поэтому Лидка злая? Она же видеть меня не может, я чувствую. Но уйти не могу. Некуда уйти. Я на острове. А и уйду? Далеко ли уйду? Меня же эта цепочка из семи звеньев прочнее любой другой цепи держит.
Лодку сносит. День клонится к закату, но еще держит в запасе часа два. Файка, наверное, сидит на лугу. Гладит котенка. Одуванчики опять обрывает. Она их обрывает, а они не убывают. Она их обрывает, а они не убывают. Какие же все-таки живучие растения случаются. А тут — поливать перестали, и ты уже деревенеешь…
Что делать? Да ничего. Или я сам Лидке не изменял? Случалось. Всегда странно, быстро, случайно. Ни сердцу, ни чреслам. Что-то непонятное. Это по молодости простоты и яркости хочется, а потом-то уже глубины. Без взгляда и голоса, без глаз и губ, без того, что тонет в этих глазах, и того, что звучит на этих губах, вроде и не женщина перед тобой.
Рыжий много умных вещей говорил. Подзывал иногда меня, вытягивал ноги с больными коленями и говорил:
— А ну-ка, заберись, улыбчивый, наверх да зажги лампу. Вечереет. А я тебе что-нибудь умное расскажу.
Я, конечно, поднимался. Двести ступеней, что мне это тогда было? А когда Рыжий умер, радовался, что отсчитывать их больше не придется. А то ведь был бы теперь как Марк, без единой капли жира.
И такой же тусклый.
А разве я теперь не тусклый?
Маша сказала…
В окно сказала, когда я уже вышел на улицу.
Слетел со ступеней. Не носом вниз, а как бы ни наоборот. Словно крылья выросли за спиной.
В окно сказала:
— Пока.
Нет, я, конечно, и по собственному разумению всегда балансировал между дураком и придурком. Лидкиных желаний так и вовсе никогда не угадывал, как ни пытался. А тут понял сразу.
— Пока.
Четыре буквы. Зачем эти четыре буквы, когда уже и попрощались наверху, и еще раз попрощались, и уже условились о другой встрече, и опять едва не упали на диван? А затем, что все.
В смысле «Пока».
— Ты многого хочешь, — сказал Рыжий. — А кто многого хочет, тот мало получает.
— А кто хочет малого, тот не получает ничего, — смеялся я тогда.
— Нет, парень, — качал головой Рыжий и гладил колени. — Это уж как кому повезет. Внутри, ты, конечно, можешь мечтать о разном. Но уж если глазки открыл, тогда довольствуйся. Понимаешь?
— Нет, — почти всегда отвечал я Рыжему.
— Довольствоваться — это, значит, получать удовольствие, — смеялся Рыжий. — А если ты довольствоваться не хочешь, тогда нечего и на удовольствие рассчитывать.
35
— Эй! — слышу я голос Кузи Щербатого.
Голос, а за ним характерный бульк.
— Эй, — тужится Кузя. — Спишь, что ли? Тростник еще нужен? А то я мигом. Да, улыбчивый, ты не знаешь, что можно съесть от изжоги? У меня на стальные шарики какая-то странная изжога образовалась…
36
Улыбчивый. Я трогаю собственное лицо и не нахожу улыбки. Берусь за весла и загребаю не к лачуге Сереги, а к маяку, к пляжу. Там что-то белеет. Ну, точно, опять кто-то из девчонок оставил полотенце. Но моторки нет. Значит, Лидка еще не вернулась. Интересно, что она купила? И скажет хоть что-то? Раньше я все пытался разговорить ее, но всякий раз это заканчивалось скандалом, руганью. Самым лучшим оказалось твердить про себя, что она молодец, что она тащит семью, что женщина всегда в проигрыше, потому что все мужики козлы, и я тоже, конечно же, козел, так что бодать можно только самого себя, да и вообще…
37
Я чалю лодку к песку, выхожу на берег.
Полотенце висит на воткнутом в песок суку. Под ним бумажка. На ней выведено рукой Жанны:
«Папка и мамка. Мы с Марком поехали кататься на моторке и купаться на городской пляж. Вернемся с сумерками. Не волнуйтесь. Ксения. Ольга. Жанна. Зинаида. Галка. Софья».
Понятно. Отправились без Файки. А она, выходит, осталась одна. Может быть, даже в сарае. Ее хоть покормили? Я бегу в дом. Обыскиваю комнаты. Файки нет. В пристрое у меня холодеет в груди. На моей кровати лежит Файкино платье, сандальки, панама. В панаме спит котенок. Я бегу к сараю. Вхожу внутрь. Файки нет. Три сплетенных мною ночью сумки висят на гвозде. Файкина чашка полна холодного чая. Луговина полна одуванчиков. Одежда на кровати вся с этикетками и в пакетах, ненадеванная.
Я бегу к маяку. Отсчитываю ступени, перехватываю поручни. Наверху Файки нет. Снова бегу в дом. Считаю кровати. Шесть кроватей. Ничего не понимаю.
Что мне сказала однажды Сонька? Самая маленькая до Файки. Но уже пять лет не самая маленькая. Она сказала ни с того, ни с сего:
— А я знаю, как буду мужа выбирать.
— И как же? — спросил я ее.
— А как увижу того, на кого должны быть похожи мои дети, так и скажу: «Привет мой муж. Иди сюда».
— А если он не пойдет? — спросил ее я.
— Не знаю, — вздохнула Сонька. — Над этим я еще не думала. Но способ, в принципе, верный.
38
Я иду мимо дома, мимо сарая, по берегу, через лопухи к лачуге Сереги. Нет, бывший болтун не мог обидеть Файку, но на всякий случай. Мало ли. Потом ведь не прощу себе. Впрочем, я себе и так уже ничего не прощу.
В лачуге Сереги сопение. Я осторожно открываю дверь. Моя Лидка голая стоит на коленях, и Серега старательно обрабатывает ее с тыла. Держит за бедра и колотится о них своими чреслами. И Лидке это нравится. Сколько уж лет я не слышал вот этого сладостного полустона через стиснутые губы и шумного дыхания через нос. Они оба взмылены. «Сереженька», — шепчет она ему. Потом вдруг открывает глаза, видит меня, перекашивается, наливается слезами и горячо шепчет:
— Не-на-ви-жу!
39
Я выхожу на воздух. Бреду к пляжу, на котором сук, полотенце и записка. На ходу сбрасываю жилет. Жарко. О чем же я говорил с Машей перед лестницей и этим «Пока»? Да, что-то плел насчет того, что неизвестно, как быть. Вот, к примеру, кто-то влюбился в кого-то. Но у кого-то имеется жена. И он не может ее оставить. Даже независимо от детей. Но никак. Трудно. Трудно раздавить человека.
— Надо оставлять, — строго сказала Маша.
— Почему? — спросил я ее.
— Да просто, — хмыкнула она. — Смотри. Сейчас несчастны трое. Он. Его жена. И его любовница. Примем за основу, что мы рассматриваем классическую схему. Без отягощений. Итак, несчастны трое. Он уходит к любовнице. Он счастлив. Любовница, скорее всего, счастлива. Ну хотя бы пока. Несчастна только жена. Но и она, опять же, изменила позицию к лучшему, имеет шансы на счастье. Понимаешь? Было три черных шара, остался один. Все просто. Нужно поверять гармонию алгеброй. Выручает.
Гармонию алгеброй.
— Файка! — шепчу я, но с ужасом понимаю, что мой шепот вдруг оборачивается криком, разлетается в стороны, ударяется об острова Кузи и Филимона и возвращается еще более громким эхом — «Ненавижу!».
Становится темно. Между нашим островом и островом Кузи Щербатого клубится белый, непроглядный туман. Серега-болтун однажды попал в такой. Вернулся к полудню — волос белый, лицо в морщинах, руки трясутся, на плече татуировка — баба с рыбьим хвостом. Я тоже хочу такую на плечо. Похоже, удачу она приносит. Тем более, что плавать я уже умею.
Я сбрасываю новую ковбойку, новые джинсы, кроссовки и вхожу в воду. Пятки щекочет ил. Ил я не люблю, поэтому почти сразу ложусь на воду и плыву. Я плыву! В самом деле плыву! И белый туман становится все ближе и ближе. Все ближе и ближе…
40
— Файка! — захлебываюсь я от счастья.
Моя пятилетка подкараулила меня на диване, запрыгнула на живот и принялась месить крохотными кулочками мне ребра. Я рычу и изображаю свирепого медведя. Дочка визжит. Что за Файка? Какое странное слово? Дочка! Доченька! Дочурка! Солнышко мое! Нет, дочка — самое оно. Один ребенок, конечно, это мало. Надо бы еще и парня соорудить. Но дочка — класс!
— Алле! — кричит с кухни жена. — Сонная команда! А ну-ка на помощь! Чайник свистит, а у меня руки в муке.
Мы с дочерью наперегонки мчимся на кухню. Моя половинка и в самом деле в муке. Лепит пельмени. Смотрит на меня и смеется.
Я ловлю дочь, отодвигаю ее от страшной плиты и жгучего чайника, выключаю газ, снимаю с носика чайника свисток, смотрю на струю белого пара и пытаюсь что-то вспомнить. Что-то очень важное. Очень. Однажды я вспомню.
«Нет, дружочек! — Это проще, Это пуще, чем досада: Мне тебя уже не надо — Оттого что — оттого что — Мне тебя уже не надо!»Марина Цветаева 3 декабря 1918
Высолено:
Танька-дурочка
Танька была дурочка-фигурочка, косые окна, мокрый нос, ноги спички, красная вязаная шапка, штопаные колготки, перхоть в волосах, пальцы в чернилах, острые коленки. Борька останавливал девчонку в подъезде, растопыривал руки и требовал:
— Танюха, смотри правым глазом на эту ладонь, а левым на эту, я хлопну в ладоши, и фотокарточка наладится.
Танька старательно разводила глаза. Морщила лоб, поднимала брови, натужно сопела. Борька щелкал по затылку, и девчонка, глотая слезы, стремглав бежала по лестнице, чтобы удостовериться в пыльном зеркале, что все осталось, как и было. Она верила каждому слову. Иногда кто-то ради смеха говорил, что через десять минут начнутся мультики. Танька летела домой, включала телевизор и пялилась в экран до посинения, не взирая на программу и увещевания матери. Она послушно ходила от одного парня к другому или от одной девчонки к другой и передавала самые глупые и насмешливые поручения. Танька была козой отпущения во дворе. Ее бы вовсе сжили со свету, но время от времени с балкона раздавался рык бабушки — «Танька, домой!», и истязания прекращались.
Борька был шпана подзаборная, нос картошкой, чирей на локте, синяк под глазом, штаны в зеленке от травы, рубашка без двух пуговиц, складной ножик в кармане, восемь раз на турнике и велосипед с передним колесом восьмеркой. Он хорошо учился не по усердию, а из-за каких-то таинственных способностей, но все время съезжал на четверки, а то и тройки по рассеянности, забывчивости и хронической отвлекаемости.
— Серега! — орал Борька конопатому приятелю. — Пошли в лесопосадку!
— Какая лесопосадка? — недовольно таращился в окно Серега. — Суббота же. Дай поспать!
— Ночью надо спать, — не отставал Борька, вытаскивал Серегу на улицу и вел сквозь утренний сентябрьский туман ладить шалаш из лапника. Недостроенный шалаш приятели бросали через полчаса, стреляли из рогатки по верещавшей сойке, прибивали между сосен-соседок в виде турника кусок водопроводной трубы и обдирали об него ладони. Потом опять шли к шалашу, играли в карты, жгли маленький костерок, курили дешевые сигареты, слушали музыку из разбитого магнитофона, пока наконец голод не начинал торопить их в сторону городской окраины.
— Танька — косая! — неожиданно присел Серега и потянул за собой Борьку. — Что она в лесу забыла? Смотри!
Борька послушно опустился на корточки и разглядел вслед за Серегой среди лесного бурьяна Танькину шапку. Девчонка шла, высоко подняв руки, и негромко попискивала, когда осенняя крапива чиркала жгучими метелками по лицу.
— Куда она прется? — удивился Серега. — Там же овраг, до самой просеки только крапива, папоротник и кусты непролазные. Может пальнуть по ней из рогатки?
— Я те пальну, — пригрозил Борька, считавшийся во дворе покровителем слабых и беззащитных.
— Да я не камнем, — прошипел Серега. — Бумаги нажую.
— Нажуй, — согласился Борька. — Только сначала я по тебе стрельну. Если понравится, потом и по Таньке.
Подобная перспектива Серегу не соблазнила, он почесал затылок и предложил проследить за девчонкой. Друзья метнулись к ложбинке и, крадучись, последовали за мелькающей над бурьяном красной шапкой.
— Остановилась, — прошептал Борька, — присела. Поползли!
— Офигел? — возмутился Серега. — По крапиве? Подождем!
Ждать пришлось недолго. Вскоре шапка двинулась в обратную сторону. Едва она исчезла из вида, как Борька уверенно шагнул вперед. За крапивой обнаружилась полянка. Папоротник густо застилал землю, не давая ходу столпившейся по краям пустырной поросли. Посередине стояла рябинка. Какой-то человечина в прошлом рубанул ее шутки ради ножом, срезал верхушку. Три верхних ветви потянулись к обрубку, соединились, переплелись и теперь тремя оголовками поддерживали темно красные рябиновые грозди.
— Смотри! — зашипел Серега. — Танька-косая ствол ленточками обмотала. Ну и дурилка. Она здесь что, в куклы играет?
— Что ты шепчешь? — спросил Борька, подходя к дереву. — Танька далеко уже. На то она и девчонка, чтобы в куклы играться. Смотри-ка.
Он раздвинул вздрагивающие на ветру ленты, сунул руку в образовавшееся между вершинами углубление и достал свернутый в трубку и перевязанный ленточкой блокнотный листок. Потянул за концы, ленточка развязалась, над плечом засопел Серега и прочел вслух неровные Танькины каракули:
— «Привет, лесной принц!».
— Ну, привет, Танюха, — с усмешкой ответил Борька.
— Чего это? — не понял Серега. — Игра, что ль, какая? Что за лесной принц?
— Игра, — усмехнулся Борька. — Секрет это Танькин, похоже. Записка свежая. Да не топчись ты. Видишь пепел? Бумагу она здесь жгла.
— Ответ, что ли, жгла? — не понял Серега.
— Какой ответ? — приготовился поднять на смех бестолкового приятеля Борька, но замер. — Будет ей ответ, Серега. От лесного принца.
Маринка, которая была старше брата на три года, а, судя по Серегиным повадкам и физиономии, на все шесть, тупо смотрела на принесенные мальчишками из лесу листья осины, ольхи и клена и не могла понять, чего от нее хотят.
— Что вам написать? Чтобы красиво и на листьях? Зачем? Что за бред?
Пришлось объяснить. Маринка несколько раз перевела взгляд с Сереги на Борьку и обратно, затем пожала плечами и каллиграфическим почерком вывела на желтом листе зеленой ручкой требуемые слова. «Привет, Таня! Чего ты хочешь?» Потом отдала лист Борьке, еще раз оглядела приятелей и пообещала оторвать братцу голову, если они Танюшку обидеть вздумают или насмехаться над ней станут.
— Пора бы уж перестать в куколки играться, — крикнула вслед и вновь углубилась в учебники.
Борька перевязал свернутый листок желтоватой травиной и поместил на то самое место, где они взяли записку. Субботний вечер друзья провели в радостном возбуждении, а в воскресенье ближе к обеду подкараулили Таньку, возвращающуюся из леса. Она шла, не разбирая дороги, спотыкаясь на луговых кочках, словно ничего не видела перед собой.
— Привет, Танька! — бодро окликнул ее Борька.
Девчонка против обыкновения не подбежала, не вытянулась по стойке смирно, ожидая наставлений и указаний, а прошла мимо, прошелестев с улыбкой:
— Привет, Борька.
— Привет, Борька, — повторил, ухмыляясь, Серега. — Чего застыл? Пошли, посмотрим, чего она там понаписала!
Минут через десять приятели уже читали Танюхины строчки.
«Спасибо тебе, лесной принц, что ответил, — писала девчонка. — Если ты и вправду готов помочь, то у меня есть только три желания. Первое, чтобы меня не обижали во дворе. Второе, чтобы я не косила. Третье, чтобы Борька Силаев сам без принуждения меня полюбил. А если только одно можно, то оставляю желание про Борьку».
— Влюбилась, — брякнул Серега и с опаской посмотрел на насупившегося друга. — Или свихнулась. Окончательно. И что теперь делать?
— Ответ писать, — с досадой бросил Борька. — Такой ответ, чтобы она все эти бредни из головы выбросила. А насчет этих ее желаний, Серега, чтоб никому, а не то раздружу напрочь!
Сначала Маринка в продолжении игры участвовать категорически отказалась. Затем Серега своим нытьем ее уломал. Да и Борька весомо добавил, что игра эта и ему не нравится, но выходить из нее тоже по правилам надо.
— Надо Таньке такое условие поставить, — объяснил он Маринке, — чтобы она сразу поняла, что все это бред и сказки. Например, все сбудется, когда ее рябина превратится в тополь.
— В клен, — поправила Маринка.
— Почему? — не понял Борька.
— Букв меньше! — фыркнула Маринка. — Записку прошлую мы на кленовом листе писали?
— И для того, чтобы рябина в клен превратилась, надо каждый день поливать ее стаканом кипяченой воды, смешанной с каплей крови! — зловещим голосом добавил Серега и торопливо объяснил. — Это чтобы страшнее было.
— И чтобы она записок больше не писала никаких и ответов не ждала, — поморщился на предложение Сереги Борька, подумал и добавил. — И про кровь пусть будет. Не круглая же она дура, чтобы поверить.
Но Танька оказалась круглой дурой. Весь сентябрь, в дождь ли, в холод она стоически отправлялась в лес, согревая в кармане куртки баночку с кипяченой водой. По двору девчонка теперь передвигалась с высоко поднятой головой, на насмешки и выкрики не реагировала, отвечая таинственной улыбкой. Борьке даже казалось, что глаза у нее меньше косить стали, раздвигаться начали в стороны от чуть вздернутого носа. «Ну и пусть себе ходит, — подумал про себя, — кому от этого хуже?».
Серега — сучий потрох, подай-принеси, дырка на коленке, Маринкина куртка, убежденный троечник, любитель поспать и сладкого, сначала делаю, потом думаю, и то не всегда, совсем исстрадался. Его так и подмывало растрепать на весь двор, какая же глупая эта сумасшедшая нелепая девчонка со светлыми кудряшками и длинными тонкими ногами. У него живот схватывало от невысказанного, так хотелось проболтаться. Только молчаливое, но внушительное присутствие Борьки сдерживало язык. Поэтому, когда сестра зажала его в прихожей и, тряхнув за шиворот, потребовала, чтобы они с Борькой срочно прекратили издеваться над девчонкой, а не то она отцу все расскажет, Серега даже обрадовался.
— Кто ж над ней издевается? — возмутился он. — Да ее уже месяц как пальцем никто не трогает. Она королевой по двору ходит!
— Ты Борьке своему, принцу лесному, передай, — не успокаивалась Маринка, — пусть он посмотрит, что с руками у его принцессы. Пусть посмотрит и задумается хорошенько.
Борька поймал Таньку в воскресенье у детской площадки. Она шла из леса, сбивала резиновыми сапожками первую октябрьскую изморозь, что-то насвистывала и, столкнувшись с ним, осветилась безмятежной улыбкой. Правый глаз ее смотрел прямо на Борьку, а левый был смещен к носу, но на самую малость. На миллиметрик. «У нее глаза зеленые», — неожиданно подумал Борька, удивившись, что ему уже не нужно гадать, каким глазом она на него смотрит, правым или левым.
— Руки показывай, — потребовал Борька.
Танька послушно достала из карманов руки, и Борька похолодел. Пальцы и ладони девчонки были покрыты ранками и ссадинами. Заживающими и воспаленными. Вымазанными зеленкой и заклеенными пластырем.
— Чем ты это? — прошептал Борька.
— Иголкой или бритвочкой, — вздохнула Танька. — Но ты не думай, мне совсем-совсем не больно.
— Ты это, — Борька почувствовал, как холодок пробежал по спине, совсем как летом в пионерлагере, когда зажали у беседки деревенские ребята, и он точно понимал, что будут бить и не убежать, ни спастись уже не удастся. — Ты это. Танька. Переставай. Не надо туда ходить. Это все обман. Нет никакого лесного принца. Не смей. Слышишь? Не смей резать пальцы. Слышишь? Это я все придумал. Нет там ничего. Поняла?
— Поняла, — с улыбкой кивнула Танька и, не стирая ее с лица, спросила. — Боря. Я стихи очень люблю. Ты будешь для меня стихи сочинять?
Вечером Борька позвонил в Серегину дверь и сказал, хмуро переминаясь с ноги на ногу:
— Все. Видишь топор? Нет больше никакой рябины. Срубил я ее. Без остатка вырубил. В овраг за крапиву выбросил, корни выдрал, дерном все закрыл и листьями засыпал. Нет там ничего. Дура она сумасшедшая. Завтра после школы в лес пойдет и очнется. Но только ты, Серега, помни. Ничего не было, и ты ничего не знаешь. Понял?
Серега растерянно закивал головой и резко захлопнул дверь. Борька вздохнул, высморкался, вытер лицо рукавом и пошел домой.
На следующий день он прибежал из школы пораньше, бросил дома сумку и, не переодеваясь, отправился на детскую площадку. С трудом втиснувшись в сиденье маленькой карусели, начал раскручивать ее так, что их окраинная девятиэтажка, обернутые фольгой уродливые трубы теплоцентрали, качели, чахлые тополя, октябрьская пестрота лесопосадки слились в холодный разноцветный шарф. Пока на этом шарфе не мелькнула стройная фигура Таньки. Она шла в лес. Дурочка-фигурочка, тонкие ноги, красная шапка, хлопающие сапоги, светлые кудряшки, любительница стихов, обладательница зеленых глаз и бессмысленной улыбки.
— Что делать будешь? — буркнул, подходя, Серега.
— Ничего, — ответил, поеживаясь, Борька. — Валидол у бабки стащил, мало ли что?
— Идти тебе надо, — нахмурился Серега.
— Куда? — удивился Борька.
— В лес.
— Это еще зачем? — не понял Борька, выбираясь из карусели. — Кстати! Ты чего в школе не был?
— В лес тебе надо идти, — упрямо повторил Серега. — Мы с утра с отцом в лесу были. Клен посадили на месте рябины, что ты срубил. Иди за Танькой, мало ли что.
— Ты сдурел что ли? — заорал Борька. — Клен они посадили! Кто вас просил?! На кой мне эта идиотка нужна?! Вот ты с отцом и иди в лес! Сопли ей вытирать!
— Козел ты! — вдруг завизжал Серега и бросился на приятеля, мазнул ему вскользь маленьким грязным кулаком по скуле, обхватил рукой за шею, но тут же получил пинок в живот, скорчился, упал на траву, хватая ртом воздух.
— А идите вы все… — грязно выругался Борька и пошел к дому.
2004 год
Прогул
В четверг Олежек не пошел в школу. По уму следовало прогулять пятницу, чтобы захватить субботу и воскресенье, но прогулялся отчего-то четверг. Мамка убежала на работу, когда Олежек еще спал, будильник прозвонил вовремя, но заливался недолго. Олежек пристукнул его ладонью и внезапно решил не идти в школу. «Проспал!» — прошептал мальчишка и улыбнулся. За окном шумел легкий ветерок, заднюю стену комнаты согревали расчерченные кружевным тюлем квадраты апрельского солнца, детство было отмотано едва ли на две трети и легкомысленно сулило бессмертие и бесконечность. Олежек потер зачесавшийся нос и уснул еще на час.
Он проснулся от непонятной тревоги и тяжести в животе. Соскользнул с диванчика, вздрогнул от холодного пола, подкрался к двери и долго прислушивался к звукам пустой квартиры. Затем выскочил в коридор, добежал до туалета, облегчился, метнулся на кухню, плеснул в кружку воды и едва успел скрыться в комнате, как во входной двери заскрежетал ключ. Соседка Розочка, огорченно подумал Олежек, запер комнату изнутри и вытащил ключ, — соседка могла заглянуть в замочную скважину. Ее тапочки прошлепали на кухню и обратно, звякнуло что-то жестяное, затем в ванной зашумела вода. Олежек с сожалением поводил во рту языком, подосадовал, что не успел почистить зубы, но махнул рукой. Потянулся к исцарапанной гитаре, тут же опомнился и, выкрутив ручку громкости, щелкнул тумблер телика. Всплывший на экране сытый дядя в клетчатой рубашке и фетровой шляпе размахивал на фоне тучного поля толстой рукой и беззвучно кричал в микрофон. На втором канале сухая женщина с учительским лицом втолковывала что-то невидимым слушателям. Олежек показал диктору фигу, скатал постель, бросил ее на мамкину кровать, скользнул взглядом по книжкам — все читано и перечитано, подошел к окну, но выглядывать не стал, бабки увидят — мигом донесут матери. Шпингалет предательски скрипнул. Олежек застыл на одной ноге, но все-таки потянул на себя створку и впустил в комнату холодный воздух. Убежище наполнили запахи весны и оттаявшей осени, птичий гомон и шум железнодорожного депо. Ветер шевельнул занавески, задрал их к потолку, смахнул тетрадку с письменного стола. Сквозняк! — испугался Олежек и тут же прикрыл окно. Точно, Роза распахнула балконную дверь в своей комнате. Стирку опять затеяла? Странно. Обычно она начинала возиться с бельем, когда Олежкина мамка собиралась помыться или сама вытаскивала стиральную машину из стенного шкафа. Теперь точно нос из комнаты не высунешь, — огорчился Олежек. — Может быть, поваляться еще с часик?
Мальчишка присел на кривоногий стул, положил руки на холодный подоконник и уставился на бледное небо. Не любила соседка ни Олежека, ни мамку его. При встрече расплывалась в улыбке, жмурилась, но в спину только что зубами не скрипела. Мамка хмурилась, возмущалась, но ничего не могла исправить. Разве она была виновата, что приносила из столовой свертки с едой? Как еще было растить парня? С ее зарплатой, чтобы купить Олежеку легкую болонью куртку на осень, приходилось три месяца откладывать, а на ботинки и того больше. Зимнее пальто так и вовсе перешивала, надставляла рукава полосками драпа, чтобы тонкие Олежкины руки не торчали на морозе. А простенький приемник с проигрывателем за семьдесят рублей Олежек у нее два года выпрашивал. Разве ее вина, что Роза варила компот из сушеных яблок, суп из килек в томате, грызла баранки к чаю, да всего-то и имела прибытка от собственной работы горничной — простыни с черным штампом гостиницы, их и на улицу не вытащишь, только на балконе сушить. Впрочем, вина виной, а выставишь кастрюльку на плиту, бросишь кубик мяса, так и стой рядом, чтобы соседка крышку не подняла и не плюнула в бульон. И все же повезло соседке, две комнаты на двоих с сыном Серегой имела, да и балкон у нее был. Хорошо с балконом, все равно, что еще одна комната. Летом на балконе спать можно. Накрылся марлей, чтобы комары не закусали, и спи.
Олежек поежился от апрельской свежести, натянул футболку, чмокнул дверью урчащего холодильника, достал серую столовскую котлету, положил ее на кусок хлеба и стал кусать, запивая водой. В телевизоре люди со скучными лицами бродили по цехам завода. При их приближении другие люди у станков выпрямлялись и меняли сосредоточенное выражение лиц на счастливое. Олежек тоже попытался сделать счастливое выражение лица, но улыбка не получилась, для хорошего настроения явно не хватало горячего и сладкого чая, да и странное беспокойство переместилось в сердце и теперь постукивало в нем, пытаясь биться в унисон. Олежек подержал ладонь под ключицей, потом отрезал от чуть подсохшей буханки еще кусок, размазал по ней масло, посыпал солью и спрятал бутерброд в холодильник. Дойдет очередь и до чая, не будет же Роза весь день толкаться в квартире. А если будет? — зашевелилась под ребрами тоска.
Мальчишка плюхнулся на диван, вздрогнул от заскрипевших пружин, притаился, но Роза и сама громыхала тазиком, да и вода шумно била в дно ржавой ванны и услышать его соседка не могла. В неплотно прикрытое окно продолжало тянуть сквозняком, Олежек поморщился, но не встал, потянул со спинки дивана потертую скатерть, на которой мамка гладила белье, закутался, повернулся на бок, подтянул колени к груди и закрыл глаза. Если у Розы дежурство во вторую смену, до обеда она из дома не уйдет, значит и он сам не высунет носа раньше на улицу. Оставалось только помечтать.
Он предавался этому занятию ежедневно, а то и не по одному разу. Мечтал в классе, когда физик закрывал окна шторами и запускал какой-нибудь скучный фильм. Мечтал на школьных собраниях и линейках, потому что выступать ему там не приходилось, а прислушиваться было не к чему. Мечтал в автобусах, когда добирался из школы домой или отправлялся с одной городской окраины на другую к бабушке, чтобы поменять куски столовской колбасы на банку варенья и добрые бабушкины ладони. Мечтал в душном зале районного кинотеатра. Мечтал в постели, укладываясь спать только после пятого или десятого мамкиного предупреждения. Иногда его мечты переходили в сны и тогда Олежек замирал от счастья и еще во сне начинал умолять неведомого сномеханика отсрочить огорчительный момент пробуждения. Но сны, как и собрания, и автобусные маршруты заканчивались, и после самой сладкой ночи рано или поздно наступало утро.
Олежек открыл глаза и подумал, что если бы он заболел, то можно было бы не пойти в школу и завтра, и в субботу. А там зацепить и понедельник, но сначала надо придумать болезнь, потом тащиться в районную поликлинику, сидеть рядом с рыхлыми женщинами и хмурыми мужиками, нюхать больничные запахи и уже в кабинете врача соответствовать выдуманному диагнозу, куда уж проще отсидеть день в школе. Да и обидно заболевать перед выходными, болеть надо с понедельника, чтобы выздороветь к субботе. Нет, хватит и четверга, не стоит злить классную, когда он так просыпал в последний раз? Еще по осени? Надо и совесть иметь. Совесть иметь, — прошептал Олежек и снова закрыл глаза. Заготовленная мечта не складывалась, сползала в предсонный сумрак, к тому же что-то натянулось в животе, да посторонние мысли не давали сосредоточиться и уводили, уводили его за собой.
Совесть совестью, но лучше было б иметь какой-нибудь талант. Например, классно петь и играть на гитаре или пианино, тогда можно было бы пристроиться в школьный ансамбль, ведь был же у Олежека когда-то голос, заливался руладами на пении в начальных классах, вот только со слухом не сложилось, слова учительницы о первом или втором голосе так и остались китайской грамотой. И с гитарой без слуха толком не срослось. И со здоровьем не повезло, сколько не болтайся на турнике, все одно и вполовину от крепыша Димки из соседнего дома не подтянешься, хотя уж тот точно специально и не смотрит в сторону перекладины, а на уроке физкультуры подпрыгивает и не тянется подбородком к стальной трубе, а размашисто бросает тело вверх — раз, два, три, четыре…. Спрыгивает на двенадцати, ухмыляется и каждый понимает, что лень Димке мышцы бугрить, а то так и мельтешил бы вверх-вниз. Вот бы так вышел перед строем одноклассников Олежек и не висел, как сосиска, дёргая коленями, а подтягивался как Димка. Или даже лучше Димки. Или подтянулся бы на одной руке. И сделал после этого выход силы. Тоже на одной руке. И тут же подошёл бы к гире в тридцать два килограмма и выжал бы ее десять раз. И левой рукой. И не толкая гирю всем телом, а плавно отжимая от плеча…
Олежек открыл глаза, плотнее закутался в одеяло, накрылся с головой, как в детстве, когда отхватывал от страшной темноты безопасное пространство, и подумал, что верно никаких талантов у него вовсе нет. Породы нет, как сказал бы физкультурник. Ничего такого он про Олежека, конечно, не говорил, но про Димку сказал, что у того — порода. Порода, сказал, есть, а вот с мозгами не повезло. Олежек тогда еще удивился, порода — это ведь про собак? Породистые собаки живут по квартирам, а беспородные бегают по улице. Но Олежек же не бегает по улице? Это как раз Димка все больше по улице шляется. Нет, вряд ли физкультурник что-то понимал в талантах. Да и классная говорила, что каждый человек может найти свое предназначенье, что у каждого есть талант, просто он чаще всего спрятан, закопан, невидим. У некоторых талант на виду — голос, сила, ловкость, хорошая память, умение рисовать, склонность к математике, к танцам, к музыке, а у некоторых в глубине. Нужно только отыскать его. Ага. Отыщешь тут. Даже если беспородных на самом деле нет. Породы тоже разные бывают. Вот дог во втором подъезде живет, это порода. В спине хозяину по пояс. На прогулку выходит, так дворняги или от страха на месте приседают, или отбегают гавкать на великана чуть ли не на другой край двора. Дог — это сила и рост. А этажом выше живет болонка. Она тоже породистая. Только ее порода пустяшная. Декоративная. Так может и у Олежека порода пустяшная? Может быть, он тоже декоративный?
Мальчишка высунул нос наружу, втянул свежий воздух. Беспокойство никуда не исчезло, только ослабло немного, или растворилось, как сахар в чае. Или соль. Олежек даже решил было достать дневник и посмотреть задания на нынешний четверг, вдруг упустил что-то важное, но почему-то не шевельнулся. Мамка хочет, чтобы он стал инженером. Неважно каким, просто инженером. Она даже произносит это слово с придыханием — инженером. Только вот куда это самое инженерство применить? Ну, станет Олежек инженером, окончит какой-нибудь институт, придет работать на какой-нибудь завод, или вот в депо, точно такое же, как за пятиэтажкой и сквером, с рельсами, промасленным щебнем, гудками и гнусавым голосом диспетчера. И что? Будет приходить домой вечерами как и мамка усталый и жаловаться, что на железо смотреть не может, как мамка не может смотреть на кастрюли и плиту? А если нет у него таланта к железу? Если будет выматывать его работа сильнее, чем школьная химичка, которая заставляет зубрить ненавистные формулы? И все? Вот так всю жизнь?
Олежек еще сильнее зажмурил глаза, но вместо того, чтобы привычно углубиться в вымышленные подвиги и победы, снова свалился в размышления о талантах. У меня все получится, — прошептал он, едва шевельнув губами. Главное — верить и добиваться. И бабушка так говорит. Главное верить. Про то, что следует добиваться всего собственным трудом, уже говорит мама. Ну что ж, трудом, так трудом. Главное, что талант есть у каждого. Даже у самого никчемного человека есть талант. К примеру, Колян из второго подъезда — конкретный тормоз. Ему все по два раза приходится объяснять, ладно бы только на математике, но и на улице. Когда задумывается, кажется, что у него скрежещет что-то в голове. Зато как играет в футбол! Любого обводит, словно вокруг столба с мячом идет. Играет классно, а учится плохо. Читает до сих пор почти по слогам. А если в этом весь секрет? Ничто ниоткуда не берется и ничто никуда не девается. Если что-то бог даст, так что-то непременно и отнимет. Насчет бога с бабушкой, конечно, соглашаться не следует, а вот насчет отъема…. А если и впрямь у каждого талантливого человека есть какой-то изъян? Тот же силач Димка — отличный парень, но зато глаз у него один не видит, зрачок пустой, то ли осколок бутылки, то ли кусочек карбида попал во время давней детской шалости. Или вот доходяга Вовик, шпыняют его все, кому не лень, а когда он фотографии притаскивает в класс, ничего кроме криков восторга не слышно. У многих есть фотоаппараты, у Вовика не лучше прочих, обычный старый ФЭД, но с его фотками ничьи отпечатки не сравнятся. Или тот же Серега, сын соседки Розы — тоже не первый ученик в своем классе, а вся комната техникой заставлена. Все может починить — и телевизоры, и редкие магнитофоны, и приемники. Сидит в клубах канифоли и лепит, лепит детальки на крохотные платы. Олежек тоже хотел приобщиться к радиоделу, полистал потрепанную книжку, поехал в магазин, накупил деталек, собрал детектор, только так и не поймал ни одной станции. Серега объяснил, что надо диоды проверять. Вставляй, сказал, стеклянный диод в розетку радиотрансляции, если светится — хороший. Все диоды Олежек проверил, все хорошими оказались. Только уж когда по второму разу Олежек их проверить решил, понял, что посмеялся над ним Серега. Поэтому и не стал по его же совету конденсатор через сетевую розетку заряжать. Не стал и не стал, совсем уж дураком не прослыл, а таланта радиотехника в себе все одно не обнаружил. Так может, не талант надо было в себе искать, а изъян?
Мальчишка повернулся на бок, уткнулся носом в диванную спинку и представил, что на земле не осталось ни одного человека. Представил брошенные магазины и дома. Пустые кинотеатры и улицы. Оставленные машины и велосипеды. И себя — единственного человека в пустом городе. На всей земле. Вот тогда ему точно не потребовался бы никакой талант. Умения какие-нибудь пригодились бы, а талант ни к чему. Выходит, талант нужен не для самого себя, а для других? Вряд ли. Димка же на турнике не для других подтягивается, ему вообще наплевать, что он сильнее других, он добрый, это Валерка злой, потому как выделиться хочет, а выделиться ему по учебе не удается, и мамка его пьет, и одевается Валерка бедно, да и в классе трое ребят сильнее его, поэтому он и злится, издевается над теми, кто слабее. Так даже у Валерки талант отыскался, никогда не играл на гитаре, а только взял в руки Олежкину шаховскую фанерную, так через минуту и гимн подобрал, и цыганочку, и вологду, а Олежек, чтобы самую простую песенку сбренчать, должен аккорды у ребят переписывать. Да и врет Олежек почти каждый мотив, сам не слышит, а другие говорят, что врет.
Что-то подкатило к горлу, защемило в переносице, закололо в груди. Олежек чихнул, тут же замер в ужасе, но соседка по-прежнему возилась в ванной, и он подумал о вовсе страшном. А что будет, если он так и умрет бесталанным? Или просто умрет? Олежек поочередно представил лица одноклассников и приятелей и решил, что ничего не будет. Да, мамка, наверное, с ума сойдет, бабушка так и вовсе не выдержит, и так то и дело выцарапывает из-под ватки крохотные таблетки. А все прочее останется, как есть. Вот ведь сбила в прошлом году машина его одноклассницу Алку и одноклассницу Сереги Ирку, так ничего и не изменилось. Все как было, так и осталось. Разве только исчезли две девчонки, одна повыше, другая пониже. Одна с простеньким, бледным лицом, другая веселая, с всегда оттопыренной нижней губой. Одна добрая, другая — гроза мальчишек. Олежек вспомнил, как Алка подошла к нему как-то с просьбой что-то списать, а он вдруг словно ополоумел, мотнул подбородком в сторону ее короткого платьица и попросил: — Покажи. Покажи, что там у тебя… Она даже не ударила его. У нее бы не задержалось, да и случалось уже такое, а тут девчонка просто вытаращила глаза и ответила тихо: — Дурак ты, что ли? Дурак, — прошептал Олежек и снова втиснул нос между спинкой и диванной сидушкой, затрясся, зажал уши ладонями, как зажал их, когда мамка позвонила бабушке и сказала, что девчонки погибли и надо бы, чтобы Олежек вернулся на похороны. Он не поехал, остался, и на улицу больше не вышел до конца холодных осенних каникул. Не смог поехать, не захотел увидеть девчонок мертвыми. Вот и изъян отыскался, — подумал Олежек, морщась от накатившей в грудь боли, — я трус. Осталось найти талант. Господи, если ты только есть, помоги мне.
Мальчишка рывком сел, сбросил одеяло и нырнул в поношенный свитер. Голова проскочила в тесный ворот, он открыл глаза, но свитерная тьма не исчезла. Глаза не увидели ничего. И уши не услышали ничего, словно все звуки исчезли, растворились в черной пропасти. И сам Олежек исчез в черной пропасти, сорвался с ее края и полетел, полетел вниз, размахивая руками и страшась неминуемого удара о дно. Кожа на макушке сжалась, Олежек задохнулся от ужаса, заморгал и тьма исчезла. Пошатываясь, он поднялся, открыл окно и высунул лицо навстречу апрельскому ветру. Не было такого никогда, никогда не было. Была страшная боль в животе, когда он корчился на дачном стульчаке, объевшись зеленой смородины и горьких яблок. Изредка случался тупой укол в грудь, когда он застывал, не в состоянии с минуту или больше двинуться с места. Однажды настала невыносимая головная боль, когда он перегрелся на солнце и лежал в бреду, сбрасывая со лба мокрую тряпку, а врач из скорой помощи зачем-то требовал от него подтянуть подбородок к груди. Один раз Олежека даже ударило током, да так, что он свалился со стула. И правильно, нечего грызть провод от настольной лампы. Но свет никогда не исчезал!
Олежек поставил локти на холодный подоконный отлив и мотнул головой влево, вправо, как сквозь сон увидел высунувшуюся с кухни Любку из соседнего подъезда, бабок на скамье, вечно пьяного соседа с пятого этажа Зайцева по кличке Заяц, Розу, которая шла с пустым тазом (когда это она успела белье выстирать да еще и повесить?), но не стал всматриваться, хотя что-то важное успел заметить в каждом, и не ринулся обратно в комнату, а почему-то медленно, словно спросонья начал оглядывать двор заново, запоминая каждую мелочь. Разоренную детскую площадку, состоящую из сломанных каруселей и качелей. Гнилую деревянную беседку за пучками голой сирени. Веревки с бельем, подпертые жердями, чтобы простыни не чиркали по прошлогодней траве. Ободранный «Запорожец» у противоположного дома. Пятна бумажек, пустых молочных пакетов и сигаретных пачек от тротуара до тротуара. Черные коньки деповских зданий. Провода, порезавшие небо. Коляна, почему-то возвращающегося из школы. Солнце, почти уползшее за угол дома. Еще раз Коляна…
— Ты почему в школе не был? — заорал Колян, забросив портфель за плечо. — Заболел? А то я ходил на поле, подсохло, можно мячик попинать!
«Четыре года, — подумал Олежек. — Четыре года тебе осталось, Колян. А потом ты утонешь в пруду. Напьешься и полезешь купаться, а вытащат тебя только через час».
— А? — еще громче закричал Колян.
— Да я… — хотел ответить Олежек, но отчего-то закашлялся, махнул рукой и только замотал головой.
— Понятно, — кивнул Колян, подумал и добавил. — Горячего чая с малиной надо выпить, — задумался еще раз и тут же замотал головой. — Не! Лучше не надо горячего чая с малиной, а то точно в футбол нельзя! Лучше так выходи. Побегаешь, заодно и пропотеешь!
— Какой футбол? — скривился Олежек и едва сдержал слезы, потому что вдруг явственно увидел лицо Алки и услышал ее шепот — «Дурак ты, что ли?» и просипел только короткое. — Нет!
«Четыре года тебе осталось, Колян», — почти вслух прошептал Олежек, снова посмотрел на Зайца, который, как и положено, к обеду был уже пьян и перевел взгляд на Розу, что присела с пустым тазиком на скамью рядом с бабками. Заяц был мутным, как заплеванное стекло в подъезде. Прошлое вздымалось в нем подобно непроцеженной браге, а будущее тонуло в сизой дымке, потому как после сорока годов Заяц продолжал пить точно так же, как пил с отрочества, вот только перестал трезветь вовсе и опустился в неизбывный хмель надолго. «Надолго», — судорожно вздохнул Олежек, потому что смотрел уже на Розу и увиденное ему не нравилось. Она была черна, словно пропасть. Она была черна словно пропасть, но ее пропасть не казалась бездной, потому что она расширялась из черных точек Розиных глаз подобно воронке, захватывая, засасывая широкой, бескрайней частью Олежека. Он затрепыхался, с усилием оторвал взгляд от крашеной, с седыми корнями макушки и сполз на пол. Почему из глаз, она же даже не посмотрела на меня? — родился внутри Олежека немой крик. Это талант? — тут же звякнул в голове глупый вопрос, но в глазах, в ушах, в носу и на корне языка мгновенно проявилось осознание того, что начало воронки было не в черных глазах маленькой и нервной женщины, а в том воскресном утре, когда суматошная, какая-то невсамделишная жизнь Розочки закончилась. Когда она не только поняла, что молодость, а с ней и все светлое или кажущееся светлым не просто уходит или уже ушло, а сорвалась в пропасть. Когда она, уснув в субботу рядом с привычно пьяным мужем, проснулась утром рядом с трупом. Проснулась и сорвалась. Сорвалась и куда-то поползла — вниз или вверх, неважно, наверное, в ту сторону, откуда на нее смотрел Олежек. Поползла, обдирая тонкими пальцами скользкий склон, поползла и продолжала ползти все эти годы, потому что ей казалось, что она все время скатывается обратно в то воскресное утро, и некому было ее удержать — старший сын женился, уехал куда-то и вовсе забыл о матери, а Серега, что Серега? Что Серега? — спросил себя Олежек и вдруг отчетливо понял, что стоит ему увидеть Розочкина сына, и он тут же, неминуемо узнает — и что Серега, и куда Серега, и надолго ли, и каким образом….
Олежек потянулся к диванному подлокотнику, поймал кружку, выхлебал остатки воды и вытер со лба липкий пот. Розочке оставалось еще долго. Лет двадцать или больше. Что с ней будет потом — Олежек не разглядел, но расползающаяся тьма, обдавшая его холодом, ясно давала понять, что ничего хорошего ее не ждет ни в один из оставшихся дней. Она сойдет с ума, — то ли сказал, то ли подумал Олежек и произнес уже точно вслух, только чтобы услышать собственный голос, — она уже сошла с ума.
Мальчишка поднялся, удивился задрожавшим коленям и подошел к зеркалу. На него смотрел обычный подросток. Почти прошедший синяк под глазом от Васьки из третьего подъезда все еще был на прежнем месте, бесцветные глаза смотрели настороженно, да и непослушные, выгоревшие до соломенного цвета вихры тоже торчали в стороны настороженно. Футболка висела на широких, но острых плечах. Шея казалась и была тонкой. Подбородок острым. Нос ободранным и конопатым. Ну как не дать такому по морде? — ржал Васька, когда встречал Олежека у дома. Ржал, но дальше насмешек не заходил, впервые ударил только на неделе, да и то лишь потому, что нажрался какой-то дряни, вывалился из детской карусельки с остановившимся взглядом и принялся махать кулаками, ничего не разбирая перед собой. Олежек просто не успел увернуться. Хорошо еще никто не видел. Вроде бы не видел. Васька сам-то уж точно не помнит, а то уже давно бы потешались ребята над Олежеком всем домом. А так-то — сказал всем, что подрался. Зашел в подъезд, стиснул зубы, разбил кулаки о сухую штукатурку, залил костяшки зеленкой — ну точно подрался. Всего-то и пропустил один удар…. Мамка заплакала, классная только головой покачала. Нет, все-таки хорошо было бы отметелить Ваську, жаль только, что старше он Олежека на два года, выше на голову и сильнее. И колени у Васьки никогда не дрожат. Да и не умеет Олежек драться. Ведь так трудно драться, когда противник сильнее тебя, с другой стороны — зачем драться с теми, кто слабее? Это Димка может драться с теми, кто сильнее. Сам здоровяк, но всегда готов кинуться и на тех, кто еще здоровее. Васька тоже перед старшими не пасовал, но дрались они по-разному, Олежек видел. Димка вдруг становился веселым и быстрым, гибким, как зверь. А Васька — пустым. Глаза у него становились пустыми и холодными, и шипенье из горла раздавалось, и сам он становился как змея, всякий должен был понять, если и погибнет такой в схватке, все равно ужалит насмерть. Нет, так слишком страшно. Лучше быть как Димка. Тебе легко, — вздохнул как-то Олежек, — ты сильный. Ага, — хмыкнул Димка и согнул крепкие руки так, что рукава застиранной футболки почти затрещали на мышцах. — Легко или нет, не скажу, а насчет силы ты не прав. Почему? — не понял Олежек и сам согнул руки, даже закряхтел, так хотел вспучить несуществующие бицепсы. Не здесь сила, — ответил почти одноглазый троечник Димка. А где? — не понял Олежек. — А где? — повторил он вслух, глядя на собственное отражение, и внезапно вспомнил и про непроглядную тьму, и про свитер и начал судорожно и торопливо сдирать его через голову, пытаясь вернуться в счастливое утро и забыть, забыть весь этот внезапный кошмар, и пропавшие несколько часов четверга, и черную воронку Розочки, и будущую смерть Коляна, как вдруг замер. Он смотрел на себя в зеркало и не видел ничего. Нет, он видел обычного мальчишку, но не видел ни собственного будущего, ни прошлого. «Показалось», — облегченно вздохнул Олежек.
Он выскочил на улицу через пять минут. Уже в подъезде застегнул сшитую мамкой из серой плащевки ветровку, простучал стоптанными ботинками по ступеням, перепрыгивая через одну с четвертого до первого этажа, толкнул дверь и замер. Во дворе никого не было. Жмурилась на скамье кошка, чирикали на голом кусте сирени воробьи. Куда-то исчезла Розочка, Заяц, исчезли бабки, просиживающие на вынесенных из дома подушечках у подъездов часы. Олежек теперь уже снизу скользнул взглядом по окнам, зацепился за Любку, все так же торчащую из окна, но не стал всматриваться, потому что тревога снова засвербела в груди, и пошел, почти побежал за угол, к магазину. «Показалось, — шептал он про себя, но зубы против его воли отстукивали, — нет, нет, нет».
— Ты чего в школе не был? — услышал он окрик в спину, обернулся, вздохнул и поплелся в сторону одноклассницы Светки.
Она смотрела на него выжидающе, готовая или посочувствовать какому-то незапланированному несчастью, или похихикать над внезапной хитростью. Она ничего больше не говорила, ждала. Светка умела ждать, полненькая, рыжая, куда там Олежкиным конопушкам, то ли старательная троечница, то ли ленивая хорошистка, она редко придумывала что-нибудь сама. Жила себе в удовольствие, озиралась по сторонам и ждала, когда ближайшая минута, час, день, вся ее жизнь предложат ей какой-нибудь выбор, вынудят ее шагнуть вправо или влево и только тогда шагала. Чаще всего не осознанно, а как шагнется. Так все и будет, — отрешенно подумал Олежек, — выйдет замуж за мужика на пятнадцать лет старше. Не его приспособит под семейный уют, а сама пропитается его холостяцкими привычками. Ни на кого толком не выучится, родит мальчика и девочку, разругается, рассобачится с мужем, поменяет с десяток приятелей, сопьется, будет работать сначала официанткой, потом уборщицей, потом дворничихой, покуда в шестьдесят два года не умрет в собственной постели от разорвавшегося сердца — со счастливой улыбкой, потому как если бы не сердце, подыхала бы долго и мучительно от начавшегося уже рака печени.
— Ты чего в школе не был? — повторила вопрос Светка и расплылась в хитрой улыбке.
— Ты дура, Светка, — неожиданно сказал Олежек.
Слова вырвались изо рта против его воли, он ужаснулся тут же, едва произнес их и внезапно почувствовал, что обретенный им талант покрывает его если не коростой, то скорлупой, и ему больно не только смотреть вокруг и видеть, но даже просто шевелить руками и ногами.
Светка поскучнела. В другой раз она бы непременно брякнула что-нибудь вроде — сам ты дурак, или, а ты вообще урод, но видно было что-то в лице Олежека, отчего улыбка просто медленно сползла с ее конопатого лица, и ее губы скучно вымолвили:
— А ты разве умный?
Она помолчала, затем пожалела, наверное, показавшегося ей жалким и несчастным Олежека и добавила.
— Я знаю.
И еще.
— Все дураки.
И еще.
— Где кулаки-то рассадил? Подрался он. Я видела, как Васька тебе по роже съездил.
Сказала, сдвинула Олежека с тропинки на прошлогоднюю траву, и пошла домой, в двухкомнатную квартиру, на пятый этаж, в первый подъезд. Олежек иногда приходил к Светке рисовать школьную стенгазету или настраивать гитару к ее старшему брату Женьке. Женька, недавно пришедший из армии, смотрел на Олежека с презрением, словно сам факт дружбы с его сестрой был признаком ничтожества для любого парня, однако гитару настраивал отлично. Олежек сидел на шатком стуле, слушал, как его фанерный инструмент обретает строй и звук, и страдальчески моргал слезящимися глазами, потому что от ног разувшегося Женьки несло отвратительной вонью, но замечал этот запах словно только один Олежек.
— Ну? — Колян уже вычеканивал возле подъезда мяч. — Пойдем, постучим?
Олежек почесал нос и подумал, что идти ему некуда. Куда бы он ни пошел, все равно придется возвращаться в двенадцатиметровую комнатушку к родной несчастной мамке, к Розочке и ее сыну Сереге, к одноглазому Димке и Ваське с пустыми глазами, и что прогуляй он хоть половину учебного года, ничего в его жизни не изменится.
— Ну? — нетерпеливо повторил Колян и ловко поймал мяч плечом и щекой. — Идешь или нет?
— Нет, — отчего-то закашлялся Олежек и неопределенно махнул головой в сторону. — Я… я к мамке.
— Ну, ты смотри, если что, — недовольно протянул Колян и крикнул Олежеку уже в спину, — я все одно ребят соберу, хоть по воротам постучим.
Он шел зажмурившись. Через полуприкрытые глаза мелькали только тени людей, но даже теней было достаточно, чтобы почувствовать десятки будущих смертей, разглядеть червоточинки и прорехи в телах, которые если уже не стали болезнями, то рано или поздно станут ими. «Они все умрут, — шептал Олежек и, ловя плечами нервную дрожь, повторял это уже как заклинание, — они все умрут! И я умру, только не знаю, когда!»
Не знаю, когда.
Внезапно он остановился.
Он шел к мамке.
Что он увидит, когда поднимется на второй столовский этаж и вызовет из мясного цеха мамку? То же самое?
Олежек открыл глаза. По тротуару брела женщина с детской коляской. Она что-то напевала вполголоса и улыбалась. Ребенок был у нее первым, но она родит еще двух, воспитает почти десяток внуков и успеет понянчиться с правнуками, пока…
— Алле!
Сзади стояла запыхавшаяся Светка. Она смотрела на Олежека хмуро и острый кулачек, которым только что заехала ему между лопаток, не опускала, держала его перед грудью, словно одноклассник должен был немедленно дать ей сдачи.
— Неправильно кулак держишь, — принялся объяснять девчонке Димкину науку Олежек. — Зачем указательный выставила? Вместе держи пальцы. Ровно. Не прячь большой палец в кулак, держи его снаружи. Да не выставляй! Будешь так бить — сама покалечишься. Вот. Ударять нужно костяшками указательного и среднего пальцев. Вот этим местом. Кулак сильно не стискивай, расслабься. Отведи локоть назад, держи кулак пальцами вверх. Бьешь ровно вперед, поворачиваешь кулак пальцами вниз, вкручиваешь его и напрягаешь уже при контакте. Поняла? Ну-ка… Уй… Неплохо… для первого раза…
Он напряг пресс или что там у него было вместо пресса, но Светка попала в солнечное сплетение и Олежек тут же присел на бордюр. Светка скукожилась рядом, подула на ушибленные пальцы, покосилась на перекошенное лицо приятеля, буркнула в сторону:
— Сам дурак.
Помолчала и добавила:
— Я все Ваське рассказала. Он на детской сидит с Коляном, мяч хотят погонять, только команды нет. Васька, оказывается, не помнил ничего. Теперь злой на тебя. Сказал, что кулак о твою рожу разбить давно уже собирался, а удовольствия никакого не получил. И еще Колян ему сказал, что ты хвастаешь, что подрался с кем-то в заречном микрорайоне.
— Мне все равно, — выдохнул, наконец, Олежек.
— Что на тебя нашло? — спросила Светка.
— Не знаю, — пожал плечами Олежек, посмотрел на ровненькие Светкины коленки, расправил плечи. — Чтобы ты сделала, если бы видела каждого человека насквозь? Ну, к примеру, его прошлое и будущее, чем заболеет, во что вляпается, когда умрет?
— Ничего, — выпятила губу Светка и почесала конопатый нос крашеным ногтем. — Ну, пошла бы в милицию, преступников ловить, или врачом — чтобы лечить. Это ж самое главное — видеть человека насквозь. Мамка, когда с дежурства приходит, всегда говорит, что лечить легко, знать бы, что лечить, да вовремя начать. А то у человека спина болит, а у него на самом деле, может быть, сердце разваливается. Только это все потом, а пока лучше никому ничего не говорить. А то в дурку отправят. Хотя можно шпионов ловить.
— Ага, — кисло согласился Олежек.
— Только так не бывает, — снова стиснула кулачок Светка и выкинула его перед собой.
— Ага, — опять согласился Олежек и увидел соседского Серегу, который тащил под мышкой старый радиоприемник. Сопьется, сойдет с ума, сдохнет в пятьдесят лет в той самой дурке с отнявшимися ногами.
— Чего ты сказал? — не поняла Светка.
— Привет, малявки, — бодро гаркнул Серега и потопал в сторону дома.
— Привет, — пробормотал Олежек и посмотрел Светке в лицо. — У тебя и ресницы рыжие.
— Я вся рыжая! — надула Светка щеки, тут же поняла, что сболтнула лишнее, и залилась краской.
— Нельзя говорить, — пробормотал Олежек. — Я думаю — нельзя говорить, что всё знаешь про людей. Вот кино ещё было про бессмертных, которые живут очень долго, вовсе не умирают.
— Сказки, — сморщила носик Светка.
— Может быть, — кивнул Олежек. — Но если не сказки, если они есть, то о них никто не должен знать. Вот представь себе, что тебе уже сорок или пятьдесят, а на вид всё ещё лет тридцать…
— Восемнадцать! — мотнула головой Светка.
— Ну, пусть восемнадцать, — продолжил Олежек. — Думаешь, что так вот и будешь себе топать до старости в восемнадцать лет? И пенсию так пойдёшь получать? Нет, Светка, если человек владеет каким-то… таким талантом, он должен таиться. Прятаться.
— Скучно так, — нахмурилась Светка. — Вот, представь себе, что мне восемнадцать лет. И что мне будет восемнадцать лет ещё лет тыщу. И всю эту тыщу лет я буду Светкой Козловой, толстухой с конопатым носом и рыжими ресницами? Дурой, как ты сказал…
— Тысяча лет — большой срок, — хмыкнул Олежек, — можно и поумнеть.
— Повеситься, какой большой, — прошептала Светка и наклонилась к самому Олежкиному уху. — Папка мой, когда с работы приходит, когда там у них в депо что-то не ладится, так шипит, блякает всё время, ругается и говорит, что загробный мир существует. И рай, и ад. Вот только бога никакого нет, а загробный мир есть. И что он не знает, как рай, а ад как раз у них в депо и находится. И мне тоже кажется, что вот это всё вокруг нас и есть ад.
— Да ну? — попробовал сделать умное лицо Олежек, оглянулся, посмотрел на апрельское небо, на обрубленные кочешки тополей с набухшими почками, на трещины в асфальте, на пестрые занавески в окнах ближайшей пятиэтажки, перевел взгляд на встревоженное лицо Светки. — Ты в каком классе учишься?
— В шестом, как и ты, — не поняла Светка.
— Правда? — усомнился Олежек. — Полистаю на переменке классный журнал, проверю.
— Проверяй, — вскочила Светка, одернув короткую юбочку, под которой мелькнули белые трусики. — И я вместе с тобой, — и побежала обратно к дому. — Заодно прогулы тебе выставлю за сегодня! Съел?
— Съел, — кивнул Олежек и, глядя вслед однокласснице, подумал, что вот захочешь так специально прожить — чтобы муж старше на пятнадцать лет, дети, пьянство и пустота, ничего не получится. Или — ничего трудного? А все-таки вкусно от Светки пахнет, точно успела барбарисовую карамельку за щеку дома сунуть.
— Олег, — раздался над аллейкой голос Коляна. — Олег. Тебя Васька зовет.
— Чего он хочет? — поднялся Олежек.
— Поговорить, — шмыгнул носом Колян. — Пошли, все равно никуда не денешься. Пошли, он мячик забрал.
— Ты это…. — Олежек поежился, даже свитер вдруг показался ему слишком просторным. — Ты не ходи к нашему пруду. Особенно через четыре года. Вот перед выпускным — не ходи. Еще утонешь.
— Ты дурак? — поскреб в носу Колян. — Чего каркаешь? Во-первых, я после восьмого пойду в ПТУ, какой выпускной? Во-вторых, я плавать не умею. В-третьих, кто ж в нашем пруду купается, там столько железа на дне, брюхо можно распороть. Слушай, может быть, ты и правда заболел? Хочешь, я Ваське скажу, чтобы он не лез к тебе?
— Он тебя послушает? — отчего-то безразлично поинтересовался Олежек. Колян все так же отсвечивал будущим утоплением. Не купаться он пойдет на пруд, просто нажрется до беспамятства и забредет туда, заблудившись.
— Не знаю, — сплюнул Колян. — Мамка-то скоро твоя со смены пойдет?
— В восемь вечера, — как эхо отозвался Олежек, но привычного страха не почувствовал. Точнее страх был, но он оказался придавлен той самой тьмой, что накрыла его в вороте свитера. В вороте свитера, — пробормотал Олежек и тут же снова стянул с себя свитер. И снова надел. И снова его стянул. Холодный апрельский ветер схватил мальчишку за плечи, но тьма в глазах не исчезла, она просто разорвалась на части и спряталась во встречных фигурах. Обернулась несчастной или счастливой жизнью, скорой или нескорой смертью, болезнями и радостями, неудачами и везеньем.
— Пойдем, — заныл Колян. — Не будет ничего, не бойся!
— Так не бывает, — убежденно произнес Олежек. — Не бывает, чтобы знать будущее. Оно происходит само собой. Вот, я остановился и никуда не иду, вот я опять иду, все зависит от человека. Нельзя точно знать, что будет даже через пять минут.
— Можно, — тоскливо сдвинул брови Колян. — Через пять минут по-любому тебе придется говорить с Васькой. Он так и передал, что ждет, и сказал, что встреча… — Колян еще сильнее наморщил лоб и произнес, — не-от-вра-ти-ма.
— Наверное, — почему-то легко согласился Олежек и с удивлением покосился на собственные ноги. Колени у него не дрожали. Нет, слабость была, он вообще еле шел, ему казалось, что он должен был упасть еще десять шагов назад, но он продолжал идти, хотя больше всего хотелось присесть все на тот же бордюр и закрыть глаза, чтобы никого не видеть и не слышать.
— Пошли, пошли! — принялся торопить приятеля Колян. — Он в беседке тебя ждет.
— В беседке, — понял Олежек, значит, из дома их никто не увидит, и Васька будет делать с ним все, что захочет. Ну и пусть. Пусть делает все, что захочет. Год назад Васька докопался до Вовчика из желтого дома, прием ему какой-то показывал, руку в локте сломал. Неизвестно, как он с родителями Вовчика все уладил, а самого пацана теперь за десять шагов обходит. Может быть, и с ним такое же случится? Интересно, больно это — ломать руку?
В беседке было грязно и сыро. На огрызках стола лежал кусок мокрого ДСП, тут же валялись сигаретные фильтры, подсыхали плевки. Младший брат Васьки Игорек деловито тасовал колоду карт, ровесник соседского Сереги Виталик из противоположного дома сортировал собранные по урнам «бычки». Васька, встряхивая головой, чтобы непослушная прядь черных волос сползла со лба, наматывал на кулак тонкую стальную цепочку, на конце которой висел перочинный нож.
— Ну, привет-привет, урод, — сплюнул на дощатый пол Васька. — Значит, в заречный микрорайон ходишь драться? Я уж думал и сам сходить, посмотреть, кому ты там рыло начистил. В кровь разделал, судя по кулакам?
— Чего хочешь? — спросил Олежек.
— Что? — вытаращил глаза Васька. — Ты ж только мычал раньше! Разговаривать научился? А ну-ка, замычи!
Сядет, — подумал Олежек. — Ни теперь. Что теперь будет — не ясно. Муть какая-то в глазах вместо «теперь». Через десять лет сядет. Там и кончится. Страшно кончится. Поднимут его за руки и ноги в камере и ударят о пол. Упал с нар, скажут. Но это через десять лет будет, а до тех пор еще успеет гадостей натворить, потому что изнутри гадкий. Гадкий и грязный. И все, к чему он прикасается, обращается в грязь и мерзость.
— Я не корова тебе, — сказал Олежек, едва сдерживаясь, чтобы не упасть.
— Сейчас будешь, сученок, — оскалился Васька и подозвал Коляна. — Вмажь ему.
— Так это… — залепетал что-то невнятное Колян.
— Боишься? — поднял брови Васька и выщелкнул короткое лезвие. — Я что ли буду шелупонь эту учить? Или мне мячик твой на лоскуты пустить?
— Не надо мячик, — побагровел Колян.
— Не буду! — расплылся в улыбке Васька. — Виталик, отдай ему мяч. Только имей в виду, парень, если мы разойдемся, то сходиться по-другому будем.
— Держи, спортсмен, — выкатил из-под скамьи мяч Виталик. — А сам побудь здесь пока. Тебя никто не отпускал.
— Что он сделал? — хрипло спросил Колян.
— Да ничего, — выпятил губу Васька. — Врет много. Надо бы, чтобы не врал.
— Так он больше не будет, — затосковал Колян.
Жаль, что я трус, — подумал Олежек, чувствуя, как сводит ненавистью пальцы. — А ведь Виталик в порядке. Все у него почти будет; и семья, и дом, и дорогая машина, и дети, а чего не будет, никак не разглядеть. Но не будет чего-то, точно.
— Конечно, не будет! — хихикнул Васька. — Получит по рылу и не будет. Или ты не мужик, Колян?
— Борзых учить надо, — пискнул Игорек, который через восемь лет попадет на какую-то войну, натворит там дел, грязных дел натворит, но и сам сгинет.
Войну? — удивился Олежек. — Какую еще войну?
— Ну, ты это… — почти заплакал Колян и ударил Олежека кулаком в плечо.
— Нет, — чмокнул Васька. — Не пойдет. Ты бы его еще погладил. Сюда надо бить, сюда, — он постучал по собственной правой скуле. — Обновить надо синячок, понял?
— Понял, — потерянно прошептал Колян, но Олежек его не услышал. Колян ударил его в плечо. Не больно ударил, так, только обозначил тычок, но что-то хрустнуло в Олежеке от удара. Не в плече хрустнуло, в голове. Хрустнуло, но не сломалось, а словно исчезло. Исчезла боль, страх, слабость, но и ненависть не прибыла, нет. Она растворилась вместе со страхом, а осталась только досада и удивление, что он сам пришел к этой мерзости и выслушивает всякую чушь, и что хороший парень Колян на его глазах сам становится мерзостью, потому как нельзя оставаться чистым, если общаешься с грязью, и что тот же Виталик со всем своим будущим благополучием тоже будет грязью, но грязью удачливой и покрытой позолотой. До времени.
— Сюда нужно бить, — ткнул себя пальцем в скулу Васька.
— На себе не показы… — пискнул Игорек, но не успел договорить, потому что Олежек схватился за лист ДСП и ударил сам. Беседка повалилась куда-то в сторону, или это упал Олежек, он не понял. Мир перевернулся, рассыпался на картинки и звуки, которые никак не хотели складываться друг с другом — искаженное лицо Васьки, блеск лезвия, выпученные глаза Игорька, в кровь разбитый нос Виталика и истошный рев Коляна.
— Ерунда все, ерунда, мне и не больно! — услышал Олежек радостный голос Коляна, когда мир успокоился и сложился. Мальчишка снова расслышал чириканье воробьев, увидел беседку с выломанной стенкой, каких-то людей, загораживающих кого-то, похожего на Ваську или Виталика, ревущего Игорька, Светку с испуганными глазами и посеревшими веснушками, ее мать, заматывающую бинтом руку Коляну, и откуда-то взявшегося Димку, который пытался вырвать из рук Олежека обломок ДСП.
— Чего ты ржешь, дурак? — весело щурился больным глазом Димка. — Ничего смешного. Этот урод и ножом пырнуть мог, вон, Коляна зацепил, когда тот его держал. А хорошим Колян оказался парнем, я думал, что размазня. И про тебя думал, что ты размазня.
— Я и есть размазня, — засмеялся Олежек, уже начиная понимать, что кроме ссадин и царапин, ничего не заработал, разве только синяк ему успел обновить или Васька, или Виталик, и что беспокойство, мучившее его с утра, растворилось без следа.
— Тогда чего ржешь? — не понял Димка.
— Не вижу ничего больше, — сказал Олежек. — Не понимаешь? Ну и ладно. Да нет, не бойся, так вижу. Внутрь не вижу. Про тебя вот ничего не могу сказать. Не могу разглядеть.
— А что про меня говорить? — поднял брови Димка. — Вот я. Весь на виду. Ты сам-то как? Чего в школе не был? Заболел?
— Нет, не заболел, — прошептал Олежек, оглянулся и зажмурился, чтобы мир снова не превратился в цветную карусель. — Разве только умер.
2009 год
Пёс
Когда Макарову исполнилось двенадцать лет, он вместе с мамой покинул родную деревню и отправился навстречу лучшей жизни. Лучшая жизнь задорно подмигивала из будущего, но не подпускала, держала дистанцию. И Макаров следовал за взмахом ее ресниц, не предполагая, что однажды лучшая жизнь окажется за спиной и будет точно так же подмигивать из прошлого, но ни сил, ни возможностей устремиться за ней уже не останется.
Пятиэтажка, в которой мама Макарова получила комнатушку, напоминала брошенный на замусоренный луг силикатный кирпич. Роль густой травы исполняли разлапистые ели, а роль мусора — многочисленные погреба и сарайчики, сооруженные в ближайшем овраге местными жителями из подручных материалов, благо ельник рос без присмотра. Картину жизни дополняла колючая проволока притаившейся за поворотом дороги воинской части, а завершал дощатый забор убогой турбазы, занимавшей противоположную сторону обезображенного оврага. Дети, которых угораздило оказаться «кирпичными» обитателями, тонули в обозначенном пейзаже словно муравьи, заблудившиеся в высокой траве, но муравьи беззаботные, а оттого счастливые. Одним из них, пусть и не особенно счастливым, и стал Макаров.
Сначала он чурался новых знакомых, потом выпячивал грудь и таращил глаза, в ярких красках расписывая свое «героическое» деревенское прошлое, пока, наконец, почти не притерся к компании, которая гоняла футбол на кочковатом поле между ельником и пятиэтажкой, собирала окурки на территории турбазы, купалась в вонючем пруду и затевала костры и шалаши в ближайшем березняке. Вот только друзей Макарову не удавалось найти. У него появились приятели, но назвать их друзьями Макаров не мог, потому что из деревенского прошлого помнил, друг — это тот, который всегда друг, а не до того момента, как над тобой начнет насмехаться какой-нибудь великовозрастный переросток типа старшеклассника Санька. Друг не обязан биться головой о стену, но вливать угодливый смех в оскорбительный хохот не должен тоже.
Однако никакие насмешки не продолжались вечно, грустное «сегодня» неизменно превращалось в смутное «вчера», близилась осень, а вместе с ней и школа, что означало новые знакомства и новые переживания, и Макаров, незаметно для самого себя пустил в новой реальности сначала корешки, потом корни, а затем и распустился первыми листочками — у него появилась мечта — собака.
У Макарова никогда не было собаки. Оставленная в деревне бабушка предпочитала собаке кошку и кур, и стенания внука, подкрепленные закладками в потрепанном томике по служебному собаководству, неизменно разбивались о бабушкину неуступчивость. Теперь давняя мечта ожила. Вокруг пятиэтажки бродила свора беспородных собак, которые не требовали ухода, но так или иначе были разобраны между подростками. Каждая псина имела кличку и хозяина, который время от времени баловал ее лакомством. К примеру, вожак стаи — худосочный Шарик — принадлежал Саньку и следовал за ним неотступно. Кудлатый и независимый Тарзан обихаживался сопливым Колькой. Коротконогий Тузик, вообще-то принадлежавший водителю турбазовского автобуса, пробавлялся благосклонностью столь же мелкого Игорька. Неунывающий, облепленный репьями Дружок был всеобщим любимцем, но больше других чтил нагловатого Серегу.
Макарову собаки не досталось. Конечно, он не упускал случая погладить любую псину, благо каждая готова была подставить голову для ребячьей ласки, но никакая ласка не могла ее удержать, стоило настоящему хозяину окликнуть питомца. Ни одна из этих собак не смотрела на Макарова такими преданными глазами, какими смотрела она на хозяина. Ни одна из этих собак не променяла бы хозяина на тысячу Макаровых, даже если бы у каждого из них был припасен кусок вкусной колбасы в мятой газете, ну разве только на несколько секунд. Ни одна из них не принимала Макарова за своего, хотя он, точно так же, как сопливый Колька, готов был бежать домой, размазывая сопли и слезы по щекам, когда, возмущенный поражением Шарика в короткой схватке с Тарзаном, Санек переломил о спину последнего ивовый лук.
А потом из ельника вышел огромный пес.
Может быть, он появился вовсе не из ельника. Может быть, он пришел со стороны воинской части или из-за реки, за которой тонула в грязи маленькая деревенька — это было неважно. Всем обликом, исключая обвисшие уши, пес напоминал немецкую овчарку и вел себя соответственно. Он лениво рыкнул на Шарика, заставив того поджать хвост, равнодушно перешагнул через Тузика, не обратил ни малейшего внимания на Дружка. Пес аккуратно взял с ладони Макарова зеленоватую турбазовскую котлету, позволил себя погладить, равнодушно помахал хвостом и пошел по своим делам, не одарив преданным или просящим взглядом никого из мальчишек, хотя впалые ребра никак не намекали на прошлое благополучие великана.
— Вот это псина! — восхищенно пробормотал кто-то.
— Теленок! — хмыкнул другой.
— Ерунда, — не согласился Санек, свистнул посрамленному Шарику и вразвалку отправился прочь.
— Мой будет! — заявил ровесник Макарова Серега.
Но пес остался ничьим. Он не подчинился никому, хотя от угощения не отказывался. Он позволял себя гладить, но подрагивающая возле желтых клыков черная губа не давала смельчаку расслабиться ни на мгновение. Пес не отзывался ни на какие клички и не пытался занять какое-либо место в ребячьей или собачьей стае. Он был сам по себе, и Макаров смотрел на пса с завистью. Наверное, потому, что его даже тихий рык неизменно отгонял четвероногую мелочь и освобождал дорогу от двуногой.
Пес проявлял некоторую благосклонность только к Макарову. Он бесцеремонно обнюхивал карманы поклонника, снимал сизым языком с ладони лакомство, но однажды зарычал и на мальчишку. Валяясь на траве, Макаров откатился в сторону и случайно залетел под пса. От неожиданности тот подскочил, накрыл съежившегося Макарова четырьмя лапами и зарычал по-настоящему, именно так, как зарычал на Шарика, заставив того поджать хвост. Макаров не поджал хвост, но страх, сковывающий мышцы, почувствовал. Он съежился, прижал руки к животу и замер, разглядывая сквозь зажмуренные глаза оскаленную пасть. Пес нехотя спрятал зубы, с явным недоумением обнюхал испуганное лицо Макарова и лизнул того в нос, а потом перешагнул через нечаянную жертву и ушел.
— Теперь он — твой хозяин, — хихикнул Серега, пряча в голосе зависть.
— Да пошел ты, — принялся отряхиваться Макаров.
— Сам пошел, урод, — тут же отозвался Серега. — Собачья подстилка!
— Сам урод! — стиснул кулаки Макаров.
— Ну, — прищурился Санек. — И кто кого? А ну-ка. Пацаны! Сейчас Макар с Серегой драться будет.
— Чего это мне драться? — не понял Макаров, который драться не умел и еще никогда толком не дрался.
— Да трус он, — сплюнул Серега.
Макаров оглянулся. Верзила Санек смотрел на него с презрением, а остальные — с любопытством, которое в одно мгновение могло обратиться таким же презрением. Он почувствовал противную дрожь в коленях и, чтобы не выдать ее, широко расставил ноги и сжал кулаки.
— Кто трус?
— Да ты! — скривился Серега.
Макаров ринулся на врага первым. Он зарычал точно так же, как только что рычал пес, обхватил противника левой рукой за шею, повалил, а правой еще в паденье стал бить Серегу в живот, не чувствуя, что выбил палец и продолжает разбивать костяшки кулака об армейскую бляху Серегиного ремня.
— Прямо как пес! — хихикнул кто-то из толпы, в ответ накатил хохот, а Макаров взглянул в испуганные, расширенные глаза побледневшего Сереги, который замер под ним так же, как минуты назад застыл сам Макаров, и почувствовал, как через захлестывающее торжество струится мелкое гадливое чувство.
— Ладно, — раздался разочарованный голос Санька. — Пошли на пруд, купаться.
— А ты молодец, — подошел к Макарову, который рассматривал опухающий кулак, Колька. — Пацан!
— Ничего так, — ударил его по плечу Санек.
— Еще и рычал! — подпрыгнул маленький Игорек.
— Пацан! — подтвердил еще кто-то.
Его хлопали по плечам, обсуждая подробности короткой драки, просили порычать до самого пруда, даже Серега присоединился к общему хору. Макаров стал своим в один миг и, ощущая почти настигнутую лучшую жизнь, уже прикидывал, как перебинтует руку и будет рассказывать про сломанную кисть, что освободит его от последующих драк, и что переросток Санек вовсе не такая уж мерзость, какой он показался Макарову при первом знакомстве, и о том, сколько теперь у него друзей.
На следующей день пес не появился. Он не появился и на второй день, и на третий, и через неделю.
— Пришел и ушел, — высказал предположение Макаров, тасуя над брошенной в траву кепкой колоду карт и испытывая непонятную грусть. — Или хозяина отыскал.
— Ага, — хихикнул Колька. — Санек его на поводок взял и в лес отвел. Мы его на суку повесили. Хрипел еще, тварь такая! Тяжелый! Серега ему камнем глаз выбил, а он все дергался!
Макаров бросил карты, поднялся и, жмурясь от дурноты, пошел прочь.
2009 год
Счастье
Когда на Заречной улице погас от старости последний фонарь и от снежных искорок, закручивающих хороводы под его колпаком, остались одни воспоминания, Николай пошел в магазин и купил фонарик. Он долго стоял у прилавка, сбиваясь, мучительно складывал в голове стоимость фонаря, батареек, запасной лампочки и купил в итоге нечто аккумуляторное с металлической вилкой на хвосте, стыдливо прикрываемой синим пластмассовым колпаком. Чуть дороже, зато практично. Он даже несколько раз повторил это слово про себя, а когда вышел в январский морозец, то выговорил вслух: «Практично». Под черным небом слово не прозвучало вовсе, или голос у Николая был не столь звонким, как у молодого продавца, только жгучее желание немедленно вернуться и бросить фонарик в толстое лицо ударило по глазам, заныло в груди, и только кружок желтого цвета, осветивший темный переулок, остановил. Все одно домой прогоном идти, еще ноги переломаешь.
Под горой угадывалась черная незамерзающая из-за теплых сливов речка, за ней рассыпался огнями город, втыкаясь в деревянный пригород расцвеченным новогодними гирляндами мостом, а на этой стороне не было нечего, словно последний фонарь, погаснув, унес с собой в неведомую прореху четыре десятка домов на три кривых улицы, убогий магазинчик и раздолбанную автобусную остановку. Николай вздохнул, черканул по штакетникам электрическим зайчиком и пошел огородами по зимней стежке.
Девчонка сидела в снегу и негромко скулила. Николай посветил ей в глаза, увидел набухшие пьяные веки, размазанную тушь, побелевшие щеки, дрожащие губы.
— Что ж ты, дура, здесь делаешь? — вырвалось у него. — На улице минус двадцать! Где твоя шапка? Мать твою, в колготках, рехнулась девка.
Она попыталась что-то ответить, но губы ее не слушались, и из горла вместо плача доносился только сип. И все же Николай разобрал: «Холодно. Замерзла. Очень».
Он сгреб ее в охапку, завернул в ватник и понес, почти побежал к дому и только шептал горячо, когда глаза у нее начинали закатываться: «Потерпи, уже скоро, я тут рядом». Открыл ногой дверь, проскочил в темноте холодные сени, вошел на кухню, в тепло, в тихий рокот газового отопителя, положил на диван, бросил сверху одеяло, сунул ведро в раковину, оживил газовую колонку, выдвинул ящик комода, выхватил пачку полотенец, желтую простыню, щелкнул клавишей чайника.
— Холодно. У тебя водка есть?
Сейчас. Да вот же. Плеснул в стакан. Она взяла его скрюченной ладошкой как клешней, опрокинула в горло и тут же вывернулась наизнанку. На диван, на пол, ему на руки. На себя.
Сейчас. Подожди.
Снял с нее сапоги, под которыми не оказалось даже носков. Прямо в колготках опустил ноги в таз, в который тут же налил горячей воды. Расстегнул и стянул пальто. Она, не открывая глаз, пыталась что-то говорить, но Николай, бормоча только — «хорошо, хорошо, конечно», снял кофточку, какую-то блузку, холодея, с замиранием сердца, дрожащими руками расстегнул лифчик, сглотнул что-то в горле, стараясь не смотреть на блеснувшую в кухонном сумраке грудь, нащупал молнию юбки, отчего-то стащил ее через голову, вздрогнув вместе с темными сосками, зацепил на бедрах трусы и колготы, соскоблил и все это, пахнущее мочой и рвотой, оставил в тазу.
— Ну? — она попыталась приподнять веки, но только сморщила лоб и упала на бок. Николай накрыл ее простыней, побежал в сени, приволок жестяную ванну, наполнил горячей водой, поднял с дивана ее маленькую, но отчего-то безвольно-тяжелую, посадил в воду и начал поливать на голову, плечи, на спину, на грудь, на руки. Поднял из воды колени, погонял по коже обмылок, намылил ладонь, запустил руку между ног, ощутив странно гладкую плоть, взял подмышки, поставил, опер о себя, облил, завернул в полотенце, посадил в уголок дивана, побежал в горницу, скатал с материной кровати одеяло вместе с подушкой и простыней, расправил на диване, поднял ее, уложил, хотел накрыть, замер на мгновение, впитывая удивительно красивое лицо, длинную шею, все юное утомленное изогнувшееся тело, грудь, выкинутую вперед ногу, бедра.
Посмотрел на себя в зеркало и тут только понял, что так и не разулся, не снял даже шапку.
Она пришла в себя часа через два. Приподнялась, пьяно потрясла головой, сбросила со лба прядь волос, скользнула глазами по развешанной тут же на веревках одежде, хрипло спросила:
— Ты кто?
— Николай.
— А я Дарья. Даша. Даша, — повторила она. — Воды.
Он протянул ей стакан, она медленно выпила, провела ладонью по его вздувшейся ширинке.
— У тебя резинка есть?
— Жвачка? Сейчас! — хрипло выдавил из себя Николай.
— Дурак, — она криво усмехнулась, неловко откинула одеяло, раздвинула ноги, посмотрела ему в глаза:
— Ладно. Иди сюда. Разденься. Да. Не бойся, я таблетки пью.
Он разбудил ее рано утром. Прошептал настойчиво в ухо:
— Даша!
Она открыла глаза, переспросила недоуменно: «Что?», села, оглянулась, протянула руку к одежде, скривилась, глядя на стол.
— Не буду ничего, воды.
Жадно выпила, кое-как оделась, не проявляя ни малейшего интереса ни к нему, неуклюжему и большому, переминающему с ноги на ногу, ни к убранству деревенского дома, подсвеченному зимним сумраком из окон.
— Мне на работу надо, — пожаловался Николай.
— И мне… в институт, — она наклонилась над раковиной, выдавила на палец зубную пасту, кое-как умылась, выпрямилась.
— Ну, пошли.
Выйдя на улицу, она оглянулась, увидела огни моста, город, матерно выругалась и заторопилась по указанной стежке. Николай шел сзади и не мог оторвать глаз от угадывающихся под пальто очертаний молодого тела, которые вот только что несколько часов назад он просеивал через собственные пальцы.
— Один живешь? — спросила она, обернувшись.
— Да, мать умерла.
— Работаешь?
— На мебельной, третий год.
— Отслужил что ль уже?
— Отслужил.
— Хорошо.
«Хорошо», — сладко отозвалось в голове Николая.
— Здесь что ль? — она остановилась возле истоптанного сугроба, подняла фонарик. — Твой?
— Мой, — он пощелкал клавишей, лампочка еле светила. Ничего. Зарядится. Аккумуляторный практичнее.
Она принялась разгребать снег ногой, наконец нагнулась и выволокла маленькую сумочку.
— А все не так уж плохо, — улыбнулась, глубоко вдохнула, чуть закашлялась. — Вот ведь как бывает? С чего это я с моста налево пошла? Общага же направо! Пить надо бросать! Вот ты пьешь?
— Бывает, — промямлил Николай.
— А зря, — погрозила она ему пальцем и поспешила дальше по тропинке.
Остановилась уже у моста, обернулась, стряхнула снег с его воротника, изогнула уголок рта:
— Тебя как зовут?
— Николай.
— Ну, Коля, пока.
Приподнялась на цыпочки, чмокнула в губы, побежала на мост. Так и ему на мост, на фабрику же! Только какое-то оцепенение появилось в ногах. Словно там, за мостом была чужая страна, для прохода в которую ни документа, ни права у него не имелось. Николай стоял, смотрел ей вслед и ждал. Обернется или не обернется. Обернулась. Помахала рукой. Он вздохнул, передернул плечами и зашагал на свою фабрику.
Николай пришел к институту через неделю, когда бесплодное ожидание неведомо чего стало невыносимым, а пустота в чреслах, которые он ежевечернее истязал, закрывая глаза и вспоминая ее тело, свела с ума. Она стояла вместе с подружками на углу главного корпуса. Он подошел, окликнул ее с пяти шагов.
— Даша.
И еще раз.
— Даша.
Обернулась подружка, недоуменно нахмурилась, толкнула ее:
— Никак тебя? Ты теперь Даша? Это что за чучело?
— Это? — она прищурилась, лениво отмахнулась.
— Даша, — повторил он.
Она поморщилась, шагнула к нему навстречу, прошипела чуть слышно:
— Ты, урод, вали отсюда!
— Вадик! — раздраженно заорала подружка.
— Ну? — детина под два метра ростом отделился от компании, стоявшей неподалеку. — Чего хочешь?
Холодком пробежало по коже. Стальное кольцо стиснуло затылок. Губы высохли. Разожглось в груди. Руки скрючило спазмом. Взглянул на Дашу, мелькнуло что-то в ее глазах или показалось? Поднял глаза на Вадика-добровольца. Свалить — нечего делать. Вырвать кадык двумя пальцами из-под сытого подбородка. Ладно.
— Ничего.
Развернулся, пошел, не торопясь, сунув руки в карманы китайской куртки. Только дома заметил, что оторвал их до половины.
Он дождался ее в начале февраля. Видел и раньше, но то не одна шла, то слишком рано. Окоченел на морозе, хотел уже домой идти. Она появилась за полночь. Едва переставляла ноги, худенький паренек, сам далеко не трезвый, с трудом тащил ее. Николай подскочил сзади, оглушил его подвернувшейся льдышкой, спихнул с высокого берега под откос, подхватил ее, ничего не соображающую и повел в темноту. Вытащил из кармана бутылку водки, влил половину в приоткрытый рот, встряхнул, чтобы не захлебнулась, хлопая ничего не понимающими глазами, понес. Дотащил до того самого места, толкнул в сугроб, махнул ногой, присыпая снегом, побежал домой, на ходу проглотил остатки водки, а дома опрокинул в себя еще одну бутылку, пока кухня вместе с пустым диваном не поплыла в сторону и не закрутилась, сливаясь в размытую карусель.
Через неделю приехала бригада электриков и после долгих мучений половину фонарей на Заречной оживила. Но зима уже близилась к концу, поэтому освещению не обрадовалась, стыдясь заплеванного и изгаженного снега. Бабки судачили на автобусной остановке, что надо было человека убить или в снегу спьяну замерзнуть, чтобы власти за освещение взялись. Николай добрел до дома, сбросил ватник, поужинал, переоделся в новое, открыл сундук и, переворачивая старые альбомы, какие-то стоптанные туфли и затхлые коврики, выудил ружье. Спилил ножовкой стволы, зарядил, сунул под куртку за пояс и пошел в город. Включил на мосту фонарик и бросил в черную воду, надеясь разглядеть со дна отсвет. Не получилось. Свернул к общежитию и долго бродил вокруг, стараясь держаться в тени ожидающих весну кустов. Наконец через освещенные окна столовой заметил паренька с перевязанной головой, остановился и дождался ее с парой подружек. Она прихрамывала, но шла улыбаясь. Сунула руку под свитер, поправила лямку лифчика, что-то сказала, сморщила нос, чихнула, потерла глаза, достала пачку сигарет, заговорщицки оглянулась… Николай смотрел на нее, вспоминал ее голос, тело, грудь, мягкость лона, податливость спины и жадность рук и думал, что все самое лучше в его жизни уже было. Он смотрел на нее, беспричинно улыбался и беспрерывно шептал:
— Господи, хорошо. Как же хорошо! Хорошо-то как!
Потом достал из-под полы обрез, вставил его в рот и выстрелил сразу из двух стволов.
2004 год
Чушь
Катя не любила собственное имя. Оно казалось ей несуразным набором сухих спотыкучих звуков с рычанием и почти ругательством на конце. Попытки близких превратить Екатерину в Катюшу, Катеньку, Катюху вызывали у нее кислую гримасу. Вот и теперь, стоя на ленте эскалатора, она привычно процеживала лица, плывущие навстречу, и радовалась, что никто из этих незнакомых людей не догадывается, как ее зовут. Мысли плавно перескочили на испорченные химическим московским снегом замшевые сапоги, на облупившийся на ногте лак, на Денискину тройку по математике, на надоевшую боль в висках, поэтому, когда эти самые виски, лицо, шею вдруг окатило теплом, она не сразу поняла, что случилось. Боль исчезла, колени подогнулись, она шумно вздохнула, устояла, уцепившись за поручень, завертела головой, но эскалатор уже довез ее к металлическим решеткам и с облегчением скользнул в механическую преисподнюю. Словно ожидая чего-то, Катя еще несколько секунд постояла за будкой контролера, затем пошла к поезду.
Он догнал ее уже в вагоне. Катя снова почувствовала тепло, обернулась и растерянно замерла.
Одного роста с ней.
В несуразной клокастой собачьей шапке и китайской куртке.
С выбившейся на лоб прядью темных с проседью волос.
С плохо выбритым узким подбородком.
С чуть сгорбленным тонким носом.
С узко посаженными внимательными глазами.
Он смотрел на нее удивленно и неотрывно. Катя выдохнула, облокотилась о двери, растерянно улыбнулась и, когда поезд остановился и мужчина поймал ее за руку, не дав упасть на спину, удивилась только одному, почему прикосновение не сопровождалось электрическим разрядом? Он освободил руку, но тут же ухватил снова и уже не выпускал, пока она словно в полусне шла по слякотным тротуарам домой, неловко копалась в сумочке, выуживая ключ, пыталась найти вешалку на пальто, чтобы приладить его на крючок в прихожей. Он обнял ее за плечи сзади, уколол щетиной шею, наполнил запахом табака, одеколона и чего-то еще непонятного, но показавшегося родным и знакомым. Катя обмякла в его руках, словно веревочная кукла, распустившая секретный узелок. Он подхватил ее на руки, шагнул в комнату, осторожно положил на диван и потянул на себя молнию юбки…
Звонок показался звуком рвущейся ткани. Катя метнулась за халатом, к дверному глазку, на кухню. Открыла дверь, сняла с Дениски ранец, сунула ему в кулак мелочь, сумку, отправила за хлебом. Вернулась в комнату, подошла, прижалась, почувствовала руку, скользнувшую по животу, приподнялась на носках, чуть раздвинула ноги. Он поцеловал ее в переносицу, отошел на шаг, с улыбкой покачал головой, сказал негромко:
— С ума сойти!
— Еще раз! — попросила Катя.
— Что? — он поднял брови.
— Скажи что-нибудь.
— Говорю, с ума сойти, — повторил он.
— Ага! — расплылась Катя в улыбке.
— Пойду, — он шагнул в прихожую, поднял с пола куртку, натянул на голову шапку, обернулся в дверях. — Меня Виктор зовут.
— Ага, — повторила она.
Загудел лифт. Катя закрыла дверь, пошла на кухню, жадно напилась воды из чайника, вернулась в прихожую, распахнула халат и застыла у зеркала, рассматривая собственное тело.
— Дура! — прошептала чуть слышно. — Ой, дура!
И засмеялась счастливо и изнеможенно.
Очнулась от дверного звонка. Дениска сбросил ботинки, куртку, потащил сумку на кухню, закричал возмущенно оттуда через секунду:
— Мамка! Хлеб-то дома есть!
Николай пришел поздно. С трудом умещаясь в маленькой прихожей, разделся, поцеловал Катю в щеку, подмигнул, протянул розу на длинном стебле.
— Это по какому случаю? — не поняла она.
— Вот, — улыбнулся муж. — Вздумалось. Без причины приятней. Или нет?
Катя, чувствуя непонятную досаду, кивнула, выдавила улыбку, пошла на кухню, вставила цветок в сувенирную бутылку. Долго смотрела, как муж ест. Раньше ей нравилось наблюдать за ним. Теперь раздражало все: и то, что он не подносил ложку ко рту, а нагибался за ней, что обильно посыпал блюдо перцем, отрезал от буханки корочку, иногда чавкал и клацал зубами по ложке.
— Зачем хлеба столько купили? — удивился Николай.
— Так, — она пожала плечами. — Ошиблась.
— Ничего, — он громыхнул хлебницей. — Только в пакете не держи, а то заплесневеет. Ты как сегодня? А?
— Живот что-то болит… — отвела Катя глаза.
— Ну ладно, — привычно кивнул муж и пошел в спальню поцеловать Дениску.
Катя лежала и слушала, как Николай что-то напевал под душем, барахтался, бурчал. Дождалась, пока пришел в постель, обнял, нащупал грудь, прижался, уткнулся носом в лопатку, уснул. Осторожно выбралась из-под тяжелой руки, отодвинулась, подтянула колени к груди и заплакала.
— Ты чего это, Катька? — выговаривала ей подруга через неделю. — Совсем что ли сбрендила? Да у тебя муж, каких поискать! Тебя любит, ребенка любит, не пьет, вкалывает на двух работах, все в дом, машина на ходу, летом дачу строит, на грядках твоих копается, зимой все по дому. Без денег не сидите. По театрам тебя таскает чуть не через неделю. В Турцию каждый год катаетесь. Ты чего удумала? Мало ли, что у кого где бывает? Если после каждого перепихона семью ломать…
— Нин, подожди, — Катя поморщилась, потерла глаза пальцами. — Я что? С тобой спорю разве? Или я сказала, что уходить от Кольки собралась? Ты видела, как Денис на него смотрит? Я об этом не думаю даже. Нам с тобой друг от друга скрывать нечего. И ты не ангел, да и я не со школы с Николаем дружу. Да и потом… разное случалось. Но никогда это не было так!
— Как так? — не поняла Нинка. — Я что-то не соображу? Представить не могу мужика, который твоего Кольку переплюнет? Не мне судить, конечно…
— Да не об этом я! — с досадой воскликнула Катя. — Если хочешь, он рядом с Колькой не смотрится даже. И мужик он обычный. Другое! Он мой! Понимаешь? Он… как часть меня!
— Куда уж мне понять! — махнула рукой Нинка. — Ты сколько раз его видела то?
— Два, — сказала Катя. — Вчера еще раз приходил.
— Домой?
— Нет! Что ты? У метро караулил. Сказал, что проверить приходил. Самого себя проверить. Убежал сразу же.
— Ё-мое! — закрыла Нинка лицо ладонями. — Ой, дура! Ну, я понимаю там, Людка-психопатка с твоей работы, она уже два раза таблетки глотала, у нее дурь в глазах плещется! Но ты-то?
— Знаешь, — Катя посмотрела на подругу. — Будь во мне дури побольше, я бы уже и Кольку, и Дениску оставила, и пошла бы за этим недомерком на край света. Только голова и сдерживает. Ты объяснений у меня не спрашивай, я сама ничего не понимаю. Ничего не понимаю, слышишь? Словно в реку упала и выбраться не могу. Понимаешь?
— Не понимаю, — жестко сказала Нинка. — И понимать не хочу. И вот еще что. Ты об этом не говори никому.
Николай сел вечером напротив, пригляделся, поднял ее безвольную ладонь, нежно сжал в огромных ручищах.
— Что случилось?
— Ничего.
— Брось, я же вижу! Похудела, глаза тусклые, губы дрожат то и дело. На Дениску кричать стала. Обидел кто? На работе все в порядке?
Катя отрицательно помотала головой.
— Влюбилась, может, в кого?
— Молодость уходит, Коля, — сказала она негромко.
— Ну, это ты зря! — расплылся муж в улыбке. — У нас с тобой молодости еще выше крыши. Ты на Дениску посмотри! Родители молоды, пока дети в школе учатся. Вот девочку смастерим, еще молодость лет на восемнадцать продлим. Ты чего ревешь, дуреха? Дениска! Ну-ка, бросай свои мультики, беги сюда, мамку утешать!
Виктор появился еще через неделю. Он остановил Катю в вестибюле метро, взял за руку, отвел в сторону, прижал к грязному подоконнику.
— Не могу больше.
Она запустила руки за полы куртки, обняла, прижалась, уткнулась носом в свитер, втягивая его запах.
— Соскучилась, — прошептала счастливо.
— Не могу больше, — повторил он нервно. — По всем своим бабам прогулялся, не могу. Ты как заноза, как воздух. Откуда только взялась такая… Только рядом с тобой дышу. С женой разругался. Ушел. Ничего. Дочь взрослая, у нее уже своя жизнь. Хочешь быть со мной?
— Хочу.
— Брат говорит, брось, пройдет. Чего жизнь калечить, не ты первый, не ты последний, мало ли баб, а я и объяснить ничего не могу, — засмеялся Виктор. — Слов у меня таких нет.
— А какие есть?
— Уходи ко мне, — попросил. — Пацана своего бери с собой. У меня мамка — старушка добрая, она все поймет.
— Нет.
Вывернулась, шагнула в сторону, посмотрела умоляюще.
— Нет.
— Почему?
— Муж. Сын без него не сможет. Я не могу … так.
— И я не могу так, — кивнул Виктор. — И ты не сможешь. Это такое дело, один глаз выбьешь, второй сам слепнет. Хочешь, я поговорю с твоим мужем?
— Да ты что? — ужаснулась Катя. — Смерти моей хочешь? Да он… убьет тебя!
— Убьет? — усмехнулся Виктор. — Пусть попробует. Есть у меня, чем отбиться.
— Не смей! — Катя произнесла эти слова тихо, но так, что он замер. — Не смей.
Николай хмурился и упирался, потом махнул рукой, позвонил на работу, с кем-то поменялся и поехал с Катей и Дениской на дачу. Весна задержалась, до дверей добираться пришлось по сугробам, потом потратить несколько охапок дров, чтобы протопить печь. Зато была снежная баба, игра в снежки, шашлык в ржавом мангале, горячий чай перед гудящей печью. Денис задремал прямо в кресле, Николай уложил его на диван, вслед за Катей поднялся в мансарду. Она с замиранием легла на холодную простыню, дождалась мужа, обняла его, вцепилась изо всех сил. Он поцеловал ее возле мочки уха и прошептал: — Царевна-Несмеяна! Успокойся! Все хорошо! Все замечательно! Каникулы!
Сердце схватило через два дня. После обеда. Тупым ударило в грудь, потом заломило где-то в боку и спине. Она выронила половник, обрызгав горячим супом колени Дениске, открыла рот и, не в силах произнести ни слова, согнувшись, начала искать табуретку. Николай подскочил, поймал ее на руки, потом рвал на Ниве по раскисающей дороге к городу, орал на кого-то по сотовому телефону, держал Катю за плечо и недоуменно смотрел на доктора, который требовал объяснить, откуда у больной в центре груди гематома? Все это подернулось дымкой, раздраженный голос Николая и плач Дениски стали тише, а вместе с ними ушла и боль.
Нинка прорвалась к ней через три дня. Она выгрузила из сумки гроздь бананов, какие-то соки, окинула взглядом больничную палату, с готовностью всплакнула, взяла Катю за руку.
— Ну, ты выдала! Твои-то где?
— Ушли уже, — прошептала Катя. — Только что были.
— Что ж ты раньше то не говорила, что у тебя сердце больное? — посетовала подруга. — Довела себя до инфаркта! Ну, ничего. То тебя Колька на руках носил, теперь пылинки будет сдувать. Во всем есть свои хорошие стороны. Жаль, что плохих всегда больше. Не доводят до добра все эти переживания!
— Я знаю, — прошептала Катя. — Я рассталась с ним.
— Ну и ладно, что было, то сплыло, — довольно кивнула Нинка. — А я поначалу даже обрадовалась, что вы на дачу укатили. Думала, если ты с катушек слетела, так это только твой приятель и мог сладить. Думала, это он у вашего дома застрелился. Говорят, сутки мужичонка какой-то у подъезда топтался, а как раз четвертого дня из пистолета в сердце себе и засадил. Я по телику репортаж видела. Понимаешь, чего творится? Скоро уже бомжи всякие с пистолетами бродить начнут. Думаю, придется тебе, подруга, Дениску в школу провожать. Ну и встречать, конечно. Заодно и гулять. Самое время. Весна! Да что ты плачешь, Катька?!
— Холодно мне, накрой.
— Ну, успокойся! Ты что? Тебе же нельзя плакать!
— Он… он у меня даже имени не спросил!
2005 год
Высушено:
Ботинки
Секрет в ботинках. В них все. И первое впечатление, и чувство собственного достоинства, и связь с землей. Не дай вам бог износить их до непотребства. Жизнь в страдания превратится. Встретите, к примеру, на улице красивую или просто ладно сложенную, привлекательную девушку, сразу вспомните о том, во что вставлены ваши ноги. Беда, если носы ободраны, вставки-резинки измочалены, задники стоптаны, каблуки стерты, хорошо еще подошвы не видны, и то, если стоять. Степанов поэтому и застывал соляным столбом, чтобы не сверкнуть при неуклюжем шаге дырой в подметке, в которой и по цвету не поймешь, носок ли там или босая ступня. Была б его воля, в землю бы порой врастал на ладонь, только чтобы ботинки спрятать. Казалось Степанову, что всякая встреченная красавица немедленно замечает его штиблеты и либо торопливо проходит мимо, пугливо косясь в сторону, либо поднимает глаза и брезгливо вглядывается в лицо нежданного встреченного так, словно видит и там вместо носа — потрескавшийся язычок, вместо глаз — позеленевшие медные люверсы, вместо обвислых усов — распущенные оборванные шнурки. Хотя, шнурков на ботинках Степанова не было, потому как не любил он нагибаться лишний раз, да и не доверял он узлам собственного изготовления, что на ботинках, что в жизни всякий повязанный им бантик немедленно обращался в двойной узел, который либо рвать приходилось, либо распускать, стиснув зубы. Вот ведь еще забота. Куда как лучше присесть в тесной прихожей на галошницу, подхватить с половичка стоптанную обувку и щедро умаслить ее влажным кремом. Вроде и расход невелик, а на короткое время словно молодость возвращается к обуви, возрождается почти забытый блеск новизны. Одно огорчало Степанова, не мог он по причине узости коридора отойти на положенное расстояние от зеркала, чтобы увидеть в нем самого себя в полный рост от макушки до сверкающих толстым слоем грима престарелых ботинок, никак обувка в поле зрения не попадала. А без зеркала ее разглядывать было и вовсе несподручно, небольшой, но плотный и объемный животик начисто перегораживал обзор. Этот самый животик своим неожиданным размером немало удивлял Степанова, потому как в зеркале он помещался полностью и даже частично скрывался складками голубой синтетической рубашки, все достоинство которой заключалось в ее незастирываемости и удачном сочетании со слегка потерявшими форму, но все еще крепкими брюками. Так или иначе, но, дождавшись, когда кожа впитает в себя крем, пробежавшись по морщинистым изгибам сначала мягкой щеткой, а потом и бархоткой, Степанов выходил на улицу и, старательно обходя лужи, спешил по выщербленному тротуару к зеркальной витрине универмага, чтобы на короткое время вспомнить, каково оно — ощущение блаженного ношения новенькой обуви. Именно тут, среди таких же, как он, праздношатающихся мужчин среднего возраста и торопливо спешащих куда-то женщин, Степанов ловил мгновения неги. Минуты, когда туманная дымка пыли еще не успевала опуститься на глянцево-поблескивающие носы ботинок, были самыми счастливыми в жизни. Он довольно жмурился, косил глазом на ножные солнечные искры, отражающиеся в витрине, и ненароком выставлял вперед то одну ногу, то другую. Вот одна девушка недоуменно подняла глаза к довольной физиономии Степанова, другая, вот уже и тень улыбки скользнула по незнакомым губам, и тепло, которое зародилось от этой улыбки в груди Степанова, как обычно побежало к ушам и скулам, локтям и потным ладоням, в низ живота и через чресла к коленям, лодыжкам и ступням. Степанов прикрывал глаза и млел.
Но старые ботинки так похожи на старое лицо, никакая пудра не скроет морщин и пигментных пятен. Неизвестно, сколько бы еще продолжалась престарелая обувная идиллия, только однажды ей пришел конец. Упитанная мамаша, вставляя у выхода из универмага розовощекого карапуза в прогулочную коляску, неловко повернулась, потеснила Степаныча с его поста в сторону мощным бедром и, придавив напомаженный носок ветхого ботинка острым каблуком, в одном мгновение превратила сверкающего старичка в разодранного на части мертвеца. Потрясенный Степанов еще возмущенно хватал ртом воздух, а мамаша уже пробормотала что-то извиняющее и резво укатила в неизвестном направлении.
Домой Степанов добирался полдня. Кривясь от позора, он перешел на противоположную сторону улицы и медленно побрел в сторону родного подъезда, скрывая истерзанную обувку в косматом газоне и выжидая редких пробелов в пешеходном потоке. В голове было пусто, и каждый шаг отдавался в тревожащей Степанова пустоте невыносимой болью.
Дома Степанов присел на галошницу, стряхнул с ног ботинки, мгновения рассматривал их, поворачивая в дрожащих руках, и, наконец, пошатываясь как в тумане, опустил в мусорное ведро. Жизнь была закончена. Степанов вернулся в прихожую, посмотрел в зеркало, в котором не помещались его теперь уже несуществующие ботинки, и захотел умереть. Возможно, он так и умер бы в собственной прихожей, но сама мысль, что его так и найдут — босого, в драных носках, без обуви, заставила Степанова вздрогнуть, судорожно повести плечами и приступить к поискам денег. Выкряхтывая какой-то похоронный мотивчик, он поочередно переложил стопки белья в объемистом гардеробе, пересыпал из банки в банку крупы на кухонных полках, пошуршал альбомами и конвертами, обнюхал все углы и закоулки своей бедной, напоминающей все те же истерзанные, но тщательно отлакированные старые ботинки квартиры, пока в совершенно неожиданном месте — внутри рулона непочатой туалетной бумаги не обнаружил две синеватых купюры. Находка Степанова почти не удивила, он растерянно пошуршал бумажками, почти тут же сковырнул с антресоли пакет со смятыми зимними войлочными башмаками, обулся и отправился в обувной магазин.
Идти далеко не пришлось, обувных магазинов в последние годы случилось столько, что куда не иди, а все одно рано или поздно уткнешься в один из них. Степанов потянул на себя холодную металлическую скобу прозрачной двери, с досадой поймал через резиновую подошву квадрат пластмассовой травы на входе и замер. Ботинки всех фасонов и форм словно парили вдоль стен на едва различимых кронштейнах. Поблескивали тупые, острые и квадратные носы, бархатились витые шнурки, жаждали упереться в твердую землю уверенные каблуки. Тянуло запахом новой кожи.
— Вы что-то хотели? — привычно моргнула юная продавщица и брезгливо изобразила радушную улыбку.
Степанов отмахнулся от нее как от надоедливой мухи и медленно двинулся вдоль стендов. Он прошел один раз, второй, третий, упиваясь строгим великолепием и вожделенно шевеля ноздрями. Наконец, когда взыскательный глаз выучил наизусть каждую стежку шитья на сверкающей поверхности каждого ботинка, Степанов осторожно снял со стены вожделенную пару.
Он поднес ботинки к лицу и вдохнул нетронутый потом восхитительный запах. Запустил пальцы в носки ботинок и выудил бумажные комочки. Тщательно осмотрел обувку со всех сторон. Удовлетворенно кивнул кожаным подошвам и каблукам, покрытым тонким слоем вязкого черного материала. Улыбнулся крепкому шву, скрепляющему клеевой край. Согласился с сухой прохладной стелькой над вправленными в прохладу каблука сплющенными концами гвоздей. Принял на веру прочность кожаного верха и усиленного вставкой задника. Довольно оттянул прорезиненный язычок. Присел на дерматиновую банкетку и, вооружившись пластмассовой ложкой, сунул в ботинок левую ногу.
Выдержал паузу, шевельнул пальцами в новом жилище, прикрыл глаза, на ощупь поймал второй ботинок и обул правую ногу. Медленно встал, перекатился с пяток на носки и обратно, повернулся, сделал один шаг, второй, повернулся, еще раз повернулся и медленно приоткрывая блаженный прищур глаз уставился на сверкающие чудесные носы.
— И как вам? — зевнула за плечом продавщица.
— Беру, — презрительно процедил Степанов.
Бывают такие мгновения в жизни, которые и есть внезапное самородное счастье, но понимаем мы это только именно в блаженные секунды или через долгие-долгие годы, когда внезапно дыхнет нам в лицо цветочная отрыжка минувшей жизни. Понимаем поздно, потому как золотой песок жизни не оседает в быстром течении, а уносится в неизвестном направлении, и нам остается только вспоминать заветный хруст бесценных крупинок под нашими бесчувственными ногами. Только человек, умеющий проникать в полноту жизни, заныривать в самую ее глубину, способен переживать по отдельности каждую крупинку выпавшего ему счастья.
Именно таким счастливчиком был Степанов.
Прижимая к боку картонную коробку, в которой нашли временное пристанище его войлочные убожества, Степанов прошагал восемьдесят пять счастливых шагов от обувного магазина до центральной улицы. Добавил к ним четыреста счастливейших со скрипом шагов по главной магистрали города. Разменял тысячу шагов радости на чистых микрорайонных тратуарах, пока не громыхнул веселым ключом в двери собственной квартиры.
В коридоре, поставив на пол тяжелые сумки, стягивала с ног обшарпанные туфли-лодочки жена. Она поняла все с первого взгляда. Исказила лицо, словно обожгла у плиты утомленные непосильной работой пальцы. Заткнула за ухо прядь седых волос. Метнулась к туалетной комнате, загремела дверцей шкафчика и медленно вернулась в коридор с выпотрошенным Степановым тайником. Проговорила сипло:
— На что же я теперь буду Сережке школьную форму покупать? Учебники? Тетради?
Спросила с затаенной надеждой:
— Когда же ты сдохнешь, урод?
Степанов продолжал улыбаться. Он не понимал ни слова. Она говорила на незнакомом языке.
2006 год
Не люблю
Деревянные солдатики вырезаются из деревяшек. Деревяшки получаются из деревьев. Деревья растут из земли. Зимой из снега. Из земли расти легче, поэтому летом на деревьях есть листья. Зимой листьев нет. Стволы стоят как кривые колонны. Кастрированные тополя у моего дома напоминают пародию на Парфенон. Тополь плохое дерево. Гнилое и слабое. Зато растет быстро. Все, что растет быстро — гнилое и слабое. Для резьбы не годится. Только на дрова. Дрова — это те же самые деревяшки, только приговоренные к смерти на костре. Или в печи. Но печи у меня нет. У меня обычное паровое отопление, хотя вряд ли оно паровое, потому что пар не бывает холодным. Если в мороз дышать на улице, то изо рта вылетает пар. Он ведь холодный? Или теплый? Во рту — теплый, а когда выдыхаешь, сразу становится холодным. Или не сразу? Попросить, что ли, кого-нибудь подышать? Только на руку. В детстве мама отправляла меня к парикмахеру. У старика имелась ужасная ручная машинка, которая нещадно драла волосы, но страшнее всего был запах изо рта. От парикмахера так воняло, что я жмурился, пытался дышать ртом, не дышать вовсе. Приходилось нелегко. Долго не дышать — трудно. Дышать же ртом в парикмахерской было нельзя, в рот попадали волосы. Нет ничего ужаснее, чем волосы на языке и в горле. Даже твои собственные. А уж если чужие, совсем плохо. Стрижка превращается в запланированную пытку. Не люблю волосы на языке.
Я даже не знаю, зачем мне дались деревянные солдатики. Я в солдатики не играю. Неинтересно, да и возраст уже не тот. И нож в руки мне лучше не давать. Обязательно порежусь. Буду искать бинты, пластырь, капать кровью на лестничную площадку. На площадке от этого хуже не будет, там и так все заросло грязью. Соседи хотят видеть мое имя в графике уборки лестницы. Я вежливо улыбаюсь, вносите — говорю. Только убираться все равно не буду. До тех пор, пока детишки этих самых соседей продолжают гадить, сорить, плевать на пол. Я вообще не люблю соседей, даже хороших соседей, плохих я ненавижу. В моем представлении ад это тесная коммунальная квартира. Когда я считался маленьким, даже не то что маленьким, а не очень большим, я жил в коммунальной квартире. Наш сосед напивался до такой степени, что мочиться на стену прямо в коридоре, а я прятался за тонкой картонной дверью и ждал маму, чтобы пожаловаться ей. А еще мстил этому соседу, подглядывал за его некрасивой женой в окно ванной комнаты, поджигал обгорелые спички в стеклянной пепельнице на кухне, пока от нагрева эта пепельница не развалилась на части. Не люблю себя в прошлом. Все мое прошлое отличие от соседских ублюдочных отпрысков, что мой идиотизм был направлен только на самого себя. Самого себя не люблю. Ненавижу.
Когда волосы попадают в рот это очень неприятно. Если рвотный рефлекс на саму жизнь, что уж говорить о волосах? Я даже толком рот прополоскать не могу, когда чищу зубы, а уж волосы… Будь на то моя воля, я бы приговаривал всех женщин, желающих близости, к обязательной паховой эпиляции. Легче привыкнуть к отсутствию волос, чем к ним же на языке. Женщин это беспокоило бы только в первые дни. Постепенно они бы привыкли и уже не стеснялись своих обнаженных лепестков, даже чувствуя себя из-за отсутствия волосяного покрова более голыми, чем обычно. Конечно, если им это надо. Где это «им»? Кто это «им», о которой я должен беспокоиться, чтобы не натереть ее нежную кожу небритыми щеками? Где она?
Желание близости странно сочетается с пониманием, что главное, что женщина может предъявить мужчине, это ее душа. Но мужчина смотрит, прежде всего, на тело. Поэтому — глаза — важно. Не отводите взгляд. Иначе, душа рискует оказаться потерянной для близости. Хотя красивое тело без души тоже не лучший выбор. Оно годится только для совместной мастурбации. Желание женщины, чтобы ее любили такой, какая она есть, скрывает нежелание трудиться над собственным телом, лень и презрение к мужчинам. Мужчины склонны ко лжи в силу собственного статуса. Быть честным с женщиной невозможно. Честность с женщиной предполагает ее глубочайшее и беспощадное оскорбление. Впрочем, никакая женщина и не хочет честности от мужчины. Зачем ей честность? Она согласна, чтобы мужчина обманывал ее, предполагая, что он не врет в главном, в желании. Однако эрекция ни о чем не говорит. Эрекция — это спасительная палочка, с помощью которой мужчина пытается выпутаться из щекотливой ситуации. Мужчина врет женщине из мести. Действительно, раздев женщину, в девяти случаях из десяти мужчина чувствует себя обманутым. Он понимает, что в очередной раз секс не совпадает с желанием. Но даже прекрасное тело не всегда радует. Невозможно касаться обнаженных лепестков, не посмотрев в глаза. Невозможно смотреть в глаза, в которых ничего нет. Иногда в глазах что-то есть, но не хочется смотреть в глаза, которые достались ужасному телу. Вдруг в них скрывается что-то настоящее? Безответное настоящее напоминает пропасть. Во-первых, всякий мужчина боится высоты. Во-вторых, главное вкус. Кому нужен вкус пропасти?
Да, все это работает в обе стороны, но я-то остаюсь на одной…
Женщина думает, что она приносит себя в жертву и хочет ответной жертвы от мужчины. Мужчина с ужасом думает, что жертвоприношение может стать ежедневным.
Меня раздражают женщины, которые играют роль жертвы. Не люблю женщин, которые играют роль жертвы. Ненавижу женщин, которые играют роль жертвы. Боюсь женщин, которые не играют.
Если женщина не знает, чего она хочет, это значит, что она не хочет тебя.
Я вырезаю из дерева солдатиков, чтобы расставить их на шахматной доске. Королеву вырезать не буду. Вырезать мечту — невозможно. Я просто поставлю деревянный чурбачок в угол доски, окружу непроходимым редутом коней, ладей, слонов и пешек. А короля пожертвую в самом начале партии. Противник сразу потеряет ко мне интерес, и я смогу дать отдых изрезанным пальцам, сдвинуть фигуры в ящик, взять в руки деревянный чурбачок и представить, какую бы королеву я мог бы вырезать. У нее была бы стройная фигура, гармонично сужающиеся к ступням ноги, не слишком большая грудь, длинная шея. Я бы не стал делать ее сутулой, но вот шея должна самую чуточку склоняться вперед. Но только так, чтобы позвонок на загривке, над плечами, как это называется, не выпирал отдельным холмиком. Я допустил бы легкий прозрачный пушок у нее на коже. Я много чего допустил бы. И ее капризы, и срежиссированную глупость, и светящийся ум в глазах. Даже неэпилированный пах. Какая разница. Все перестанет иметь значение в то мгновение, когда понимаешь, что весь мир сузился до размера ее зрачков. И еще уже от вспышки спички, когда она попросит закурить, голая и потная, пахнущая моим запахом и слегка удивленная, что я опять готов ее целовать там после того, что только что сделал с ней.
Где ты?
Я беру в руки деревянный чурбачок и понимаю, что сжимаю собственную плоть.
Где ты?
В следующей жизни?
Единственное, чего бы я не хотел, так это чтобы она смотрела сквозь меня. Это самое страшное, когда мужчина чувствует себя прозрачным. Прозрачность это опасная штука. Она накапливается. В этом и есть главное различие между мужчиной и женщиной. Нелюбимый мужчина становится прозрачным, а нелюбимая женщина горькой на вкус.
Когда я был маленьким, я очень боялся упустить любовь. Поэтому каждый день я задавал себе вопрос, я уже влюбился или нет? Я перебирал в голове всех знакомых девчонок и с разочарованием убеждался, что и в эту я не влюбился, и в эту тоже не влюбился, и в эту. Предполагаемая любовь начиналась с рассматривания ног. На школьной линейке девочек в белых фартуках и коротких платьях ставили в первый ряд, облегчая соученикам обзор ног противоположной шеренги. Половина отбраковывалась сразу из соображений кривизны, худобы или полноты. Особо уничижительным откликам подвергались ноги, расходящиеся от паха на ладонь, затем сходящиеся к коленям или даже к носкам. Затем следовала отбраковка по коленям, по наличию талии, груди, лицу. К финалу осмотра выяснялось, что во всей школе нет ни одной безупречной девчонки. Со временем некоторые из нас уверятся, что приличные ноги изредка попадаются, и не только в телевизоре. Остальным будет на это наплевать. Один мой знакомый, который ничего не понимал в любви, поскольку утверждал, что после каждой своей измены любит жену еще больше, однажды сказал, что влюбился в ее икры. Она пробежала перед ним в каком-то учебном заведении, он присмотрелся к ее икрам и сказал себе, что обладательница этих икр станет ее женой. А потом я плакался ему про свою непутевую семейную жизнь и этот плейбой терпеливо меня выслушивал вместо того, чтобы послать на хрен. А еще позже он врезался в какого-то негодяя, выехавшего на встречную полосу на своем уазике. И я пришел на похороны, смотрел на его лицо, собранное из обрывков, разбросанных по сплющенному салону, смотрел на его кричащую мать, отчего-то сокрушающуюся, что погиб такой красивый сыночек, словно о некрасивом она жалела бы меньше, и на жену. Она почти превратилась в старуху. Ее кожа позеленела. Она пошатывалась у гроба, а я пытался рассмотреть ее икры и думал, будет ли у меня эрекция, если я останусь с ней наедине?
Я думаю так о каждой женщине, которую встречаю, вижу, слышу, представляю. Большинство отвергаю сразу, остальных выбраковываю при ближайшем рассмотрении, некоторые заставляют меня остановиться, замереть. Чего уж там говорить, они меня не видят вовсе. Я человек невидимка. Лысый низкорослый тип с носом картошкой, хриплым голосом и забинтованными пальцами. Я отвратителен.
Мне снится, что я вырезаю деревянных солдатиков из собственной руки. Я правша — значит из левой. В голову приходит мысль, что если я вырезаю их из руки, значит, они уже не деревянные, а костяные. Или костно-мясные. Я пытаюсь вырезать на подушечке пальца упрощенное лицо, но мякоть срывается, падает на пол, где моя собака радуется каждой крошке. С досадой я рассматриваю выскобленную кость, вновь смотрю вниз и вдруг понимаю, что моя собака умерла уже лет десять назад. Я наклоняюсь, чтобы ее погладить, она вдруг зевает и говорит мне: — отстань.
Мне плохо.
И в этом виноват только я сам.
И все же когда трещина в отношениях с женой превращается в пропасть, я пытаюсь негромко сказать ей:
— Мне плохо.
Но она не слышит. Ей кажется, что она слышит, она даже пытается отвечать мне, выкрикивая:
— Ты думаешь, что мне хорошо?
На самом деле она не слышит. Также как не слышу ее я. Но я не пытаюсь кричать. Может быть оттого, что она хочет до меня докричаться, а я уже нет? Или она кричит кому-то другому?
Скорее всего, ее раздражают мои деревянные солдатики, которые я вырезаю каждый день. Я вырезаю их из стульев и детской кроватки, из деревянного кухонного молотка и разделочных досок. В довершение я приношу домой сучья, корни, куски дерева. У нас всюду щепа, стружки и опилки. Опилки забиваются в палас, попадают в пищу, в глаза, на одежду. Или это перхоть? Как от нее избавиться? Моя учительница географии не могла похвастаться привлекательной внешностью. Все, что у нее было — тяжелая коса. Она довольно странно смотрелась на ее бесформенной фигуре. Учительница хвасталась, что моет ее настоем корня репейника. Вот и я теперь мечтаю о корне репейника, только вряд ли он мне поможет, голова уже лысая, как коленка. Когда я целую женщину, мне все время кажется, что она рассматривает мою лысину, поэтому я поглядываю на нее, скашиваю глаза, волнуюсь. И думаю о том, что кто-то вот так же целует мою жену. Иначе как она выдерживает все это?
Если бы люди могли читать мысли друг друга, я бы убил себя. Чтобы никто ничего не смог прочесть.
2004 год
Способ воздействия
Если есть кто-то, кто заставляет меня писать, тогда почему он пользуется таким странным инструментом? Почему бы ему не встретить меня где-нибудь в переулке, не кивнуть загадочно, не отвести сторону и не сказать многозначительным шепотом: «Пиши, сын мой. Так надо. Это твое предназначение. Давай. Не медли.» Я бы понял. Но это… Зачем он прислал ко мне это странное существо?
Иногда мне не хватает воздуха, и я задыхаюсь. Иногда в теле возникает избыток соленой влаги, и я плачу. Особенно если слышу хорошую музыку. Я слезлив и сентиментален. Какие-то глупые кинофильмы изредка заставляют меня встать и выйти из комнаты, чтобы проглотить появляющийся в горле комок и умыться холодной водой. Вместе с тем я отвратительное существо. Все, что меня окружает, служит кормом чему-то ненасытному и одновременно брезгливому, что угнездилось внутри, где-то в районе сердечной мышцы. Это что-то смотрит моими глазами, трогает моими пальцами, слушает моими барабанными перепонками и говорит моим голосом. Порой я ощущаю себя зрителем происходящего не со мной. Порой мне удается слиться с этим ненасытным в одно целое, и я начинаю чувствовать себя счастливым и сильным. Но это бывает нечасто. По крайней мере, происходило нечасто до той встречи.
Это случилось в лифте. Думаю, я сталкивался с ней и раньше. Девчонка мелькала где-то на периферии рассеянного взгляда, позволив увидеть себя только в тот день. Ей было около пятнадцати. Такой странный возраст, когда, становясь почти взрослым человеком, юная женщина остается безусловным ребенком. Ребенок сквозит из каждого жеста, тембра голоса, из угловатых движений, на глазах становящихся плавными, из привычки надувать губы, капризничать, говорить глупости и, по закону вероятности, умные вещи одновременно. Метаморфоза происходит внезапно. То есть в тот таинственный момент, когда девочка внезапно превращается в женщину, она к этому еще не готова. Или не чувствует перемены.
Во всяком случае, только это могло объяснить, почему я не замечал ее раньше. Словно таинственная бабочка, однажды ночью она вылезла из кокона и вошла в тот же лифт, в котором неоднократно, должно быть, поднималась куда-то в сторону неба вместе со мной. Но она всегда выходила раньше, где-то на уровне низких кучевых облаков. Она была неинтересна. Как и все остальные, неинтересные мне дети, как неинтересные соседи, прогуливающие неинтересных собак и несущие из магазинов сумки с неинтересным содержимым. И вот она вошла в лифт, задержала руку над кнопками и спросила: «Вам какой?».
— Вам какой?
Возможно, я буду еще долго теребить прошлое, хотя уже сейчас представляю все произошедшее по секундам. И когда я пытаюсь по оттенкам собственных впечатлений распределить воспоминания, мне кажется, что самым первым был голос. «Вам какой?». Голос начинался откуда-то из груди. Нет. Он начинался от пальцев ног. От маленьких пальцев ног, выглядывающих из светлых кремовых сандалий. Он начинался от этих пальцев, затем в виде чистых основных нот двигался вверх по телу, обретая по мере продвижения удивительные обертоны и тембровые нюансы. Начальная чистота голоса наполнялась ощущениями и, не переставая казаться кристально чистой, изменялась. Вот голос только зародился, еще неслышный, он оттолкнулся от мизинца левой ноги. Вот он пробежал по бархатистому загорелому плавному подъему, скользнул по голени, укрепляясь, перевернулся на округлых коленях. Вот он обрел легкую шероховатость от розового следа заживающей ссадины, поднялся к бедрам, скрылся под платьем. Вот он проник в лоно, потеплел, лизнул нежную кожу на животе, расширился. Повлажнел на груди. Срезонировал хрипотцой легкому движению локтей и вздрагиванию пальцев рук. Соединился в одно в гортани и прошелестел по губам:
— Вам какой?
— Мне выше.
Кто это сказал? Это же не мой голос. Дайте же стакан воды этому охрипшему в одно мгновение пожилому пареньку. А то он стоит в дальнем углу полугрузового лифта и угрюмо таращится на легкое неземное существо, позабыв и галантность, и три тысячи способов завязать разговор с инопланетянкой и еще о чем-то, безусловно, важном, но таком никчемном в эти секунды.
— Выше? Вы живете на чердаке?
— Да. Я… этот, как его, с пропеллером…
— Тогда почему вы пользуетесь лифтом?
Я всегда знал, что буду писать. Я никогда не задумывался, добьюсь ли успеха на этом поприще, но уверенность в своих возможностях меня не покидала. Это было схоже с уверенностью рыбы, что она рыба. Ее пребывание на суше — временное недоразумение, которое должно разрешиться в ближайшее мгновение. Тем более что сверкающая солнечными отблесками река — рядом. Всего-то и надо — изогнуться, ударить хвостом по гальке, подпрыгнуть в воздух и уйти в прохладную воду. Всего-то и надо… Почему же я не сделал этого до сих пор?
Моим единственным и самым строгим критиком был командир части. Он принес из особого отдела пачку писем с убогими текстами, которые я рассылал по толстым журналам, торжественно разорвал на моих глазах и отдал обрывки.
— Не надо, — сказал он строго.
Я понял. И не стал, с грустью сравнивая свой возраст с возрастом великих и осознавая, что вот и еще один из них в эти годы закончил литературную деятельность и отправился с отчетом к праотцам, а я все еще как деревянное яйцо, которое наседка с подозрением переворачивает в гнезде и недоверчиво поклевывает, прислушиваясь. Вылупится или не вылупится? Сейчас, сейчас, попискиваю я сквозь деревянную скорлупу, приподнимаюсь на отсиженных лапках и пытаюсь проклюнуться наружу. «Зачем тебе это надо? — недовольно шепчет кто-то внутри меня. — Оставайся здесь! Здесь тепло и безопасно! Кем ты будешь там? Ты уверен, что твои представления о мире „там“ соответствуют действительности?» «Уверен», — отвечаю я, продолжая попискивать, но уже тише. Лапки подгибаются, и попискиваю я сидя.
Действительность готова распасться на варианты каждую секунду. Но она удивительным образом не распадается. Или все-таки распадается, но мне достается всегда один?
В моем варианте я не сказал про пропеллер. Только подумал. Я кашлянул, подтянул живот, выпрямил спину. С тоской вспомнил о том, что у меня грязная обувь. С таким же успехом придорожный камень мог огорчаться покрывающим его мхом. Наверное, я для нее не существовал. Она явно жила в другом варианте действительности и то, что я мог видеть ее, было не более чем оптическим эффектом, космогоническим казусом. Интересно, почему же она спросила у меня про этаж, если я для нее не существую? Или существую? Она нажала на тринадцатую кнопку, опустила руку на никелированный поручень и замерла. Лифт вздрогнул и пошел вверх.
На самом деле я не послушался своего командира. Точнее, не поверил ему. Но и писать не стал. Гадость, которая переполняла меня, была всеобъемлюща. Мне казалось, что даже попытка что-то изложить на бумаге выпачкает ее в грязи. В чем же причина? В моих желаниях? Во мне? Но ведь между мною и моими желаниями пропасть!
Закрыть глаза и накрыться с головой детским одеялом. Оставить узкую щель, чтобы не задохнуться, так как лежать долго и уже скоро будет нечем дышать. Лежать в надежде, что фантазия перерастет в долгий реальный сон. Негромко поплакать, сетуя на отсутствие покровителя, заступника, кого-то доброго, большого и сильного. Поджать под себя ноги, вспомнить всех обидчиков из школы и со двора. Всех поочередно. Убить каждого. Растоптать. Медленно переломать, вывернуть пальцы, облить кипятком. Выпотрошить промежность, ударяя и ударяя. Изуродовать. Расплющить лицо. Молотком. Старым молотком на длинной ручке. Бить. Бить. Бить. Бить.
Вот я иду из школы, нащупывая в кармане кусок свинца, выплавленный из разбитого аккумулятора и остуженный в столовой ложке. Он оттягивает штаны вниз. Чтобы они не съезжали, я туже затягиваю ремень, и он натирает мне бедра. Враги ждут меня за углом булочной. Сейчас они затащат меня во двор и начнут издеваться. Отрабатывать удары на моем животе. Открывать мой портфель и торжественно высыпать тетради и книги на мокрый асфальт. Топтать их. И я не смогу ответить. Свинчатка напрасно разрывает мой карман. Не смогу, хотя знаю, что, сломав одному из них нос, будучи наверняка после этого избит до потери сознания, освобожусь от своей трусости и бесконечного унижения навсегда. Но я не смогу.
Они не бьют по лицу. Поэтому мне не на что жаловаться и не нужно врать. У матери жалостливые усталые глаза. Я показываю ей дневник с хорошими оценками, предусмотрительно заменив обложку, и отправляюсь спать. Я ненавижу и ее. Ненавижу за то, что у нас нет денег. За то, что мне приходится питаться украденными ею в столовой продуктами. За то, что она не может защитить меня. И больше всего я ненавижу ее за слабость. За ее слабость. За то же самое, за что меня ненавидят эти подонки.
Я натягиваю на себя уже взрослое одеяло, потому что именно под одеялом прошла лучшая часть моей жизни, и продолжаю реализовывать детские мечты. Бить, бить, бить. Бить врагов, оставшихся в моем детстве и частично просочившихся в мое сегодня. Заставить их испытать боль. Боль, которая умеет быть бесконечной. Боль, которая выматывает собственным ожиданием. Хотя, что значит боль? Она ничто по сравнению с унижением, которое пронизывает все существо. И теперь, прислушиваясь к ночным конвульсиям города, как когда-то я прислушивался к пьяной ругани соседей за стеной, к беспокойному дыханию истерзанной жизнью и одиночеством матери, я продолжаю мечтать.
— О чем ты мечтаешь? — она выросла на моем пути внезапно. У всех девчонок в классе есть парни. Ей не повезло. С ней никто не хочет дружить. У нее нет двух передних зубов, конопатое лягушачье лицо и жиденькие волосы. Изгоев прибивает друг к другу. К несчастью, мы живем рядом, поэтому домой нам идти вместе.
— Ни о чем.
Мне она нравится ничуть не больше, чем остальным. В довершение ко всему она еще и глупа.
— Неужели у тебя нет ни одного желания? — она смотрит на меня зло, с нескрываемой иронией. Каждый из нас изгой, и одновременно каждый из нас принадлежит к ненавистному миру, исторгающему нас из себя, как собака, кашляя, исторгает из себя ненароком проглоченную слишком большую кость.
— А у меня есть! — она зажмуривает глаза и с упоением начинает перечислять. — Надеть туфли на шпильках, платье с блестками, вставить зубы, сделать пластическую операцию, выпрямить нос, прижать уши, накраситься, осветлить конопушки и сделаться самой крутой в школе. И придти на дискотеку, и чтобы все парни приглашали только меня, а девчонки завидовали. И чтобы они ждали меня у выхода, а я шла с парнем. Но не испугалась, а отпустила его. А потом чтобы сняла с ноги туфлю и каблуком им в глаза, в щеки, в губы, в уши!
Она захлебывается от удовольствия, а я думаю о своем. О своем единственном желании. О том, что меня уже не устроит месть, которую я пережил сотни раз в снах. О том, что меня не устроит стать сильным и смелым, потому что в моей жизни уже было бесконечное унижение, и никакая сила и смелость не способна заполнить пропасть, которая образовалась внутри. Я думаю, что мое единственное желание — умереть. Чтобы все закончилось. И чтобы смерть была как сон. Как теплый черный и непроглядный сон, в котором не будет ничего, ни боли, ни унижения, ни беспокойства, ни ненависти, которая высасывает из меня силы. Ничего. Хорошо бы замерзнуть зимой в глубоком снегу. Я читал, что это сладкая смерть. Хорошо бы…
Я смотрю в ее глупые глаза и неожиданно говорю:
— У меня есть единственное желание. Я хочу умереть.
Она растерянно хлопает глазами, начинает щебетать какую-то чушь и странным образом теряется по пути домой. Отстает. Или у газетного ларька. Или в булочной. Я не знаю. Завтра она будет стоять среди девчонок и, не чувствуя их презрения, рассказывать о моих словах. Она попытается приподняться, наступив мне на голову. Но мне не станет от этого хуже. Разве может быть хуже?
Почему я не умер? Или все-таки умер?
Недавно я встретил ее. Ей уже за сорок. Она стала маленькой и толстой. В хлопающих глазах — пустота. Она узнала меня и посмотрела с ненавистью. С остатками ненависти. Ее ненависть истрепалась и поблекла так же, как истрепалась и поблекла она сама. Я почти не изменился с того момента, как мы виделись последний раз. Она ошиблась. Растратила свою ненависть в пустоту, на ерунду, на мужа, детей, соседей. Дура. Растратила и превратилась в ничто. Ненависть надо копить. Она способна стать стержнем, основой, железобетонным каркасом. Не стоит растрачивать ее на пустяки.
Лифт задрожал, меня качнуло, я прижался в угол и, ухватившись за поручни, уперся взглядом в ее спину. Ненавижу. Чувство, которое я принял за разлившееся в груди тепло, опять оказалось ненавистью. Как истерзанный волк ненавидит железные челюсти, сомкнувшиеся на его лапах, я ненавижу существо, которое стоит у выхода ползущей к небу железной кабины. Оно прислоняется к поручням и еле заметно шевелит бедрами. Пушок на длинной шее светится от луча пластикового плафона. Кожа на ноге, чуть выше внутренней стороны колена, излучает тепло, которое я чувствую лицом на расстоянии. Оно понимает, что стоящий за ее спиной человек готов отдать все, что осталось от его неудавшейся жизни, за возможность зарыться губами в данное ей богом совершенство. Я ненавижу ее за пропитанное ненавистью детство. За то, что исписанные мною белые листы бумаги грязны. За то, что нет ни одного живого существа, готового принять меня, таким как есть, уложить в ванну и медленными движениями ласковых рук смыть всю грязь, накопившуюся во мне. Изнутри и снаружи. И терпеливо слушать мое бессвязное бормотание. И жалеть меня. И петь мне колыбельную. И впускать в себя мое одиночество, которое осталось неизменяемым с того самого момента, когда в качестве главной мечты, исполнения единственного желания, я выбрал сладкую смерть в белом снегу. И эта сладость уже давно выжгла язык, горло и теперь выжигает остатки сердца. И по закону глушения боли другой болью, я хватаю это существо за горло. Я ломаю ее, как ломается стебель гвоздики в вагоне метро, стиснутый человеческими телами. Я сдираю с нее одежду, но не для того, чтобы увидеть ее обнаженное великолепие, а для того, чтобы отворенная мною кровь залила стены, потолок и пол этой движущейся железной тюрьмы. И я делаю это с закрытыми глазами, потому что боюсь увидеть дело своих рук.
Кажется, она вышла на тринадцатом, даже не обернувшись в мою сторону. Я проехал еще один этаж, постоял возле своей обшарпанной двери. Сделал несколько шагов назад. Завернул за трубу мусоропровода, упал на заплеванный пол и закрыл глаза. Почти задохнулся. Ненавижу. И не могу, и никогда не смогу избавиться от ненависти. Потому что это продолжается уже три года. Каждый раз, когда я захожу в лифт, я встречаю ее. С того самого страшного дня, когда я встретил ее в первый раз.
2003
P.S.
«Писание рассказов — это состояние такое, когда любая мелочь становится толчком, и тут ничего планировать нельзя — в отличие от больших вещей, где, скрепя сердце, что-то надо „строить“.
Вчера ехал в лифте с 14 этажа, на восьмом вошла девочка, от двенадцати лет, точней отказываюсь даже предполагать. Очень красивая, высокая… Стоит в профиль и молчит. Доехали до второго этажа, и вдруг говорит, не поворачиваясь — „Мужик, а будь ты помоложе, изна-сссиловал бы меня, да???“
Она вышла, а я, чтобы сразу не идти за ней, постоял у почтовых ящиков, и потом, идя по своим делам, долго думал, чтобы это означало… Каждое слово на вес золота… И понял, что тут может быть рассказ, причем вовсе не смешной или „грязный“, а вполне глубокий, с ассоциациями… В сущности, рассказ о жизни, о старении…
Так что рассказ — это состояние.
Дан Маркович»
Сю-сю
Обыкновенная жизнь состоит из обыкновенного детства, обыкновенной юности, зрелости, старости, смерти. Обыкновенное детство состояло из маминых рук, теплой печки, клена у калитки, который превратился из хилого ростка в дерево несмотря ни на что, кучи песка с навсегда погребенными в ее глубинах оловянными солдатиками, мамкиных слез, еще чего-то. А проходило это детство на деревенской улице в девять домов по одной стороне и девять по другой, которая двумя стежками и непролазной колеей бежала от изгаженной церкви и заброшенного кладбища до речки. Две колонки как две застежки торчали на ее концах, у речки и у церкви. За водой ходили к церкви, чуть дальше, зато обратно под горку. Легче под горку. Сначала следом за мамкой. Затем и самостоятельно с жестянками по десять литров. Потом по пятнадцать. Летом от ведер оставались синеватые полосы на ладонях, зимой ледяные круги на санках. Постиранное белье везли к речке. Мамка натягивала вязаные перчатки, поверх них резиновые и бултыхала бельину в прорубь. Взбивала подсиненной тканью ледяную воду, торопливо отжимала и бралась за следующую. Наконец сдергивала с пальцев перчатки и начинала дышать на ладони, пытаясь выгнать из суставов ледяные искры.
Красивые у мамки были руки, сильные. Ногти коротко подстрижены, пальцы короткие, твердые. Мозолей почти не было, только на подушечках пальцев желтоватые бугорки. Они слегка царапали Колькину щеку, когда мамка прижимала сына к себе. Мамка работала на фабрике, где стояла у грохочущего станка и то и дело ныряла в его урчащие недра, подхватывала оборванную нить основы и подвязывала, сучила пальцами. Красивые у мамки были руки.
Это потом, через много лет Колька узнает, какие руки, в самом деле, считаются красивыми. А тогда он смотрел не только глазами. Еще чем-то. Тогда он еще был целым…
Маленький Ленин похож на ангела. Колька прибежал из школы счастливый и радостный. Сбросил пальтишко и торжественно показал звезду октябренка. Мамка еще была на работе. Бабушка радости не выказала.
— Ба! Смотри! Видишь?
— Вижу.
Она даже не улыбнулась. Она вообще очень редко смеялась. Сколько Колька не морщил лоб, он так и смог вспомнить ее улыбающееся лицо, когда бабушки уже не стало. И в тоже время разве был кто добрее ее?
— Бабушка! Я теперь октябренок!
— Ну и что?
В показном равнодушии таилась досада.
— Ну, как же…
Колька растерялся. Родная, милая, строгая, но любимая бабушка оставалась для него существом непонятным и обескураживающим.
— Бабушка! Ты веришь в бога? Почему? Бога нет! Вот у тебя на иконе бог на облаке сидит. Не может он сидеть на облаке. Облако это пар. И за облаком тоже бога нет. Там же космос!
— Бог должен быть в душе, а не в космосе.
Ну, разве можно было с ней спорить?
— Бабушка, а что ты делала в семнадцатом году?
— Служанкой ходила, у барыни одной в Москве.
— Так ты и Ленина видела?!
— Дался мне твой Ленин! — бабушка помолчала, отложила нож, подняла на лоб очки, заговорила куда-то в сторону. — Я от барыни ехала. Она мне кошелечек свой подарила. Бисером вышитый. Я в тамбуре стояла, рассматривала и уронила его. Он в щель так на шпалы и упал. Жалко…
Картофельная очистка оборвалась, бабушка замерла на мгновение, затем глубоко вздохнула и снова взялась за нож.
— А до революции как вы жили?
— Хорошо жили, — бабушка говорила спокойно, словно отчитывалась. — Дом большой был. Лошади, коровы, овцы.
— Так вы кулаками были?
Бабушка повернула голову и посмотрела на Кольку через толстые очки с болью. Колька молчал. Когда приезжали бабушкины дети, Колькины тети и дяди, он слышал их вечерние разговоры, в которых до сих пор всплывала давняя обида, кто и что у кого украл в дикое время. Больше чем полвека минуло, а память как татуировка. Морщится, но не выцветает. И расходясь на деревенской улице, до сих пор бабушка с некоторыми встречными не «здравствовалась». Обида перешла на детей обидчиков, пожухла, но не рассыпалась. Не исчезла, потому как, к примеру, украденный самовар так и не возвращен, пусть он уже и сгнил десять раз.
— Кулаками? — голос бабушки задрожал. — Какими же кулаками? А знаешь, сколько человек в семье-то нашей было? Восемнадцать. А знаешь, в какие годы меня в работу отдали? В пятнадцать. А отец мой управляющим имением у помещика был. Так тот, чтобы пенсию ему не платить, за год до срока уволил его. А знаешь…
Колька знал этот дрожащий голос. Помнил. На пасху ходил с бабушкой на заброшенное кладбище за разоренной церковью. Сначала крошил крашеное яйцо на могилу дедушки, которого давно уже «зарезали доктора». Потом разыскивал вместе с бабушкой могилы детей. Двоих из восьми. Шестеро выросли. Колькина мамка младшая. А старшие двое здесь. Две сестры. Полиомиелит. Еще что-то. И вот таким же дрожащим голосом бабушка вдруг начала говорить в пустоту, поскольку никого, кроме Кольки рядом не было, а Колька-то по причине своего возраста считался еще существом безмозглым.
— Когда Варенька умерла, я в поле была. Пришли, сказали. Одна даже прошипела, дочь померла, а у нее ни слезинки. Убиваться, наверное, надо было, по земле кататься, волосы на себе рвать. А я как лежала в борозде, так и лежала. И ни сказать ничего не могу, ни заплакать. Ни вздохнуть.
Шесть рублей пенсии получала бабушка за эту борозду. Потом двенадцать. Перед самой смертью — двадцать пять. А на пожелтевшей фотографии перед Колькой стояла высокая статная деваха с черной косой до пояса, и Колька все никак не мог понять, почему эта красавица — бабушка? И если все-таки это бабушка, то куда же делась вся ее красота?
Когда Колька вступил в комсомол, он уже никому об этом не рассказал. Но даже тогда он был еще целым. Почти целым.
Мамка сбросила отжатое белье в таз, раздула наконец розовый цвет в окоченевших пальцах, подхватила горсть снега и принялась оттирать Кольке щеки. Закричал Колька, вырвался, побежал к дому. Лучше к теплой печке прижаться, пощиплет немного и отойдет. У мамки руки красивые. А вот у бабушки — коричневые словно куриные крылышки. Скошенные от большого пальца назад. Изуродованные.
— Бабушка, почему у тебя такие страшные руки?
— Больные у меня руки, Коленька. Ревматизм.
— Какой такой ревматизм?
— Вот такой. Белье зимой полоскала. Зимы холодны были. Соседка и присоветовала, ты возьми с собой полведра кипяточку. Пополощи-пополощи, руки-то в теплую воду и окуни. Отогреешь, опять полощи. Вот я и докуналась.
Бабушка поджала раздраженно губы, замолчала. А Колька заснул, успев подумать, что надо мамке сказать, чтобы не грела руки она в кипятке, а то и у нее они тоже станут страшными как у бабушки…
Мамка любила поесть. Уже и потом, когда Колька узнал, какими бывают красивые женские руки, она оставалась такой же маменькиной дочкой. Не избалованной, но не повзрослевшей. Уже когда и сама стала бабушкой. Зато и других потчевала до упора.
— Мама, ну сколько можно?
— Сколько хочется, столько и можно. Разве я виновата, что я наесться не могу? В детстве не больно-то объедалась. И лепешки, и суп из крапивы помню, и картошку гнилую, и болтушку из муки. Все помню. Я даже немцев помню!
— Мама, не можешь ты немцев помнить, тебе только год был, когда немцы в нашу деревню пришли.
— А вот помню. Знаю, что не должна, а помню. Мама меня на руках держала, а немцы по полю шли.
— Мама, это ложная память.
— Зато правильная. Год мне был. Как сейчас помню, поле белое-белое, а немцы черные. Представляешь? Поле белое, а немцы черные.
Колька представил. Немцы в его представлении проваливались в снег, проклинали промокшие ноги, в любом случае двигались навстречу собственной смерти. Только жалеть их не хотелось, потому что за спиной у них на снегу лежала Зоя Космодемьянская. Как на фотографии из пионерской комнаты. В разорванной рубашке, с петлей на шее, с голой грудью, красивая до помутнения в глазах.
— Представляешь? — шептал Колькин сосед по парте. — Ее немцы заставляли керосин пить!
Колька в ужасе зажмуривался и старался думать о чем-то другом. Керосин пить нельзя. Пару раз, когда Колька где-то на улице подхватывал вшей, мамка намазывала голову керосином и держала его, пока кожа не начинала гореть пламенем. Только тогда смывала, вычесывала гнид, оставляла в покое. Волосы становились похожими на бархат. На синий бархат толстого мамкиного альбома, который Колька любил листать и спрашивать:
— А это кто? А это? А это кто?
— А это наша бабушка.
— Красивая!
— Красивая, — о чем-то задумывалась мамка.
Колька знал, о чем она задумалась. О том, что отец носил в бумажнике не ее фотографию, а фотографию красивой артистки Натальи Фатеевой. К ней он, наверное, однажды и уехал. Или не к ней, но в ее направлении. Вот только была ли в его бумажнике Колькина фотография? Этого Колька так никогда и не узнал.
Детство состояло еще и из страха. Колька не помнил, откуда взялся этот страх. Может быть, он перешел к Кольке в наследство от мамки, может быть от бабушки, а может быть, отец, уезжая от маленького Кольки, увез с собой не только фотографию красивой артистки Натальи Фатеевой, но и всю причитающуюся Кольке смелость. И остался Кольке в наследство один только страх, поскольку страх воспитания не требует, он от природы, выползает, выбирается по ночам из каждого угла избы, проникает в сны, схватывает за суставы в мгновения драки, которая немедленно превращается в избиение. Уже потом, когда Колька вырос, повзрослел, поистаскался и погрузнел, он почти догадался, что ему помешало во всех этих передрягах на улице, в школе, в армии, воспитать в себе смелость, отыскать хотя бы ее крупицы, корешки, ямку, если она была выдрана с корнем. Удивление.
Именно удивление.
Удивление, которое обращалось шоком и полным ступором. Вы спросите, чему же тут удивляться? Ну, как же? Ведь били-то Кольку ни за что. За всю его обыкновенную жизнь за дело его избили два раза. Первый раз он попробовал чужих кулаков на собственных скулах, когда не по умыслу, а случайно донес воспитателю имя маленького негодяя-сорванца. Второй раз, когда от скуки вышиб доску из ограждения хоккейной коробки. Трудяга парень отбросил в сторону фанерную лопату, не раздумывая, разбил Кольке губу и вновь взялся за лопату.
Все остальные избиения были не за что. Просто так. Для порядка. Или из-за его отсутствия.
И Колька начал уменьшаться.
Каждый удар, пинок, насмешка, издевательство отнимали от него небольшую часть. Крупицу. Частичку. После каждого унижения Колька сам себе казался ниже, легче, младше и слабее, чем он был на самом деле. Ночами, утыкаясь носом в подушку, Колька ругал себя, ненавидел себя, внушал себе смелость и храбрость, но когда дело доходило до очередной драки, не мог шевельнуть ни рукой ни ногой.
И вновь уменьшался.
Вот такое удивление.
Он просто не мог представить себе, как это ударить человека по лицу.
К окончанию школы он уменьшился на четверть.
К приходу из армии от него осталась едва половина.
А потом он и вовсе исчез.
Мгновенно.
В трамвае ехали только женщины, и когда двое молодых и крепких, пьянея от собственной безнаказанности и еще чего-то, стали издеваться над молодой девчонкой, Колька, которого уже давно звали уважительно Николай, втянул голову в плечи, вжался в кресло и таял, таял под возмущенными взглядами женщин, пока те не ринулись толпой на обезумевших уродов и не выкинули их из трамвая вместе с Колькой. Выродки попинали случайную жертву под горячую руку ногами по ребрам, размолотили губы, нос, вывернули карманы, а он впервые в жизни получал облегчение. Он уже давно понял, что боль исчезает после первого удара. Когда бьют — не больно, боль приходит потом, но теперь он радовался этой боли. И уже прижимая к окровавленному лицу пригоршни снега, Колька подумал, что все кончилось. В груди ничего более не схватывало, не захлестывало волнами стыда. Теперь там царила пустота. И понеслась, раскручиваясь, катушка жизни обратно, к грязной улице, почерневшей церкви и вытоптанному кладбищу. К тяжелым оцинкованным ведрам с водой и замерзшим маминым рукам. К непонятной ненависти в детских глазах и отчаянной дрожи в коленях. Где было упущено? Где выпала не та карта? Где ушло в песок крошечное зернышко мужества?
И поверх этой пустоты легким туманом поднялось сожаление. Ведь прививали от кори, дифтерита, оспы. Отчего не укололи от трусости? Вся жизнь бы прошла по-другому. Правда, могли и ножом пырнуть на пьяной дискотеке. И в армии затоптали бы до смерти. Покалечили бы уж точно. А так — живой ведь. Живой?
И что теперь?
Теперь будет легко.
2005 год
Облако
01
Один человек писал одновременно два романа. Первый роман был смыслом всей его жизни, средоточием его надежд и размышлений. Второй роман писался в свободное от работы над первым романом время.
Этот человек не был слишком уж высокого мнения о себе, но считал, что талантом бог его не обидел, поэтому главный текст его жизни должен был быть очень качественным. Он тщательно вплоть до бытовых мелочей продумывал место действия, погружал героев в абсолютно достоверную ситуацию, расставлял психологические ловушки, закручивал сюжет, плакал над выдуманными коллизиями. Он творил и жил своим творением.
Второй текст почти не занимал его голову. Это была свалка неясных обрывков мыслей, способ заполнить паузу, когда сердце охлаждалось, а вдохновение улетучивалось. Иногда ему казалось, что он только отрабатывает слепой десятипальцевый метод печати. Он даже не исправлял ошибки в тексте. Он не перечитывал текст. Он не верил ни одному своему слову и издевался над собственными героями.
Первый роман оказался скучной и бездарной тягомотиной, которая не заинтересовала ни одного издателя и ни одного читателя, даже из числа близких и обязанных автору людей. Второй роман создал ему славу. Его назвали новым словом в литературе. Им восхищались и литературоведы, и дилетанты. Томики этого романа сметало с книжных развалов ураганом долговременного читательского интереса.
Как вам это?
Это все неправда.
Оба текста были на редкость бездарны. Нет. Не на редкость бездарны, а просто бездарны. Без редкости. Не было никаких издательств и никакого читательского интереса.
И опять неправда.
Не было никаких текстов, и никакого автора.
Ничего не было.
По крайне мере так, как я себе это выдумал.
А что вы еще прикажете делать?
02
Выключатель в коридоре западает. Я нажимаю на клавишу, и свет гаснет. Но если оставить все как есть, клавиша самопроизвольно отщелкивает в прежнюю позицию, и энергосберегающая лампа, поморгав, возобновляет свечение. Поэтому мне приходится надавливать на известный мне уголок клавиши и ждать, пока она прочно зафиксируется. Этот уголок клавиши дался мне после месяца экспериментов и нервных срывов. Свет зажигался снова и снова. Я снимал клавишу и щелкал напрямую нехитрым механическим устройством. Свет выключался надежно и безапелляционно. Я ставил клавишу на место, он моргал и включался вновь. Можно было заменить выключатель, или поправить крепление в стене, но я выбрал другой способ, и достиг результата. Я нашел нужный уголок клавиши и методом проб и ошибок запомнил силу нажатия. И все наладилось.
Вам не нравится этот способ? Это ваше личное дело. Это моя квартира, и я сам определяю, как мне расправляться с мелкими неудобствами и неприятностями.
Жаль только, что большинство «выключателей», которые окружают меня, пока еще не раскрыли мне свои «уголки».
03
Я не похож на писателя. На писателя похож мой собеседник. Он одет в теплый свитер и хорошие брюки. Брюки живут собственной жизнью, а свитер подчиняется жизни тела. То есть брюки имеют складки, характер, а свитер для этого слишком мягок. Ну, вы понимаете. Этот писатель должен мне сказать напутственные слова. Моя лень привела к тому, что, прожив половину (оптимист!) жизни, я все еще числюсь в начинающих авторах.
У него добрые глаза, смотрящие на меня из-под изящных очков, приятная улыбка, холеное аккуратное лицо. Я почему-то вспоминаю своего знакомого, рокера, отлученного от церкви попа, Василия. Как-то раз, щуплый и бородатый, он бодро пересекал городскую площадь. Я столкнулся с ним, поздоровался, с удивлением обнаружил у него на лице аккуратные тонкие проволочные очки без стекол. Спросил недоуменно:
— Зачем это?
Он посмотрел на меня еще более недоуменно и ответил с вызовом:
— Чтобы лучше видеть.
Этот писатель явно носит свои очки по другой причине. Он смотрит на меня с некоторым напряжением и мучительно подыскивает слова, чтобы высказаться по поводу прочитанных им моих рассказов. Очевидно, что рассказы ему понравились. Мне это приятно, хотя если бы они не понравились, меня это нисколько бы не задело. Но он мнется. Ему необходимо сказать что-то отеческое и поучительное. И он находит. Он говорит, что рассказы хорошие, что чувствуется стиль, рука, что-то еще, но у меня в рассказах почему-то иногда (или часто) нет героя. То есть, совсем нет. А если есть, то не герой. И сюжета нет. А если есть, то неправильный. То есть без начала, или без конца. А в остальном — все хорошо.
Мы улыбаемся друг другу. Он согласен напечатать мой рассказ в своем сборнике. Я еще не знаю, что он позволит себе править и сокращать мой текст, и не посчитает нужным поставить меня об этом в известность. Я еще не знаю, что мне будет на это наплевать, как и на сам факт опубликования в этом издании. Но я чувствую, что обижен. Мы расстаемся, и я понимаю причины своей обиды. Перед этой встречей я приобрел несколько книг, изданных этим писателем, и честно прочитал их. И теперь я обижен на него. За напрасно потерянное время.
04
И все же в чем-то этот писатель прав. Мои сюжеты расплываются так же, как капля чернил, упавшая на рыхлую бумагу. И героев, и негодяев я списываю с себя. С того, которым я стал, каким хотел стать, каким не хотел стать, каким мог стать, но не стал, и каким не мог стать никогда. Перипетии их судеб заимствуются мною если не из собственной жизни, то из собственного времени. От этого некоторые листы с моими текстами напоминают пластыри, предназначенные для заклеивания собственных болячек. Этот рассказ надо прикладывать к груди, этот класть под подушку, этот спрятать подальше, а этот сжечь немедленно.
Я щелкаю по клавишам компьютера, тереблю мышку и выбираю «создать», «Документ Microsoft Word». Переименовать. Облако. doc. Открыть. Вид — разметка страницы. Шрифт — Arial. Размер — 12. Формат — Абзац — по ширине — отступ есть. Ok. Вновь заголовок. «Облако». Чтоб уж никаких сомнений по поводу отсутствия сюжета. Визуализированная аморфность. Так. Сейчас бы инструкцию по написанию хороших рассказов. Ведь она, наверное, есть у этого писателя?! Интересно? Отчего же он ей не пользуется?
05
Когда человек начинает понимать, что он не гений? Опускаю те распространенные случаи, когда человек и не предполагает, что он гений, и те чрезвычайно редкие случаи, когда этот вопрос не уместен. Наверное, это происходит тогда, когда он вспоминает свое прошлое, и для него становится очевидным, что многое из совершенного, сделанного, сказанного им — глупость. Или серость. Что часто хуже, чем глупость. В такие мгновения надолго портится настроение, сердце начинает стучать тяжело и прерывисто. Хочется, чтобы кто-то немедленно позвонил и убедил тебя в обратном. Хотя бы попытался. Убедить тебя этот кто-то все равно не сможет. Ведь ты знаешь себя лучше, чем кто-либо. Но пусть хотя бы позвонит. А то очередной начатый текст опять превращается в тяжелый серый валун. Для того, чтобы его сдвинуть с места, приходится упираться ногами, сгибаться, давить плечом и натужно кряхтеть. Продолжать сочинять рассказ с этим настроением, тем более рассказ бессюжетный, невозможно.
06
Одна из самых больших загадок, которые преследуют меня, как живут те люди, которые не пишут книги, не сочиняют музыку, не рисуют, не играют на сцене? Хотя есть довольно многочисленная категория людей, которые читают книги, слушают музыку, смотрят на картины, на игру актеров…. А остальные? Как?
07
Если главного героя зовут «он», это гарантирует только одно, его имя не будет оригинальным ни при каких обстоятельствах. Еще это означает, что в целях избегания чрезмерно частого повторения этого имени в тексте, придется ковыряться с глаголами и прочими частями речи. Однако наличие героя с именем «он» вовсе не предполагает обязательное развитие действия. Так же, как и героизм главного действующего лица. Но почти всегда это означает, что в тексте появится она.
08
Она была проводником, по которому он, распадаясь на электроны и превращаясь в электрический ток, улетал в чудесную страну. Она надевала костюм подростка и со своей короткой стрижкой и одиночеством в глазах, как маленький седой Чаплин, танцевала в снегу и пела. Она была звоном струны арфы под крылом пролетающего неловкого ангела. Музыки всегда было мало в этом мире. Теперь она перестала петь, и музыки стало еще меньше. Туча заволокла солнце. Бог отвлекся на мгновение и упустил ее из вида. Или она так и не сумела вернуться из чудесной страны? И только голос ее все еще звучит оттуда и будет звучать, пока не осыплется ветхий магнитный слой и не сотрутся лазерные диски. Иногда он видел ее в каких-то программах, но смотрел на нее с болью, как смотрят на любимого человека, потерявшего рассудок. Что же ты? Словно гениальный пианист с искалеченными пальцами. Помахала бы хоть рукой, иначе бог так и не увидит тебя снова. Бог очень занят. Он режиссер массовых представлений. Одновременно снимает несколько миллиардов видеоклипов. И все-таки помаши ему рукой. У него достаточно фантазии и любви, у него прекрасные декорации и неплохие актеры, но у него так мало хорошей музыки….
09
Что такое «правда жизни»? Нелепость доводится до абсурда, и только тогда жизнь становится похожей на правду. Они еще не были разведены, но жили уже отдельно, и его бывшая жена даже успела найти нового спутника. Его рана покрылась коростой, почти зажила. Или ее не было вовсе?
Он все еще доживал старую жизнь, но думал уже о новой. Бывшая жена пришла в офис и, пылая праведным гневом, устроила ему сцену по поводу открывшейся ей его прошлой супружеской неверности. Неужели?! Оказывается, он не потерял способности удивляться. Он недоуменно смотрел на бывшую половину, ставшую в разъяренном состоянии еще прекрасней, и не понимал. «А что случилось?» Она жаждала крови. Она рвалась в дом к его мнимой пассии, внезапно сделавшей ее победу пирровой, чтобы устроить беспощадную и обличительную расправу. Ее гнев быль столь яростен, что затмевал и очевидную абсурдность ситуации, и бессмысленность разбирательства. Но кто сказал, что женщину интересует смысл? Она кричала, а он говорил тихо. Он знал, что в соседних комнатах офиса сидят его сотрудники и слышат каждое ее слово. Она пришла требовать достойного финала их отношений. А он уже давно спустился с ее сцены и даже вышел из зрительного зала.
Наконец он сообразил. Почувствовал, что в предложении не была поставлена точка. Именно точка. Никакого восклицательного знака. Ее обвинения были беспочвенны. И пусть он действительно собирался изменить ей, все-таки не изменил. И он думал именно об этом, глядя на ее тонкие раздувающиеся ноздри и покрасневшие щеки.
Он стал объяснять. То, что может быть разрушена безвинная семья, и могут пострадать чьи-то дети. То, что он не изменил ей ни разу за всю их не слишком долгую совместную жизнь. (Умалчивая, что причиной этому послужили только его чрезмерная занятость, природная леность и недостаточное везение). И еще он сказал, что благодарен ей за то время, которое она потратила на него. Потому что он был с ней счастлив. Наверное, он сказал это слишком мягким и проникновенным тоном. Эти слова подействовали на нее, как нашатырь на упавшую в обморок курсистку. Она вздрогнула и исчезла из его жизни. Как тень. Почти исчезла. Почти навсегда. Ему захотелось расхохотаться. Он вышел в коридор. Его сотрудники смотрели на него с сочувствием. Ему было и неприятно, и смешно одновременно.
10
Наверное, в прошлой жизни или в промежутках между прошлыми жизнями он был облаком. А может быть, он оставался облаком и в этой жизни. Вот и время, как ветер, все время оказывалось у него за спиной, безжалостно отрывая клочки и кусочки. И в мыслях своих он все чаще обращался к образу легкого и невесомого облака. Ему казалось, что нет ничего прекраснее, чем быть облаком. Какая разница, лететь по воле ветра, или по воле времени? Какая разница, изливаться на землю дождем, или изливаться в прошлое детством, юностью, молодостью, счастьем, здоровьем? Но не лучше ли раствориться в воздухе, чем упасть бесчувственным куском мертвой плоти на холодную землю?
Он находится уже в том возрасте, когда к глаголам вместе с частицей «не» все чаще добавляется не слово «еще», а слово «уже». Уже не смогу, уже не успею, уже не буду. Дорога от рождения к смерти, как путь отрезвления и разочарований. Ребенок хочет и может все. В десять лет ему говорят, что он, кажется, уже не станет гениальным музыкантом. К двадцати он отказывается от мысли стать гениальным актером, композитором, художником или политиком. К тридцати годам он не становится удачливым бизнесменом и понимает, что никогда не будет богатым и беззаботным. К тридцати пяти годам ему удаляют первые зубы и у него начинают редеть волосы. Он осознает, что ему не суждено уже просыпаться по утрам с ощущением здоровья и силы в молодом теле. Он понимает, что не отправится в увлекательное путешествие по всему миру. Он точно знает, что не построит прекрасный дом, не будет спать с женщиной из модного журнала, не прыгнет выше головы и не станет известным даже в своем маленьком городишке. Ему приходит в голову, что его дети всегда будут смотреть на него с укоризной, а жена никогда не будет счастлива так, как она этого заслуживает. Он чувствует себя спортсменом, разбегающимся последний раз в своей жизни и уже в полете осознающим, что он опять не попал ногой на прыжковую доску. Поэтом, почувствовавшим собственную бездарность и рвущим свои творения в мелкие клочки. Но разве можно разорвать в клочки целую жизнь?
11
Сколько раз ему казалось, что жизнь катится кувырком с откоса, и ничто не способно ее замедлить или остановить? Тяжело жить в маленьком городе и делить его со своим прошлым. То встретишь чужого человека со своей собакой на поводке, которая будет рваться из его рук, чтобы измождено облизать лицо бывшего хозяина. То узнаешь что-то непостижимое о самом себе, что передается на слух от одних людей к другим, чтобы, исказившись до абсурда, достигнуть твоих собственных ушей. То столкнешься в трамвае с собственным ребенком, чтобы увидеть нераспустившееся счастье в его глазах. И сердце покрывается коркой. Но сердце должно стучать. Оно должно быть сильным и мягким, чтобы работать. Но даже и покрытое твердой коркой, оно продолжает стучать. И корка растрескивается от этого стука. И кровь выступает из трещин. И ты чувствуешь эту кровь на языке, и глотаешь ее. Вот он — ад. Не надо далеко ходить. Конструктор для детей и взрослых. «Ад». Здесь и сейчас. Сделай сам.
12
Чтобы выжить — нужно быть слабым. Таким, как он. Он был непотопляем, как может быть непотопляем только слабый человек. Он выносил удары, которые нокаутировали бы любого сильного, не ведающего о проигрышах и не совершающего ошибок. Бывали дни, когда он не знал, как доживет до вечера, где возьмет деньги, чтобы погасить вчерашние долги и сделать завтрашние. Он приучил себя к тому, что раз в неделю у него случается маленькое несчастье, а раз в полгода большое. И он постепенно понял, что все, что с ним происходит сегодня — это в тысячу раз легче, чем то, что с ним может произойти завтра. Со временем он уверился, что все его проблемы постепенно исчезают, уступая место новым проблемам сами собой, стоит лишь только в меру сил и возможностей что-то делать. Хотя бы сучить лапками в молоке, как та глупая лягушка из надоевшей притчи. И он покорно сучил, не переставая, лапками, взбивая неиссякаемое молоко жизни, смутно догадываясь, что беды находят слабых, как вода находит низменности и впадины, стекая с утесов и холмов, и что все его попытки стать утесом столь же бессмысленны, как и попытки затормозить или ускорить течение времени. А время, не прислушиваясь к его просьбам, упорно пыталось вести его то прямой дорогой, то окольными путями из полинявшего детства в бесцветную старость. Или время не знало, что он — облако?
13
Это опять была она. У него уже начинала налаживаться новая жизнь, когда она вынырнула из ниоткуда и сказала, что ей необходимо, наконец, оформить развод. Детей они не нажили, поэтому развод оказалось оформить несложно. Уже сидя в загсе, он спросил у нее, зачем эта спешка? Она зло ответила, что у нее должен быть ребенок. Он похолодел и вновь натянуто спросил ее, не его ли это ребенок?
Да. Иногда выжить помогает и способность быть идиотом. Если бы еще эта способность оказывалась незаметной для окружающих. Конечно же, этого не могло быть. Слишком давно они расстались. Но она заплакала. Не от его слов. От того, что все закончилось именно в этот момент.
14
Ну вот. Почему, когда мой герой попадает в трудные обстоятельства, у меня чешутся руки добить его самым безжалостным образом? Или самым банальным. Откуда эта жестокость? Наверное, это месть. Мне хочется сделать ему больно, потому что больно мне. Но в этом случае месть беспричинна, так я сам являюсь источником своей боли. А ему остается только вздрагивать и оглядываться на невидимого создателя.
Так? Или это грозные окрики суровой реальности вынуждают меня замирать над клавиатурой перед каждым абзацем? И бить, бить, бить! Ну? Что там?
15
Горькое перемежается со сладким, а грустное со смешным. Жизнь состоит не только из любви и ненависти, но и из всякой ерунды. Ерунды много больше. На порядок. Иногда она вытесняет любовь полностью. Ненависть вытеснить сложнее.
Его дела слегка пошли в гору, он начал сводить концы с концами, все еще пребывая в мечтательном заблуждении по поводу наличия истинной шкалы ценностей этой жизни и равномерности распределения несправедливости во времени и пространстве. Проблемы не заставили себя ждать, явившись в образе двух малоприятных типов с маленькими глазками, выглядывавшими из воротников спортивных костюмов.
— Ты догадываешься, кто мы? — спросили они.
Он догадался. Стал неестественно весел и оживлен. Он был уверен, что его со всеми убытками и проблемами просто невозможно отнести к благополучному клану коммерсантов. Он представлял себе все это отребье в образе романтических героев Марио Пьюзо и не предполагал, что действительность застигнет его врасплох.
— Вы считаете, что предприниматель должен платить вам независимо от того, есть у него прибыль или нет? — помог он сформулировать застрявшую в их головах фразу. Они открыли рты, подумали и опять закрыли, утвердительно кивнув при этом квадратными головами.
— Наверное, вы хотите сказать, что, если не можешь платить, нечего заниматься бизнесом? — помог он им со второй фразой. Они кивнули еще раз. Он погрустнел и сказал, что обдумает их предложение, и предложил встретиться позже. Но позже случилась налоговая проверка. Оказалось, что мелкие недочеты в работе его предприятия вылились в крупные неприятности в виде штрафа, похоронившего не только финансовые предположения молодого спортивного рэкета, но и весь его собственный бизнес как таковой. Что ж, вздохнул он про себя, еще одной неприятностью меньше на этой дороге в сторону облачного неба. Жизнь продолжалась.
16
Писать, не имея сюжета, легче. Что такое сюжет? Это некий смысловой стержень, на который основные части текста нанизываются так же, как колечки детской пирамиды. Сложишь не по порядку, получишь вместо привлекательной геометрической фигуры разноцветного уродца. И даже то, что все колечки по отдельности смотрятся замечательно, не спасет результат неаккуратной сборки. Рассказ без сюжета, это та же пирамидка только россыпью. Без стержня. При остром желании колечки можно нанизать на собственный палец. А можно оставить, как есть.
Раб сюжета продумывает его течение, водопады и повороты. Он связывает действия героев многочисленным набором позвякивающих причинно-следственных связей. Он заводит их иногда в такие места, что месяцами вынужден придумывать, как помочь им выбраться обратно. Его герои любят, ненавидят, умирают и рождаются, подчиняясь не автору, а сюжету. И его текст будет закончен только тогда, когда на последней строчке изнурительного творения появится разрешенное сюжетом слово «конец».
Текст без сюжета может быть закончен в любом месте. Более того, готовый текст без сюжета может быть разорван на две или более частей. И каждый из этих кусочков может оказаться полноценным рассказом. Без сюжета. Однако ценность такого текста определяется совсем не так, как калибр у охотничьего оружия. В идеале бессюжетный текст без утраты сколько-нибудь действительной ценности допускает дробление до одного слова. Гениальное произведение можно разделить даже на буквы. И вряд ли хоть одна окажется фальшивой.
17
Он не опустился на ступень ниже. В том положении, в котором он находился, все дальнейшие перемещения были возможны только по плоскости. Полная деградация в силу отсутствия профессии и способностей существовать впроголодь ему не грозила, уход от проблем через алкогольную или наркотическую зависимость не представлялся возможным. Он пошел работать к своим друзьям. Но одного он не учел. Он все сильнее и сильнее ощущал себя облаком.
Ветер дул попеременно то с юга, то с севера, то заворачивал непредсказуемыми вихрями и водоворотами, сгоняя в стада и рассеивая по небу тысячи и миллионы облаков. Похожих и непохожих на него. Расходующих себя на дождь и град и поэтому не всегда рассчитывающих добежать до горизонта. Благополучные друзья стояли на горизонте как огромные ветряки. Его приняли радушно. Но когда иссякают дружеские похлопывания по плечам после первой встречи, обнаруживается, что людям, стоящим на разных ступенях, хлопать друг друга как минимум неудобно. В лучшем случае это будут с одной стороны удары по голове, а с другой поглаживание коленей.
Но его взяли. Он не требовал доли от их благополучия, рассчитывая только на оплату за свой труд. Работать он умел. Если бы не его патологическая рассеянность, он мог бы быть отнесен к тем работникам, которые сами организуют свою работу, не требуя надзора, напоминаний и разъяснений. К немногочисленной категории нужных и даже частично незаменимых сотрудников. Но он все чаще и чаще замирал. Сначала на секунды. Затем на минуты. Потом на часы. Со стороны это напоминало, наверное, периоды легкой задумчивости. Возможно, что в эти минуты он смотрел в окно, или что-то чертил на листке бумаги. Ему же казалось, что он растворяется в воздухе.
Какое-то время это не мешало его работе и оставалось незамеченным. В те часы, когда он возвращался в обычное состояние, он оглядывался по сторонам и удивлялся ощутимой материальной плотности остальных сотрудников. И радовался все большей и большей собственной разреженности. И еще. С непонятной тоской и грустью подумалось ему однажды, что он, наконец, оказался на своем месте. И это обстоятельство его совершенно не обрадовало.
18
Его ребенок вырос. Вырос настолько, что целовать его при встречах становилось уже неудобно, и он пожимал сыну руку. Мальчик часто звонил отцу и молчал в трубку. Отвечал «да», «нет». Что-то важное выпало из их совместной жизни. Пропущенное детство как торричеллиева пустота обжигало их холодом и не давало оторваться друг от друга. Он старался встречаться с сыном как можно чаще и не мог понять только одного, мальчика ли он пытается отогреть от ледяной замкнутости, или пытается отогреться сам?
19
Жизнь продолжалась. Его рассеянность почти достигла критической степени, когда он вдруг встрепенулся и начал менять места работы. Он опять пытался создать какой-то бизнес, но без особого желания. С каждым последующим годом доставшейся ему жизни он радовался все меньше и меньшему количеству обстоятельств. Он часто думал о самом себе как об острове в океане, а окружающих его людей представлял проплывающих мимо пароходами. Он сидел на берегу, разглядывал минующих его остров людей и по-прежнему готовился стать облаком. Он смотрел в их лица и пытался уловить только ему понятную искру в глазах. А, уловив ее, старался, чтобы эта искра ни коим образом не нарушила тот барьер, который он пытался выстроить вокруг своего зыбкого существа.
Ему было труднее, чем остальным. Его разреженность почти достигла предела, и он был вынужден сдерживаться, чтобы не разлететься в стороны стелящимся туманом. Он был все еще не готов к этому. Ему требовался стержень. Он по-прежнему оставался рабом сюжета. И находился стержень в мыслях о самом себе. Он должен был постоянно ощущать внутри себя не потревоженное чувство собственного достоинства. И это чувство постоянно вступало в противоречие с тем непонятным ему обстоятельством, что люди, с которыми он работал, как правило, расставались с ним не по-доброму. Затаивали или изливали на него обиду, недовольство, а то и ненависть. И это было тем более удивительно, что он не только не признавал за собой дурных поступков в отношении этих людей, он не признавал дурных поступков и за этими людьми до тех пор, пока вдруг не сталкивался с недоброжелательством, граничащим со злобой. Все эти обстоятельства вводили его в состояние длительного недоумения, депрессии и заставляли перекапывать и просеивать самого себя и свои мысли.
Почему так? Даже его детство было наполнено осознанным стремлением быть хорошим. Что бы вы сказали о маленьком мальчике, который ругал себя за даже не высказанные, а просто всплывшие в голове грубые слова? Конечно, это не значит, что он был безусловным и положительным героем. Никто не свободен от слабостей и скрытых пороков, но его пороки были обычными детскими пороками, просто шалостями на фоне недостатков этого мира. Его беда была в другом. Он вообще не был героем. Он уже тогда был менее материален, чем его ровесники. Какая-то важная его часть, степень, форма затерялась где-то в ином пространстве. А в этом было то, что было.
20
Жизнь не сложилась. Не было причин не только для хвастовства, но и даже для степенного и вдумчивого разговора и воспоминаний. И все же. Почему же столько людей испытывают к нему неприязнь? Отчего же так коротко и безапелляционно осуждение?
Может быть, он всю жизнь смотрел в кривое зеркало, сверяясь с ложью и выстраивая мнимую гармонию? Или его недруги что-то слышали в нем, ведомое только им? То, что существовало внутри него своей независимой жизнью, и что не всегда слышал он сам? Или они знакомы с иной его частью, затерянной в ином пространстве?
Мысль изреченная звучит, но кто сказал, что мысль неизреченная умирает в безвестности? Она растворяется в воздухе и оседает на чьи-то миндалины и барабанные перепонки, попадает в мозг и разъедает нервные волокна.
И, может быть, бессмысленны вожделенные взгляды на барабан жизни, в котором пересыпаются уже распределенные и надписанные шары?
Он был заряжен на неудачу уже при своем рождении. Он сумел бы разориться, ступая по золоту. Невидимый никому над ним светился черным светом нимб несчастья и неудовлетворенности. И он клубился под этим нимбом медленным светящимся облаком. И его близкие страдали от этого света. Быть слабым это непозволительная роскошь и где-то даже непорядочность по отношению к тем, кто вас окружает.
21
Он понял все только тогда, когда столкнулся с действительным негодяем. Это было уже на излете его самостоятельного бизнеса. Жизнь свела его с энергичным молодым человеком, готовым взяться за любую работу, имевшим некоторые успехи за спиной и уверенный взгляд на вещи. Он предложил ему сотрудничество, попал в совместные передряги, даже гостил у него дома, пока вдруг не столкнулся с хамством и ложью. Его предали и растоптали. Он пережил и это. Не так легко растоптать облако.
Он понял, что окружающие его люди становятся негодяями в той самой степени, в которой он это им позволяет. И еще он понял, что недружелюбие его бывших друзей диктуется его проигрышами. Он был ответственен за них всех. Они считали его сильным, а он, оказавшись слабым, обманул их надежды. Они подспудно считали его лжецом, и поэтому не любили, не понимая причин своей неприязни. Он все понял, простил их, и сам мысленно попросил у них прощения. Негодяя он не простил. Он постарался забыть о нем. Он вспомнил, что этот человек был искалечен судьбой. Потерял мать в десять лет. Жил с пьющим отцом. Всего в своей жизни добивался сам. Стиснутыми зубами. Любой ценой. В том числе и его ценой. Он взвесил возможность наказания, мести и предпочел забыть о нем. Вычеркнуть его из памяти. Он не чувствовал за собой полномочий карать и миловать, и даже, когда до него доходили очередные известия о судьбе его бывшего партнера, он повторял про себя, что ничего о нем не знает и знать не хочет, дай бог ему всего хорошего. Он переболел этой болезнью и не хотел о ней вспоминать. Он двигался дальше. Ему казалось, что он почти уже летал, растворившись до самой минимальной концентрации.
22
Что самое главное в этой жизни? То, что мы думаем о себе сами. Даже не сознавая этого. В этом кроется непонятное счастье и достоинство, связанное почему-то ни с достатком, ни с достижением жизненных благ и целей, а реализующее себя только блеском в глазах и внутренней гармонией. Достигнув зыбкого равновесия между ощущением душевной полноты и внешней ущербности, простив своих друзей за их благополучие и социальную пригодность, он окружил себя стеной эрудиции, остроумия и дружелюбия. Он раскинул в стороны руки и, не надеясь на наличие крыльев, побежал вперед как канатоходец без шеста, понимающий, что у него все получится, и что он имеет право на все кроме одного, остановки. Остановки он не переживет. Слетит в пропасть, не в силах зацепиться скрюченными пальцами за обжигающий трос. Только вперед. Только движение. Никакого штиля. Туда к горизонту, одним клочком в этой бесчисленной стае облаков, сливающейся в темную тучу, пронзаемую бликами молний. К неведомой цели, убегающей с той же скоростью, с какой ветер влечет догоняющих и уставших.
23
Он пришел к старым знакомым, обогнавшим его в жизненной гонке на несколько кругов. Перекинулся незначащими фразами, посетовал на очередные правительственные сложности и порадовался чужим успехам. Поздоровался с вновь подошедшими работниками, поймал в руку ладонь того негодяя, по инерции сказал «привет» и замолчал. Вышел в коридор, пряча в карман обожженную руку и закрывая обожженный рот. Ненависть захлестнула его и задушила в своих объятиях. Он перестал быть облаком в одно мгновение. Сердце забилось, пытаясь выломать ребра. Он спустился по лестнице, вышел на улицу, сел в машину и закрыл глаза. Мучительно захотелось мести. Прокрутить на мгновения назад жизнь и не пожать эту руку. Или стать благополучным и успешным назло всем. Его жизнь выскользнула из рук, как цепь, утянутая в колодец упавшим ведром. Он осмотрел раскрытые ладони и понял, что жизнь начинается с самого начала. Вместо неба он чувствовал под ногами землю.
24
Подожди. Не делай ничего. Выдержи паузу. И это пройдет. Что ты можешь сделать ногами, стоящими на земле? Борясь с иллюзиями, вытаптывать реальность? Что ты вообще можешь? Мечтать о солнце с закрытыми глазами и в черных очках?
Замри на мгновение. Ветер только что затих. Ты все еще облако, просто льдинки, переполнившие твое существо, сделали тебя тучей. И их тяжесть тянет тебя к земле. Ты останавливаешься, темнеешь, наливаясь дождем или градом, и понимаешь, что можешь дождаться ветра, но рано или поздно неминуемо ринешься вниз. Осадками и непогодой. Вот что значит быть облаком.
Подожди. Сколько тебе еще осталось? Лет тридцать? Десять тысяч девятьсот пятьдесят семь дней? Это десять тысяч девятьсот пятьдесят семь неиспользованных попыток взлететь. Так что дыши глубоко и ровно. То ли еще будет. Жизнь продолжается. Все нормально…
25
Почему он не летит? Ведь он светлое облако, пусть и втиснутое в жалкую оболочку? Ведь он не боится лететь? Он боится боли. Он боится неудачи. Он боится несчастий и невезения. Он стал бы героем, если бы не этот страх. Он затерян в этом пространстве и времени. Он мглистый сгусток в сердце прогнившей империи, готовый влиться своей неудовлетворенностью в коллективный тромб, чтобы вызвать инфаркт всеобщего целомудрия и спокойствия. Он отличается от всех остальных только тем, что что-то помнит о своем прошлом, о своих странствиях в пустоте. Только никак не может понять что. Он любит и ненавидит одно и то же и одновременно. Он слепой, приведенный судьбою в Лувр, где ему дозволено ощупывать статуи. Он берет белый лист бумаги и пишет. Он пишет о том, как тяжело быть облаком на земле…
26
Рукописи горят. Бумага чернеет, скручивается и рассыпается в пепел. Быстро. Даже согреться не успеешь у этого огня. Самое сложное — очередное прощальное движение рукой с листами в сторону пламени. Получилось? Нет. Не поднимается рука. Не может он этого. Жаль. А вот господь не хранит черновиков. Наверное.
20.01.2000 г.
Заварено:
Старьевщик
Я работаю старьевщиком.
Покупаю старые вещи.
Осязаемые отпечатки времени.
Это не значит, что по утрам мне приходится выкатывать из подъезда скрипящую металлическую тележку и объезжать окрестные помойки. Как и в каждом бизнесе у старьевщиков есть своя элита, высший разряд, закрытая каста. А есть и особые специалисты, о которых мало кому известно.
Я работаю на дому.
Мои клиенты свое «старье» приносят сами. Они не чужды любопытства. «Зачем вам это?» — спрашивают они. «Куда вы это деваете» или «Что вы с этим делаете», — их следующий вопрос. Я улыбаюсь и называю цену. Обычно после этого вопросы исчезают. И все же, если вас интересует, зачем мне весь этот хлам, отвечу. Я его уничтожаю. И получаю за это от работодателя хорошие деньги.
Больше всего люблю фотографии и старые письма. С ними проще разбираться. Их можно сжечь. Мой дом старой постройки, в клозете стоит высокий титан. В нижней части дореволюционного монстра есть закопченная дверца. Чтобы помыться в пожелтевшей ванной, нужно бросать в топку маленькие березовые чурбачки. Я кладу туда скомканные письма, конверты, фотографии и жду, пока письменные свидетельства чужой жизни согреют воду. Иногда сжигаю книги с дарственными надписями. Почетные грамоты. Приветственные адреса. Но никогда тряпки. Тряпок приносят довольно много, но среди них все чаще попадается синтетика. Она горит плохо и издает неприятный запах. Тряпки я рву на части, режу на мелкие лоскуты.
Раз в неделю на автофургоне приезжает мой работодатель. Два молчаливых грузчика выносят к подъезду плоды нелегкого труда. Жестяное ведро с пеплом сожженных писем и фотографий. Холщовые мешки с ветошью из разрезанных платьев и другого тряпичного барахла. Баки из оцинковки с разбитой на мелкие осколки посудой. Отдельно — смятые алюминиевые кастрюли, раздавленные самовары и испорченные электроприборы. В последнюю очередь — разобранную на части старую мебель. Работодатель придирчиво осматривает качество порезки ткани и величину осколков посуды. Жесткие нормативы должны быть соблюдены. Например, мебель разбирается полностью. То есть ткань сдирается, металлические части гнутся и расплющиваются, деревянные — вымазываются масляной краской. Если на частях мебели имеются какие-то пометки или выдавленные знаки, они уничтожаются. Самое удивительное, что мебель именно с этими знаками стоит дороже.
Ранее некоторые неудобства мне доставляли драгоценности, медали, ордена, монеты и значки. Работодатель требовал стачивания их напильником в порошок. Дело это было хлопотным. Даже тяжелые тиски не облегчали работу. Поэтому однажды я оставил слесарные опыты. Выскользнув из дома на недолгое время, положил безделушки под колеса громыхающего трамвая. Результат превзошел ожидания. Теперь мои бывшие проблемы регулярно превращаются в металлические блинчики. Что говорить о камнях, если даже хваленые алмазы крошатся в пыль! Всего-то и остается переплавить мягкие металлы в домашнем тигле с помощью газовой горелки в небольшой металлический брусок.
Работодатель подбрасывает его на ладони, удовлетворенно кивает и наконец берет коробку, в которой находится пепел финансового отчета. Дело в том, что недельных посетителей я заношу в специальную опись, где указываю их имена, что они мне сдали, и сколько я им за это заплатил. Когда неделя заканчивается, сжигаю отчет, а вместе с ним и остаток выделенных на неделю средств. Я не имею права оставить его на следующую неделю. Следующая неделя — это новая жизнь, новая опись и новые деньги. Иногда я смотрю на скручивающиеся в огне зеленоватые купюры и смеюсь. Меня эти деньги не волнуют.
Работодатель открывает коробку, втягивает носом запах пепла, слюнявит палец, тыкает его в дно, лижет и довольно улыбается. «Все точно», — говорит он и неуловимым движением высыпает пепел в собственный карман. Вслед за этим выдает пачку денег на следующую неделю, заставляет тщательно пересчитать, а перед уходом вручает с маслянистой улыбкой мою зарплату за неделю прошедшую. Это хорошие деньги. Квартира, в которой я принимаю клиентов, когда-то была огромной коммуналкой. Что вы скажете о моей зарплате, если я сообщу, что теперь живу в ней один?
Только одного не могу понять, как меня находят клиенты? Они звонят несколько раз в день, при этом никогда не сталкиваются друг с другом и никогда не ошибаются дверью. Иногда приходят не единожды. Приносят вещи и предметы. Изредка затаскивают на мой второй этаж мебель. Их дрожащие или равнодушные пальцы достают принесенные ценности и кладут на стол.
Я внимательно выслушиваю просителей, рассматриваю их предметы и объясняю, что цена вещей определяется ценностью именно для них. Но ее размер как специалист измеряю я. Что я делаю это особым безменом. И мебель поднимаю тоже, цепляя ее за левый лицевой угол. Нет, я не знаю заранее, сколько будет стоить та или иная вещь. Хорошо, я не буду протыкать фотографию. Я приклею ее к безмену скотчем. Так. Сколько там? О! Почти тысяча долларов. Поздравляю. Эта фотография тянет на девятьсот пятьдесят долларов. Ах, это дорогое вашему сердцу событие? И последняя фотография вашего мужа? И вашего сына? Нет, из-за одной фотографии вы не забудете об их существовании. Вы забудете только об этом событии. Ну, что вы. Считайте, что его не было никогда. Да. Пересчитайте, пожалуйста. Ну, если вы принесете все свои фотоальбомы, то забудете обо всех событиях и лицах, которые в них запечатлены. Да. Нелегко. Но вы станете богаты и сможете начать жизнь заново. Ах, вам уже поздно? Ну, смотрите. Да, жизнь стала очень трудна. И об этом визите вы забудете тоже. Как меня найти вновь? Не знаю. Вероятно, нужно захотеть.
Они продают через меня самое дорогое.
Ничего. Я уже привык. Каждый торгует тем, что готов продать. Был бы покупатель. Меня не беспокоят чужие проблемы. Единственное, что иногда бросается в глаза, невысокая светловолосая женщина, которая изредка с маленькой девочкой приходит к нашему дому и сидит вместе с нею на скамье. Она смотрит в мое окно или наблюдает, как я выскакиваю из подъезда и раскладываю на рельсах металлические безделушки. Она показывает на меня пальцем и что-то говорит.
Почему она ничего не продает?
06.06.2003 г.
Палыч
01
Лето Роман Суворов проводил на природе. Когда его возраст приблизился к сорока годам, а потом и перешагнул их, он наконец понял, что не только модного, но и хотя бы известного художника из него уже не получится, и это понимание внесло изрядное облегчение в жизнь. Отпала необходимость суетиться, что-то кому-то и, прежде всего, самому себе доказывать. Появилось свободное время, чтобы между халтурками подумать о чём-то неопределённом, неконкретно и необязательно помечтать о лучшей или просто другой жизни и даже «намазать» на холсте что-нибудь для души, отгоняя в сторону поганенькую мысль, что и это купит кто-нибудь всё равно.
Именно в таком состоянии духа Роман решился на покупку дома в деревне на высоком берегу Оки. К тому же покупка совершалась вскладчину с пожилым художником Митричем и деньги требовались небольшие. Все как-то совпало — и завершенная сравнительно удачная оформительская работа, и достижение давно уже оставленным чадом восемнадцати лет, и совсем ещё крепкий домишко в ста с лишним километрах от Москвы, и даже скорый и окончательный инфаркт совладельца сельских «апартаментов». Первое лето прошло прекрасно, а потом вдова Митрича пришла в себя и стала направлять в дом постояльцев, порой имеющих довольно далекое отношение не только к краскам и холстам, но и к искусству вообще. Докучали они Роману не особенно, так как приезжали чаще всего по одному, возраст имели чаще преклонный, но сладость одинокой жизни нарушали бесповоротно, затеняя мечты каким-то бытовым изнеможением и легкой ненавистью.
Но даже и это ему, в конце концов, странным образом понравилось. Словно недостаток страданий был столь же мучителен, сколь и избыток. Почти утраченная гармония вернулась в жизнь. С полсотни картин Романа висело в многочисленных, пусть и второразрядных, художественных лавках, еще пара десятков готовилась отбыть в эту же страну дешевого и унылого великолепия. Деньги у него водились, расходов никаких не предвиделось, а значит, он всецело мог отдаться делам душевным, а именно любви и ненависти. Любил он, конечно же, прежде всего самого себя, тем более, что личный душевный опыт давал ему возможность весьма многозначительного применения этого чувства: и любовь-сочувствие, и любовь-гордость, и любовь-понимание, и любовь-мечта в отношении самого себя были в его полном распоряжении. А ненавидел он вновь приобретаемых соседей. Особенно редких художников. И особенно художников хороших. Впрочем, хорошие художники ему не попадались. Поэтому его ненависть большею частью тлела, словно ожидая удобного случая или достойного персонажа, чтобы разгореться во всем великолепии. И случай не заставил себя ждать.
На дворе стоял июнь. Дождей выпадало мало, поэтому трава пожухла на остриях, подвяла и шуршала при ходьбе как бумага. Роман встал поздно и, на глаз прикидывая по солнцу, что времени уже никак не меньше одиннадцати, лениво и блаженно плескался у рукомойника, прикрученного проволокой к серому покосившемуся столбу. Неторопливо гудел над ухом привлеченный сыростью большой черно-желтый шмель. Где-то в отдалении, никого не тревожа, громыхала вялая сельскохозяйственная действительность. Покрикивали в синем слегка заперенном облаками небе чайки. Все было тихо, уютно, обыденно, как всегда. До того самого момента, когда за спиной Романа скрипнула калитка, и на забрызганную мылом траву упала неожиданная тень.
— Здравствуйте, здравствуйте! Как поживаете? Вот вам записочка от Софьи Сергеевны! Тоже велит здравствовать! Евгений Палыч меня величать. Можно просто, Палыч. Да! Соседствовать с вами будем!
Роман медленно обернулся и обнаружил за спиной невысокого округлого мужичка возрастом немногим за пятьдесят. Он стоял с запиской в руке и, растянув губы в добродушной улыбке, внимательно смотрел Роману в переносицу, не отрывая глаз, но и не позволяя поймать собственный взгляд. То есть смотрел так, словно голова Романа, и сам он просвечивали насквозь, мужичок что-то увидел на стене дома, и теперь разглядывал это через Романа, столб и рукомойник. Ощущение было столь отчетливым, что Роман вздрогнул, повернулся, ничего не увидел и, вновь обратившись к мужичку, обнаружил, что тот уже опустил голову и смотрит в траву. Записка по-прежнему призывно торчала в кулаке. Роман аккуратно выдернул ее, развернул и прочитал знакомые слова Софьи Сергеевны о тяготах пожилой жизни, дежурные извинения по поводу беспокойства и вежливые напутствия очередному жильцу, а значит и соседу Романа на летние месяцы. Не без труда разобрав дрожащий старушечий почерк, Роман вновь сложил записку в маленький прямоугольник, воткнул в приготовленную для этого горсть нового соседа и ушел в дом, буркнув через плечо:
— Вход в вашу половину с другой стороны. Калитка там отдельная. Ключи под приступкой.
День был испорчен. Роман лег на диван, вспомнил нелепую фигуру Палыча в потертом коричневом полушерстяном костюме, клетчатой рубашке с галстуком селедочкой наискосок и стоптанных лакированных ботинках и расстроился окончательно. Новый сосед представлял собой очевиднейшую мерзость. С таким и на мировую выпить противно. Даже ненавидеть его неприятно! Руки у него, наверное, думал Роман, липкие. И работает он, скорее всего, каким-нибудь кладовщиком или сменным мастером на маленьком забытом богом заводике. И жена у него такая же, маленькая, круглая, рыхлая, потерявшая от старости минимальные женские очертания и переваливающаяся при ходьбе с ноги на ногу как больная курица. И дети такие же. И все его предки на пять колен, если не больше, такие же убогие и немощные, как и он сам. Господи, куда же мы катимся, говорил про себя Роман, чувствуя, как ненависть поднимается в груди и душит, душит сердце. Это ли венец природы, созданный по образу и подобию твоему? Господи, уродится же такая гадость. Свинья, совершеннейшая свинья! Фу, фу, фу! Фу!
02
Прошла неделя. Против ожидания присутствие так не понравившегося соседа за стеной вовсе не стало для Романа сколько-нибудь обременительным. Точнее сказать, он даже стал забывать о существовании Палыча. Хандры хватало и без соседа. Сквозь застоявшуюся жару, бесплодное ожидание дождя и свежести — наваливалась обычная июньская тоска. К тому же размышления и переживания на продавленном диване требовали свежих впечатлений и столичных продуктов. Этих самых продуктов, так же как и известий с большой земли, как он называл летом Москву, от где-то затерявшейся подруги Татьяны все не было. Вдобавок неожиданно в доме объявились крысы, демонстративно обглодав оставленный на столе батон хлеба, что показалось Роману еще более варварским нарушением уединения, чем появление очередного соседа.
Между тем тропинка с обратной стороны дома к калитке вытаптывалась все больше и больше. Как-то неожиданно соседки по улице, до сей поры воспринимающие Романа как примелькавшегося глухонемого инопланетянина, стали останавливаться при его приближении, раскланиваться, улыбаться и здороваться. К тому же они передавали бесчисленные приветы и слова благодарности Евгению Павловичу за оказанные помощь и участие. Вынужденно кивая, поддакивая и досадуя на неожиданное вовлечение в общественную сельскую жизнь, Роман зашел в хозяйственный магазинчик и попросил крысоловку. Дородная продавщица, которой судьба определила до преклонных лет откликаться на пренебрежительно — ласковое «Дуська», смахнула с толстого лица одуревших от жары мух и сказала, что крысоловок нет и не будет.
— Почему? — предельно вежливым тоном поинтересовался Роман.
— Спроса нет, — безразлично бросила продавщица.
— А как же местное население борется с крысами?
— А никак, — парировала Дуська. — Чего с ними бороться? Живи сам и другим дай! К тому же, может у тебя не крысы, а мыши?
— А что, есть разница?
— Есть, — уверенно сказала продавщица. — Когда крыса в доме, человек отвращение испытывает, испуг. А мышка пробежит, только досаду. Ну и жалость, конечно. К тому же с мышами любая кошка справится, мышеловку опять же можно поставить, а с крысами все не так просто. Лучше всего крепкую кошку, только сейчас таких, что крысу задавить может — мало. Это надо у Кузьмича на зернохранилище поискать. А так? Цемент вот есть. Норы замазывать. Дня на два облегчение получишь. Можно муку с гипсом смешать. Но это не всегда действует. Крысы соображают, что есть, а что не стоит.
— А яда для крыс нет? — спросил Роман.
— Яда? — Дуська оценивающе смерила художника взглядом, нагнулась и бросила на прилавок несколько пакетиков протравленного подсолнечника. — Есть вообще-то, но об этом, чтоб не очень. А то у нас тут некоторые особо «доброжелательные» этим стали кур соседских прикармливать. Так что у меня, чтоб без неприятностей и разговоров! Понятно?
— Чего уж не понять, — пробурчал Роман, рассчитываясь, и отправился на почту.
Почта порадовала прохладой и безлюдьем, он заплатил за переговоры и долго ждал. Наконец, позвали к телефону. Услышав Татьянин голос, Роман отчего-то разволновался и стал кричать в трубку, что соскучился, что она совсем забросила его, чтоб приезжала и не забыла купить продукты по списку! Да чтоб позвонила Глебу насчет картин, может быть, продалось что? Телефон отключился. Роман высунулся из будки, чтобы обидеться на телефонистку, ведь обещал же, что доплатит, но встретил широкую улыбку Палыча и передумал. Все в том же, несмотря на жару, коричневом костюме с галстуком Палыч стоял у столика и обмахивался наполовину заполненным бланком телеграммы.
— Здравствуйте, здравствуйте, Роман Николаевич! — мягко затарахтел языком, уже не пытаясь протянуть руку. — У всех проблемы! А я вот Софью Сергеевну извещаю о своем житье-бытье. Благодарен ей, знаете ли! Природа тут просто замечательная! Тишина, речка! И даже когда по деревне идешь, умиляешься. Собаки, кошки, козы пасутся! Дети босиком по траве бегают! Навозом с фермы пахнет! Нет слов! Нет слов!
С трудом проглотив фразу, приготовленную для телефонистки, Роман хмуро поднял пакет цемента, буркнул что-то неопределенное и отправился домой.
03
Крысы не давали о себе знать два дня. На третий возле отверстия в стене, замазанного адской смесью цемента с битым стеклом, появилась новая дыра, а отрезок колбасного сыра, оставленный на столе в полиэтиленовом пакете не был испорчен только потому, что оказался съеден без остатка. Роман высыпал в дыру отравленные семечки, взял этюдник и вышел на улицу. На скамейке возле дома сидели три старушки, стесанные старостью до одинаковых картофельных лиц, согбенных силуэтов и темно-синих в белую крапину одежд. Увидев Романа, все три неожиданно шустро поднялись и, раскачиваясь, начали что-то бормотать про кости, ломоту, травы, скотину, пока Роман, пятясь в выросший возле дома бурьян, не повысил голос:
— Да не ко мне это! Ваш Евгений Палыч с другой стороны живет! С другой! Понятно?
Бабки замерли, а Роман, воспользовавшись неожиданной паузой, выскочил из калитки и поспешил к реке.
Никакого удовольствия от «мазания кистью» Роман не испытывал. Прошли уже те времена, когда кусок холста, натянутый на подрамник, казался окном в иной мир, открыть которое суждено только ему и никому больше. Создаваемый или открываемый когда-то таким образом мир получался по большей части никому не интересен, а со временем все меньше интересен и ему самому. Нынешние работы неплохо продавались, Роман набил руку или, как говорил приятель Глеб, правильно позиционировал себя на рынке. Массовый потребитель, уже ушедший от настенных календарей и войлочных оленей, еще не разбирался в искусстве, но уже хотел качества. Вот это «качество» Роман и обеспечивал. Он точно знал, «что» он должен писать и «как» он должен писать, чтобы работа рано или поздно стала частью роскошного интерьера очередных апартаментов, а в карманах оказалась не слишком большая, но вполне достаточная для спокойной и безмятежной жизни сумма.
Роман был неплохим художником. И ненавидел слово «неплохой». Ему всегда казалось, что быть неплохим художником, это все равно, что быть неплохим бегуном. То есть иметь все шансы достигнуть финиша, показать хорошие результаты в тестах, на каком-нибудь контрольном взвешивании, но упасть, не дойдя нескольких шагов. Или просто уйти с дистанции, потеряв к бегу всякий интерес, махнув, так сказать, рукой и распрощавшись с амбициями и мечтами. Он уже давно не думал о выставках и признании, хотя Глеб, вздыхая, напоминал о необходимости создавать и поддерживать имя. Более того, Роман старался не общаться с коллегами и самонадеянно считал, что именно деревенская отстраненность позволила ему прибиться к берегу и успешно законсервировать свое состояние почти забытого, но когда-то удивлявшего и, значит, все еще интересного автора.
Наверное, если бы Роман умел делать что-то еще, он совсем бы перестал прикасаться к краскам, но необходимость обеспечивать себя и некоторая незавершенность, таящаяся в глубине размышлений о самом себе, заставляли его время от времени вновь брать этюдник и выходить из дома.
Сейчас Роман старался выкинуть из головы и Палыча, и крыс, и этих трех бабок, напомнивших ему распавшийся остов трехголового змея, и думать о том, что он должен сегодня попытаться сделать. Ему хотелось спуститься к самой воде. Найти место, где берег становится пологим и плоским, как бы выравниваясь с рекой. Лечь на траву. Увидеть быструю воду с самого уровня земли. Чтобы травины стояли до неба. Чтобы пахло землей, песком. Чтобы сквозь лес травы просвечивала вода, не теряя ощутимой скорости. И чтобы все это не смешивалось и не распадалось, а затягивало в себя.
Оставив позади грязные хозяйственные постройки селян, огороды и помойки, сползающие к заливным лугам, Роман спустился с обрыва, нашел тропинку, пересекающую совхозное капустное поле, и вскоре вышел к воде. День стоял будний, народу на берегу с утра не наблюдалось, но ветер отыскивал в траве и выкатывал на прибрежный песок пластиковые стаканчики, полиэтиленовые пакеты и другой мусор, поэтому Роман не остановился, а пошел вдоль реки. Миновал с полкилометра песчаного пляжа, продрался сквозь заросли ивняка и крапивы и вышел на небольшой прибрежный лужок. Ока здесь сужалась. У противоположного берега болтался на течении бакен. Несколько коров стояли передними ногами в воде, бессмысленно озирая реку, бакен, берег на котором остановился Роман, самого Романа и еще что-то ведомое только коровам. Роман сбросил с плеча этюдник, стянул с головы выгоревшую бейсболку и лег на траву. Точно так, как ему хотелось. Земля приблизилась, или он сам словно уменьшился. Слышался шелест ветра. Сквозь высокие стебли синело небо. Только воды не было видно. Следовало проползти еще метр или два к реке. Роман шевельнулся, но сладкая истома схватила за размятые дорогой ноги, сон навалился на веки и поволок в солнечный сумрак, вращая и поглаживая по щеке…
— Замечательно! Замечательно! — услышал он знакомый голос. В десяти шагах выше по течению стоял почти по пояс в реке Палыч и словно чертил что-то на воде, зябко поводя растопыренными руками. Коричневый костюм и прочие предметы его туалета лежали тут же, аккуратно сложенные и придавленные к траве ботинками и пластмассовой бутылью дешевого пива. На самом Палыче остались только трусы, закатанные почти до рыхлого округлого живота, и лист лопуха, прилепленный ко лбу, заканчивающемуся где-то далеко за затылком. Роман поднял глаза к солнцу и понял, что проспал никак не меньше трех или четырех часов. На клонящееся к западу светило начинали накатывать облака. Коровы на противоположном берегу исчезли, а с оставшегося за ивняком пляжа доносились веселые крики купающихся.
— Вы уж извините меня, — обернулся Палыч и помахал Роману рукой, роняя с ладони на себя капли воды и вздрагивая. — Извините, если разбудил. Но не сдержался, знаете ли. Здесь особенно хорошо. Я бы и сам с удовольствием вот так бы на травке.… Не получается. Селянки ждут помощи, сочувствия, совета. Приходится в меру сил содействовать, но не прийти сюда не могу. Место уединенное, мне своей фигурой, знаете ли, не стоит оскорблять эстетические чувства пляжных отдыхающих. Там девушки. Девушки здесь замечательные! Вы не находите?
Палыч метнул в сторону Романа неожиданно быстрый взгляд, но не в глаза, а на стоптанные кроссовки и, отвернувшись, словно и не рассчитывал на ответ, наклонился, умыл лицо, пробормотал что-то почти неразборчивое, присел в воду и поплыл «по-собачьи», булькая и судорожно вытягивая шею.
— Девушки здесь замечательные! — почему-то вслух повторил Роман, поднялся и стал раскладывать этюдник, зло размышляя, с чего это он должен уклоняться от разговоров, встреч, взглядов с несимпатичным соседом? Пускай сосед и уклоняется, а он будет работать несмотря ни на что. Роман приладил к этюднику небольшой холст, взял в руки кисть и остановился. Он вдруг вспомнил лес травы с просветом на синее небо, и ему стало плохо. Ненависть к этому вторгшемуся в его мир и теперь фыркающему на быстрине существу скрутила такой болью, что он присел перед этюдником, обхватил себя за бока и стал покачиваться из стороны в сторону. В глазах потемнело.
Роман боялся этого состояния. В такие минуты он почти переставал себя контролировать. Мог наговорить гадостей и расстроить отношения даже с близким человеком, разнюниться над глупой мелодрамой в темном зале кинотеатра, уйти из шумной компании, не попрощавшись. Да мало ли чего он может выкинуть?
— Ненавижу! — тихо, но отчетливо прошептал он вслух.
— Я видел ваши картины, — сказал Палыч.
Роман поднял глаза и увидел, что старик замер у берега, рассматривая и разминая пальцами полутораметровый стебель кувшинки.
— Ну и что? — неожиданно спокойно спросил Роман, — Я их тоже видел.
— Так посмотрите еще раз, — посоветовал Палыч. — Вы же мучаетесь, я вижу. Это, конечно, не мое дело, но ей богу смотреть больно. А между тем ваша работа, которая висит в передней у Софьи Сергеевны, это нечто особенное. Я даже купить ее хотел, но старушка не продала. Сказала, что Александр Дмитриевич очень любил эту работу.
Роман знал, о какой картине говорил Палыч. Это была небольшая, размером сантиметров тридцать на сорок, работа, которую Митрич как-то выудил из кипы стоявших у стены в мастерской Романа холстов и выпросил себе в подарок. Роман пожал плечами и отдал. Редкость, когда художник просит об этом у художника. Как давно это было! Лет десять прошло, не меньше. Роман тогда еще чувствовал себя на подъеме. Ему все казалось, что вот сейчас он напишет нечто, что затмит все сделанное им до сего момента. Молодость и талант распирали изнутри.… И эта работа чудилась ему только пробой пера, не больше. На картине почти ничего не было. Серый или серебристый фон, из которого как из воздушной вуали проступали две фигуры. Женщины и ребенка. Что-то мерещилось в силуэтах. Нельзя было даже определить, куда идут эти двое, в сторону зрителя или от него, но то, что они шли, не вызывало сомнений. Роман тогда написал на обороте какую-то глупость, что-то вроде: «мама обещала ребенку показать ежика в тумане», и подарил. А теперь ему вдруг нестерпимо захотелось самому увидеть эту картину, словно что-то забытое, но очень важное, он оставил на том холсте.
— А потом Софья Сергеевна сказала, что Александр Дмитриевич просил ее в больнице после инфаркта, чтобы она сразу, или когда срок придет, отписала эту работу обратно вам. Чтоб непременно отписала! Что если человек ошибется в жизни, или заплутает, ему нужно будет выходить на знакомую дорогу и начинать сначала. На то место, в котором он уверен. Александр Дмитриевич считал, что это ваше правильное место. Вы знаете, мне так все это понравилось, что я даже думал просить вас что-то написать для меня. Конечно не в подарок, упаси боже. Но за такую работу я мог бы дать любую цену.
— Не думаю, что я мог бы повторить такую работу.
— Тогда продайте мне ее.
Палыч уже вышел из воды и теперь пытался выжать мокрую ткань, не снимая трусы, а закручивая их валиком на ногах и постукивая ладонями. Что это он с ним разговорился? Что он понимает в искусстве? Какой мерзкий старик!
— Вы что, не понимаете? — Роман внезапно уловил тон раздражения в собственном голосе. — Эта работа мне не принадлежит!
— Я все понимаю, — ответил мягко Палыч, неуклюже подпрыгивая на одной ноге и натягивая штаны. — Я же не прошу вас ограбить Софью Сергеевну? Упаси боже! Меня бы устроило устное обещание отдать картину за условленную цену только тогда и в том случае, когда она, согласно воле Александра Дмитриевича, окажется опять у вас либо в вашем распоряжении. Согласитесь, что это не только не обязывает к чему-то особенному, но и не причиняет никакого неудобства. Более того, рассчитаться за эту работу я мог бы в очень короткий промежуток времени, даже еще до того момента, когда она фактически поступит в мое распоряжение. Даже уже теперь.
— Я не нуждаюсь в деньгах, — пробормотал Роман, чувствуя, что весь этот разговор начинает приобретать идиотский оттенок.
— На самом деле никто не нуждается в деньгах, — подмигнул Роману Палыч. — Представляете? Самое смешное, что никто не нуждается в деньгах, но этого практически никто не знает! А, не зная этого, человек думает, что он нуждается в деньгах и тем самым действительно начинает нуждаться! Таким образом, получается замкнутый круг! Но почему обязательно деньги?! Кто говорил о деньгах? Хорошо, пусть будут деньги. Хотя есть и более важные понятия. Согласитесь, не все на этом свете выражается в деньгах!
— Но все ими измеряется, — удивляясь сам себе, буркнул банальность Роман.
— Вряд ли эти измерения точны, — улыбнулся Палыч, застегивая галстук и поправляя застиранный воротник рубашки. — И уж во всяком случае, они не абсолютны.
— И все-таки я не готов об этом говорить, — вновь опустил голову Роман.
— Время терпит, тем более что вы… — Палыч хотел что-то сказать, но словно спохватился, заторопился, надевая пиджак. — Ладно, об этом потом, если позволите. Пойду-ка я разгонять старушек от ваших апартаментов, а то так они, глядишь, высадят дверь.
— Подождите! — Роман поднялся.
— Да, я слушаю! — остановился Палыч, пихая бутылку с пивом во внутренний карман пиджака и становясь от этого еще круглее и нелепее.
— Я не понял, что вы сказали, когда входили в воду? Что-то про хозяина?
— А! — рассмеялся Палыч. — А это я у хозяина разрешения просил умыться, искупаться. С хозяином по-другому нельзя. Не ровен час, невзлюбит, тогда дела плохи.
— У какого хозяина? — не понял Роман.
— Да у водяного! — объяснил Палыч и махнул пальцем на болтающуюся в метрах тридцати от берега утку. — Вон он! Прислушивается. Вы с ним аккуратнее. Рекомендую.
Палыч снова масляно улыбнулся, приложил руку к груди и поспешил через крапиву в сторону пляжа. Роман проводил его взглядом и тоже стал собираться. Неожиданно подумалось, что если он будет изображать привидевшийся образ, то, чтобы передать объем, перспективу, ухватить движение воды, придется травины передавать не в фокусе, то есть чертить расплывающиеся зыбкие линии на переднем плане, а этого ему очень не хотелось. Как-то это не совпадало с затягивающим в себя образом. Он еще раз неприязненно оглядел противоположный берег, представляя, где бы вставить на возможном эскизе витиеватый купол деревенской церкви, а то и собора какого-нибудь, сплюнул, покосился на утку, стал собираться и решил идти домой дальней дорогой через зернохранилище.
В зернохранилище он не попал. Хмурая женщина в синем халате в бетонное здание его не пустила, сказав, что на самом деле Кузьмич не отчество, а фамилия. То есть правильно и с уважением Кузьмича зовут Николай Егорович Кузьмин. Но принять сейчас он Романа не в состоянии, так как уже с обеда мертвецки пьян, говорить не может и ничего не соображает. Она так и сказала, «принять сейчас Романа не в состоянии». Роман смерил ее удивленным взглядом, поблагодарил и отправился к дому, надеясь, что ему не придется вновь столкнуться с Палычем.
Столкнуться не пришлось. Уже издали он заметил что-то необычное у дома, подошел ближе и, разглядев загнанную за штакетник пыльную бледно-голубую «восьмерку», почувствовал, как тепло поднимается в груди. Танька приехала!
04
— Как здесь тихо!
Она перевернулась на живот, приподнялась на локтях и принялась надкусывать ногти.
— Почему же тихо? — удивился Роман, стряхивая пепел в пустой спичечный коробок. — Всю ночь шум. То гармошка. То пьяные песни. То кошки орут. Лягушки порой в пруду так квакают, хоть уши затыкай. Под утро петухи. Кстати уже скоро.
— Ничего ты не понимаешь, — Танька раскинула руки и легла. — Здесь удивительно тихо.
— Брось ты свою привычку грызть ногти, — он потушил сигарету, заложил руки за голову. — Я ждал тебя еще неделю назад.
— Неделю назад я не могла.
— Ты просто не слишком сильно хотела меня видеть.
Она не ответила, закрыла на мгновение глаза, затем вновь перевернулась на спину и потянула на себя простыню.
— Прохладно.
— Ничего, днем поджарит, — Роман сел, наклонился за бутылкой. — Может, все-таки выпьешь? Оставайся! Выходные, сходим на речку, отдохнешь!
— С тобой отдохнешь, — она засмеялась. — Ты же вампир Суворов. Я каждый раз от тебя возвращаюсь как выжатая тряпка! С тобой даже разговаривать тяжело, дышать рядом с тобой тяжело, а я к тебе, можно сказать, иду прямо в пасть. Нет. Это я без тебя отдыхаю. С тобой я почти тружусь.
— Смотри, не перетрудись, — зло бросил Роман и выпил стакан вина.
— Да я уж и сама думаю.
Роман обернулся и внимательно посмотрел на нее. Она, прищурившись, тоже смотрела на него и не улыбалась.
— Ты чего, Танька?
— Вот смотрю на тебя и думаю…, — медленно протянула она.
— И о чем же?
— О тебе.
— Надо же! — он усмехнулся. — И давно это у тебя?
— Давно, — ответила Танька.
— И что же ты надумала?
— Да вот, надумала…
Она закрыла глаза, взяла уголок простыни в зубы и стала медленно говорить, смотря куда-то потолок и покусывая эту свежую белоснежную ткань, только что привезенную ею из Москвы.
— Понимаешь, все. Просто все и все.
— Что все?
— Все! Я кончилась. Вся. Без остатка. Родник иссяк. Сил нет. Ты высосал меня, Суворов, до донышка. Я даже сама себе противна. Одна оболочка. Приехала к Глебу за деньгами, продался там один твой пейзажик, а он мне говорит, что от меня осталась только тень. Какая там тень, говорю, я за весну на три килограмма поправилась, а он и отвечает, нет. Ты, говорит, Танька, на килограммы не пеняй. Ты, говорит, с точки зрения художественного вкуса и мужского глаза идеал женщины, только внутри у тебя, Татьяна, пустота. И ведь он прав. Жить не хочется. Иду с работы на автостоянку, знаю, что все вроде хорошо. Димка из школы пришел. Мамка его кормит. Меня ждут. Работа отличная. И мужик у меня вроде есть. Все замечательно. А внутри такая тоска, кажется, первый встречный улыбнется, чтобы теплом повеяло, я ему на руки и упаду.
— Ну и кто же тебе мешает? — спросил Роман.
— Да нет, никто не мешает, — она улыбнулась. — Теперь.
— Что-то изменилось? Теперь?
— Меняю я свою жизнь, Суворов. Буду теперь делать только то, что хочу. Все у меня с тобой как-то по инерции происходило. Самое трудное, оказалось, выдержать паузу, остановиться. Я, кажется, это смогла. А дальше, уж как получится.
— И чего же ты хочешь?
— Многого! Я очень много хочу, я даже и сказать тебе не могу, Суворов, как много я хочу.
— Я, выходит, тебе в твоих желаниях не помощник?
— Ты? — Танька вдруг опять рассмеялась, встала, отбросила простыню и стала, не торопясь, одеваться. — Нет, ты молодец Суворов. Ты очень стараешься! У меня как понимаешь, ты не первый. Так вот мужики разные были, но так как ты, никто не старался. Ты очень стараешься в постели. Молодец. Только ты стараешься для себя. Просто так надо. Соответствовать. Поскольку, если ты стараться не будешь, тогда чем ты возьмешь? Ты же любишь только себя. Не так ли?
— А если не так? — напряженным голосом спросил Роман.
— Ладно! — она махнула рукой, расчесывая волосы и ища глазами косметичку. — Ты же, когда любовью занимаешься, в лицо не смотришь. Пребываешь, так сказать, в своих ощущениях. Тебе же нужна не я. Тебе нужна просто баба. Желательно красивая, покладистая, хорошая, здоровая баба. И желательно одна и та же, чтобы не переиначивать себя. И лучше бы, чтобы ты имени ее не знал. Чтобы она являлась по первому зову твоей плоти как джин из бутылки. По свистку!
— Можно подумать, что ты являлась по свистку, — усмехнулся Роман.
— Можно сказать и так. — Танька опустила голову, помолчала мгновение, затем сказала. — Ты здесь комедию только не ломай, хорошо? Я и на самом деле сейчас абсолютно спокойна. Это мне раньше хотелось твоего сочувствия, понимания, поговорить с тобой. Теперь нет. Неинтересно. Так же, как раньше неинтересно было тебе. Суворов. Надеюсь, что ты не пропадешь. Хотя ты слишком легко живешь. Точнее, тебе кажется, что ты легко живешь, а на самом деле врос в землю. Мхом покрылся. Запомни. Стараться надо не в постели, а жизни. В жизни надо стараться. А в постели надо любить.
— Ты хорошо подумала? — он поймал ее за руку. — Смотри, я гляжу тебе в глаза.
Все это время, пока Танька спокойно, так не похоже на саму себя говорила эти слова, он внимательно смотрел на нее и даже отстраненно фиксировал мысли, которые появлялись в голове. Первая мысль была о том, что жаль терять Таньку. Хорошо с ней. Тело замечательное. Характер покладистый. Без лишних претензий. Опрятная. Машину имеет. Выручает. Точнее, выручала. Запах у нее хороший. Да и вкус тоже. Вторая мысль пришла почти сразу после первой, и так резанула, что даже чуть-чуть закололо сердце. Как же он теперь без нее?! Как?! Да никак, успокоился он почти в ту же секунду. Только этих разборок ему еще не хватало. Да и зачем ему нужна эта Танька с ее проблемами, с вынужденным хорошистом Димкой, с больной мамашей? Да и лет ей, наверное, уже тридцать пять. Что с ней будет года через три-четыре? То-то и оно. Хотя, теперь другую придется искать, прикармливать. Морока.
— Ты хорошо подумала? — он поймал ее за руку. — Смотри, я гляжу тебе в глаза.
— Суворов, — она присела на корточки перед ним, голым, нелепо набросившим на колени простыню, прикрывающую безвольный живот. — Суворов! — положила холодные ладони на плечи. — Если когда-нибудь в твою дурную башку придет мысль приманить какую-нибудь бабу, имей, пожалуйста, в виду одно очень важное обстоятельство. Женщина живет не только в те редкие дни и часы, когда ты вдруг соблаговолишь вспомнить о ней и обратить на нее свое внимание, как правило, в целях удовлетворения плотских потребностей, а постоянно. Убеждение, что в перерывах между общением с тобой человек хранится где-то в специальном отстойнике в выключенном состоянии — ошибочно. Постарайся не забывать об этом. Вот так. А сейчас мне нужны туфли.
Она заглянула между ног Романа под кровать, встала, оглядела комнату и вдруг пронзительно завизжала! Роман вздрогнул, посмотрел в угол и увидел огромную черную крысу, которая, не торопясь, протискивалась через казавшуюся для нее тесной дыру. У него дернулись руки что-то бросить в отвратительный крысиный зад, заканчивающийся голым толстым хвостом, но под руки ничего не попало, вставать было лень, и он безвольно смотрел, как чудовище исчезает в норе.
— Бежать, бежать отсюда надо! — заторопилась Танька, всовывая ноги в туфли и вытирая ладонями с лица пробивший пот. — Бежать надо от этой экзотики. Прощай, милый. Думаю, что от одиночества ты тут не погибнешь.
Хлопнула дверь. Затем пикнула сигнализация. Заскрипел отодвигаемый штакетник. Лязгнула дверь машины. Заурчал двигатель. Взвизгнули колеса по мокрой ночной траве. Уехала.
Роман закрыл глаза, представил сначала восхитительную голую Таньку с раскинутыми ногами на этой кровати какой-то час назад, затем почти голого Палыча, стоящего в воде и произносящего фразу — «Девушки здесь замечательные». После этого ему привиделась Дуська продавщица с мухами на лице. Он зябко повел плечами, встал, подошел к темной норе. Возле отверстия аккуратной кучкой лежали отравленные семечки. Нашарив на столе бутылку, Роман опрокинул остатки вина в рот, нагнулся, вставил бутылку в нору и плотно забил ногой. Затем, медленно пройдя по избе, аккуратно загасил почти сгоревшие старательно натыканные всюду свечи и устало повалился на кровать. Последней мыслью, которая возникла в его голове перед погружением в темноту, было: «Танька — сука. Штакетник за собой не задвинула!»
05
Ему снился поезд. Он не знал, куда едет, зачем, но сидел в купе. Поезд колыхался на рельсах, на столе подпрыгивал грязный стакан в подстаканнике, настойчиво дребезжал, скатывался к самому краю, а он никак не мог остановить его. Рук у него не было, что ли?
Проснулся Роман от настойчивого дребезжащего стука в оконное стекло. С трудом открыв глаза и не сразу сообразив, где он, и что слышит, Роман поднялся, накинул выцветший махровый халат и вышел во двор. У окна стоял участковый.
— Привет людям искусства! — козырнул милиционер. — Вот жизнь у богемы!? А? Время двенадцать, а они еще в постели? Завидую. А я уж забыл, когда вставал позже семи утра. Даже в воскресенье!
— Привет, Серега, — Роман пожал милиционеру, с которым после однократного дружеского распития бутылки водки и двух подаренных картин числился в друзьях, руку и, прислонившись к стене дома, поежился. — Какими судьбами?
— Привет, судьба у меня все та же. Тем более летом, когда на селе самая жизнь. Служба! У тебя закурить не будет?
Роман, хлопнув по халату, шагнул в сторону избы, но Сергей остановил его:
— Угощаю!
Они закурили. Роман втягивал дым, думал о том, что очень неплохо сейчас умыться, почистить зубы, снять с себя щетину, водой облиться из ведра, но не суетился. Он уже привык за несколько прожитых тут лет, что в деревне никто никуда не торопится, все делается медленно, но успевается никак не меньше чем в городе, а то и больше. Вот и теперь он ждал, когда Сергей скажет, зачем пришел, потому что торопить его было неприлично, да и не нужно.
Сергей выкурил полсигареты, затем покосился на примятую колесами Танькиного автомобиля траву.
— Гости были?
— Танюха приезжала из Москвы. Ночью уехала.
— Штакетник закрывать надо, — Серега подошел к забору, бросил сигарету в уличную колею. — Красть, конечно, у тебя нечего, но непорядок.
— Закроем, — улыбнулся Роман.
— Да ладно, не дергайся, — довольно улыбнулся Сергей, взял в руки блок штакетника и прикрыл выезд со двора. — Шеф мой очень твоей картиной доволен! Только, блин, меня же в багетную мастерскую и погнал, чтобы я раму там заказал ему. Ну, я то думал, что под это дело и свою картинку оформлю. Фиг вам! Там такие цены, что любой довесок по деньгам способен вызвать немедленную прокурорскую проверку!
— Ну, насчет этого ты тоже не дергайся, — успокоил его Роман. — Поеду в Москву, оформлю твою картинку в лучшем виде и бесплатно. У меня приятель багетчик.
— Это хорошо. Но сейчас я совсем по другой надобности. Сосед мне твой нужен.
— Это Палыч-то? — удивился Роман. — А что? Его нет?
— Не знаю, я как-то решил сначала к тебе заглянуть, — пожал плечами Сергей. — Может, познакомишь?
— Познакомлю, конечно, — согласился Роман. — Хотя я сам с ним разговаривал всего пару раз по три слова. Какой-то он … неприятный что ли? Или странный? Он как приехал, у меня у дома все деревенские старухи перебывали. У тебя то какой к нему интерес?
— Интерес все тот же, — достал вторую сигарету Сергей. — Понимаешь, осенью порося взяли. Считай, вот уже больше чем полгода кормим, а он расти перестал. Дело, видишь ли, к осени опять идет, вроде пора прибыток получать, а в нем килограмм пятнадцать общего веса, если не меньше, и не прибавляется. Комбикорма перевел — пропасть. Жрет сволочь, а не растет. Зоотехник приходил, смотрел, все в порядке говорит, здоровый, не болеет. Я спрашиваю его, чего же поросенок не растет, а он, козел, смеется. Может быть, говорит, это карликовая порода? Подожди…. Я ему покажу карликовую породу, когда он начнет телят на падеж на ферме списывать!
— Понятно, — сдержал улыбку Роман. — Непонятно другое, сосед то мой причем?
— Ну, здрасте! — развел руками Сергей. — Так ты что? Не знаешь? Он же скотину лечит! Этот, как его? Знахарь! Народный целитель! Не знаю, как насчет чего другого, мало ли чего там бабки наговорят, но скотину точно лечит! Вот как приехал, прошел по дворам, обещал помощь. Вон у моей соседки у коровы вымя воспалилось, думали уж резать скотину, сосед твой помог. Причем цену не называл, а говорил так, если польза будет — принесете чего-нибудь, молочка там, яичек, чтобы деревенского покушать летом, не магазинного. Да чего там соседка! Моя говорит, что сам наш зоотехник со своим псом к нему ходил клеща подкожного выводить. А это ведь дело гиблое, я тебе точно говорю. Так что ты зря на соседа бочку катишь.
— Да не качу я никаких бочек, — махнул рукою Роман. — Просто привык к уединению, а тут каждое лето совладелица то одного, то другого присылает.
— Ну, уж не обессудь, — сплюнул Сергей. — На то она и деревня. А мне каково? У меня каждое лето население удваивается. Разве тут уследишь? То одно, то другое. Зарплата, сам знаешь. А теперь еще и поросенок забастовал, так тут не только к знахарю, к самому черту пойдешь на поклон.
— Ну, уж сразу и на поклон? — хлопнул по плечу милиционера Роман. — Пошли знакомиться с народным целителем.
Он запахнул халат и двинулся за Сергеем вокруг дома, стараясь не наступать на синеющие под окнами анютины глазки.
На ступенях покосившегося крыльца сидели трое. Полненькая старушка, крупная широкая в кости рукастая женщина и благообразный дедок, попыхивающий то ли замусоленной папироской, то ли самокруткой. Увидев милиционера, вся кампания попыталась подняться, но, оторвавшись от ступеней на пол-ладони, уселась обратно и настороженно замерла. Роман огляделся. Трава с этой стороны дома уже вытопталась до земли. Вдоль забора стояли несколько пустых деревянных ящиков, служащих видимо в моменты наибольшего избытка посетителей скамейками. Дверь в дом была приоткрыта, но окна задернуты белыми занавесками.
— Здравствуйте, граждане, — официально прогудел участковый. — Кто такие будете? Что-то в нашей деревне я вас не припомню.
— С Выселок мы, — заторопилась старушка, оглядываясь на согласно кивающих женщину и старика. — Вот, пришли за помощью. Скотина у нас болеет. Да.
— С Выселок значит? — с деланным сомнением покачал головой Сергей. — В доме есть кто? Хозяина кликните.
— А нету никого, — развела руками старушка, вновь пытаясь приподняться. — Сами уже с утра ждем. Вашенские, что с здесь были, сказали, что не будет его сегодня, а мы вот ждем. Надеемся.
— Чай восемь километров до вас перли! — недовольно пробасила женщина.
— А дверь то, что открыта? — удивился милиционер.
— Так он, говорят, и не закрывает! — опять заторопилась старушка. — Божий человек, стало быть. Мои двери, сказывают, говорит, для всех открыты. А красть у меня, говорит, нечего.
— Проветривает, — вновь вмешалась женщина.
— Да, — протянул вполголоса Сергей, сдвигая на лоб фуражку и почесывая затылок. — Похоже на сегодня я, художник, с поросем пролетел.
— Граждане, — подделываясь под милицейский тон, вмешался Роман. — А может, зря вы тут топчетесь? Вдруг он не появится сегодня?
Все трое неодобрительно покосились на халат Романа и его босые ноги.
— Мы не топчемся, — проскрипел дедок. — Сидим мы. А сидим не зря. Придет он. Скоро и придет. За травами он ходил. Вчера ночь была специальная. Травы надо было собирать. Обязательно.
— Ну ладно, — участковый хлопнул Романа по плечу и направился к калитке. — Отложим это дело на послезавтра. И, похоже, тут я без твоей помощи обойдусь. А насчет рамки не забудь!
— Обязательно! — отозвался Роман и крикнул уже вслед милиционеру. — А почему пешком? Мотоцикл то твой где?
— Все там же, — махнул рукой Сергей. — Поверишь, когда он иногда заводится, я сам удивляюсь!
Роман обернулся на вновь застывших в статических позах посетителей, брезгливо провел рукой по колючему подбородку и спутанным волосам и заторопился к умывальнику.
06
Как-то все перепуталось в голове. И сейчас, когда Роман шагал по пыльной совхозной бетонке в сторону зернохранилища, он пытался обдумать, утрясти, уложить произошедшее по полочкам. Хотя бы для того, чтобы плюнуть и забыть. Как-то не похоже все это на Таньку. С другой стороны, хорошо ли он ее знает, чтобы говорить так? К тому же, если вдуматься, во всем этом есть и хорошие стороны. Вновь погружаться в семейную бытовую тину он не собирался. Танька, конечно, баба замечательная, но и на ней свет клином не сошелся. Что ж. Пусть устраивает свою жизнь. Если не опоздала уже. А он? Уж как-нибудь. Придется побеспокоиться на этот счет. Неохота только в Москву пилить, тусоваться в околохудожественных компаниях. Но, кажется, придется.
В зернохранилище стояла тишина. И время не уборочное и час для села уже поздний. Роман поинтересовался у запыленного, страдающего давним похмельем тракториста, где найти Кузьмина, и отправился к выцветшим деревянным вагончикам. Кузьмин обнаружился во втором из них. Он лежал на потемневшем от грязи топчане, положив голову на подушку, естественный цвет которой разобрать было невозможно. Морщась от запаха грязи, пота, перегара и еще неизвестно чего, Роман потряс его за плечо. Человек застонал, сел и тупо смотря перед собой, повел перед лицом дрожащим пальцем, готовясь вновь провалиться в обморочное состояние.
— Николай Егорович!
Роман достал из взятого с собой пакета бутылку водки, постучал ею по грязному заплеванному стакану, откупорил и налил половину. Кузьмин уставился на поданный стакан, втянул ноздрями воздух, ухватился за водку скрученной пятерней, выдохнул и опрокинул содержимое в рот. Следующие несколько секунд он молча сидел, закрыв глаза и поводя плечами с запрокинутой головой. Затем неожиданно резво вскочил, взял из рук Романа начатую бутылку, сунул ее под топчан, выудил оттуда кусок коричневого хозяйственного мыла и выскочил на улицу. Роман вышел следом. Кузьмин умывался. Из прилаженного к бетонной стене резинового шланга била холодная струя. Он стоял, широко расставив ноги в замасленных брезентовых штанах, сбросив себя все остальное тряпье, и намыливал лицо, голову, шею, плечи, руки, живот.
— Эй! — неожиданно трезвым голосом позвал он Романа. — Гринго! Полей-ка!
Роман взял шланг и направил струю на худую и мускулистую спину. Кузьмин фыркал, прогибался, опираясь рукой на выщербленную бетонную плиту. Наконец разогнулся, вытерся тем, что с себя снял, предварительно вывернув наизнанку, и бросил все это тут же.
— Курить есть?
Роман молча протянул сигарету. Перед ним стоял пожилой, но еще крепкий мужик, состоящий казалось из одних сухожилий, узких, но крепких мускулов, обтянутых темной от загара кожей. Закурив, мужик выпустил дым, прищурившись, внимательно посмотрел на Романа красным от постоянного подпития глазом, собрал в кулак жиденькую седую бородку.
— Что еще принес?
Роман зашелестел пакетом.
— Хлеб. Колбасы одесской кружок. Две скумбрии.
— Давай сюда.
Через секунду пакет с продуктами также исчез в недрах вагончика. По легкому блеску в глазах вновь появившегося Кузьмина, Роман понял, что содержимое бутылки уменьшилось еще на несколько хороших глотков. Мужик подошел к Роману, протянул крепкую ладонь:
— Николай Егорович Кузьмин. Бывший учитель истории из местной школы. Теперь на пенсии. Охранник данной территории. По совместительству — алкоголик. За чем пожаловали?
— Роман, — представился Роман, слегка удивленный стремительной метаморфозой, произошедшей с только что умиравшим человеком. — Помощь ваша нужна.
— Помощь это можно, — согласился Кузьмин, доставая из-за уха заначенный окурок. — Только если в богоугодном деле. Если насчет комбикорма или там зерна, то не по адресу. Я в расхищении народного добра не участвую. Даже за пол-литра. По этому вопросу к новым хозяевам. К директору не советую, а агроном, или скажем, агрохимик посодействуют точно. За приемлемую мзду посодействуют в ограблении родного хозяйства.
— Нет, комбикорм не нужен, — покачал головой Роман. — Мне посоветовали к вам обратиться насчет крыс. Кот мне нужен.
— Ну, здоров брат, — удивился Кузьмин. — Неужто в совхозе кошачья порода перевелась?
— Да нет, не перевелась, — вздохнул Роман. — У меня-то кота нет, я здесь живу только с весны до осени. На Пионерской улице. Третий дом. Но вот с неделю как появились крысы. Отраву не едят. А размером не меньше чем с кошку. Так что мне посоветовали только к вам.
— Ну, раз посоветовали, — Кузьмин вновь собрал в кулак бороду, задумался. — Если размером с кошку, то это крыса выдающаяся. Хотя на поверку, когда увидишь такую штуку наяву да в задавленном виде, обнаруживается, что половина этого размера хвост, а другая половина собственный испуг. Ну да ладно. Вообще я тебе скажу, что в таких случаях лучше помогают кошки, а не коты. Особенно если с котятами, то она насмерть биться будет. Хотя и не факт, что справится. Крысы они же редко по одиночке. Но у тебя, если тебе не почудилось, случай особый. Есть у меня тут один зверюга. Хвастаться не буду, но вот уже года три, как на всей этой территории не только крыс и мышей, но и котов не особенно встретишь. Такая, прямо скажем, абсолютная котовая монархия. Собаки, веришь, не приживаются. Хотя, последнее не очень хорошо.
— Ну, так вы можете мне помочь?
— Я, нет, — озорно улыбнулся Кузьмин. — Кот сможет. Только, во-первых, это тебе будет стоить еще два пузыря.
— Не слабо вы оцениваете своего крысолова! — удивился Роман.
— Ну, ты не торгуйся, — успокоил его Кузьмин. — Ты просто еще этого зверя не видел. Во-вторых, я тебе его даю на день, два — не больше. Ему этого хватит, будь уверен. Кормить его ни в коем случае нельзя. Ничем. Не волнуйся, с голоду не умрет. И еще, принесу я кота сам. Мне его еще поискать надо будет, и подумать, как донести, чтобы он мне самому глаз не выцарапал. Так что имей в виду, что трогать его руками не надо. Оставишь в доме и жди результата. Да держи окна и двери закрытыми, а то уйдет. Ну, а как дело будет сделано, дверь откроешь. Он сам дорогу домой и найдет.
— А как я узнаю, что дело сделано? — спросил Роман.
— Узнаешь, — подмигнул Кузьмин. — Не волнуйся. Сейчас сразу в магазин дуй и жди меня дома, потому что если тебя не будет или водки, я животину в аренду не сдам. А дом номер три по Пионерской я знаю. Там когда-то приятель мой жил. Так что не сомневайся. Жди.
— Ну, вы уж не подведите, — собрался уходить Роман. — А то я как увидел, понял, что не усну теперь. Такая крыса может и горло перегрызть.
— Не сомневайся, через пару часов буду. Покедова.
— А почему гринго? — остановился Роман.
— А что не нравится? — засмеялся Кузьмин. — А кто же вы есть то, приезжие? Ты не обижайся! Комплимент это, однако.
07
Через два часа Кузьмин не пришел. Роман засунул купленную водку в старенький пожелтевший холодильник, раздвинул занавески, вымел пол, смахнул пыль с подоконников и полок. Расставил вдоль стен холсты, вскипятил на керосинке чайник, перекусил и начал перебирать сваленные на комоде детективы в потрепанных обложках, надеясь занять голову или попросту убить время. В дверь постучали.
— Войдите! — крикнул Роман, рассчитывая, что Кузьмин несмотря ни на что все-таки прибыл, но увидел соседа.
Палыч перешагнул через порог, аккуратно закрыл за собой дверь, и почему-то кивнув Роману, вновь начал извиняться.
— Здравствуйте, вот по-соседски решил навестить вас, чтобы закончить начатый разговор, или продолжить. Это уж как угодно. Если вы конечно не возражаете.
— Заходите, раз уж пришли, — буркнул Роман. — Садитесь.
Появление соседа вызвало у него уже не ненависть, а досаду. Но ощущение какой-то недосказанности давало о себе знать, поэтому Роман не удивился и теперь внимательно смотрел на этого неприятного человека, который разулся и пытался усесться на маленькой табуретке посередине комнаты.
— Нет, нет, не надо, я уже обедал, — засуетился Палыч, увидев в руках Романа чашку чая, хотя тот и не думал предлагать ему почаевничать. Сказав это, сосед начал озираться, поочередно останавливая взгляд на эскизах, которые Роман в связи с уборкой расставил лицевой стороной внутрь комнаты. Видимо ничего его не заинтересовало, потому что через минуту он с некоторым разочарованием облизал губы и повернулся в сторону Романа.
— Собственно цель моего визита не только засвидетельствовать соседское, так сказать, благонамеренное почтение, но и для того, чтобы вы не забыли о том нашем разговоре. Все мои предложения по поводу приобретения вашей работы остаются в силе.
— Собственно никаких предложений я не услышал, — сказал Роман. — Вы курите?
— Курите? — переспросил Палыч. — Нет, конечно! Но вы курите. Я не испытываю дискомфорта. Пожалуйста. А насчет предложений, ну что вы? Я же все вам сказал. Я хочу приобрести вашу картину. Именно ту, которая находится у Софьи Сергеевны, и которая рано или поздно должна перейти в вашу собственность. За эту картину я готов заплатить названную вами цену. В том числе уже теперь. Картину я согласен ждать.
— А если обстоятельства так сложатся, что даже после смерти Софьи Сергеевны, дай бог ей здоровья, я не получу эту картину? Насколько я понимаю, пожелание Митрича было высказано в устной форме?
— Вполне вероятно, что в устной, — согласился Палыч. — Только что же нам пенять на обстоятельства? Обстоятельства вещь вполне управляемая. Но как вы понимаете, я готов взять обстоятельства на себя. С Софьей Сергеевной мы знакомы, так что если у меня на руках будет ваше письменное согласие, думаю, что проблем с разрешением нашей сделки не будет.
— Не спешите вы насчет сделки, — Роман стряхнул пепел с сигареты. — Мне еще не все понятно. Зачем она вам?
— Ну не для того, чтобы ведра с водой в терраске накрывать, — захихикал Палыч. — Вы такие вопросы задаете. Для чего покупаются картины?
— Но не за любые деньги.
— Почему же за любые? — опять захихикал Палыч. — Если вы попросите у меня какие-нибудь индейские тугрики, пожалуй, мне останется только развести руками.
— Да не об этом я говорю, — отмахнулся Роман. — Если уж между нами идет торговля, я должен понять ценность своей работы. Или вы хотите, чтобы, оставшись в недоумении, я всю жизнь мучился мыслью, что, может быть, продешевил?
— Справедливо, — кивнул Палыч. — Справедливо, поэтому вынужден с вами согласиться. Хорошо. И хотя это, может быть, действительно сыграет в сторону увеличения цены, я объясню вам. Как вы, наверное, помните, я уже рассказывал, что Александр Дмитриевич перед смертью говорил, что если вы заплутаете, то эта картина то место, с которого нужно начинать так сказать вспоминать дорогу, по которой вы должны двигаться. С моей точки зрения, дело обстоит несколько иначе. Я человек тонкий, — тут Палыч вновь захихикал, представив видимо созвучие данного слова с собственной комплекцией. — Я человек тонкий. Мои интересы находятся в области тонкого мира. Психическая сфера, так сказать. С точки зрения обывателя мистика, чертовщина, с точки зрения людей сведущих не что иное, как вселенная нервных излучений. Вся моя коровья практика в этой деревне всего лишь попытка, кстати, удачная, попытаться разобраться в нагромождениях нервных посылов, порчи, наговоров, которыми эти люди окружают свою жизнь. Отравляют ее, если хотите. Плюс к этому знание сил природы, опыт. Ну и так далее. Конечно, вы, наверное, думаете, что я со своими возможностями занимаюсь какой-то сельской ерундой? Нет. Все гораздо тоньше. Люди это руда. Полезный психологический материал. Это бесценный опыт для любого медиума. Помогая им, а я, заметьте, помогаю, я получаю не меньше. И это не только косвенная подпитка их энергией. Энергетика здесь в большинстве случаев убогая, хотя некоторая дикая органическая необузданность местных женщин все еще имеет место. Энергетика убогая, но иногда проскальзывает нечто особенное. Считайте, что я занимаюсь поиском золотых зерен. Понимаете, каждый человек одарен чем-то от природы. Некоторые в ничтожной мере или в нераскрытых ими же областях. Другие в значительной степени, хотя это редкость. Но есть особые случаи, когда человек пылает как звезда. И вот этот дар и представляет для меня основной интерес. Дело в том, что человек сведущий может этот дар воспринимать, если хотите, копировать, сканировать, восполнять им, так сказать свою душевную сферу. В конце концов, разнообразить собственные впечатления от жизни.
— Каким же образом в этот ваш интерес вписывается моя картина? — спросил Роман.
— Самым непосредственным! — воскликнул Палыч. — Вы понимаете, искусство это совершенно особая ипостась! Искусство эта единственная сфера, где происходит материализация психофизической сущности творца! При определенной концентрации таланта произведения искусства становятся носителем энергии создателя. То есть они светятся так же как люди. И иногда ярче, чем их творцы. Вам удалось воплотить в той работе что-то такое, чего я не могу увидеть в вас теперь. Таким образом, мой интерес вполне объясним.
Роман глубоко затянулся, загасил сигарету и тут же достал следующую.
— И что же произошло со мной? А вдруг, исходя из ваших же слов, я сам не должен расставаться с картиной?
— Как истинный метафизик, уверяю вас, не становитесь рабами вещей, если не можете извлечь из них истинной пользы. Что же касается вас, извольте. Дайте мне руку.
— Вы гадаете по руке?
Роман встал, взял в руки стул, сел напротив Палыча, протянул руку.
— Вы имеете в виду, не хиромант ли я? Нет, конечно. Слишком узкая и сомнительная специализация. Разрешите?
Палыч взял в руки ладонь Романа и, сжав ее, стал еле заметно разминать, прищурившись и смотря куда то в сторону, улыбаясь и пришептывая.
— Не правда ли, я не вызываю у вас симпатии, — хихикнул он, удерживая дрогнущую руку Романа, и продолжая легкий массаж. — Не обращайте внимания, все в порядке. Ну вот. Конечно же. Я так и знал.
— Что вы так и знали? — спросил Роман, потирая внезапно странным образом онемевшую руку.
— То, что и предполагал, — Палыч достал носовой платок, вытер руки, лоб, снова спрятал его в карман. — Дело в том, что вы дерево. Да не обижайтесь вы, в самом деле! Я серьезен! Дело в том, что все люди относятся к определенным животным, растениям или минералам. Называйте это, как хотите, резонансом, родством, наследственностью, скрытой ипостасью. Я и сам не знаю расшифровки. Я только чувствую. И это очень полезно кстати. Имейте в виду, что вы клен. То есть, если вы окажетесь в лесу, и будете чувствовать себя нехорошо, подойдите к клену, прижмитесь щекой, расслабьтесь. Облегчение вам гарантировано. И то, что вы клен, кстати, многое объясняет. В том числе и нынешнее ваше так сказать бесцветное состояние. И прошлый всплеск, который привел к созданию той работы. Существование дерева подвержено циклам. Причем не обязательно эти циклы соответствуют циклам весна-лето-осень-зима. Ваш цикл может быть и год, и два года, и пять лет. Вероятно теперь у вас зима. Движение жизненной энергии замедлилось. Вы находитесь в спячке. Кстати, насиловать себя бесполезно. Человек не может изменить свою сущность, либо это может закончиться для него катастрофой, даже гибелью. Как раз наоборот. Слившись со своей ипостасью, вызывая ее в себе, человек может достигнуть многого! Возможно, что все древние сказания о тех же оборотнях это подтверждения опыта о подобном слиянии. Согласитесь, если очистить этот опыт от наслоений легенд и баек, это, прежде всего, свидетельство силы, знания, мудрости, если хотите.
— Чего же могу достигнуть я, если сольюсь со своей ипостасью? — усмехнулся Роман.
— А вы не смейтесь, — заметил Палыч. — Я тоже мог бы посмеяться, сказав, что с помощью фотосинтеза в летние месяцы вы могли бы экономить на продуктах. Хотя и это утверждение заслуживает осмысления. На самом деле подобная тождественность — довольно большая редкость. Возможно, ваша задача в точном определении своих циклов и максимальном использовании их преимуществ.
— Слова, — бросил Роман.
— Конечно слова, — согласился Палыч. — Но все слова имеют определенное значение!
— Кстати, о словах? Вы тогда на берегу начали фразу, — спросил Роман. — Сказали, кажется, так — «время терпит, тем более что вы…». Что вы имели в виду?
— Именно это самое. Время терпит. Я уже тогда почувствовал некоторое замедление вашего времени. Его, если хотите, тягучесть. Но только теперь я понял, что в этом ваше внутреннее содержание. Но не могу терпеть я. Мое время быстро. В том числе и поэтому я пытаюсь ускорить принятие вами решения.
Роман встал, прошелся по комнате, опустился на край кровати, постукивая по столу пустой пачкой сигарет. Палыч сидел неподвижно, смотрел куда-то в сторону и, казалось, покорно ждал решения своей участи.
— Экзотика какая-то. Фольклор. Лубок. — Роман говорил медленно, с паузами. — Знахарство. Водяной в виде утки. Люди-звери. Люди-растения. Люди-минералы. Бабушки. Светящаяся картина. Ясности хочется в этой жизни, Евгений Павлович. Как-то вы затеняете ясность. То есть мне все же хочется обходиться общеупотребительными понятиями. Вот вы говорили, что есть что-то ценнее денег. Что вы имели в виду? Недвижимость? Драгоценности? Проживание в иной более благополучной стране? Здоровье? Что?
— Любовь. Дружба. Удача. Везение. Счастье. Неудача недруга. Здоровье в том числе, — перечислил Палыч.
— Вы хотите сказать, что все эти понятия находятся в вашем распоряжении? — удивился Роман.
Палыч пожал плечами.
— Подождите, — нахмурился Роман. — Не делая из меня дурака, вы готовы, например, гарантировать удачу в обмен на картину.
— Удача — очень хорошая цена, — сказал Палыч. — Даже за такую исключительную картину, как ваша. И очень хороший выбор. Например, счастье — несравненно худший выбор, так как представляет собой категорию мгновенную. Множественное же счастье — штука непосильная для человеческой психики.
— Хорошо, — Роман встал. — Допустим, что меня устраивает ваше предложение. Я выбираю удачу и в соответствии с возможностями передаю вам ту картину, что висит в зале у Софьи Сергеевны. С изображением тумана и двух силуэтов. Но неужели вы думаете, что я настолько глуп, чтобы написать сейчас расписку или гарантию соответствующего содержания?
— Помилуйте, — улыбнулся Палыч. — Никто не заставляет вас верить мне на слово! Я могу подождать не только картины, но и вашей письменной гарантии. Напишите ее мне в тот момент, когда сами будете уверены, что удача пришла к вам.
— Когда я сам буду уверен, — повторил Роман.
— Когда вы сами будете уверены, — подтвердил Палыч и протянул руку.
— Почему вы никогда не смотрите в глаза, — спросил Роман. — Это вызывает сомнения в вашей искренности.
— Зато никто не обвинит меня, что я подавляю волю собеседника с помощью гипноза или иной чертовщины, — ответил Палыч, не поднимая глаз. — К тому же я не уверен, что вам будет приятен мой взгляд. Ну же? Мы заключаем сделку или нет?
08
Кузьмин появился только на следующий день. Вид он опять имел ужасный, а взгляд бессмысленный. В руках у него был картонный ящик, поразивший Романа тяжестью. Молча забрав водку, Кузьмин козырнул, погрозил грязным пальцем и растворился в дверном проеме. Роман закрыл дверь, проверил шпингалеты на окнах, досадуя, что некоторое время придется находиться в закупоренном помещении, и открыл коробку. В ней сидел зверь. Назвать это существо котом у Романа никогда не повернулся бы язык. Веса в нем было килограмм под десять. Он оказался обычной деревенской серой масти со слабо выраженными полосками на боках. Одно ухо у него отсутствовало вовсе, второе раздваивалось на конце. Кот вытянулся, сел, приподнялся на задних лапах и неожиданно для такого грузного на вид существа мягко выпрыгнул из коробки. Огляделся. В плавном повороте головы, во время которого хозяину выделилось не больше внимания, чем убогой трехногой табуретке, было столько удивительного достоинства и силы, что Роман тут же и окончательно поверил словам Кузьмина, что собаки у них на зернохранилище как-то не приживаются. Кот еще раз повернул покрытую шрамами морду, фыркнул и медленно подошел к дыре, из которой Роман с большим трудом вынул с утра бутылку. Понюхав и скребанув для порядка лапой пол, кот легко впрыгнул на стол, полакал из литровой банки с кипяченой водой и разлегся на солнечном квадрате, падающем из окна.
— Как тебя зовут, монстр? — спросил Роман, аккуратно садясь на кровать в некотором отдалении от стола. — Привет, что ли?
— Привет! — раздалось от дверей.
На пороге стоял Глеб.
Отношения у Романа с Глебом были давними, и их следовало бы считать приятельскими, если бы не тот оттенок честного, как хотелось думать Роману, коммерческого сотрудничества, которым они поддерживались. Глеб занимался продажей картин. Покупал он их по дешевке, брал на реализацию, в небольшой мастерской изготавливал рамы, сдавал в лавки, имел сеть частных заказчиков, короче, крутился, как мог. Большая часть картин Романа находилась именно у Глеба, и именно от него в последний раз небольшую сумму за проданный пейзаж привезла Татьяна. В деревне у Романа Глеб появлялся не чаще раза в год и только в том случае, если появлялся богатый, но не слишком компетентный заказчик, на котором Глебу хотелось хорошо заработать, но портить отношения и впихивать явное «фуфло» не стоило.
— Откуда? — удивился Роман. — Что случилось?
— Проездом! — уверенно ответил Глеб, пожимая руку и проходя в дом. — Из Москвы в Москву. Что случилось? Видно что-то случилось. Скорее всего, я сошел с ума. Но сейчас не об этом. Давай собирай все свои более или менее готовые работы.
— Да их не так много, — запротестовал Роман. — Дай бог, если штук пять.
— Обленился ты, старый хрыч, — ругался Глеб, перебирая холсты. — Но ничего. Мы это поправим. Собирайся.
— Куда?
— Доедем до вашего районного центра. Не могу же я общаться с великим художником в этой лачуге? К тому же у меня есть ощущение, что твой зверь, — он кивнул на кота, — вот-вот вцепится мне в горло. Поехали.
Роман переоделся, кое-как умылся и через минуту уже трясся в глебовской «Ауди» по корявой совхозной улице. Городок показался уже с первого косогора. Всю недолгую дорогу Глеб отмалчивался и заговорил только тогда, когда они сели за столик единственного приличного ресторанчика и сделали заказ.
— Так в чем же собственно дело? — спросил Роман.
— Скажи, — ответил вопросом на вопрос Глеб. — Я понимаю что-нибудь в торговле произведениями искусства?
— Безусловно, — скривился Роман.
— Хорошо, тогда скажи, понимаю ли я что-нибудь в искусстве?
— Думаю, что-то ты понимаешь, — ответил Роман.
— Я тоже так думал до сегодняшнего дня, — сказал Глеб и закурил. — Теперь я в этом не уверен.
— И что же поколебало твою уверенность? — улыбнулся Роман.
— Ты! — ткнул пальцем Глеб. — Ты, черт бы тебя побрал, если он не побрал тебя уже на самом деле! У меня есть небольшой бизнес, он меня обеспечивает, и я очень не хочу, чтобы он разрушился. А благодаря тебе он сейчас висит на волоске. Сколько у меня было твоих работ на сегодняшний день?
— Кажется, сорок пять. Было сорок шесть, но пейзажик продался…
— Сейчас их осталось пять!
Глеб склонился над столом и пристально посмотрел в глаза Роману.
— Ты можешь это объяснить?
— Нет, — удивился Роман.
— И я не могу, — согласился Глеб. — И эти пять картин не продались только потому, что я затянул с багетом. Они лежали у меня в мастерской. Сегодня с утра твои картины были куплены. Причем куплены в разных магазинах и разными людьми. Вот!
Глеб бросил на стол толстую пачку денег, перетянутую резинками.
— Здесь больше, чем мы договаривались. Когда пошли звонки с магазинов, я стал поднимать цену, но и это не помогло. К обеду картин не осталось. И вот я здесь.
Глеб расхохотался.
— И вот я здесь! В полном недоумении и полной «ж».
— Почему же? — не понял Роман.
— Не будь ребенком! — нервно защелкал зажигалкой Глеб. — Тебя вырвут у меня из рук вместе с руками! Это фортуна! А фортуна, это такая лошадь, которая появляется ниоткуда, и везет, причем есть огромное количество желающих усесться на круп позади наездника. У меня уже три предложения на персональные выставки, несколько заказов на сумму от тысячи баксов за небольшую работу и две серьезных просьбы дать твой адрес и познакомить с тобой. Причем вторая просьба из этих двух очень серьезная. Очень! Понял? — навалился на стол грудью Глеб.
— И что ты намерен делать? — спросил Роман.
— Бороться! — бросил Глеб. — Для начала вот тебе от меня подарок, — он бросил на стол сотовый телефон. — Держи со мной связь. Возможно, придется поменять место жительства. Сегодня звонила твоя Татьяна, спрашивала, как продается, наверное, тоже собирается к тебе.
— Она только была, — удивился Роман.
— Ну не знаю, — огрызнулся Глеб. — Я ей ничего не сказал. И ты никому ничего не говори. Такой шанс выпадает один раз в жизни. Не воспользуешься, никогда себе не простишь.
— И что же ты собираешься делать?
— Я? — Глеб улыбнулся, — Для начала я собираюсь немного выпить, хорошо покушать, поболтать с тобой о том, о сем. Потом мне хотелось бы быть уверенным, что ты меня не бросишь. Ну и так далее. Как тебе мой план?
09
Они расстались за полночь. Почти не захмелевший Глеб, наплевав на осторожные предупреждения Романа, довез его до единственного совхозного фонарного столба и уехал в Москву. Роман поднял воротник рубашки. В ночном воздухе назревала свежесть, не зря весь день на севере клубились темные тучи. Июнь подходил к концу. Понять все происходящее с ним Роман пока не мог и думал только о том, что в холодильнике у него еще осталась бутылка водки, и недопитое в ресторане он успешно довершит дома и завтра, пожалуй, встанет только к обеду.
Выпить ему не удалось. На улице у его дома собралась толпа. Мигали огнями два милицейских уазика и скорая помощь. Горели окна у соседей. Роман недоуменно пробрался к калитке и увидел участкового Серегу, который с обескураженным лицом отгонял зевак, теснившихся возле забора.
— Сергей, привет, что случилось? — встревожено спросил он у милиционера.
— Привет! — зло бросил ему Сергей. — Давай, иди сюда. Тут такое происходит, а тебя нет. Где пропадаешь?
— В городе с приятелем в ресторане считай с обеда, а что случилось?
— То и случилось, — буркнул Сергей. — Соседа твоего убили. Ты, главное не волнуйся, дело такое, что на тебя, да и на кого-то не подумают, конечно, но у меня лично неприятностей будет, хоть отбавляй. Сейчас с тобой сыщик поговорит, ты рассказывай ему все как есть, только про то, что я у этого Палыча порося собирался лечить, не говори. Не надо. К делу это отношения не имеет, тем более что я так его и не застал. А вот, что зоотехник наш собаку к нему водил, обязательно скажи! Тем более собаку!
— Но я ж не видел этого! — обескуражено возразил Роман.
— Ну ладно, — согласился Сергей. — Тут и без тебя есть, кому рассказать. Так что давай, не робей.
Всю ночь и следующий день Роман провел как во сне. К тому же скоро от выпитого начала болеть голова, и в какой-то момент он перестал понимать, что у него спрашивают. Сначала его допрашивали в половине дома, где жил Палыч, и где лежало его тело, накрытое серой простыней с пятнами крови. Затем в милицейской машине. Затем в городском отделении милиции, куда его доставили с изрядным количеством односельчан. Менялись сыщики, следователи, менялись вопросы и их тон, пока все это не закончилось под вечер. Вымотанный «следак» дал Роману подписать какие-то бумаги и сказал, что он может идти.
— Куда? — глупо спросил Роман.
— На все четыре стороны! — ответил следователь и похлопал по папке. — Висяк! Вы вроде человек интеллигентный, могу сказать. Не для распространения, естественно. К тому же может, что и подскажете, как сосед… Бывший. Во-первых, неизвестно — кто погибший. Даже фамилии нет. Просто Евгений Павлович. Документов никаких нет. В розыске не числится. Ваша Софья Сергеевна по телефону сказала, что появился ниоткуда, представился знакомым ее теперь уже умершего мужа, раньше она его никогда не видела. Во-вторых, причина смерти, — более чем не ясна. Шея сломана. Рваные раны. Похоже на укус собаки. Но судя по расстоянию между следами клыков на спине и шее жертвы, эта собака размером с лошадь. Излишне говорить, что собак таких размеров не бывает. Так что, висяк. Отдыхайте. Алиби у вас, что надо, да и прикус у вас не тот, — нехорошо засмеялся следователь. — До свиданья.
Роман попрощался, дошел до автостанции и долго ждал автобуса до совхоза. Позвонил Софье Сергеевне. Голос у нее был встревоженным.
— Ромочка, что случилось, звонили из милиции, интересовались моим жильцом. Что он натворил?
— Не волнуйтесь, Софья Сергеевна, — прокричал Роман в трубку. — Все в порядке. Вы лучше скажите, правда ли, что Александр Дмитриевич хотел вернуть мне мою картину.
— Правда, — ответила Софья Сергеевна и добавила после паузы. — Только вы простите меня, я позже верну ее вам, эта картина для меня память о Саше, он так любил ее. Он говорил, что в ней ваша душа. Ваша настоящая душа. Вы понимаете?
— Понимаю. Софья Сергеевна! — голос у Романа сорвался. — Слышите? Не отдавайте ее никому! Хорошо? Кто бы не пришел за ней, не отдавайте ее, Софья Сергеевна!
Вскоре подошел автобус. Роман вернулся в совхоз, пришел в дом, выпустил кота и собрал вещи. На улице пошел дождь. Он сел в автобус, вернулся в город, дал объявление в городской газете о продаже дома, сел в электричку и уехал. Навсегда.
2003 год
Неудачная попытка
Мальчик стоял на сером тротуаре у края проезжей части. В пяти метрах от него начинался пешеходный переход, на котором то и дело повизгивали тормоза. Реагируя на переключение светофора, машины дергались с места и распугивали торопливых пешеходов. Мальчик стоял на краю тротуара и удивлялся, почему взрослые не обращают на него внимания? Почему они не оттаскивают его от дороги, как это всегда делали папа или мама, не читают ему утомительных нравоучений? У них озабоченные лица и рассеянные взгляды. Наверное, они куда-то спешат.
Ему было чуть более трех лет. Он только-только научился говорить и теперь готов был взахлеб рассказывать о чудесах, которые открывал для себя каждый день. Он был замечательным ребенком, и знал об этом, потому что и папа, и мама, и все окружающие постоянно твердили ему это. Он был счастлив. Но не теперь.
Последние несколько дней родители словно забыли о нем. Никто не пичкал его кашей, не уговаривал съесть свежее яблоко, не поправлял придирчиво костюмчик. На него не обращали внимания. Вечерами он слонялся по квартире, почти натыкаясь то на отца с потухшими глазами, то на молчаливую бабушку, то на лежащую ничком в спальне мать. Горе черным куполом накрыло семью. Мальчик подходил к маме, гладил по плечу, целовал, говорил ласковые слова. Но она плакала, плакала, плакала, не обращая на него никакого внимания. Тогда мальчик уходил в свою комнату, подолгу сидел на кроватке, или ложился и смотрел в потолок, не в силах заснуть. Иногда накатывали слезы, и тогда, свернувшись калачиком и зажмурив глаза, чтобы заглушить бьющий в глаза свет, он быстро-быстро повторял про себя — «мама, мама, мама» и забывался.
Мальчик думал, что он никому не нужен. Он решил, что жизнь навсегда превратилась в кошмарный сон. Он почти смирился с этим. Он все еще оставался маленьким трехлетним мальчиком, но вместе с тем понимал, что многое изменилось за последние дни. Он перестал бояться темноты. Он стал более спокоен. Едва ощутимая отстраненность повисла в воздухе, окутывая его непроницаемым коконом и спасая сердце от взрыва.
Мальчику казалось, что он только притворяется маленьким, а на самом деле живет на этом свете уже огромное количество лет. Просто ничего не может вспомнить, потому что его сегодняшнее состояние это весна, а бывшая перед этим зима занесла память снегами, и ему опять, в тысячный раз приходится все начинать с начала. И ощущение близкой разгадки наполняло его спокойствием и покорностью.
И еще был человек, который ходил за ним. Человек подошел к мальчику в тот день, когда бабушка замолчала, папа перестал улыбаться и разговаривать, а мама ничком упала на кровать. Человек взял мальчика за руку и повел по улице, что-то рассказывая ему ровным голосом. Они шли очень долго, а потом пришли к мальчику в дом. Человек привел его в детскую, уложил на кровать, сел рядом и стал гладить по голове. Мальчику казалось, что человек плакал, но слез он рассмотреть не мог. Не мог разглядеть лицо. Он не смог бы даже ответить на вопрос, мужчина это или женщина. Человек поселился в их квартире и теперь всегда сидел на кровати возле мальчика, ходил за ним по комнатам или молча стоял в коридоре. Он был одет во что-то белое. Ослепительно белое, но не утомляющее глаза, а как бы не существующее до того момента, пока не попытаешься рассмотреть. Но мальчик не думал обо всем этом. Ему было плохо, и только взгляд или что-то еще, исходящее от этого человека, останавливали истерику, перехватывающую горло.
Иногда мальчику становилось хуже, чем обычно, и он приходил сюда, на край проезжей части, чтобы стоять близ проносящихся машин. Человек шел следом и стоял рядом, тоже не делая никаких попыток оттащить его от края дороги.
Мальчик стоял на сером тротуаре и пытался вспомнить, что же он видел на этом самом месте тогда, несколько дней назад. Иногда ему казалось, что это вот-вот удастся, но воспоминание ускользало. На середине дороги темнели пятна, которые притягивали взгляд. Теперь они уже почти смылись дождями, но мальчик все равно смотрел на них, пытаясь вспомнить что-то, связанное с этими пятнами. Подул ветер, но мальчик его не почувствовал. Только пластмассовые цветы, примотанные проволокой к фонарному столбу, зашевелились под ветром. Мальчик обернулся и увидел маму, папу и бабушку, стоявших позади него. На мгновение ему показалось, что сейчас мама очнется, но этого не произошло. Она смотрела сквозь него. Так же как и бабушка. Так же как и отец, который стал намного старее и ниже ростом, и теперь стоял и растерянно потирал свою правую руку, которая, наверное, и подвела его. Лишила его жизнь смысла. Лишила смысла жизнь его семьи. Мальчик смотрел на родных и чувствовал, как уходит тоска, и любовь переполняет сердце. И он захотел подбежать, обнять маму за ноги, уткнуться носом в живот и жаловаться, жаловаться, жаловаться на что-то. Он захотел подбежать и не смог. Человек подошел и взял его за руку.
— Я хочу к маме, — сказал мальчик.
Человек покачал головой.
— Почему? — спросил мальчик.
— Нам пора, — ответил человек и повел его прочь от перехода, от пластмассовых цветов, от исчезнувших пятен на асфальте, возле которых бился о землю несколько дней назад его отец. Прочь от убитой горем матери и умирающей бабушки. Туда, где светящейся дугой вставали ворота. Ворота, превращающиеся в тоннель. Тоннель, упирающийся одним концом в маленькие фигурки мамы, папы и бабушки, а другим уходящий за горизонт.
— Я люблю их, — сказал мальчик.
Человек кивнул.
— Я всегда буду любить их, — сказал мальчик.
Человек снова кивнул.
— Я хочу быть с мамой, — приготовился заплакать мальчик.
И тогда человек обнял его, прижал к себе и, уже отрываясь от земли, прошептал:
— Ты будешь с мамой. Но не теперь. Позже. Подожди.
И мальчик, наконец, заплакал, но его слезы были чисты и невесомы. Как и он сам. Как и он сам, улетающий вместе по светящемуся тоннелю, на одном конце которого остались все те, кого он любил, а на другом было что-то прекрасное, но незнакомое и поэтому пугающее.
— Не бойся, — сказал человек, прижимая мальчика к себе.
— Я и не боюсь, — солгал мальчик.
— Попробуем еще раз, — сказал человек.
21.12.1999 г.
Баг
Они не должны были встретиться. Он жил в деревушке недалеко от города Новопетровска, она — в деревушке под Рязанью. Но когда ему было десять, они чуть было не столкнулись. Мать вывезла его в конце лета в Москву — купить что-нибудь болоньевое ребенку на осень, а ее родители именно в этот день таскали восьмилетнюю дочку за руку по галереям ГУМа, рассчитывая подобрать девочке что-нибудь приличное на ноги. В два часа дня осатаневшая от диких очередей и духоты «Детского мира» его мать волокла сына по Никольской к ГУМу, потому как ничего подходящего в «Детском мире» не обнаружилось, а в это же самое время по той же Никольской ее родители шагали из Гума в Детский мир, потому как с обувью в ГУМе тоже как-то не сложилось. Она гордо восседала на плечах молодого отца и еще издали заметила невысокую женщину в старушечьем платочке, за которой утомленно шагал долговязый черноволосый подросток. Он ее не успел заметить, да и она не успела к нему приглядеться, хотя ощутила какое-то смутное беспокойство. В самом начале Никольской от раннего пробуждения, тесного автобуса, грязной электрички, духоты, очередей и мамкиного несчастного лица у него вдруг пошла носом кровь. Мать заткнула ему нос платком и потащила его в аптеку, которая как раз в начале Никольской и находилась. Она повернула голову, посмотрела на исчезающий за тяжелыми дверьми силуэт, на пятна крови на августовском московском асфальте и забыла о нем.
Через четыре года они отдыхали в одном пионерском лагере, но через смену. Поэтому он целовался в беседке не с нею, а с рыжеволосой Оленькой из города Солнечногорска, а она дала пощечину за попытку запустить ей руку под майку не ему, а кудрявому Вадику из Электростали. Впрочем, дала бы она пощечину ему, и полез бы он к ней под майку, представься ему такая возможность, неизвестно. Однако выведенная его рукой на скамейке химическим карандашом надпись — «Оля классно целуется» — ее заинтересовала и не выходила из головы целых три дня.
Еще через три года судьба развела их вовсе в последнюю секунду. Он вновь приехал в Москву, на этот раз без мамы, чтобы поступить в институт. Сдал почти все экзамены, но на последнем повздорил с экзаменатором. Не согласился с его выводом и принялся яростно доказывать собственную правоту. Экзаменатор обиделся на мгновенно вкипающего юнца, который приехал из глухой подмосковной деревни, и стал задавать ему дополнительные вопросы, по итогам которых абитуриент должен был отправиться не в аудиторию, а на призывной пункт. Взмокший и расстроенный он долго бродил по окраинным улочкам столицы, пока не вышел к станции Петровско-Разумовская, не сел на электричку и не приехал на Ленинградский вокзал. Побродив между ним и Ярославским, он спустился в метро и отправился к Кузнецкому мосту. Там он полюбовался в угловом магазинчике музыкальными инструментами и двинулся к укромной пельменной, что находилась в проезде Художественного театра. Заказал двойную порцию пельменей с маслом, взял чай, булочку за три копейки, отметив таким образом свой первый провал. Когда он уже поел и шагнул к выходу, очередной посетитель споткнулся и опрокинул ему на грудь порцию пельменей с уксусом. Ему потребовалось полминуты, чтобы вытереться салфетками, умыться и застегнуть под горло ветровку. Именно этой половины минуты ему не хватило, чтобы увидеть ее. Она шла вместе с сестрой и ее женихом из салона для новобрачных, что располагался напротив «Детского мира», по тому же проезду Художественного театра к Центральному телеграфу, чтобы звонить домой и хвастаться купленным платьем. Когда он вышел из пельменной, она как раз проходила мимо входа в МХАТ. На мгновение он замер, разглядывая стройный силуэт в легком платье, но время уже уходило, и он побежал к метро.
Осенью он ушел в армию, а она поступила в сельскохозяйственный техникум, где ей приходилось работать в учебном хозяйстве, и где однажды корова, дернувшись и потянув цепь, срубила стальным звеном крайнюю фалангу с ее указательного пальца. Он отслужил два года от звонка до звонка. Испытал многое, кое-чего не хотел бы вспоминать сам, кое-что не хотел бы, чтобы вспоминали другие, но мерзавцем вроде бы не стал. Одно лишь щемило в сердце — командир части наградил его благодарственным письмом к матери, а обалдуй-лейтенантик письмо похерил. Не стал заниматься. А он постеснялся напомнить.
Она эти два года, пряча покалеченную руку в карман, ходила на танцы, целовалась с ровесниками, в грязной общаге под пару бутылок портвейна на казенном белье распрощалась с девственностью и иногда грустила, что никого в армию не провожала, поэтому никакой предопределенности в будущем не имеет.
Через два года он ехал на верхней полке плацкартного вагона домой и вышел покурить на станции Рязань-один. Она ждала электричку через путь, но стояла к его поезду спиной, и он опять ничего не разглядел, кроме ее стройного силуэта, а возникшую в груди боль списал на понятное дембельское волнение.
Она повернулась к нему, когда уже подошла электричка и загородила поезд, но она села у окна с его стороны, и он мог бы разглядеть ее в окно купе, но двое суток в поезде вдруг вылились в тошноту и надрывный кашель. Теперь уже он стоял спиной к ней, открыв окно в курилке перед туалетом, дышал креозотом и сплевывал противный вкус рвоты, потому как туалеты были закрыты. В ту минуту он решил бросить курить и, прокурив всего два года, и в самом деле больше не взял в рот сигарету до самой смерти.
Прошло меньше года, и он упустил самый верный шанс встретиться с нею. Его мать работала поваром на турбазе. После армии он устроился туда же водителем, чтобы перекантоваться до очередной попытки поступить в институт. Возил продукты, белье в прачечную, которая была в Москве, сено, которое обязывали косить всех работников турбазы, как будто накошенное ими сено могло спасти отгнивающее сельское хозяйство умирающей империи. Там же под мудрым руководством дебелой бухгалтерши стал мужчиной. И именно на эту турбазу купили путевки, чтобы оторваться на последних в своей жизни каникулах, несколько девчонок, среди которых была и она. Но в тот самый день, когда она ехала на электричке из Рязани на Казанский вокзал, переезжала на метро с Казанского на Рижский, а с Рижского вновь на электричке ехала до Новопетровска, он сидел с удочкой на деревенском пруду, потом играл в волейбол на спортивной площадке, потом почувствовал озноб, потом жар, потом опять озноб, а потом свалился с дикой головной болью. Мать прыгала вокруг него с мокрыми тряпками с час, потом вызвала скорую помощь. Седая врачиха несколько минут щупала его, минуту смотрела на градусник, потом заставляла вытягивать ноги и тянуть подбородок к груди, потом делала еще что-то, пока в конце концов не диагностировала солнечный удар. Он толком ничего не понял, потому как боль застилала все вокруг туманом, но через три дня немного пришел в себя, после чего ранним утром миновал здание корпуса турбазы, в котором после бессонной ночи сладко спала она, и отправился в соседнюю деревню к бабушке, где и пролежал в тенистом саду в гамаке до конца больничного.
Через двенадцать дней она уехала обратно в Рязань, а он вернулся домой, уволился с работы и со всей серьезностью засел за учебники. В августе он поступил в институт электроники в Зеленограде и не имел никаких шансов встретиться с нею еще семнадцать лет. За это время он окончил институт, избежал профессионального и семейного распределения, устроился работать в телевизионное предприятие на окраине Москвы, вместе со всей страной попал в шторм, почти голодал, мотался челноком в Польшу, стоял на рынке, стоял у Белого Дома в девяносто первом году, плевался в телевизор в девяносто третьем, пытался торговать компьютерами, потом начал составлять какие-то сети, создал маленькую фирму, едва отбился от наезда бандитов, кое-что заработал, построил домик в Сходне, попал уже не под бандитов, а под ментов, сумел договориться, женился на милой сотруднице, которая через два года разбабела, но при этом оставалась милой, к тому же родила ему сына.
Она вышла замуж сразу после техникума и тут же поступила на бухгалтерские курсы, родила девчонку в двадцать два. В девяносто первом отдыхала в деревне, телевизор почти не смотрела, девчонка ее болела ветрянкой. В девяносто третьем развелась, стала работать в крупной строительной фирме сначала секретарем, потом кассиром, потом бухгалтером, после нескольких лет знакомства и долгих уговоров переспала с директором и за свою же неуступчивость была взята в жены. В девяносто шестом родила второго ребенка, вместе с мужем, который благодаря смычке с чиновничьей братией пошел в гору, переехала в Москву.
Его дела вдруг пошли неважно, навалились проверки, в офис приехали какие-то странные люди, он дернулся к ментам, те ринулись помогать, но быстро остыли, сказали, что тут задействованы интересы кое-кого посильнее и посоветовали «делать ноги». Он дернулся к тем, кто посильнее, его тут же начали доить, но он быстро понял, что выдоят до дна и уничтожат, поэтому он продал все, что мог продать, что осталось, переписал на жену и ребенка, а как только получил повестку к следователю — уехал в Германию на год. Год перебивался как придется, встретил знакомца по институту, тот пообещал ему протекцию в сотовой компании, которая как раз подминала под себя рынок, намекнул, что может решить проблемы и со следователем. Он вернулся в Россию, чтобы похоронить внезапно умершую мать, принял поздравления от соседей, что та ушла легко, не болела, не мучилась, приехал домой и обнаружил, что жена его уже живет с его бывшим замом, который, скорее всего, и оказался главной причиной его проблем. Дверь ему не открыли. Он долго стоял у ограды дома, построенного им самим, ждал, когда выведут на улицу сына. Сын разговаривал с отцом через забор. Мать стояла тут же. Он смотрел на нее и думал, что по-своему она права. Жизнь уходит, нужно как-то устраиваться. И еще он думал о том, что если он даст волю ненависти, что бурлила в нем, то если и не потеряет сына, то уж точно не принесет ему пользы. Сын был похож на зама. Такой же толстенький, белоголовый. Он говорил с его интонациями, его словами, его голосом. Мать ребенка согласилась не противиться встречам, но потребовала за это большие алименты. Он согласился платить, устроился на ту самую обещанную ему работу, и в самом деле стал неплохо зарабатывать, снял квартиру, но уже во время второй встречи с сыном почувствовал, что сыну неинтересен. Тот уже называл папой бывшего зама, который старался во время коротких встреч пасынка с его отцом улизнуть из дома, и явно тяготился старым отцом. После третьей встречи он решил больше к сыну не приходить.
Некоторое время он был близок к самоубийству. Но пить не начал. Погрузился в работу. Стал едва ли ни лучшим специалистом. Вел самые сложные проекты. К концу тысячелетия уже был в ранге главного инженера целого департамента, купил квартиру, поддерживал отношения сразу с двумя женщинами: с молодой и длинноногой, и одинокой хорошо сложенной средних лет. Одно время даже подумывал, на ком из них остановиться. Прикидывал, что жить было бы лучше с той, что постарше, но ребенка ему сможет родить та, что помоложе.
Одно не давало ему покоя. Чтобы с ним не происходило, ему казалось, что не он сам выстраивает собственную жизнь, а кто-то тащит его по жизни. Встряхивает огромный пинбол, в котором он мечется в виде бестолкового колобка.
Он все-таки встретился с нею. За несколько месяцев до нового двухтысячного года. Ему было уже тридцать восемь. Ей было тридцать шесть. У нее все было в порядке, у него все было в беспорядке, кроме его работы. У нее была дочь шестнадцати лет и сын четырех лет. Его сыну исполнилось восемь, но он не чувствовал себя отцом и думал, что если будет настаивать на генной экспертизе, то станет еще и подлецом. Она изнывала от непонятной тоски. Ему казалось, что он мучается от понятной.
Ему позвонили ночью. Он снял с плеча голову молодой и длинноногой, взял трубку и тут же начал одеваться. Одна из недавно запущенных станций дала сбой, аварийная бригада выехала, но от этого проекта зависело слишком многое. Он сел за руль своего лендровера и отправился в область. Проблему удалось исправить к утру. Он проводил бригаду, сдал объект под охрану и понял, что смертельно устал. Но устал не этой ночью, а во все прошедшие тридцать восемь лет. Он помнил как умирал его отец. Тот был намного старше матери, работал в местном дорожно-стоительном управлении, получал не слишком много, но работал много, приходил домой поздно, не пил, поэтому всю гнусь, которую ему приходилось расхлебывать, на самом деле глотал. Однажды он пришел с работы, сел на стул, опустил на пол командирский планшет, сказал — «как же я устал» — и умер. И теперь, он, сын своего отца, устал примерно так же. Но он не хотел умирать. Жизнь все еще была где-то впереди, хотя и норовила тихой сапой переместиться за спину. Он завел машину и медленно поехал, стараясь отдышаться и придти в себя на ходу.
В утреннем тумане машина сначала ползла по проселку, потом выбралась на бетонку, когда он вдруг заметил указатель к какому-то озеру. Сквозь силуэты ветел блеснул луч солнца, почти сразу же бликами ответила полоска воды в тростнике, и он резко повернул руль. Дорога побежала по берегу озера, справа обозначилась ограда дорогого коттеджного поселка, потом площадка для барбекю, детская площадка, сосновый лес. Асфальтовая дорога закончилась, а озеро все блестело по левую руку.
Он остановил машину в молодом сосняке. Сбросил ветровку, выключил телефон и пошел к берегу. Разделся, искупался. Вода показалась ему теплой. Посидел, жмурясь на поднимающееся солнце, оделся, а потом вдруг упал ничком на траву и завыл, скребя пальцами землю, вырывая дерн. Так и уснул.
Проснулся от ее прикосновения.
Но не сразу повернулся. Сначала услышал голос.
— Э-эй! Что с вами? Вы живы хоть?
— Жив, — глухо ответил он и сел, не поднимая на нее глаз.
— Что случилось? — спросила она.
— Интересуетесь? — поднял он взгляд, но не разглядел ее лица.
Она стояла напротив солнца. Он видел только силуэт молодой женщины в спортивном костюме.
— Вас это удивляет? — почему-то тихо спросила она.
— Да, — кивнул он. — Время такое. Сейчас редко кто останавливается. Да и вы рисковали. Вдруг я пьяный?
— А хоть бы и пьяный, — ее силуэт пожал плечами. — Пьют ведь тоже не всегда просто так. Потом у нас тут пьяных не бывает. Вы не из нашего поселка?
— Нет, — покачал он головой и начал вставать.
Неловко было сидеть перед женщиной.
— Странно, как же вы шлагбаум миновали? — она словно думала вслух. — Ну точно. Утром туман был, охранники его подняли, когда мой уезжал, да видно не опустили. А я бегу, вижу, кто-то лежит. По виду вроде не из наших. К тому же трава до земли под пальцами выдрана. А это… вы.
Она перестала дышать. Почти перестала.
— А это вы, — проговорила она другим голосом.
Он шагнул к воде, чтобы вымыть вымазанные в земле пальцы, и столкнулся с ней взглядом. Посмотрел ей в глаза, не щурясь. И она посмотрела ему в глаза. А потом они произнесли хором. Звук в звук.
— Я вас нигде раньше не встречал-а-а-а-а?
Дальше все было очень медленно.
Наверное, время изменилось. Оно и в самом деле замедлилось.
Но и они все делали дальше очень медленно.
Он начал разворачиваться к ней, а она к нему. Он сделал шаг к ней. И она сделала шаг к нему. Причем все движения происходили одновременно, синхронно, и, что было самым удивительным, вслепую, поскольку чтобы они не делали, их глаза не отрывались друг от друга. Вот они сделали еще по шагу, и он взял грязными руками ее за голову. Прижал к голове ее взмокшие от бега волосы и ее уши. И она не закричала, что у него грязные руки, она не думала об этом, она, наверное, вовсе ни о чем не думала, потому что подняла свои руки между его руками и точно так же взяла его за голову, но положила ладони на щеки и скулы, улыбнувшись, потому что его щетина защекотала ее ладони. А потом он поймал своими губами ее губы.
Они провели на берегу несколько часов. Около полудня у нее зазвонил телефон, она что-то ответила и стала собираться домой. Он записал ее номер, дошел с нею до сосняка, довез до входа в поселок. Она вылезла из машины, не заботясь о том, что охрана увидит ее с посторонним. Он посигналил ей и поехал. Она шла домой и улыбалась. Он ехал и улыбался. Все наконец встало на свои места.
В канцелярии загудел тревожный зуммер. Когда старший куратор посмотрел отчеты и сводки, он тут же нажал кнопку тревоги.
— Что это такое?
Вбежавший в канцелярию младший куратор побледнел.
— Нет, вы посмотрите отчет за последние десять часов. Что это такое? Что это за вспышка? Что это за разряд? А теперь смотрите сводки. Никакой вспышки быть не должно. В чем дело?
— Сейчас.
Младший куратор сделал шаг вперед, приподнялся на носках, заглянул в сводки.
— Опять они.
— Кто они? — загремел старший куратор.
— Вот эти две монады, — залепетал младший куратор и осторожно ткнул пальцем в диаграмму. — Вот и вот. Рушат всю систему вероятности. В который раз рушат. Постоянно рушат. Перезагружали каждую по сотне раз, а они опять притягиваются. Вроде бы уже отследили всю траекторию, отфильтровали, уравновесили, вывели их в автономку, а они опять. Не отследили…
— Не отследили! — швырнул на стол сводки старший куратор. — Запомните, коллега, что теория вероятности — это закон нашего бытия. Поэтому никаких «не отследили». Перезагрузка! И немедленно!
— Но у них дети, — замялся младший куратор. — Трое… на двоих. Да и по сводкам и у нее еще должен родиться ребенок. Да и он… Да и сколько уж можно? Может…
— Какое к чертям, прости господи, — побагровел старший куратор, — «может»? Запомните! То, чего не может быть — быть не может! Перезагружайте. Не обоих, так хотя бы одного! Срочно!
— Есть, срочно, — щелкнул каблуками младший куратор.
— И чтоб больше…
Дверь хлопнула. Младший куратор сел за стол, полистал разбросанные бумаги, тяжело вздохнул:
— Как же меня все это за…
Он берег себя, как никогда. Но когда со второстепенной дороги вылетел камаз, увернуться не успел. Умер мгновенно. Водитель камаза, который и сам остался жив чудом, выполз из развороченной машины, заглянул в сплющенный внедорожник и полез трясущейся рукой за телефоном. — Да как же это так? Как же? Что это я….
2012 год
Собеседование
01
«Где сплетаются лестницы,
Остается надежда
Ступить на равнину».
Jenny
Дом казался пришельцем из прошлого. Впечатление усиливали узкие стрельчатые окна, которые в первом ряду натужно поблескивали темными витражами, во втором и третьем походили на бойницы, а выше замещались каменными фигурами с оскаленными пастями. Женни попробовала посчитать этажи и не смогла. Высокие оконные проемы сбивали с толку. Взметнувшиеся рядом офисы отсвечивали тонированным стеклом безэтажно и казались самонадеянными выскочками.
Девушка посмотрела на часы. Постоянная боязнь оказаться несостоятельной, опасение упустить возможную работу заставили прийти на полчаса раньше и теперь вынуждали бродить по тротуару. Улица заканчивалась тупиком с вязами, в тени которых стояло несколько машин. Женни оглянулась, рассчитывая увидеть скамью или небольшое кафе, но этот район Гамбурга не собирался потакать слабостям. Она вздохнула и, поеживаясь от неожиданной утренней майской прохлады, подошла к дому. Обрамленные каменными спиралями колонн массивные двери казались частью монолитной стены. Рядом на высоте человеческого роста поблескивала металлическая плита. Сливающимся готическим шрифтом на ней темнела надпись:
«Этот дом был построен в 1950 году Олафом Густафсоном и подарен городу Гамбургу».
Женни подняла голову, еще раз окинула взглядом вертикаль фасада и недоуменно качнула головой. Дом выглядел значительно более старым. И на ощупь тоже. Камень не мог обмануть ее. Сколько раз, прогуливаясь по узким берлинским улицам, она угадывала возраст зданий. Неужели ошиблась?
Девушка шагнула к дверям, вгляделась в колонну, возраст которой был никак не менее пяти сотен лет, провела пальцами по матовой поверхности дерева, опустила ладонь на покрытую патиной медную рукоять. Неожиданно правая створка двери легко подалась и уплыла внутрь. Внезапный сквозняк растрепал волосы, затягивая их в открывшийся полумрак. Женни подхватила локон, убрала за ухо и вздрогнула, увидев незнакомца.
Человек стоял в трех шагах от двери, завершая нелепой фигурой образовавшийся треугольник света. Впрочем, кажущаяся нелепость рассеялась, едва Женни сумела рассмотреть его. На незнакомце ладно сидел строгий, но элегантный черный костюм, открывающий ворот белоснежной водолазки. Черные туфли поблескивали зеркальными носами. И только морщинистое, почти безволосое лицо старика, которое странным образом успокоило Женни, развенчивало общую безукоризненность. Но и эта мнимая ущербность растаяла, едва человек открыл рот. У него оказался приятный низкий голос.
— Входите, фройляйн…
— Женни Герц.
— Как странно…
Незнакомец замер, пожевал сухими губами, словно пробуя имя на вкус.
— Но ведь вы не француженка?
— Нет, — Женни постаралась улыбнуться. — Папа был помешан на Франции.
— Женни, — задумчиво повторил человек. — Ударение на последнем слоге и короткая фамилия. Герц. Отличная фамилия для немецкого имени и никуда ни годная для французского. Когда будете выходить замуж, постарайтесь подыскать мужа с фамилией из двух или трех слогов, но чтобы ударение падало на последний из них. Это важно, как звучит имя.
— Господин Теллхейм? — постаралась улыбнуться Женни.
Внезапно она почувствовала неловкость, мысленно укорила себя за невыдержанность и принялась подбирать извинения. Но старик тепло улыбнулся и шагнул назад:
— Входите, милая Женни!
«Неплохое начало, — подумала девушка. — К счастью этот Теллхейм слишком стар, чтобы доставлять неудобства возможной назойливостью».
— Вас не удивила догадка о вашем девичестве? — вежливо спросил Теллхейм, складывая губы в улыбку и приглашая Женни насладиться интерьером.
Девушка кивнула, но оставила вопрос без ответа. В неполные двадцать пять лет она уже успела понять, что это было единственным способом избежать возможных приставаний, ухаживаний и последующей ненависти при неуступчивости. Кроме этого она привыкла к непостижимому угадыванию каждым собеседником ее незамужества. Сейчас Женни занимал дом. Она оказалась в высоком зале, который менее всего походил на прихожую. Сумрак, почудившийся ей при входе, рассеялся. Окна, предстающие мрачными провалами снаружи, здесь оказались источниками света. Из нижних проемов он падал пятнами, окрашиваясь цветными стеклами, закрепленными в свинце витражей, а сверху лился неискаженными солнечными лучами. Девушка подняла голову и не увидела потолка. Он находился столь высоко, что казалось, его не было вовсе. И только следуя глазами по ступеням широкой лестницы, которая разбивалась на узкие переходы и уже ими карабкалась вверх по противоположной внутренней стене, по бесчисленным колоннам, устремляющимся прочь от плиточного пола, Женни предположила в туманной вышине пыльные балки из потемневшего дерева и остроконечные своды.
— Фантастика! — восхитилась она.
— Изнутри больше чем снаружи, — довольно кивнул Теллхейм. — Ваш папа был помешан на Франции, а строитель этого здания на готике. Или, скажем так, на ощущении архитектуры, которое оформилось во Франции двенадцатого века.
— Это стилизация? — спросила Женни.
— Я не знаю, что такое стилизация, — покачал маленькой головой Теллхейм. — Готика, как и любой стиль в искусстве — это не принадлежность времени, а способ изложения художественной идеи. И если изложение верно, талантливо — вы получите образчик стиля, в каком бы времени он ни осуществлялся. Хоть в архитектуре, хоть в живописи, хоть в поэзии.
— В поэзии… — восхищенно повторила одними губами девушка и неожиданно вспомнила о причине своего прихода. У нее собеседование с господином Теллхеймом, директором городского архива Гамбурга. Собеседование, от которого зависит ее судьба. Сможет ли она получить это место, а значит, и возможность заниматься тем, что ей действительно интересно, и что, наконец, будет приносить хоть какие-то деньги.
— Господин Теллхейм, я прошу извинения за необдуманно ранний приход. Вчера, когда я связывалась с вашей помощницей в магистрате, мне было назначено собеседование на восемь утра. Речь шла о работе в архиве в рамках гранта, который выделил Немецкий Археологический Институт. Я прошла предварительное собеседование в Берлине, у меня есть направление…
Она старательно улыбнулась, открыла сумочку, чтобы достать рекомендации, но Теллхейм остановил ее едва заметным движением руки. Женни замерла и, выжидающе взглянув на него, добавила:
— Вероятно, на это место есть и иные претенденты? У меня большой опыт. По образованию я историк. Три года отработала в Государственной библиотеке в Берлине, проходила практику в архиве «Берлин-Лихтерфельде», — девушка запнулась. — Вы знаете, работа архивиста не приносит достаточных средств, но ваши условия очень хороши для меня. Я… хочу получить это место.
— Вы совсем не умеете проходить собеседование, — неожиданно произнес Теллхейм.
— Что вы имеете в виду? — не поняла Женни.
— Конечно, не правила, которыми пичкают современных молодых людей, — прищурился старик. — Что-то вроде того, как себя вести, как ставить ноги и куда девать руки. Какой вопрос задать, чтобы получить от работодателя первое «да». Как добиться успеха. Дело не в этом. Собеседование — это участие в беседе. Ваша задача состоит в том, чтобы беседа не разрушилась. Вы должны поддерживать ее.
— Каким же образом? — растерялась девушка. — Обычно тот, кто проводит собеседование, задает вопросы, а я на них отвечаю.
— Единственное правило состоит в том, что нет никаких правил, — покачал головой Теллхейм. — Я присутствовал при собеседованиях, во время которых испытуемый вообще не проронил ни слова. Или сам беспрерывно задавал вопросы. Результат зависит не от этого.
— А от чего? — спросила Женни и в наступившей тишине услышала, как ее голос шелестом отразился под сводами.
— От того, как вас примет Мертвый Дом, — ответил Теллхейм.
02
«Сквозняк потушил свечу.
Отчего ж не осветит страницу
Сияние за моим окном?».
Jenny
— Что значит Мертвый Дом? — спросила Женни, чувствуя, как болезненная пустота образуется в нижней части живота. «Только этого не хватало, — мелькнуло у нее в голове, — спешка, волнение. Сейчас ударит в затылок, затем заломят виски. Главное, чтобы не было тошноты. Как не вовремя!»
— Ничего и одновременно все, — ответил, склонив голову Теллхейм. — Как и любое имя. Мертвый Дом — такое прозвание дали этому зданию жители Гамбурга. По крайней мере, жители близлежащих районов. Но этого имени нет ни в одном из справочников.
— Вы сказали, «и одновременно все», — повторила девушка, украдкой смахивая пот со лба и чувствуя противную слабость в коленях и начинающиеся спазмы в животе. — Значит, для этого имени были основания?
— Именно основания, — улыбнулся Теллхейм. — Пойдемте. Мы продолжим беседу сидя.
Он улыбнулся еще раз, пошел к лестнице и, не оборачиваясь, стал подниматься словно то, что Женни последует за ним, было само собой разумеющимся. Девушка встряхнула головой, отгоняя боль, чуть торопливее, чем следовало, побежала по ступеням, но догнала его только в конце лестничного марша.
— Нам сюда, — сказал Теллхейм, показывая на украшенную резьбой дверь. Женни взялась за рукоять и толкнула. Перед ней предстала небольшая комната, освещенная низко висящим кованым светильником. Посередине матово поблескивал круглый стол из черного дерева. За ним стояла высокая молодая женщина в строгом платье и белом фартуке. Увидев Женни, она кивнула и отошла в сторону.
— Заходите, — услышала девушка голос Теллхейма. — Это Тереза. Она хозяйка и добрый дух этого здания. В ее обязанности входит поддержание порядка, тишины и чистоты в коридорах Мертвого Дома. И пусть вас не смущает ее строгий вид, вы согласитесь с моими словами столько раз, сколько испробуете кофе, приготовленный ее руками.
— Как вам будет угодно, — сухо произнесла Тереза и ушла, оставив в воздухе исчезающий запах ванили.
— Вот так всегда, — развел руками Теллхейм, кивком приглашая Женни опуститься в одно из глубоких кожаных кресел. — Чем более ценен работник, тем менее он приятен в общении. Надеюсь, вы не сочтете мои слова руководством к действию?
Он негромко рассмеялся, и девушка только теперь заметила, что на черной поверхности стола стоят две маленькие фарфоровые чашечки с кофе и лежит темная кожаная папка.
— Замечательный кофе, — сказал Теллхейм, вытирая слезы белым платком. — Угощайтесь. Я попросил Терезу добавить в каждую чашечку несколько капель коньяка. В вашем состоянии это не помешает.
— В каком состоянии? — насторожилась Женни.
— Вам двадцать пять лет, и вы не были замужем, — спокойно объяснил Теллхейм. — В старину в этом возрасте женщина не только успевала родить кучу детей, из которых живым оказывался иногда только каждый третий, но еще и превратиться в старуху. Вы же еще молоды, даже юны, но природу не обманешь. Она напоминает о вашей детородной функции.
Девушка почувствовала, как румянец набегает на щеки, и, опустив глаза, пробормотала:
— Не думаю, что это может отразиться на моей работе. К тому же это доказывает, что ничто не будет меня отвлекать.
— Не обижайтесь, — махнул рукой Теллхейм. — Продолжим беседу. Я хочу рассказать о Мертвом Доме. Перед тем как покажу архивы, которыми вам, возможно, придется заниматься. Сделайте несколько глотков и откройте папку.
Женни отставила кофе, который действительно был хорош, открыла папку и увидела три фотографии. На первой из них была запечатлена мощенная камнем улочка немецкого городка тридцатых годов. На второй, эта же улица представляла собой груды камней. На последней фотографии на фоне строящихся домов высилась громада готического здания.
— Это фотографии одного и того же места? — спросила девушка.
— Да, — кивнул Теллхейм. — И фотографии подтверждают, кстати, что дому действительно немногим более пятидесяти лет.
— Расскажите мне о них, — попросила Женни.
— Охотно, — согласился старик. — Первая фотография относится к началу тридцатых. Скорее всего, это тридцать второй год. Именно в том году мясник Клаус Штольц открыл лавку. Вот вывеска на приземистом здании. Слева от лавки располагался доходный дом фрау Эберхарт. А справа домишко семейства Гольдбергов. В тридцать третьем их уже на этой улице не было, дом выкупила госпожа Эберхарт и устроила гостиницу для моряков. Все остальные дома принадлежали зажиточным бюргерам, информация о которых почти не сохранилась. И объясняется это второй фотографией. Она была сделана в сорок третьем. Сразу после трех страшных ночных бомбежек Гамбурга, во время которых погибли десятки тысяч людей. Эта улица была также превращена в руины. Погибли все, проживающие на ней люди, за исключением дочери госпожи Эберхарт с маленьким сыном, мясника и его подсобного рабочего Олафа Густафсона.
— Там, на доске его имя… — встрепенулась Женни.
— Подождите, — остановил ее Теллхейм. — Итак, живыми остались только четверо. Причем Густафсона нашли не сразу. Во время налета он находился в подвале. Бомба попала гостиницу. Три дома мгновенно обрушились. За полчаса до налета дочь госпожи Эберхарт, не понимая, что она делает, завернула ребенка в одеяло и вышла на улицу. Там уже стоял недоумевающий Клаус. В руках у него был лом и лопата. Вскоре начался налет. Это была первая бомбежка. Все жители улицы погибли. Пожары бушевали вокруг. Но ни Клаус, ни мать с ребенком не получили ни одной царапины. Когда все закончилось, мясник соорудил в развалинах лачугу и принялся раскапывать вход в подвал, где у него оставались запасы еды и кое-какое имущество. Молодая женщина, как и все в этом городе, находилась на грани сумасшествия. Чтобы отвлечься от переживаний, выдержать, в те часы, когда ребенок спал, она помогала Клаусу. На восьмой день они спустились в подвал и обнаружили там спящего Олафа.
— Спящего? — удивилась Женни.
— Именно так, — подтвердил Теллхейм. — Восемь дней он безмятежно спал, пока на утро девятого его не коснулся потрясенный мясник.
— Удивительно, — поразилась Женни. — Восемь дней! Но что было дальше?
— Дальше? — переспросил Теллхейм.
Он задумался, протянул руку в сторону кофе, вытянул пальцы над язычком пара.
— Женни, чем вы занимались в Государственной библиотеке? Чем вы увлекались?
— Я занималась анализом любых архивных материалов. Эти исследования сродни изысканиям горного мастера. Он берет пробы, осматривает местность и говорит будущим исследователям вот это, это и это достойно более пристального исследования, это пока подождет, а вот здесь золотая жила. Необходима промышленная разработка.
— То есть вы эксперт? — уточнил Теллхейм. — Но у вас есть и личные пристрастия?
— Да, — пожала плечами Женни. — Я увлечена девятнадцатым веком. Всем, что связано с литературой и поэзией Германии. Мне всегда казалось, что личности, которые существовали в немецкой литературе девятнадцатого века, заслуживали большей проекции в будущее, чем та, которую они получили в своих последователях.
— Немцы всегда были недовольны собственной проекцией в будущее, — усмехнулся Теллхейм. — Но, признаться, девятнадцатый век представлялся мне веком немецкой философии. Кстати, госпожа Эберхарт была убеждена, что здание, которое она превратила в дешевую гостиницу для моряков, посещал сам Шопенгауэр. Хотя в Гамбурге он все-таки жил в конце восемнадцатого века.
— Архивист может подтвердить это или опровергнуть! — оживилась девушка. — Когда я листаю старинные документы, мне кажется, что начинает звучать чудесная музыка!
— Возможно.
Теллхейм встал, сцепил ладони на животе и задумчиво произнес:
— Но порой старинная музыкальная шкатулка играет странную мелодию.
— О чем вы? — не поняла Женни. — Вы хотите проверить мое знание литературы девятнадцатого века? Я не помню этой фразы.
— Нет, — покачал головой Теллхейм. — Этот дом, как старинная шкатулка. Шкатулка, которую дано открыть не каждому. И каждый, открывший ее, слышит собственную мелодию.
— И какую же мелодию услышали вы?
— Ее невозможно описать, — проговорил Теллхейм, прислушиваясь к чему-то. — Продолжим наш разговор на шестом этаже. Там наиболее интересная часть архива. И музыка старинных страниц там должна звучать особенно чарующе. На втором этаже у лестницы вы найдете дамскую комнату. А потом поднимайтесь ко мне. Не бойтесь заблудиться. Идите по синей ковровой дорожке.
— Здесь нет лифта? — спросила Женни.
— Нет, — Теллхейм с улыбкой посмотрел на часы. — Лифты иногда застревают. И особенно часто это бывает без двадцати минут восемь.
Женни приподняла брови, но, решив не задавать лишних вопросов, встала. Сделав шаг вперед, она увидела в дверном проеме часть лестницы и поднимающегося по ней обрюзгшего старика с топором в руке. Незнакомец взглянул на нее, и сердце девушки обрушилось в низ живота.
— Что с вами? — удивленно спросил Теллхейм, взглянув на ее лицо.
— Там! — в ужасе прошептала Женни. — На лестнице человек с топором! Без глаз!
— Ах, это? — рассмеялся Теллхейм. — Не обращайте внимания! Это наш работник. Он в маске. Знаете ли, сюда нередко приводят экскурсии, так вот это часть шоу. Это не Англия. Немецкие замки и старинные дома бедны призраками, поэтому в этом качестве подрабатывают обыкновенные бюргеры. Наш сантехник изображает мясника Клауса. Да, и не пугайтесь, если увидите мальчика. Это ребенок Терезы. Очаровательный сорванец!
03
«Пьешь мою наготу,
И не можешь напиться?
Отчего не откроешь рот?».
Jenny
Туалетная комната успокоила Женни. Все вокруг сияло чистотой. Цветочные ароматы не были назойливыми. Казалось, что уборщица только что покинула помещение. Девушка привела себя в порядок и вышла на лестницу. Тереза стояла у дверей. Невольно вздрогнув, Женни кивнула ей и, улыбнувшись, хотела пройти мимо. Ее остановил голос женщины.
— Ты не встречала Олафа?
— Что вы сказали? — переспросила девушка.
— Они спрятали его от меня.
Тереза стояла неподвижно, глядя прямо перед собой, и даже губы ее, казалось, не шевелились. Был только голос.
— Если встретишь Олафа, скажи ему, что я жду здесь.
— Хорошо, — растерянно ответила Женни и заторопилась вверх.
Поднявшись по лестнице на один пролет, девушка оглянулась. На том месте, где она только что видела Терезу, никого не было. «Странно, — подумала Женни, — что она хотела этим сказать? Или она сознательно запугивает новых работников? Это часть испытания?» Девушка нахмурилась на мгновение, пытаясь вспомнить, была ли она безупречна при пользовании туалетной комнатой, затем махнула рукой и поспешила вверх. Каждый этаж здания соответствовал не менее чем двум этажам обычного дома, поэтому она запыхалась. К тому же несколько раз ей казалось, что двумя пролетами выше мелькала фигурка ребенка. Поблагодарив про себя Теллхейма за предупреждение, она пошла по синей дорожке. По всей видимости, дом не ограничивался узким фасадом, а продолжался вглубь квартала. Она прошагала по мрачному, слабо освещенному коридору не менее полусотни метров, пока синяя ковровая дорожка не исчезла под тяжелой дверью. Женни с усилием потянула ее на себя и оказалась в библиотеке. Теллхейм уже ждал ее. Он показал на кресло, взмахнул рукой, демонстрируя стеллажи, заставленные книгами, свитками, пачками истрепанной бумаги, коробками и ящиками.
— Святая святых. Конечно, в свое время представители оккупационных властей приложили к этому руки, но многое было обнаружено и в более поздние годы. Это архивы видных горожан, отошедшие к магистрату по завещаниям или выкупленные у нерадивых потомков. Есть редкие документы и даже древние манускрипты. Причем в этом зале собрано все, имеющее отношение к литературе, искусству, философии, архитектуре.
— Вы проводили сортировку?
Женни восхищенно вертела головой, стоя в середине зала.
— Отчасти. Следовали сопроводительным документам магистрата. Возможно, и даже наверняка что-то ценное есть и на других этажах, но здесь концентрация выше.
— И много открытий здесь было сделано? — спросила девушка.
— Ни одного, — спокойно ответил Теллхейм.
— То есть? — не поняла Женни. — У вас не было архивиста?
— Были, — сказал Теллхейм. — Только они не задерживались. Двое женщин обратились за консультацией к психиатру. Одна выбросилась с галереи шестого этажа. Несколько человек покинули нас в первые же дни. Вы не боитесь?
— Чего? — неожиданно для самой себя усмехнулась Женни. — Я не верю в призраков. И мне нужна эта работа. К тому же вы здесь работаете. Тереза. Этот сантехник.
— Мы давно здесь, — задумчиво проговорил Теллхейм, присаживаясь на край дивана. — Извините, но я присяду. Дело не в нас. В конечном итоге здесь все решает сам дом.
— Вы так и не закончили рассказ, — напомнила ему девушка. — Подождите углубляться в мистику.
— Да, конечно, — согласился Теллхейм. — На чем мы остановились?
— Я хотела бы узнать, кто такой Густафсон, — сказала Женни. — Мне непонятно, почему в годы войны в помощниках у мясника был, судя по фамилии, швед. Почему он не попал в вермахт или в концлагерь? И как его имя оказалось на доске. И вообще, откуда взялся дом?
— Его построил Олаф Густафсон, — ответил Теллхейм.
— И вот еще, — вспомнила девушка. — Почему дом называют Мертвым?
— Вы хотите, чтобы я отвечал на все вопросы одновременно? — неожиданно улыбнулся Теллхейм.
— Зачем же? — опустилась в кресло Женни. — Начните с главного.
— Кто может знать, что является главным, — задумался Теллхейм. — Клаус нашел Олафа Густафсона в собственном подвале.
— Подождите, — остановила его девушка. — Я помню. На восьмой день.
— Не перебивайте меня, — мотнул головой Теллхейм. — Это случилось в тридцать втором. Время было тяжелое. Клаус не обрадовался, когда, открыв двери в подвал, обнаружил там спящего белоголового парня. Дело чуть не дошло до тумаков. Но припасы были целы, а работника у него как раз тогда не было. Парень оказался работящим, хотя и идиотом. Он не мог связать и двух слов ни на одном известном в порту Гамбурга языке. Имя он сказал сам, а фамилию ему придумал Клаус. Точнее пошел в порт и спросил фамилию первого попавшегося ему на глаза шведа. Так Олаф стал Густафсоном. И самое удивительное, что до момента бомбежки он не изменился. Оставался белоголовым юным увальнем трудягой. Клаус не мог нарадоваться на него. Только этой идиллии однажды пришел конец. Когда Гамбург был уничтожен, на руках у Клауса оказались помешанный парень, который вдруг начал пытаться что-то говорить, и дочь фрау Эберхарт с ребенком на руках. Та после пережитого тоже в уме повредилась. Клаус смекнул, что к чему, оформил в суматохе усыновление Олафа, затем организовал его свадьбу с девушкой и уже через полгода был фактическим владельцем трех участков на разрушенной улице. Не знаю, как он перебивался. Темные то были времена. Говорили разное, но в нацистских архивах на Клауса ничего не нашлось. Потом война подошла к концу, в город вошли оккупационные войска. Клаус начал понемногу вставать на ноги, собрался восстанавливать дом, но тут произошло чудо.
— Чудо? — переспросила Женни.
— Олаф стал нормальным человеком, — объяснил Теллхейм.
— То есть? — не поняла девушка.
— В один прекрасный день он перестал быть идиотом, — развел руками Теллхейм. — Все эти несчастья, что обрушились на город и на Германию, словно вливали в него силы. Более того, он обрел влияние на Клауса, на жену. Тогда еще у них родилась дочка. Обворожительное создание. Кто знает, может, именно ее рождение сыграло решающую роль? Так или иначе, но уже в сорок седьмом всеми делами заправлял Олаф. А в конце того же года он начал строить Мертвый Дом.
— Лавка мясника давала достаточно средств? — усомнилась Женни.
— Лавка мясника не давала ничего, — усмехнулся Теллхейм. — Но вместе с разумом к Олафу пришла или вернулась удача. У него появились деньги. Много денег. Говорили, что он продает какие-то предметы, изделия из золота. Точно никто не знал, но денег у него было много. Достаточно много, чтобы заткнуть рот тем, кто мог бы расспросить его об этом.
— Зачем он построил такое здание? — спросила девушка.
— Этого никто не знает, — ответил старик. — Но сам Олаф неоднократно повторял, что он строит убежище для кого-то, кому будет служить его семья.
— Кто выполнял проект?
— Никто, — продолжил Теллхейм. — Проект здания до последней черточки был запечатлен у Олафа в голове. Словно он восстанавливал здание по памяти. Когда развалины были расчищены, оказалось, что подвал Клауса и фундаменты соседних домов когда-то были одним целым. Они явно принадлежали какому-то древнему строению. Рабочие пустили слух, что это остатки языческого капища. К сожалению, все возможные проходы в подвалы были замурованы еще при строительстве. Олаф избегал внимания. И просил рабочих не болтать лишнего. Но только шила в мешке не утаишь. Когда здание было выстроено, его тут же прозвали Мертвым Домом.
— Почему? — спросила Женни.
— Вас не удивляет, что здесь тепло? — поинтересовался старик.
— Хорошее отопление? — предположила девушка.
— Кости, — ответил Теллхейм. — Человеческие кости, которые попадались при разборке развалин. На некоторых из них даже были куски плоти. Олаф покупал их за гроши. А затем изготавливал бетонные блоки, добавляя их в смесь. Для уменьшения теплопроводности камня. Здесь были горы останков. Городские власти закрывали на это глаза. Олаф говорил, что силы мертвых не должны раствориться в земле. Кроме этого, он разыскивал и покупал черные кирпичи со знаком, изображающим вертикальную линию с двумя короткими, составляющими треугольник на части ее вертикали.
— Thurisaz. Руна врат, — сказала Женни.
— Да, — кивнул Теллхейм. — Отчего-то таких кирпичей немало попадалось в развалинах. Подростки просто роились по всему городу. Некоторые кормили этим промыслом свои семьи. А еще в раствор добавлялся пепел. Никто не знал, что это был за пепел, но на ощупь он казался жирным, как свиное сало. Так или иначе, но дом рос. Кто-то пытался протестовать, но слишком многим это строительство давало шансы выжить. В пятидесятом году дом был закончен и перешел к магистрату.
— А как же Олаф, его семья, Клаус? — спросила Женни. — Или те, кому они должны были служить?
— Олаф, его семья и Клаус исчезли, — сказал Теллхейм.
— Как исчезли? — удивилась Женни.
— Когда строительство подходило к концу, — продолжил Теллхейм, — Олаф заключил с магистратом договор, что если с ним или его семьей что-то случится, заботы на содержание дома переходят на городскую администрацию с учетом использования средств Олафа. И сколько магистрат истратит на содержание дома, столько же он сможет взять и на собственные нужды. Срок договора был ограничен только наличием средств на специальном счете. Он тогда заплатил очень много. У него даже были какие-то подтверждения по этим деньгам. Не только этот дом, но и кое-кто из магистрата будут еще долгие годы чувствовать себя припеваючи. Первого мая пятидесятого года Олаф торжественно закрепил на стене дома металлическую плиту со знакомым вам текстом, обернулся и громко произнес вот эти строки.
«Чертог она видит
солнца чудесней,
на Гимле стоит он,
сияя золотом:
там будут жить
дружины верные,
вечное счастье
там суждено им»
(Старшая Эдда).
Затем он ухватил за руки очаровательную двухлетнюю дочь, приемного мальчишку, позвал жену и старого мясника и завел их в те самые двери, в которые вошли и вы. Более их никто не видел.
— То есть? — удивилась Женни.
— Более их никто не видел, — повторил Теллхейм. — Дом был перерыт сверху донизу. Их поискали еще некоторое время, а потом, к собственному удовлетворению, магистрат приступил к исполнению обязательств. Сначала здесь хотели разместить городские службы, затем кое-кому показалось, что дом оказывает гнетущее впечатление на чиновников, и сюда перенесли архив.
— Куда же они делись? — потрясенно проговорила девушка. — Олаф и остальные…
— Неизвестно, — тепло улыбнулся Теллхейм. — Некоторые горячие головы предлагали разобрать дом по кирпичику. Они предполагали, что, следуя дикому обычаю наших предков, Олаф замуровал своих родных в стенах дома. Для придания крепости и долговечности его сводам.
— А на самом деле? — прошептала Женни.
— На самом деле? — переспросил Теллхейм. — Не самый лучший вопрос для архивиста. Никогда нельзя выяснить, что было на самом деле. Можно лишь составить компиляцию из чужих мнений.
— Каково же ваше мнение? — спросила девушка.
— У меня его нет, — улыбнулся Теллхейм. — Что, если Олаф оставил себе щелочку и все еще спит в подвале на том месте, где уже дважды его разбудил Клаус?
— И все-таки? — надула губы Женни.
— Ответьте сами на этот вопрос, — вздохнул Теллхейм. — Могу только добавить, что Олаф спешил. За два половиной года строительства он превратился в глубокого старика. Словно природа нагоняла упущенное. В Гамбурге остались люди, которые помнят эту картину до сих пор. Приглашенный чиновник из магистрата торжественно перерезает ленточку, седой как лунь Олаф берет за руки мальчишку и двухлетнюю белокурую девчушку в розовом платье и ведет к дверям. А сзади его жена ведет старика Клауса, который на вид в два раза моложе Олафа. И все.
— Подождите! — девушка наморщила лоб. — Эта женщина, Тереза. Она тоже что-то спрашивала меня об Олафе!
— Она одинока, а значит, больна, как и каждая оставленная в одиночестве женщина, — развел руками Теллхейм и рассмеялся. — Не обращайте на нее внимания. Не забывайте, Олаф исчез пятьдесят лет назад! Пройдет еще лет пятьдесят, и будущие исследователи вообще усомнятся в его существовании и, может быть, будут правы.
— Но зачем это все? — задумалась Женни. — Кости. Пепел. Кирпичи. Зачем? Может быть, он хотел окружить дом ореолом таинственности? Создать впечатление чего-то мистического? Верил в призраков и надеялся разбудить их?
— Может быть именно вам суждено ответить на эти вопросы? — с улыбкой спросил Теллхейм, подходя к двери и поглядывая на часы. — К сожалению, я должен закончить нашу беседу.
— Я поняла.
Женни поднялась, окинула взглядом стеллажи.
— Вы считаете, что собеседование удалось, господин Теллхейм?
Она нашла в себе силы улыбнуться. Тошнота подступала к горлу. Девушка даже закрыла глаза на мгновение.
— А вы сами как считаете?
Теллхейм отошел к камину, затем обернулся и прочитал:
— «Прежде чем в дом
войдешь, все всходы
ты осмотри,
ты огляди, —
ибо как знать,
в этом жилище
недругов нет ли».{ Старшая Эдда }
— Проверяете? — усмехнулась Женни и продолжила:
— «Дающим привет!
Гость появился!
Где место найдет он?
Торопится тот, кто хотел бы скорей
У огня отогреться».{ Старшая Эдда }
— Ну что ж, — улыбнулся Теллхейм. — Думаю, мы не зря провели это время. Ваше знание древних текстов похвально. И все же они не всегда точны. Вам не кажется некоторая чрезмерность вот в этих строчках?
«Пленника видела
Под Хвералундом,
Обликом схожего
С Локи зловещим?»{ Старшая Эдда }
04
«Нет следа сокола в небе.
Только красное под его гнездом
И перо голубки в ладонях ветра».
Jenny
Высокая дверь закрылась за спиной, и Женни вздохнула с облегчением. Ей нравилась атмосфера таинственности и запустения. Но сейчас она радовалась свежему воздуху. И все-таки она получит эту работу! Девушка поправила волосы, перешла улицу и вдруг заметила мужчину лет сорока. Он торопился, почти бежал, оглядываясь по сторонам. Наконец увидел Женни, улыбнулся и подошел к ней, вытирая пот со лба.
— Женни Герц?
— Да! — подняла она брови.
— Курт Теллхейм, — представился он. — Извините за опоздание. Сколько раз жена говорила, что нужно пользоваться лестницами. Первый раз в жизни застрял в лифте. Хорошо еще, что ремонтники были более чем оперативны. Я опоздал всего на десять минут.
— Десять минут? — растерянно переспросила его Женни.
— Да, — кивнул человек, взглянув на часы. — Сейчас десять минут девятого. Но мы можем приступить к собеседованию немедленно. Рекомендации у вас с собой? Или пройдем в здание?
— Вы директор архива? — не поняла Женни. — Я только что была там!
— Этого не может быть! — удивился человек. — О чем вы говорите? Вы не могли там быть. В архиве никого нет. Дверь заперта. Вот ключ.
Человек достал из кармана и показал ей большой резной ключ. Бронзовое плетение на его ушках изображало человека с молотом.
— Вы слышите меня, Женни?
Он требовательно посмотрел ей в глаза.
Девушка вздрогнула. Теперь черный дом казался ей больше и массивнее офисных зданий. Он словно вырастал из земли. Раздвигал их, как расталкивает черный гриб пожухлую листву.
— Господин Теллхейм, — она скривилась от боли, сжала ладонями виски. — Вам не кажется, будто что-то розовое мелькает в окне второго яруса?
— Нет, — ответил человек, не оборачиваясь.
2004 год
Осень в июне
Если в нашем доме случится полтергейст, я не стану приглашать священника или медиума. Дочь не даст меня в обиду. Она смотрит фильмы ужасов и хорошо знает, как надо вести себя в подобных случаях. Не всерьез Машка объясняет это странное увлечение необходимостью подготовиться к взрослой жизни. Она — наивный человек. Жизнь пока еще смотрит на Машку с улыбкой. Но всякая улыбка рано или поздно превращается в гримасу. Поэтому защитить дочь пытаюсь я сам. Хотя иногда задумываюсь над тем, что не смог бы защитить и себя.
Хмурясь или посмеиваясь, жизнь продолжается. Полтергейст, как и все необычное, обходит наш дом стороной. Машка жалуется, что не может найти применения способностям и накопленным знаниям. Я успокаиваю ее тем, что в наше время она может не бояться инквизиции. Машка интересуется, не было ли у нее в роду ведьм. Хочу ответить, что были, но молчу. Не могу говорить плохо о женщине, увлеченность которой когда-то перепутал с любовью. К тому же многие ее жесты, привычки и черты отразились в Машке как в зеркале.
Бывшая жена говорит, что только странной привязанностью дочери к экранной мерзости можно объяснить её чувства к собственному отцу. Думаю, в этих словах — не вся правда. Девочку часто пугали, что папа заберет дочку к себе. И ей этого наконец захотелось.
Когда Машке бывает по-настоящему страшно, она мысленно расширяет границы экрана и представляет съемочную труппу во главе с сидящим в шезлонге режиссером. С суетящимися осветителями и ассистентами. Когда это не помогает, она выключает звук. Выключенный звук телевизора в те вечера, когда Машка остается дома, означает две вещи. Первое, что фильм по-настоящему страшен. Второе, весь ужас заключен в звуке. Самое страшное — это звук. Когда Машка была маленькой, иногда она просыпалась среди ночи, зажимала уши и с ужасом смотрела куда-то в угол, требуя: — Тише, тише, тише!
Теперь это, кажется, прошло.
Звук одиночества состоит из тиканья часов, шипящего телевизора, капающей воды в ванной и шума за окном. Иногда он дополняется собственными шагами и становится невыносимым.
Будучи маленьким мальчиком, я говорил, что из всех времен года больше всего люблю осень. Я лукавил. Где-то вычитал, что осень любил Пушкин. Со временем оказалось, что он был прав. Теперь я люблю осень самостоятельно. В любое время года. И в начале июня тоже.
Вторник — не самый тяжелый день. Вчера шел дождь, сегодня сырость медленно испаряется, насыщая воздух влагой. Я выруливаю со стоянки и включаю музыку. Звучит песня, которую композитор написал в перерывах между редкими вдохновениями. Жизнь идет, надо что-то писать, ждут поклонники, ждет жена-певичка, в спину дышат молодые и голодные конкуренты, и он пишет. Блестящая профессиональная пустота. И незачем обижаться на бывшего кумира, мы все живет также.
Останавливаюсь в пробке у городского рынка. Три минуты никого не устроят. Объездная дорога разбита, машину жалко. Лучше постоять. Тем более следующая песня на кассете лучше. Нащупываю в кармане мобильник, удовлетворенно отмечаю — три елочки из шести. Вполне приемлемая связь. Если она захочет сейчас позвонить мне, это вполне может получиться.
Любовь, это сахар в руках идущего под дождем. И вот уже облизываешь липкие пальцы, пытаясь запомнить ее вкус.
Машка — чувствительное существо. Иногда мне кажется, что она читает мысли. Однажды сказала, что благодаря нашему разводу с матерью, избежала участи быть влюбленной в меня как в мужчину. Поэтому, во-первых, не приобрела комплексов зависимости от сильного пола. Во-вторых, наши отношения не отягощены детством, и она чувствует во мне по-настоящему близкого человека. Я ответил, что ее детства не хватает мне. Машка нахмурилась, смешно почесала кончик носа и попросила рассказать о Ней.
— О ком? — переспросил я.
— О Ней, — повторила Машка. Именно так она и сказала. С большой буквы. — О той, от которой ты ждешь звонка последние месяцы.
— С чего ты взяла? — постарался я удивиться.
— Я тебя умоляю!
Она сказала это ее словами и с ее интонацией!
— Мы же договорились — не врать! У тебя на мобильнике вверху списка всегда номер, по которому ты не звонишь. Да и обращаешься ты с телефоном как с живым существом. Подобное сочетание может быть связано только с женщиной. Хочешь, я позвоню ей?
— Нет!
Вырвалось…
— Папка. Скажи. Хорошо иметь взрослую и умную дочь? — спросила Машка, обнимая меня. — Самое удивительное, что я, оказывается, ревную! Нет, ты представляешь?
Второй день в отпуске и опять еду на работу. Превращаюсь в механическое существо. Вчера шеф вздохнул, приблизился и внятно сказал в ухо: «Ты в отпуске, понял? Не делай из меня монстра. Чтоб я на тебя больше не натыкался. Увидимся через месяц.» Честно говоря, я здорово смягчил его слова. Шеф не мастер парламентских выражений. Я что-то буркнул в ответ, поднялся в офис, пошелестел бумагами и уехал. День оказался скомканным. И вот, пожалуйста. Опять еду на работу. Точнее стою в пробке. Впереди замер маленький грузовичок. Тент поднят, и я вижу в кузове мужчину в камуфляжной форме. Он примерно моего возраста, то есть находится в середине жизни. Неужели я выгляжу так же? Обвислые щеки и пустые глаза, которыми он смотрит сквозь меня.
Телефон наконец звонит. Я судорожно подхватываю его с сиденья и почти кричу в трубку: «Да, да! Я слушаю!» Из атмосферного потрескивания пробивается голос нашего снабженца: «Алло? Сергеевич? Мне нужна машина на завтра.» «Нет!» — злорадно сообщаю ему. «Что нет? — удивляется снабженец. — Машины нет?». Я нажимаю отбой.
Пробка рассасывается. «Газель» трогается. Голова мужчины качается, он инстинктивно хватается руками за скамью и прижимается спиной к кабине. Он похож на несчастных коров, которых иногда везут по этой дороге на мясокомбинат. Мужчина открывает коричневую кобуру, поднимает черный пистолет, гладит его левой рукой, снимает с предохранителя, приставляет к виску и стреляет. Голова дергается влево, что-то черное вылетает на полог тента, в секунду человек превращается в нескладную тряпичную куклу и мешком валится на пол кузова. Больше я его не вижу.
Сзади раздраженно сигналит серебристый «немец». Я вытираю о чехол сиденья вспотевшие ладони и обгоняю «Газель» у светофора. Останавливаюсь. Водитель поглядывает на «красный» и одновременно пытается разглядеть в зеркалах задние колеса машины. Он слышал выстрел. Рядом с ним сидит миловидная женщина, которая, улыбаясь и жестикулируя, что-то рассказывает. Зажигается «зеленый». Мы трогаемся. «Газель» останавливается у супермаркета. Я встаю в десяти метрах впереди и гляжу назад. Женщина расплачивается с водителем, еще раз улыбается, выходит из машины, открывает зонт и спешит под дождем в сторону магазина. Когда проходит рядом, я ловлю ее случайный взгляд и понимаю, — она знает, что случилось в кузове.
«Она знает, что случилось в кузове», — повторяю я про себя. Водитель медленно вылезает из кабины, засовывает в карман сложенную купюру, несколько раз ударяет ладонью по тенту, говорит что-то и идет к заднему борту.
Он замер, увидев труп. Ухватившись рукой за металлическую скобу на заднем борте, он с ужасом смотрел на лежащее ничком тело, на растекающуюся лужей кровь, на пятно на внутренней стороне тента. Капли пота блеснули на его лбу. Наверное, ему хотелось крикнуть, оглянуться и позвать кого-то, но шея одеревенела.
Я нашел женщину в продовольственном отделе. Она катила перед собой тележку, снимала с полок пакеты и коробочки, придирчиво рассматривала и укладывала в корзину. Я шел сзади и пытался заметить необычное в ее поведении. Она обернулась возле кассы. Спросила без тени раздражения:
— Что вы хотите?
— Извините, — промямлил я, почувствовав неловкость. Это была обычная женщина. Она пожала плечами. Расплатилась. Я вышел на улицу. Дождь заставил натянуть на голову воротник, я добежал до машины, прыгнул в салон. Она стояла на обочине. Наклонилась, заглянула внутрь.
— Опять вы?
— Куда?
— В центр.
— Садитесь.
Вместе с ней в салоне появился тонкий запах духов. Похожий на Машкин.
— «Лу-лу»? — спросил я.
— Да, — кивнула она, смахивая с волос капли дождя. — Что вас заинтересовало?
— Вы ехали на «Газели» до магазина?
— Да.
— Человек в кузове застрелился.
— Что вы говорите?
Она сказала это без удивления. Обыденно.
— Вы не удивлены?
Она вздохнула, прижала к вискам кончики пальцев, зажмурилась на мгновение.
— Остановите мне здесь, я выйду.
— Ответьте мне, — попросил я.
— Что вы хотите услышать?
— А что я могу услышать? — спросил я, останавливая машину у тротуара.
Она молча возилась несколько секунд с ручкой двери, пока я не наклонился и не открыл сам, коснувшись щекой холодного платья. Ее естественный живой запах неожиданно пробился сквозь парфюм и заставил меня замереть.
— Ветер и бубен, — сказала она, выбравшись на тротуар.
— Не понял! — крикнул я вслед, наклоняясь над сиденьем и вдыхая ускользающий аромат. — Ветер?
— Не этот ветер, — сказала она, открывая зонт. — Радуйтесь, что не слышите. Услышите… перед смертью.
— Постойте! О чем вы?
Она не ответила.
Что делать в отпуске? Ехать никуда не хочется. И некуда. На улице дождь. И зачем уезжать? Машка забирается на диван и, листая журнал, приваливается к плечу. Выгибается. Как кошка. Кажется, почеши за ухом, проведи ладонью по узкой спине, замурчит, выпустит когти.
— Маша, помнишь, в детстве иногда ты просыпалась ночью и плакала? Что-то пугало тебя?
— Помню, — говорит она, не отрываясь от страниц.
— Что это было? Ты отказывалась рассказывать об этом.
— Я не хотела, — вздыхает дочь.
— Почему?
— Мне было страшно рассказывать, — объясняет Машка. — Казалось, если расскажу, это вернется.
— Что вернется?
— Голоса, — Машка оборачивается, сбрасывает со лба волосы, усмехается. — У меня было ощущение, что кто-то громко кричит мне в ухо. Неприятно, правда?
— Не знаю, — пожимаю плечами. — Мне никто не кричал в ухо.
— Ерунда, — она возвращается к журналу. — Я привыкла.
— Значит, эти голоса не исчезли? — спрашиваю.
— Я привыкла, — говорит она. — Теперь это просто гул. Удары. Ритм. Мне не мешает.
— Ветер и бубен, — бормочу я.
— Не-а, — зевает Машка. — Только бубен.
Олег не врач. Просто у меня, как и у каждого, есть приятель, который знает ответы на любые вопросы. Он способен давать дельные советы. Очень полезное качество. Оно позволяет трезво относиться к собственной способности советовать. Олег отодвигает в сторону разобранный видик, протягивает причудливую раковину.
— Что слышишь?
— Шум моря, — отнимаю раковину от уха.
— Ничего подобного, — не соглашается Олег. — Всего лишь эхо звуков, которые раздаются в голове. Кровь шуршит, пробираясь по сосудам. Сквозь склеротические бляшки.
— Подожди, — не соглашаюсь я. — Но это же не голоса? И не гул, не ритм. При чем тут раковина?
— А вы к врачу обращаться не пробовали? — интересуется Олег. — Вдруг у Машки внутричерепное повышенное? Или еще что?
— Только нам врачей не хватало.
Не хочется грязнить Машкину медицинскую книжку.
— Ну, как знаешь, — успокаивается Олег. — Ей это мешает?
— Нет.
— Тогда и ты не мучь себя, — Олег вновь углубляется в электронные схемы. — В этой жизни у нас всех осталась одна задача.
— Какая?
— Умереть раньше собственного ребенка, — усмехается Олег.
— Обычное самоубийство, — Петр тщательно заминает сигарету в жестяной пепельнице, с тоской смотрит в зарешеченное окно, за которым не прекращается дождь. — Уйду я из прокуратуры.
— Куда?
— Куда угодно, — он откидывается назад в кресле, с трудом соединяет руки на затылке. — Пора и о деньгах подумать. О семье. Сын институт заканчивает. Женится — надо где-то жить. Не хочу, чтобы жена с невесткой лица друг другу на кухне разодрали. В адвокатуру пойду. Какие сейчас дела в суд идут, каждое второе развалить — нечего делать.
— Разве самоубийство бывает обычным?
— Бывает, — вздыхает Петр. — Жизнь не бывает обычной. Вот прикинь. Жена парализованная. Дочка — даун. Зарплата мизер. И та на водку тратится. Так что самоубийство обычное. Другой вопрос, что человек с такой визиткой охранником работал и оружие имел. Но это вопрос не ко мне. Ты зря дергался. Свидетели не нужны. Вопрос ясный.
Звонок обрывает наш разговор. Я выхватываю сотовый и с разочарованием выслушиваю пятиминутную отповедь бывшей жены по поводу уже недельного непоявления Машки.
— Валентина? — с усмешкой спрашивает Петр.
— Да, — киваю.
— И звонила, конечно, с простого телефона?
— Как правило.
— Жениться тебе надо, пока песок не посыпался, — щурится он в окно. — От кого звонка-то ждал? Чуть штаны не порвал, пока телефон из кармана выдирал.
— Петруха, — спрашиваю я бывшего однокурсника. — Где люди умирают чаще всего?
— В больнице или на дороге, — отвечает он. — Тебе где больше нравится?
— Ты где была? — спрашиваю Машку поздно вечером, уже ночью, когда она появляется в прихожей раскрасневшаяся, со спутанными волосами, пахнущая дождем и юностью. Она смеется над моей показной строгостью, вешается на шею.
— Валентина звонила?
— Мама твоя.
— Не волнуйся, — сбрасывает туфли, ветровку, путаясь в брюках, направляется в ванну, — в глаза я ее мамой называю.
— Она волнуется.
Машка скрывается за мутным стеклом душевой кабинки и пытается перекричать шум воды:
— Я зайду к ней завтра. Пусть не ругается. Ей не о чем волноваться.
Иду на кухню, ставлю чайник на газ. Включаю телевизор. Машка появляется через несколько минут, запахивает халат, закручивает волосы в полотенце. Выхватывает пульт и перещелкивает на музыкальный канал.
— Чаю мне, — смеется. — С клубничным вареньем! Она не звонила?
Я бросаю взгляд на сотовый, отрицательно мотаю головой.
— А ты можешь забыть о ней?
Смотрит с интересом. Даже любимую Аврил убавила.
— А если я не хочу забывать о ней?
— И тебе это томление кажется сладостным?
Вытягивает ноги, ловя рукой соскальзывающую с колена полу халата. У дочери удивительные ноги. И пальцы на ступнях длинные и тонкие. Почти как у нее.
— А томление бывает взаимным?
— Наверное, — она пожимает плечами, подхватывает на ложечку клубничину и, поднося ее ко рту, оставляет на столе пунктир ароматных капель. — Об этом говорить сложно. Надо быть внутри ситуации. Вот если бы ты спросил о чем-то общем.
— Откуда берется равнодушие?
— Что ты имеешь в виду?
Она обжигает пальцы об исходящую паром чашку, хватает себя за мочку уха.
— Представь ситуацию, — я задумываюсь. — Все прекрасно. Ничего не меняется, но что-то происходит. Еще несколько дней назад она радовалась даже голосу в телефонной трубке. Потом остается только радость при встрече. Затем и эта радость уменьшается. Теперь она зажигается только во время секса. Если зажигается. Проходит еще какое-то время, и остается только равнодушие. Или не только.… Но она больше не вздрагивает от поцелуев и спокойно продолжает сушить волосы у зеркала. То, что недавно приводило ее в трепет, теперь оставляет холодной. Я же закипаю изнутри. Я не могу без нее. Ее голос, ее запах, ее тело способны… унести. А она вдруг становится раздраженной. Потом исчезает вовсе, сказав только: — Пока. Я позвоню.
— И ты ждешь звонка? — спрашивает Машка.
— Жду.
— Она ошиблась, — говорит Машка.
— Во мне? — не понимаю я.
— Причем тут ты? — кривится Машка. — В себе. Ты же сам почувствовал это, когда сказал, что ничего не меняется. А если она хотела перемен? Если она надеялась на перемены, новые ощущения? Выйди на улицу, поймай за рукав первую встречную женщину, насколько велика вероятность, что тебе будет с ней хорошо?
— Почему же тогда не объяснить? — не понимаю я. — Не сказать прямо?
— Она женщина, — говорит Машка. — Она не обязана объяснять. Женщина никому ничего не обязана. Да и скучно — объяснять.
— А что — не скучно?
— Многое, — Машка улыбается. — Крути головой. Вот сегодня. У дворца девчонку машина сбила. Я видела. Почувствовала, что это произойдет. Она перебегала дорогу, и легковушка словно срезала ее. Девчонка головой выбила стекло и упала на разделительную полосу. Водитель за сердце. Толпа! Крики! Скорая!
— И что же ты делала, когда смотрела на это? Развеивала скуку?
— Я слушала бубен, — хитро щурится Машка.
Я нашел ту женщину через три дня на территории городской больницы возле стеклянного куба хирургического корпуса. Несколько десятков человек, больных и посещающих, бродили по больничным дорожкам, сидели на скамьях, в беседках. Их лица были печальны. Их жизнь словно замедлила течение в низине, и они терпеливо ждали весеннего паводка. Или засухи. Она сидела одна. Я подошел и сел рядом.
— Здравствуйте.
Она молча кивнула.
— Моя дочь… — я запнулся, — слышит бубен. С детства. Вы сказали, что это бывает перед смертью.
— Не всегда, — женщина смотрела куда-то вверх и говорила медленно. — Некоторые — немногие, слышат его всегда. Но это тяжело.
— Почему? — не понял я.
— Он опьяняет, — она поднесла ладони к вискам, плотно прижала их, зажмурилась, — он опьяняет, но и дает силы. Все подчиняется бубну. Это ритм. Он заставляет двигаться. Облака, реки, птицы, рыбы, растения — все подчиняются бубну. И люди. Даже то большинство, которое не слышит. Они собираются в толпы и танцуют под жалкие подделки бубна. Только некоторые тонут в нем. Но вскоре они понимают, что не могут без него обойтись. И начинают искать бубен.
— Вы же сказали, что некоторые слышат его всегда?
— Слишком тихо. Приходится постоянно прислушиваться. Это мучительно. Но звук усиливается, когда кто-то вываливается из жизни. Ветер слабеет, и звук бубна становится особенно отчетливым.
— Ветер?
Сумасшедшая. Точно сумасшедшая. Я смотрел на нее и думал, что она сумасшедшая. И еще о том, смог ли бы я быть с этой женщиной. Впрочем, так я думал почти о каждой.
— Ветер?
— Да, ветер, — она глубоко вздохнула, повторила, — ветер. Его видят и слышат все, но немногие понимают это.
— И я вижу?
Я огляделся. Она напряженно усмехнулась, кивнула в сторону ковыляющей с палкой древней старухи.
— Посмотрите, как обветрено лицо. Ветер посеребрил волосы, почти ослепил ее. Она уже еле идет. Чтобы преодолевать ветер, ей пришлось согнуться. Но как только она перестанет двигаться против ветра, он стихнет, и бубен будет особенно хорошо слышен. Это главное. Больше нет ничего. Только ветер и бубен.
— Подождите, — я замотал головой. — А как же моя дочь?
— Не беспокойтесь, — женщина подняла глаза. — Если она слышит, обязательно придет сюда. Сейчас здесь бубен очень хорошо слышен. Здесь он почти всегда хорошо слышен. Сегодня умрут трое. Один уже почти мертв.
Я вздрогнул. Встал. Огляделся. Люди, прогуливающиеся вокруг и поглядывающие на здание хирургии, повернулись в мою сторону. Женщина коснулась руки.
— Успокойтесь. Еще не время. Не бойтесь.
— Папка?
Машка шла мне навстречу. Высокая, легкая, красивая!
— Папка! Что ты тут делаешь?
Резко ударило в затылок. В глазах потемнело. Скрутило желудок и закололо тупой иглой в спину возле лопатки. Влажные от июньских дождей больничные ели воткнулись в мокрое небо. И небо немедленно отозвалось. Глухими ударами. Низкими тонами. Беспрерывным размеренным ритмом. Который пронзил тело. Завибрировал в затылке и кончиках пальцев.
Вот он ветер. И не думает затихать. Усилился, потащил в закручивающуюся воронку навстречу десяткам умиротворенных поглощающих уст. И лицо Машки среди них. Родное, милое, единственное лицо. И она тоже выпивала меня.
Телефон.
Телефон.
Телефон!
— Да. Кто это?
— Послушай! Ты специально подговариваешь ее не приходить ко мне? Так ты отплачиваешь мне за то, что я вырастила ее, стирала пеленки, не спала ночами? Так? Ты всегда был эгоистом, думал только…..
Жара. Мой отпуск закончился, и началось лето.
Прямая и безусловная причинно-следственная связь.
Я снял себе отдельную квартиру.
Соврал Машке, что Она мне все-таки позвонила.
Живу.
Иногда мне кажется, что смотрю сон.
2003 год
Гость
Он пришел после полудня. Вызвонил меня в домофон, назвал мое имя, кашлял и морщился в загаженном подъезде, пока я рассматривал его через глазок. Вошел внутрь, тщательно вытер стоптанные остроносые сапоги о коврик, сел на галошницу в прихожей. Прикрыл глаза. Коричневый плащ разошелся на коленях, открывая залатанные штаны. Поля шляпы сломались о настенное зеркало за спиной. Пальцы застыли на отполированном яблоневом суку. В бороде запутались лепестки шиповника. Какой шиповник в октябре?
— Одно желание, — проговорил он глухо.
— Какое желание? — не понял я. — Кто вы?
— Одно, — пальцы чуть дрогнули. — Только одно и для себя. У меня мало времени.
— Подождите! — я начал волноваться. — О чем вы говорите?
— Одно желание, — повторил гость.
— Любое? — мне было смешно и страшно одновременно.
— Желание! — повторил он громче. Пальцы скользнули по дереву.
— Вы ко всем приходите? — растерялся я.
— Ко всем, — он приготовился встать.
— Так почему же… — я неопределенно повел головой в сторону подъезда, обернулся к окну, пожал плечами.
— Не все слышат звонок, — он по-прежнему не смотрел на меня. — Не все открывают. Не все видят.
— Подождите! — я начал лихорадочно соображать.
— Никакой платы, — он сделал ударение на слове «никакой». — Одно желание!
— Но… — в голове замелькали дети, жена, мама, соседка с больным ребенком.
— Только для себя! — поднялся гость.
— Кто вы?
— Одно желание!
— Вы все можете? — спросил я. — Тогда определите сами, чего я хочу.
У него были желтые глаза. Как у тигра. Он посмотрел на меня, кивнул и ушел. И ничего не изменилось. Ни тогда. Ни через год. Ни теперь. Но я о нем помню.
2009 год
Настояно на спирту:
Томик
— Тамара!
Чуть вздернутый подбородок, чуть прикрытые глаза. Ресницы удлиненны чем-то черным и шероховатым, покрыты как крылья бабочки пыльцой, не тронь, а то не полетит. За ними тьмою блестят зрачки. Колькин приятель подбирает живот, хлопает по карману, где лежит расческа, которая славно фыркает и визжит, когда он продувает ее после безуспешной попытки пригладить волнистые вихры.
— Василий, — хрипло заменяет он всегдашнее «Вася» и смотрит на протянутую руку. Тонкие пальцы девушки вытянуты и чуть расслаблены, словно между черной кожанкой Васьки и белой вязаной кофточкой Тамары вот-вот должна материализоваться арфа.
— Лопух, — коротко шипит Колька и, не дав парню опомниться, подхватывает Тамару под локоть. — Сюда, Томик. Васька! За руль! Или я твою машину поведу?
Колькина Машка ждет компанию в ресторане. Васька пару раз едва не проезжает на красный цвет, держится скованно, то и дело зыркает в зеркало и без нужды хватается за рычаг коробки передач.
— Спокойно! — уже на парковке щекочет ему ухо усами Колька. — Обычная телка, только с выкидоном. Подыграй!
— Я что, руку ей должен целовать? — все-таки достает расческу Васька.
— А что? — щурится Колька. — И не только руку.
Тамара стоит в светлом проеме входа. Ждет. Черная юбка — белая кофта. Черные сапоги — белая сумочка. Черные волосы — белое лицо. Только губы красные. И где-то там зрачки между ресниц.
— Красиво стоит, — причмокивает Колька.
Васька прячет расческу в карман и прокашливается.
— Ну? — рядом с Тамарой появляется цветной шарик толстушки Машки. — И долго я должна ждать?
— Пошли! — хлопает по спине Ваську Колька.
Уже ночью Колька инструктирует приятеля:
— Всегда открывай ей двери. Дверь машины, подъезда, квартиры. Не откроешь, будет стоять, как дура, и ждать. А в остальном — нормальная баба, насчет фигуры моей Машке так вообще сто очков форы даст! А руку целовать не обязательно, ты не подтормаживай, главное. Будь проще! Понял?
— Куда уж проще? — тоскливо бормочет Васька. За темным стеклом девятки сидит стройная девушка в черно-белой одежде. Она смотрит ровно перед собой и вообще похожа на механическое существо.
— Интересно, получится что, или нет? — закуривает Колька, когда девятка скрывается за поворотом.
— Ты про кого сейчас? — спрашивает Машка, прижимаясь к другу.
— Про себя! — ржет Колька.
— Обычная баба, — бубнит Васька через месяц.
— Все они одинаковые, — с готовностью поддерживает разговор Колька.
— Двадцать два уже, преподает английский, стройная и ухватиться есть за что, — продолжает Васька.
— Наверное, — осторожно поддакивает Колька, который уже знает через Машку от ее подруги, что Васька сопит в постели, боится есть в присутствии Тамары, потому что не умеет управляться с ножом и вилкой, и пугается ее родителей.
— Предки нормальные, — добавляет Васька. — Батя — бывший мент, все время на даче. Мамка — детский врач. Ест все время, а не толстеет. Значит, и Тамара не потолстеет.
— Ага! — оживляется Колька. — Это тебе не моя Машка, по килограмму прибавляет на каждый укус! Ты чего скис? Боишься, что не прокормишь?
— Нет… — мнется Васька. — Не тот я, понимаешь?
— Нет пока, — хмурится Колька. — Двери что ли задолбался перед нею открывать?
— Да плевал я на двери! — машет рукой Васька. — Перед такой можно и пооткрывать, не переломился бы. Не тот я! Она смотрит на меня своими глазищами, а видит не меня!
— А кого же? — не понимает Колька. — У нее, правда, зрение так себе, очки раньше носила, но так она ж в линзах!
— А! — кривится Васька и хлопает дверью.
Через месяц он женится на другой подружке Машки, такой же округлой и веселой, прибавляющей по килограмму от каждого укуса.
Тамара выйдет замуж через пару лет. Очарует несуществующей арфой темноволосого красавца в дорогом костюме. Не говоря лишних слов, поблескивая зрачками, уведет его от жены и маленькой дочки. Да не просто так уведет, а вместе с квартирой, машиной и сытной должностью на государственной службе. Уведет, да не удержит. И сына ему родит, и улыбаться научится, и брови вскидывать на каждое его слово, а все одно — не удержит, словно выдала ему какой-то секрет, который знать тому не следовало никак. Потом снова найдет кого-то, опять потеряет, словно каждый следующий ее мужчина рано или поздно примется мстить за предыдущего. Так и будет сверкать зрачками, пока вдруг не столкнется у магазина с Васькой. Тот откроет дверь дорогой машины, сунет на заднее сиденье пакеты с покупками, оглянется и зажмурится, онемеет, примется ерошить ежик уже тронутых сединой волос. Она окажется все той же, не изменится нисколько, разве только не протянет ему руку, а просто подойдет, прильнет, прижмется, запустит руки под полы пиджака, втянет тонкими ноздрями запах дорогого одеколона, заплачет тихо и безнадежно.
Васька вывезет ее за город, остановит машину в березовом перелеске и, откинув сиденье, помолодев на пятнадцать лет, станет наслаждаться ее телом, на которое не действуют ни сладости, ни годы. Тамара будет улыбаться и с закрытыми глазами, и с открытыми, и даже позволит себе пискнуть несколько раз, и соединить на крепкой Васькиной спине не только руки, но и ноги. А когда он подъедет к ее дому, чтобы она смогла переодеться, и уже станет прикидывать, что жена вернется с юга только через неделю, сын у бабки, и что все у него как-то в жизни на самом деле наперекосяк, и может еще измениться к лучшему, потому как все Васькино нутро будет захлестывать какая-то то ли музыка, то ли почти уже забытый хмель, она остановится у дверей подъезда.
За секунды перед этим Васька выпустит ее из машины, чуть ли не возьмет на руки, поцелует и, прошептав на ухо, — давай быстрее, — будет поправлять разбросанные по салону пакеты, как вдруг она остановится у подъезда. Остановится и будет ждать. Ждать, что Васька метнется к ней и откроет дверь. Васька вытрет со лба пробивший его холодный пот, покачает головой, сядет за руль и уедет.
2009 год
Ничего
— Можно я тебя поцелую?
Валька смотрит на Серегу удивленно. Он знаком с ее мужем. Васька отличный парень. А Серега так себе. Точнее, он хороший, но непутевый. Не однажды она промывала ему косточки с Иринкой, женой его, своей лучшей подругой. Однако занес ее черт к нему в мастерскую, не могла сама, что ли сходить Иринка за шампурами. Вот они, в руке у Сереги. Он высокий, смотрит на нее сверху, и она не маленькая, но вынуждена поднимать голову, чтобы широко раскрытыми глазами изображать удивление и выдерживать паузу, которая ничего кроме — «Да! Да! Да! Да!» обозначать не может.
Неужели вино ударило в голову?
Ничего нет в Вальке особенного. Только губы. Еще года два назад, когда Васька позвал их с Иринкой на день рождения, и Валька суетилась в тесной прихожей, принимая куртки, раздавая стоптанные тапки и встречая каждого гостя торопливым чмоканьем, Серега столкнулся с уголком ее рта. С ее губами. Они оказались мягкими и податливыми. В уголке ее рта оказалось больше нежности, чем во всей пышущей страстью спортивной Иринке. Впрочем, он не сравнивал. Он не сравнивает. Он просто едва не захлебнулся. Сердце оторвалось и упало. Никакой любви. Никакого увлечения. Ничего. Только жажда. Голод. По этому уголку рта. По мягкости и беззащитности, смешанной со встречной жаждой. Поэтому так отчаянно и вдруг это: — Можно я тебя поцелую?
И пусть потом рука скользнула по груди и бедру, главным остались губы. Разве напьешься за три секунды? Голос Васьки в коридоре. Помада к губам. Серега к машине. Нырнул под днище, проглотил, запомнил вкус. Замер, задыхаясь.
— Ну, где вы там?
— Да здесь мы! Серега, ну ты найдешь шампуры или нет?
— Ну, вы даете, шампуры под машиной прячете!
Ушли. Надо вылезать, мыть руки, сбрасывать робу и в сад, где играет музыка, дымятся угли, и Васька не замечает, какие губы у его жены.
Ничего нет в Сереге особенного. Только голод в глазах. Обжигающее желание. Именно к ней, не к кому-то. За всю вечеринку один взгляд бросит — хватит. Васька так не смотрит. Куда она денется, вся своя, домашняя. Даже если он будет приходить поздно, еще позднее, когда не только сын, но сама она не выдерживает, клюет носом. И все у него проблемы, то спина болит, то вымотался на работе, то не до нее сейчас. И запахи витают в прихожей. Чужие запахи. То сладкие, то прозрачные, то терпкие. Убила бы, если бы не верила ему. Если бы не боялась одна остаться.
Года два прошло. Ничего не было. Только шепот горячий на шумной вечеринке в ответ на Серегино молчание; — «Да ты что, она подруга моя, понимаешь?» Потом как-то засиделись за полночь, не все Иринке по подружкам мотаться, надо и дома девичник устроить. Серега не успел масло с рук смыть, жена загрузила девчонок на заднее сиденье, попросила развезти. У Валькиного дома Серега остановился последним. Посмотрел молча. Не попросил разрешения. Ждал. Валька вдруг изменилась в лице. Хлопнула ресницами. Наклонилась. Подалась вперед. Плечами, руками, грудью, всем телом. Подставила губы. Чашей обратилась. Бездонной и мягкой. Выскочила из машины через минуту, смахнула что-то с лица и побежала домой.
И еще год. Пробежал, как страница книжная прошелестел. Только окна в квартире заклеивали, и вот уже к новой зиме готовься. Никаких перемен в жизни, только за спиной все больше и больше, тяжелее тащить. И в душе ничего. Только дети, заботы, дети и заботы. Дружба, что любовью прикидывалась, дружбой и оказалась. И то хорошо. Радости невыдуманные лучше фальшивых. А уж угадывать, что там в уголках губ таится, себе дороже. Правда, она штука колючая. Пусть себе растет у забора. Обходить ее надо. С ней не уживешься. С мечтой проще. Она как фонарь у чужого крыльца. Не тебе повешен, а споткнуться и тебе не дает. Или наоборот. Если засмотришься. Кто бы знал, как можно сладостный кусочек жизни от поцелуя до первой близости на столько лет растянуть.
Холод на холод. Привычка на привычку. Взгляд на взгляд. Так жизнь и проходит.
2005 год
Его стекла черны
Старость притаилась в уголках ее глаз. Изогнулась в предчувствии прыжка. Оперлась перепончатыми лапками о скулы. Вздрогнула от улыбки, но не исчезла, удержалась, вцепившись в кожу мертвой хваткой. С каждым днем она будет становиться сильнее. Однажды ей уже не придется прыгать. Она зарубцуется однозначной клинописью по живому. Обратится каплею масла, что пропитывает страницы книги, не высыхая, пока не достигнет обложки. Однажды она победит.
— Ну, чего ты хотел?
Сашка смеется. Я смахиваю с ее лица старость как паутину, смеюсь в ответ.
— Может быть, кого?
— Кого?
Она продолжает улыбаться, но это не улыбка. Это эхо. Она отворачивается и смотрит в боковое стекло машины. Там за нашими спинами не уезжает автомобиль, на котором она приехала. Его стекла черны. Наши тоже.
Я наклоняюсь к ней, но Сашка отстраняется. На миллиметр. На чудовищно длинный миллиметр. Длиной в половину жизни, в которой я виделся с Сашкой каждый месяц, каждый сезон, каждый год или полгода, чтобы задыхаться от присутствия друг друга. Мне по-прежнему не хватает воздуха, а она смотрит на меня с интересом.
— Когда мы виделись в последний раз?
— Осенью. Или прошлой весной?
— Год прошел.
Смотрит. Улыбается.
— Как семья, муж?
— Все хорошо, — она действительно улыбается.
— Что случилось?
— Случилось.
Она опять улыбается. Мне не нравится ее улыбка. Но еще больше не нравятся следующие слова.
— Я влюбилась.
— В кого?
— В хорошего человека.
— А как же муж?
— А как же был ты?
Я — был. Теперь я понимаю. Она счастлива. Это кажется странным. Я никогда не видел ее счастливой. И источник ее счастья сидит за нашими спинами. В том автомобиле. Его стекла черны.
Я ищу в себе радость. Кажется, это удается. Моя радость холодная, но честная. Я говорю какие-то слова. О том, как я рад за нее. Она верит. О том, что мне всегда было хорошо с Сашкой. Она верит. Даже, когда я ее предавал. Она знает. На самом деле я предавал сам себя. О том, что когда я хотел вспомнить что-то хорошее, я вспоминал Сашку. О том, что не хватало мне всегда именно Сашки. Она наклоняется и шепчет:
— Я не что-то, а кто-то.
Я беру ее ладонь и начинаю целовать пальцы. Она ждет, когда я напьюсь. Потом уходит. Оставляет мне свою старость. Только той не находится места на лице и она пробирается в сердце. Я опускаю стекло и сплевываю на асфальт. Справимся, чего уж там. Сзади хлопает дверца, звучит мотор и мимо проезжает автомобиль. Его стекла черны.
Вот и все. Она права, конечно. Я действительно не имел право на это счастье. Я недостаточно хотел этого счастья. Я ничего не сделал, чтобы оно не ускользнуло от меня. Только одно оправдывает меня. Теперь я остался один. Тысячи раз расставался, но впервые остался один.
Ерунда какая.
Я копаю колодец. Вода все ближе. Но небо все дальше. Скоро оно исчезнет вовсе.
Отчего мне кажется, что ей больнее, чем мне?
2005 год
Не исчезай
Это была его любимая фраза. Она хорошо звучала, когда, расставаясь с женщиной, он проводил рукой по ее волосам, закидывал их назад, касался пальцами щеки, смотрел на нее добрыми глазами. И говорил мягким голосом волшебные слова: «Ну, пока. Не исчезай, хорошо?» И женщина, та, к которой он обращался, вероятно, чувствовала себя счастливой, поскольку эта просьба, «не исчезать», предполагала какое-то таинственное, неведомое ей право распоряжаться собственной судьбой. Хотя бы в таких приятных мелочах, как легкое и захватывающее любовное приключение с необязательным представителем мужского пола.
Он очень любил музыку. В карманах у него всегда лежали две или три кассеты. Потом, позже это были компакт диски. Но не подборки так называемой эротической музыки. Это была настоящая музыка. Благодаря ему женщина узнала, что существует настоящая музыка. Оказалось, что она существовала и раньше, и даже залетала иногда в ее уши, но женщина не могла ее приручить. Он помог и с этим. И теперь приносимая им музыка как кошка сворачивалась в ее кресле, раскачивалась на люстре, и иногда оставалась на ночь. И если музыка исчезала, это значило, что исчезал и он. Он был для нее первым звуковым фильмом после эры немого кино. Немого и черно-белого.
Он никогда не звонил сам, но когда, не выдержав долгой разлуки, она набирала его номер, удивительным образом оказывалось, что это он хотел услышать ее голос. Это он устал от затянувшегося расставания. Это он набрал ее номер, а она только случайно взяла трубку. И он приезжал, прибегал, приходил. И приносил с собой музыку. И музыка вновь лежала в кресле, качалась на люстре и иногда оставалась на ночь. А потом он гладил ее волосы, смотрел на нее добрыми глазами и говорил мягким голосом эти волшебные слова: «Ну, пока. Не исчезай, хорошо?» «Хорошо», — соглашалась она.
Он никогда не называл ее по имени. Конечно, она хотела этого. Но только потому, что ее имя было еще одной клавишей, нажав на которую, он мог бы извлечь из нее какие-то новые ощущения и что-то новое почувствовать сам. Но это не было главным. Главными оставались слова: «Не исчезай», — потому что это было то самое единственное, что она могла и хотела сделать сама с собой. Не исчезнуть. Быть. Ждать.
Когда он уходил, и следы принесенной им музыки таяли в воздухе, она чувствовала удивление. Ведь в нем не было ничего особенного. Он не казался выше, сильнее, умнее, нежнее легионов ему подобных. Все, что у него было, это чудесная фраза: «Не исчезай» и удивительная способность совпадения и угадывания. Он открывал дверь, запускал в комнату музыку и собирал ее, женщину, как причудливые пазлы, каждый раз воссоздавая восхитительные образы. Он не строил для нее пьедестал. Он сам становился ее пьедесталом. И удерживал ее на нем. Губами. До того мгновения, когда приходило время провести рукой по ее волосам и сказать все те же замечательные слова: «Не исчезай». И оставить ее одну. Сидеть в пустом кресле, согретом музыкой, и смотреть на раскачивающуюся люстру.
Любил ли он ее? Это было не важно. Он сам был любовью. Идеальным зеркалом для ее чувств. Сливаясь с ней, он исчезал. Растворялся. У него даже не было запаха. Когда она находила в темноте его губы, она чувствовала только собственный запах. Главное, что у него был голос. Хотя он и произносил всегда одну и ту же фразу: «Не исчезай!».
Все закончилось вдруг. Он попал под машину. Постоянная задумчивость, в конце концов, его убила. Она стояла на обочине и видела его тело с раскинутыми руками. Рассыпанные цветы, которые, он, должно быть, нес ей. Ботинки, которые почему-то валялись носками внутрь отдельно от тела. Одна брючина задралась, и она с ужасом разглядела, что у него тонкие волосатые ноги. И дырявый носок на правой ноге. И раздражение после бритья на мертвой щеке. И засаленные на сгибах рукава пиджака. И редеющие волосы на затылке. Его музыка валялась тут же. И другие мужчины ходили по ней, давили ее каблуками, не слыша.
Она пришла домой. Включила телевизор. Позвонила подружке. Почитала книжку. Съела яблоко. Полежала в ванной. Нырнула в мягкое полотенце. Вытерла голову. Покрыла тело кремом. Легла в постель. Натянула до подбородка одеяло. Согнула ноги. Коснулась ладонью лона. И заплакала.
На кладбище, таких как она, оказалось несколько человек. Наверное, десятка два. Они стояли на всхолмленном пустыре как флажки для игры в гольф. Клюшки для гольфа волокла его жена с тремя детьми. У нее были морщины под глазами. Тонкие губы. Сухие руки. Черный платок. Слез у нее не было.
«Не исчезай», — прошептала она за спину его жене. Положила цветы на чью-то могилу. Села в автобус. Доехала до своей улицы. Подошла к своему дому. Поднялась на свой этаж. На коврике у двери ее ждала музыка. Она открыла дверь и впустила ее внутрь.
30.09.2003
По секрету
Она извивалась, касаясь сосками живота, целовала шею, шрам на предплечье, покусывала грудь, а он отстраненно ждал, когда губы найдут главное. Хотя и этого ему не очень хотелось.
Где-то в кружевных занавесях запуталась и раздраженно забилась муха. Отпечатанные солнечными лучами цветы задрожали на смуглой коже, и только что казавшееся мертвым застывшее бедро ожило. Он плавно поднялся, положил ладони на узкие плечи, мягко отстранил ее от себя, развернул и погрузился в нее губами. Она замерла. Сейчас.
— Хочешь, я помассирую тебе плечи?
Она подошла сзади, сжала холодными сухими ладонями уши, скользнула по щекам, шее, забралась в ворот рубашки.
— Нет.
Он отложил сигарету, перехватил ее кисть. Нежно, как ему показалось.
— Ты же знаешь, я не возбуждаюсь от прикосновений к телу. В лучшем случае мне будет щекотно.
— Пока кто-то не докажет тебе обратное.
Она научилась не обижаться. Или от частого применения ее обида обесценилась. Стала бледной и ношеной. Не важной.
— Перестань.
Даже легкое напряжение в отношениях нарушало комфорт, казалось невыносимым. Он поймал ее за руку, потянул к себе. Взял на руки. На ней была его рубашка. Она доходила почти до щиколоток, скрывая тело. Он провел ладонью от плеча вниз, поймал грудь. Замер, улавливая волшебное ощущение струящейся между телом и рукой тонкой ткани. Скользнул к бедру. Приподнял ее в воздух, посадил на ладонь, прижал щекой к плечу, поставил на колени, собрал складками рубашку на бедрах, коснулся мягкого. Сейчас рубашка намокнет под пальцами. Он опрокинет ее на постель, раскроет как раковину, найдет языком чудесную складку в том месте, где нога становится ягодицей. И только потом, почти доведя до бесчувствия, войдет в нее.
— Почему ты приходишь ко мне?
Она лежала рядом и водила по его телу пальцем. От переносицы вниз, очерчивала легкую горбинку носа, хлопала чуть оттопыренной губой, осязала шершавость подбородка и ребристость гортани, огибала ямочку между ключицами, очерчивала середину груди, скользила по животу, зарывалась ладонью в промежность и устремлялась обратно. Он перехватил руку, стал покусывать пальцы.
— Ты не ответил.
— Ты знаешь все мои ответы. Просто я хочу тебя. Мне хорошо с тобой.
— Я ничем не лучше остальных.
— Лучше. Ты умеешь прижиматься всем телом. Ты умеешь быть стыдливой. Тебе тоже хорошо со мной, и все же нужно не это. Тебе нужен я. Даже если я буду ни на что не годен. А мне нужны эти твои ощущения. С тобой я честен, как ни с кем.
— Честен?
— Честен, как ни с кем. Но не циничен, заметь.
Она улыбнулась в ответ на не прозвучавшую улыбку.
— Знаешь, я уже привыкла к твоей жестокости, но все еще не могу привыкнуть к тебе самому.
— Ну вот. Ты сама знаешь ответ.
Он оделся. Она тоже натянула джинсы. Застегнула на груди кофточку, подошла к нему на выходе из комнаты. На выходе из квартиры, где несколько раз в год так поливала чужие цветы. Обхватила за шею. Приподнялась на носках. Ткнулась губами в подбородок. Замерла. Он поймал ее губы, язык. Положил руку на живот, опустил ладонь вниз, под резинку, коснулся лона. Она чуть раздвинула ноги, чтобы его пальцы легли снизу, захватили все. Он выпустил губы, взглянул в раскрытые глаза, поймал застежку ремня и, не отрывая взгляда, развернул, перекинул через диванный валик. Она пыталась смотреть, но почти сразу отвернулась, опустила голову, поникла, задрожала, замерла, изогнулась, затихла.
Однажды она спросила его, что он ищет в женщине. Что его привлекает в женщине. В любой женщине. Которую он видит на экране, на обложке журнала, на сцене, на улице, на пляже, в метро, в постели.
— То, что есть в тебе, — попытался он пошутить.
Она прижала ладонь к его губам, качнула головой и спросила еще раз.
Он задумался. Потом потер ладонями лицо, пряча зевок, моргнул повлажневшими глазами.
— Многое. Линии. Плавные изгибающиеся линии. Линии бедра, спины, руки, щеки. Линии, которые пересекаются. Сходятся и расходятся. Места их соединений напоминают устья, в которых собирается влага. Вот ее я и ищу. Чтобы пить. Но не только. Округлости. Округлости груди. Ушной раковины. Запах. Запах кожи. Запах улицы в волосах. Запах мяты на губах. Легкий прозрачный запах свежего пота. Запах желания.
— Это все?
— Этого мало? — он задумался. Она смотрела с ожиданием. С нервным ожиданием, прикусив губу. Смешно выглядела. Голая. С покрасневшей полоской от тугого ремня на талии. С белыми полосками на плечах и бедрах от купальника. Маленькая и жалкая. Он положил ладонь ей на бедро. Привлек к себе, прижался лицом к груди.
— Не знаю.
Солгал.
Ты же знаешь, я не возбуждаюсь от прикосновений к телу. В лучшем случае мне бывает щекотно. Я возбуждаюсь только от тебя. От твоего тела, когда его плавные изгибы растворяются в темноте. От дрожи, которой ты отзываешься на каждое прикосновение. От твоего ожидания. От твоего голоса в телефонной трубке раз в месяц. От твоего молчания. От гладкости твоей кожи под языком. От светлого пушка на твоей шее. От морщинок под глазами. От воспоминаний, связанных с тобой. Но не пытайся ласкать меня. Я сделаю все сам. Я не стесняюсь. Просто я не могу погрузиться в свои ощущения. Я должен погружаться в твои. Вероятно, они более отчетливы, резки, вкусны. Да. Вот такая странная степень эгоизма. Ты чувствуешь себя обделенной? Что ж. Вероятно это болезнь. Но ведь не уродство какое-нибудь? Тебе это мешает? Забудь. Расслабься. Получай удовольствие. Со мной все в порядке. Не думай об этом. Не думай ни о чем. Вообще не думай. Я же не думаю. Почти. Просто я так и не встретил никого, к кому мне бы захотелось бежать, пробивая головой стены. С кем бы мне захотелось остаться до утра. Хорошо, что ты меня не слышишь. Впрочем, ты знаешь. Ты все знаешь сама. И то, почему я не возбуждаюсь от прикосновений к телу.
— Как будем стричь?
Он взглянул на себя в зеркало. Женщина-парикмахер смотрела на него устало, но доброжелательно. Постоянный клиент. Постоянные чаевые. Молчаливый, но спокойный.
— Как всегда. Коротко.
— Знаете что, — она вдруг решительно откатила кресло в сторону, — сегодня я помою вам голову. И не спорьте со мной. Я лучше знаю.
Она аккуратно сжала ладонями виски, наклонила его назад. Он почувствовал, как фаянс раковины коснулся шеи. Она накрыла рубашку полотенцем, включила воду, намочила волосы. Погрузила в них пальцы. Нежно провела по коже. От висков к затылку, за уши. Выдавила на ладонь гель, стала массировать. Спокойно. Без вздрагивания и придыхания. Не торопясь, нежно и аккуратно. Не оставляя без прикосновения ни одной точки. Очень нежно.
— Вы плачете?
— Нет. Что вы? Это капелька воды скатилась со лба. Могу я вас попросить еще раз намылить мне голову?
Январь 2004
Слезы
Лика была такая смешная.
Нет, конечно, она не вызывала смеха и вызвать не могла. Вызвать она могла только слезы. Над чем смеяться? Метр пятьдесят трогательной наивности, рыжая непутевость с конопушками и тридцать четвертым размером ноги. Зато сама она смеялась без конца.
Когда Лика только родилась и еще не знала, что, скорее всего, будет не Настей, Наташей или Мариной, а именно Ликой, она не заплакала от профессионального шлепка акушерки, а засмеялась.
Так и пошло. Когда ей было плохо, она не плакала, а смеялась, пока не закатывалась в истерике. К счастью до истерики почти никогда не доходило, родители ее очень любили, хотя и не баловали, и дело всякий раз ограничивалось смехом.
Она смеялась, когда бежала в первый класс, споткнулась и в чистом платье и белом фартучке угодила в лужу.
Смеялась, если ей изредка случалось ляпнуть у доски что-то невпопад, и над ней начинал смеяться весь класс.
Смеялась из-за того, что ее веселость непостижимым образом именно к ней в первую очередь начала привлекать внимание созревающих мальчишек.
Смеялась, когда подружки пытались допытываться, девочка ли она все еще или уже нет.
Смеялась, когда ударила по щеке классного верзилу за развязное лапанье ее груди и получила от него кулаком в лицо. Ей ли ломаться с такой внешностью? Ну, как тут не посмеяться, все же сломанный нос не самая дорогая плата за уважение.
Громче всех смеялась, когда пришла в школу на вечер встречи с выпускниками и единственной из всех девчонок оказалась немедленно узнанной и расцелованной.
Смеялась, когда директор фирмы, в которой она работала, выговаривал ей за непрезентабельный вид, не понимая, что за ту зарплату, что он ей платит, она может без проблем поддерживать только собственную стройность.
Смеялась, когда первый ее мужчина растерялся, обнаружив, что он действительно первый.
Смеялась, когда ее не первый мужчина морщился утром, пытаясь вспомнить ее имя.
Смеялась, когда впервые услышала признание в любви.
Смеялась, когда вышла замуж, потому что не любила своего жениха.
Смеялась, когда родила крепкого мальчишку, и тот, вместо того, чтобы засмеяться, заплакал по всем канонам.
Смеялась, когда ей исполнилось тридцать.
Смеялась, когда ей исполнилось тридцать пять.
Смеялась, когда ей исполнилось сорок.
Смеялась, когда влюбилась в парня на двадцать лет ее младше.
Счастливо смеялась, когда он шептал ей какие-то глупости, когда он ласкал ее, когда он первым обнаружил, какая она на самом деле — стройная, идеально сложенная, с тридцать четвертым размером ноги, гибкая как дикий зверек в свои сорок с небольшим.
Смеялась перед каждой редкой встречей с ним и после нее.
Смеялась, когда он вдруг перестал звонить.
Смеялась, когда вдруг поняла, что он не позвонит больше никогда.
Смеялась, сидя у зеркала и рассматривая морщины на лице.
Смеялась, когда поняла, что лучшее в ее жизни обдало жаром, захлестнуло и пролетело без остатка.
Смеялась, когда наглоталась таблеток, сладко уснула и к собственному сожалению очнулась в больнице.
Смеялась, когда увидела непонимающее лицо мужа и обиженное лицо сына.
Смеялась, когда нужно было плакать.
Она смеялась так заразительно, что волей неволей начинали смеяться ее близкие и дальние родственники, подружки, друзья, сослуживцы, знакомые, едва знакомые, незнакомые вовсе.
Безудержно смеяться.
До слез.
А что делать?
2005 год
Моралите
— Учитесь лгать, дорогой мой.
— Зачем мне это?
— Пригодится. Это так замечательно, уметь лгать. Это почти тоже самое, что уметь летать.
— Вы так считаете?
— А вы попробуйте. Солгите мне что-нибудь.
— Например?
— Ну, скажите, что вы меня любите.
— Мне кажется, что я вас на самом деле люблю.
— Ну? Вот видите? У вас получилось. Чувствуете крылья?
— Вы знаете правила лжи?
— Откуда же?
— Помилуйте. Всякий приличный человек должен знать правила лжи.
— Я не люблю учить правила.
— Их не нужно учить. Их нужно почувствовать один раз и все. Этого достаточно.
— Сколько этих правил?
— Я знаю три.
— Перечислите.
— Первое правило — никогда не лгите хором.
— Почему же?
— Петь в хоре — это неприлично.
— Второе правило?
— Никогда не мешайте ложь с правдой.
— Но ведь ложь только выигрывает от этого?
— Зато проигрывает правда. Правда — суть скоропортящаяся. Смешанная с каплею лжи она не только исчезает без следа, но, даже будучи восстановленной, все равно остается грязна.
— Боже, странно слышать столько заботы о правде в устах апологета лжи.
— Нужно заботиться о враждебном, чтобы оставаться во всеоружии. Не мешайте ложь с правдой. Кроме всего прочего, вы рискуете разучиться их различать.
— Вы думаете, я умею их различать сейчас?
— Учитесь. Эта наука на каждый день.
— А третье правило?
— Никогда не лгите самому себе.
— Мне это не нравится.
— Лгать?
— Нет. Думать, что вы мне лжете.
— Не думайте.
— Совсем?
— Не думайте, что я лгу. Вам сразу станет легче. Перестаньте бояться. Вы боитесь даже собственных чувств. Вчера мы сидели с вами в кинозале, и, как я заметила, вы пару раз не сдержали слез. Солгите, и ваше неудобство исчезнет.
— Простите. Я слишком чувствителен.
— Вы плакали над ложью.
— Мне так не кажется.
— Но ведь там все было выдумано до последнего слова и жеста. Я даже предполагаю, что и слезы на экране были не настоящими.
— А мои слезы?
— Вы хотите сказать, что ложь способна произвести на свет правду?
— Я бы предпочел вообще не лгать.
— Разве вы музыка?
— Как это понять?
— Музыка не лжет. Если она лжет, она мгновенно перестает быть музыкой. Обращается какофонией. Превращается в сумбур или в обманку. В дешевый пластик.
— А человек?
Она учит меня лжи. Смешная. Будь что будет. Задумываться будем с утра, но не этим утром, а следующим, или еще позже, когда жажда иссякнет. А пока пусть лжет. Пусть думает, что она лжет. Я ведь не слушаю слова, только голос. А он искренен, особенно когда начинает дрожать. Мне нравится эта игра. В независимость, в то, что она якобы ведет в танце, что она придумывает желания, в том числе и мои. Не нравится только одно, когда мы расстаемся, пусть и ненадолго, я смотрю ей вслед, а она никогда не оборачивается.
Он так смешон. Ищет слова там, где нужны жесты. Пытается обойтись прикосновением там, где необходимы слова. Сопит, когда нужно дышать. Лижет, когда нужно целовать. Все воспринимает буквально и в то же время не верит ни одному моему слову. Неужели ему неясно, что черный цвет нужен для того, чтобы различить белый. Вымазаться в грязи следует, чтобы оценить чистоту. Отказывать себе в лишнем глотке влаги необходимо, чтобы не забыть манящее ощущение жажды. Лгать, чтобы не привыкнуть к правде. Чтобы не обмануться. В который раз. Он так смешон. Стоит и каждый раз смотрит, как я удаляюсь. Смотрит, не отрываясь, не давая возможности оглянуться мне.
2005 год
Неотправленное
В который раз уже переписываю это письмо. Только уже не боюсь показаться сентиментальным. Хотя продолжаю выкручивать регулятор пафоса. И убиваю восклицательные знаки. Ни к чему повышать голос. Так что просто — привет, Светка. Ничего, что я тебя так называю? Мы не виделись двадцать лет. Или уже тридцать? Почему я думаю, что ты меня помнишь? Потому что я помню все? Да, имена и обстоятельства выветриваются из памяти, но главное остается. Видишь, я даже помню твое имя. А если поискать старые телефонники, то вспомню и фамилию. Бог ее знает, что стало с той твоей старой фамилией. Что стало с тобой. Ты была старше меня года на три. Тогда это казалось пропастью. Теперь мы ровесники. Теперь мне было бы проще говорить с тобой. Я бы уже не старался тебе понравиться. Но говорить, наверное, нужно было тогда. Извини, что я так и не позвонил. Один раз я все-таки набрал номер, но телефон взял кто-то другой, и я ничего не смог сказать. Положил трубку. Бог лишает дара речи во благо. Благодаря моему молчанию мироздание не поколебалось. Моя маленькая личная вселенная осталась незыблемой. На тот момент. Да и ляпни я что-нибудь, все равно ничего бы не изменилось. Да и что бы я мог сказать? Привет, как дела? Пустое. Тем более — я звонил не для того, чтобы узнать, как твои дела. Пожалуй, я звонил, чтобы рассказать о себе. О том, как мне плохо. О пустоте, в которой я оказался в очередной раз. Мне нужно было эхо. Я бы слушал его и представлял тебя.
Ты помнишь? Длинные и узкие коридоры? Дешевую мебель? Пыльный кинозал? Потертый линолеум на тогдашнем «танцполе»? Сумасшедшие зимние студенческие каникулы? Ты замечательно танцевала. А когда села к роялю и легко пробежала пальцами по клавишам, я чуть не задохнулся. А потом мы сидели у тебя в номере, и ты рассказывала о том мужчине с тонкими пальцами, который извлекал удивительные звуки из гитары, и который ходил за тобой и за мной этими узкими коридорами. Или сидел в твоем номере частью какой-то компании и смотрел на тебя обожающими глазами. Он был похож на грустного и худого тюленя. Он хотел быть с тобой. А ты отчего-то нет.
Почему ты это рассказывала мне? Иногда замирала, придерживая ладонь на левой груди. Глотала какие-то таблетки. Зачем мне девчонка с больным сердцем, которая еще и старше меня на три года, думал я тогда. Я был правильным и трезвым. Но старался казаться влюбленным. Куда она делась, та моя трезвость? Наверное, туда же, куда и влюбленность, и молодость. Почему я столько лет не могу выбросить тебя из головы? Что мешает мне окончательно стереть из памяти твой силуэт? Ведь я не поцеловал тебя ни разу. За целую неделю общения. Самую глупую неделю в моей жизни. Незабываемую неделю. Всю эту неделю я не только слушал тебя, я и сам рассказывал тебе о своей любви к другой девчонке, которую, как показало время, выдумал. Не девчонку, любовь. Рассказывал об ожиданиях и надеждах. Старательно готовил себя к предстоящим склокам и раздраям. Нагонял в будущее туман.
Ты слушала и улыбалась. А потом, в последний день наклонилась ко мне и спросила. Ты спросила, буду ли я столь же стоек, если ты разденешься. И ты была готова раздеться. Почему же ты не сделала этого? Натолкнулась на мой взгляд? Почему? Ведь ты могла спасти меня.
Юность глупа и жестока. Мимолетные влюбленности кажутся достаточными для долгой и счастливой жизни. Подлинное нерасчетливо обращается в мимолетность. Разменивается на ерунду. Где та моя вечная любовь, которой я хвалился перед тобой? Где теперь я? И где ты? Как бы я хотел снова увидеть тебя. Не для того, чтобы исправить то, что исправить уже нельзя. Нет. Просто любопытно.
2003 год
Пожалей себя
Пожалей себя. Ночью, когда ребенок уснет, свернись калачиком, подтяни колени к груди, закрой глаза, поплачь чуть слышно. Если слез не найдется, вспомни что-нибудь. Обиды, стертые и свежие. Удачливых соперниц, которые ничем не лучше тебя. Несчастных подруг, которые до ужаса напоминают тебя саму. Годы, упущенные и пролетевшие. Утраченную свежесть чувств. Неслучившееся и миновавшее. Настигшее и ударившее. Грубость и холод, вместо внимания. Взгляд, обращенный в сторону. Небрежность и лень. Нехватку денег и времени. Невыполненные обещания и забытые клятвы. Собственные ошибки и глупости. Заносчивость, скандалы на пустом месте, необдуманные поступки. Хлопанье дверью, неспособность прощать и нежелание ждать прощения. Музыку, которая умолкла, и которая слишком о многом напоминает. Музыку, которая так и не прозвучала. Одиночество. Одиночество. Одиночество, которое есть с чем сравнивать. Недостаток, недостаток, недостаток нежности. Вспомни. Пожалей себя. Поплачь.
Дождись, пока слезы высохнут на щеках. Дождись, пока дыхание станет ровным. Прислушайся, как дышит ребенок. Смысл твоей жизни, твой свет. Вспомни самые счастливые мгновения жизни. Когда крылья вырастали за спиной. Перебери их в памяти мгновение за мгновением. Их не так много? Но так и жизнь еще только начата. Порадуйся за удачливых соперниц, у них уже получилось, а у тебя все еще впереди. Приготовь ободряющие слова для подруг. Представь, как много ты еще можешь. Какие чувства могут захлестнуть тебя каждое мгновение. Каким счастьем ты способна одарить. Какая страсть пылает в твоих мечтах. Что может сравниться с радостью узнавания? Что может сравниться с прекрасным словом «завтра»? Успокойся. Улыбнись. И не пугайся, даже если слезы вдруг снова побегут по щекам.
Утром умойся холодной водой. Выпей чашку кофе. Подними сопящее чудо, путающееся в колготках. Пробеги утюгом по маленькой блузке, которая с трудом прикрывает только грудь. Высыпь на покрывало постели косметику. Кожа, глаза, губы. Улыбнись отражению в зеркале. Поправь волосы. Натяни брюки, повертись, разглядывая силуэт. Даже не оборачиваясь, можешь быть уверена в восхищенных взглядах. Подхвати ребенка за руку. Звякни ключами. Вызови лифт. Дай ему нажать кнопочку. Поцокай каблучками по тротуару. Открой калитку детского садика. Помаши рукой убегающему счастью. Позвони маме. Договорись о вечере и ребенке. И вперед. Ты лучшая.
Работа почти на весь день. Срочные дела и заботы. Друзья и партнеры. Фитнес и зеленый чай в прозрачном кафе. Радости и разочарования. Зависть и сочувствие. Милая болтовня и скупые нужные слова. Деловой интерес, внезапно сменяющийся личным. Умение быть твердой, когда это нужно кому-то, и мягкой, когда это нужно тебе. Очаровательная неприступность и соблазнительная податливость. Здесь и сейчас. Здесь и сейчас. Здесь и сейчас. Вплоть до вечера, когда твой ребенок заснет, и подушка примет заплаканное лицо и уставшее тело.
Пожалей себя. Но только до первых слез. Завтра все получится. Не веришь? А вдруг?
2005 год
Бред
Он догонял ее и бил. Первым ударом сбивал с ног, затем вытаскивал поясной ремень и начинал стегать по спине и рукам. Она лежала на животе и, загибая руки, напоминающие выщипанные крылья, пыталась защититься. От ударов на руках вспухали багровые полосы, но кричала она не громко. Больше от обиды, а не от боли. Кричал он. После каждого удара. Боль скручивала его жгутом. И чем сильнее он пытался ударить, тем страшнее были его крики. Порой он терял сознание от боли, и в такие мгновения она поднималась, с удивлением рассматривала исполосованные руки и пыталась скрыться в одной из бесчисленных комнат. Он приходил в себя и устремлялся за ней. Он находил ее по следам. По влажным следам, продиктованным желанием. Диким желанием, источником которого был он, но томление от которого испытывала она. Он догонял ее и снова начинал бить. И снова падал от боли. Она ждала. Она надеялась, что он наконец насытится и после этого насытит ее, хотя томление уже доставляло ей наслаждение. Но он не мог остановиться. Он боялся, что едва он перестанет ее бить, вся боль, что достается ему, обрушится на нее. И она не выдержит. Но еще он догадывался, что все наслаждение, что способна отворить его нежность, достанется тоже ей. Поэтому он наливался злобой и мстил, мстил, мстил ей за избыток боли и недостаток нежности, за неотвратимую усталость, старость и будущую смерть. Ему так надоел этот обмен чувствами. Но так вышло. Чего уж теперь сетовать? Если только убить ее, чтобы немедленно умереть самому. Или еще потянуть время? Может быть, срастется?
2005 год
Прости
Прости мне, что я еще жив.
Что мое тихое сумасшествие
По поводу твоего голоса
Все еще длится и длится.
Заочно смел и ревнив
Придумываю последствия
И несгибаемость волоса
Доказываю на каждой странице.
Тексты они как листья
Желтеют и улетают
В поисках хлорофилла
Или от избытка тепла.
Замедленный звук выстрела
Акустически умирает,
И чужая не станет милой
Даже с помощью ремесла.
Снег в это лето не тает.
Наверное, приучен к солнцу.
Или июньские крыши
Особенно холодны.
Но если поставить с чаем
Чашку — темнеют кольца.
И озябшие химеры в нишах
Просят хоть недельку весны.
Время бежит сквозь пальцы
И уносится к учету и описи.
Окажется родник без влаги
В легкую унесет и меня.
А пока исполняет вальсы
И вздрагивает во внутреннем хосписе
Что-то из мятой бумаги
И сдавленного огня.
2001









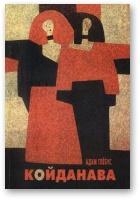

Комментарии к книге «Каждый охотник (сборник)», Сергей Вацлавович Малицкий
Всего 0 комментариев