Лариса Миронова Круговерть
ИВАН да МАРЬЯ Часть первая
1
– Паслухай, дачка мая, ти здалося? Быццам дед иде…
– Нет, бабушка, тебе показалось.
– Иде дед… Ти чуешь?
– Нет же никого, так что-то… половицы скрипнули.
– Забывацца стала, дачка мая. Памёр наш дед, памёр… Тры гадочки прайшло. Акраз на Паску памёр.
– Я вчера на могилку ходила. Там всё хорошо. Оградка цела. И памятник. Райсоюз поставил.
– А я туды и схадить не змагла. Ножаньки мае, ножаньки… У сыботу занедужыла. Уся хварэю. Цалкам… О-о-ох!
Старая женщина лежала на высоких подушках в цветастых наволочках. Тяжелое ватное одеяло с прошивками сползало на пол одним краем. Укрытая по пояс, она положила темно-коричневые от загара и работы руки вдоль тела, будто отдельно от себя, ни разу за весь вечер не пошевелив ими.
Алеся сидела рядом, легонько поглаживая пальцы умирающей. В крупных узлах, желтовато бледные суставы припухли, видно, боль в них заставляла Марию покусывать губы. Один раз она слабо застонала…
На ней была просторная блуза из неяркого, в мелкий горох ситца. Сквозь глубокий разрез рукава голубоватой белизной просвечивала кожа – от запястья до локтевого сгиба. Она была тонкой и прозрачной, с едва заметной россыпью солнечных веснушек. Кожа на щеках была такой же свежей и гладкой.
Алесю душили злые, горькие слезы обиды – почему, ну, почему Мария должна умирать? Кто издал такой несправедливый закон?
Она мечтала о тех временах, когда после окончания университета обзаведется своим жильем, а рядом обязательно будет церковь, и возьмет к себе Марию.
И сейчас все её мечты рядом с этим, всё ещё красивым, но безвозвратно отходящим телом рушились. Родненькая ты моя, – в глухой тоске звала она, поглаживая слабую руку Марии.
Мария лежала тихо и спокойно, погруженная в свои видения.
Алеся, по своей давней детской привычке подошла к большому развесистому фикусу – за ним, в красном углу, были иконы. Она опустилась на колени. Лик богоматери на старой иконе в простом жестяном окладе был изучен до каждой трещинки на потемневшей от времени краске. Алеся смотрела без смысла, без веры, с одним только тщетным желанием – воскресить в сердце ту надежду, которая возникала всегда, когда она в тайной молитве обращалась к небесной заступнице.
Икона была слабо освещена лампадкой, от этого глаза богоматери казались ещё печальнее. Скорбь в них была разлита так густо, что взор небесной царицы потемнел до непроницаемости, до омертвения и беспощадности.
Она быстро встала и отошла к окну. Мария не должна видеть её мокрых глаз.
Но умирающая смотрела перед собой и что она там видела, не мог знать никто.
Умирают, в конце концов, все, а всеобщему не должно быть сострадания – так учит философия. Но это общее знание сейчас не было даже слабым утешением в её конкретном, личном горе – Мария уходила от неё навсегда…
Туго накрахмаленная занавеска в затейливых узорах ришилье – когда-то они их, эти занавесочки вместе делали.
Слегка подсиненные тюлевые гардины пахли чистотой и свежестью цветущего сада. Мария каждую неделю всё перестирывала, в субботу мыла полы, перекладывала бельё в шкафах, чтобы не было моли. И, как раз после бани, вдруг почувствовала себя так плохо, что попросила соседей – у них был дома телефон – срочно позвонить внучке в Москву.
Мария лежала тихо и дышала ровно – наверное, спала. Алеся прошла в залу. Здесь также всё сияло чистотой и свежестью, и только на одном подоконнике, там, где была открыта форточка, лежал тонкий слой сероватой пыли.
Прижавшись горячим лбом к стеклу, она ковыряла потрескавшуюся и кое-где отошедшую от рамы замазку. Во дворе голодные куры растревожено кудахтали. Петух, изогнув спину, мелко семенил вдоль ворот, сильно припадая на левую ногу и опустив большое пестрое крыло до самой земли.
В хлеву возилась свинья, с подвизгом вхрюкивая, она пихала пустое корыто, суетливо скакали в клетках голодные кролики…
Куда всё это теперь? Кто здесь будет жить? Чужие люди?
От этих мыслей она вздрогнула и похолодела спиной. Нет, нельзя раскисать, надо пойти накормить скотину, приделать всю работу по дому, вести себя так, как будто ничего не случилось…
Приехала она вчера утром – длинно дзынкал звонок, несвязные объяснения соседки Фени, потом сильно дрожали руки…
Сборы недолгие, сумка всё время падала на пол, и вот уже поезд со свистком отошел от вокзала. Время неслось, но здесь оно словно остановилось. Покормив живность, Алеся вернулась в дом. Мария уже не спала.
– У няделю шэры трус падох… Скора бульбу капать… морквы многа было. У подпол усё паскладать нада… Ти не? У горад возьмешь?
– Посмотрим, – ответила Алеся, снова чувствуя ужасный удушающий ком в горле.
Мария смотрела на внучку, и той казалось, что бабушка, как тогда, в далеком теперь уже детстве, угадывает все её тайные мысли.
Однажды, лет шесть ей тогда было, сбежали они с подружкой без спросу на речку, а когда шли домой, подруга ей и присоветовала: «Ты не говори бабуле, что с дебаркадера ныряли, а то нам влетит. Скажи – на луг ходили. Щавель есть». – «Так бабушка всё равно по глазам узнает, где я была», – ответила Алеся, безнадежно представляя себе, как она будет врать Марии про луг.
«А ты не смотри ей в глаза, а гляди прямо-прямо, – учила её опытная девочка. – Так ничего по глазам не узнают, я так всегда делаю». – «Она узнает», – ответила Алеся и побежала вприпрыжку вперед.
– Деука мая, ты дзе?
– Здесь, бабушка, здесь я, – ответила Алеся, в ужасе думая о том, что Мария может потерять зрение.
– Куды ж ты збегла? Хади сюды.
– Краса ты моя, бабулечка, – сказала она, присаживаясь рядом с изголовьем.
Но Мария уже снова задремала – у порога вечного покоя. Три глубоких морщины на лбу и мелкая сеточка у глаз – вот и все метины времени…
Мария повернула голову – на лицо упал солнечный луч. Из-под набухших тяжелых век блеснул ясный и скорый взгляд.
– На магилки хадила, добра… Як яны там? Пазарастала усё? Прыбрацца некаму.
– Что ты, бабушка, там всё хорошо. И чисто. И прибрано.
– Са Старага Сяла плямяница ходзить. И Сястра мая яблык на Спаса прыносила. Яна деука доброая, кольки дён на мяне згубила!
– Ну что ты говоришь! Они все тебя любят! Жила бы ты к ним поближе, так каждый день бы виделись. Или ко мне бы потом переехала, в церковь бы вместе ходили по воскресеньям.
– У церкву я с самай Паски не хажу, – сказала Мария, снова поворачивая голову.
– Из-за ног?
Мария промолчала. Затем ответила отстранёно, как кому-то совсем чужому:
– У скварэчнику жить – зямли не видать. Я ж не птушка какая… Только я не жалюся, ты у галаву не бяры…
– Я не про это! – вспыхнула Алеся.
– Старое – бярэмя для усих. А пляменицы у мяне усе добрыя, и сястра мая Ганна – добрая жанчына.
Мария – свою родню любила и всегда журила тех, кто жаловался на ближнего, – нельга ж можна так? Свая крывя усё-таки…
– Жизнь у тебя трудная была, устала ты. И мне очень хотелось, чтобы ты хоть на старости лет легко и спокойно пожила.
Алеся заплакала в голос, теперь уже не смея удерживать слез.
– На життё грэх жалицца. Што з таго? Гаворать – урэмя такое, ну и зраби так, штоб лучшэй было.
– Милая ты моя…
– Ня плач, дачка, слёзы усю тваю красу пазъядаюць. Урэмя заусёды адно. Як чалавек сам хужэй стане, так яму усё чорным здаецца.
Мария снова прикрыла глаза. На её лице, уже далеком от земных хлопот, снова мелькнула тревога. Она поднялась на локте и простым сильным голосом спросила:
– А Рыжанькаму малачка дала?
– Пил твой Рыжик молоко, пил, и колбаску ел, – не беспокойся, ответила Алеся обрадованно, ей стало казаться, что это хороший знак – болезнь отступила и бабушка выздоравливает.
Большой рыжий кот с треугольной белой метиной на лбу вскочил на кровать и уселся Марии на грудь, радостно мурлыча и нежно выпуская коготки.
– Иди, иди же! – попыталась его согнать Алеся, но кот вцепился в одеяло и уходить не спешил. – Бабушка, может, хочешь чего?
– Не, дачка мая. Ничога мне ня трэба.
Мария снова затихла. Глаза закрыты, и веки тихонько подрагивают. Алесе снова стало страшно.
– Ба! – позвала она, как когда-то в детстве. – Может, ноги растереть? Я привезла змеиный яд. А? Легче станет, вот увидишь!
Мария не отвечала. Лицо её постепенно приобретало какой-то странный оттенок. Полукружья век от бровей до ресниц, коротеньких и золотистых на свету, стали почти прозрачными. На них отчетливо проступила ветвистая бязь мелких лиловых прожилок.
Губы её вздрогнули и тихонько зашевелились – она что-то шептала, но что – не было слышно. Алеся наклонилась к самому её лицу.
Мария молилась, нутром произнося слова последней молитвы: «Прасти мне и моим деткам… и маим унукам… Дай им здароуя, а мне пайшли легкага канца…»
Теперь губы её, запекшиеся и сухие, двигались всё быстрее. Шёпот молитвенных слов становился всё неразборчивей. Руки, до сих пор бездвижно вытянутые вдоль тела, словно ожили, сминая и комкая лоскутное покрывало, наброшенное Алесей поверх одеяла.
– Ба! Я отвар тебе дам! – выкрикнула сдавленно Алеся, обнимая умирающую. – Ба! Ну, бабушечка!
Мария не отвечала. Горячие губы покрылись корочкой, на лбу выступили бусины пота.
Алеся взяла мягкую тряпицу, обмакнула её в миску с теплой водой и осторожно провела по желтоватым губам.
Мария затихла, почувствовав на губах влагу, и чуть-чуть приоткрыла глаза.
– Что? Что, ба? – тормошила её Алеся.
– Пить… Пить, дачка, дала б мне…
– Что? Чай? Отвар? Что ты хочешь?
– Салодкага глыток.
Когда Алеся устраивала бабушку на подушках повыше, чтобы не облить чаем, ей показалось, что Мария уже навечно прикреплена к постели – так тяжела она была. Чай, влитый в рот из чашки, темной струйкой потек обратно. На подушке появилось бурое пятно.
– Не глытаецца нияк. – пожаловалась она. – Тяпер кислага хочу. А што ни зъем, усе назад. Быццам нутро маё памерла…
Теперь она лежала так тихо, что было слышно, как цокает пульс у самого виска. Алеся прижалась щекой к её лицу.
– Ты говори, говори! – просила она, обнимая и прижимая к себе уходящее тело.
– Франя, дачка мая старэйшая, царства ёй нябеснае, кали памирала, тожа усё пить прасила, а то просить – драникау, мамка, спяки… А спякла ёй драникау, и у рот узять не змагла… Так жывот яе змучыу… А памёрла тиха… Прыношу ёй вутрам снеданне, а яна, галубачка, ужо и атыйшла.
Мария замолчала, губы её сомкнулись в тонкую полоску.
– Франя первая памерла, – снова начала рассказ она. – Да вайны тое ж было… А у вайну Федечку и Миколку лихаманка згубила… Як у балоте пасидели, кали ад немцау хавалися, так и занедужили хлопцы… Не, не… Ня так усё было… Памерли яны, кали паж немцам жыли… Пасля памерли, пасля… А Броня, матка твая. Живая засталася. Тольки життё яе тягчэй, чым пагибель лютая…
– Не надо, бабушка, про плохое, – попросила её Алеся.
– Ти ж то – плахое? – сказала Мария, приткрывая влажные ореховые глаза. – Ты паслухай, быццам музыка грае… И стомленнаясь ад яе такая, быццам стог сена зварушила. Чуешь? Ти здаецца мне?
– Музыка? Нет, не слышу. Всё тихо, ба! Ночь уже… Может, вспоминается что?
– И прауда, – сказала Мария. Нияк трызницца мне. Вочы закрыю, и я у лузе, што за маткинай хатай… Жде мяне пакойница. Скора пабачымся… Чуешь? Заве мяне…. У сне кались такое бачыла… Быццам пасылае мяне матка тяленка пасвить, а я ж, деука тады была, дужа спать хочу… Увечары деуки-хлопцы збираюцца, песни спявають, гамонять да вутра. Не скора разыдуццаа… И мне ж пагулять ахота… А мяне ужо за Ивана аддали… Не, не у маткинай хате эта было… У свякрухи… Ивану было тады сямнаццать, а мне – двадцать гадкоу… Я ужо деука видная к таму часу сделалась… А ён – якоясь зайчынё… Потым, прауда, вырауняуся… Пад вянцом я у слезы… Яго писарчуком у сяле звали… дед яго и батька шибка граматныя были, казали, батька у воласти писарам служыу… Адин на усё сяло грамате знау…
Мария замолчала и долго смотрела молча на картину в бронзовой раме, что висела на стенке между окнами. Потом продолжила.
– Да. Тое ж у свякрухи было, не у маткинай хате… Дык пасылае яна мяне тялё пасвить, я иду, а вочы слипаюцца… И заснула я, только день заняуся… Сил маих зусим ня стала… Жывела ходить у лузе, а мяне сонейка змарыла, ниякага спасу няма… Прылягла я у канауку и вочы сами сабой закрылися… Ляжу и слухаю … Музыка трызницца такая красивая… Быццам гусли играють… И пад тую музыку матка мая выйшла на ганак и выкликае мяне – иди, дачка, да хаты! А я и кажу ёй – матка мая любая, як жа я свякрухина тяля у лузе кину? Прыбье мяне свякруха! И тут на небе хмара зъявилася… Вяликая такая. На усё неба… Так халодна стала адразу… Я вочы адкрыла, бачу. Вакол мяне пастухи стаять, рагочуть, нячыстая сила… А тялё маё збегла кудысь… Што ты тут будешь рабить? Ни вокам не вижу, ни слыхам не чую… Узышла на горку, стаю, а у сяло ити баюся… И тут наш сусед, дед Панас, иде… Чаго равеш, деука? Ти не тваё тялё ля крыницы пасвицца? Пабегла туды и знайшла яго, тяленка свякрухина… Дрыжить баками, халодна яму, страшна… Ганю жывелу дамой. А свякруха ужо на ганку мяне выглядае…. Лупила яна мяне страх …Матачка ж ты мая… Уся спиначка балела страшна… Чуеш, ти ж то гусли грають? А, деука мая, ты чуешь?
Хоронить Марию пришли из Старого Села всей роднёй. Ганну, сестру Марии, Алеся давно не видела, но узнала сразу. Лицом такая же, только глаза синие, как водица в речке Сож, и телом скудная, может, от возраста…
После похорон поехали в Старое Село, к двоюродной бабушке Алеси, на хозяйстве осталась Ганнина младшая дочь. Что делать с домом, пока не решили.
езжала Алеся в Москву утренней моторкой. Перед отъездом Ганна сказала, вытирая слезу краем фартука:
– Уже привыкла к тебе, девка, хоть бы неденьку ещё пожила.
– Надо ехать, но я ещё приеду. Теперь часто буду приезжать, – пообещала он, тоже не сдерживая слез.
– Вот тебе наследство от Марии, – сказала она, протягивая Алесе перстенёк. – Он её от Василисы достался. Так и передают его от бабы к бабе…
– Спасибо, милая ты моя, – ещё горше заплакала Алеся, снова вспомнив Марию и со всем отчаянием осознав. Что уже никогда больше её не увидит.
– Ну, пора идти. Моторка у нас долго не стит. Слышишь гудок? Подходит.
День будний, народу в город ехало немного.
На верхней палубе было неуютно и промозгло. Сырая темь позднего осеннего рассвета будила тревожные воспоминания. Однако Алеся всё же вышла из душного и тесного салона и встала у борта. Мутные волны гребешками бурунов расходились во все стороны веером, убегая и истаивая на бегу, к едва приметным в предрассветной мгле низким берегам порядком обмелевшей реки.
– Ещё два-три сезона – и судоходство прекратится, – сказал кто-то за её спиной, и она тихо ответила – «точно».
– Вот и замкнулась ещё одна мировая линия жизни…
– Вы это мне? – рассеянно спросила она, не оборачиваясь.
Ей не ответили, и она подумала, что эти слова ей только послышались.
Она стояла у борта и до рези в глазах смотрела в кипящую пену волны. Когда она последний раз целовала лицо Марии, ей стало казаться, что всё живое внутри неё начинает медленно умирать. Мария жила в ней ежечасно, даже когда она не думала о ней, не вспоминала. А теперь всё это стремительно покидало её.
Так прошёл день, ещё день, и ещё несколько дней. Но вот, прснувшись однажды утром в счетлом и чистом домике Ганны, она вдруг ощутила, что в душе её уже нет того тяжелого чувтсва умирания и потери, которое угнетало её все последние дни, она ощущала, что снова живет, и даже в чем-то стала сильнее и лучше. Её больше не раздражали пустяки, от которых она ещё неделю назад просто бы взбесилась, её мысли о будущем больше не казалось ей смутными и тягостными. Она вдруг с удивлением и радостью почувствовала себя свободной от постылого плена пустой суеты.
Откуда-то взялась вера, что действительно всё «перемелется и образуется»…
Огорчало лишь одно – никогда уже больше с ней рядом не будет Марии.
И никогда не будет…
– Не помешаю? – вновь послышался голос за её спиной.
– Вы это мне?
Она обернулась и вздрогнула. Совсем близко от неё стоял средних лет мужчина, его серое двубортное пальто было наглухо застегнуто, воротник был высоко поднят. Кепка, надвинутая на самые глаза, смешно прижимала уши.
– Вот… Вышел покурить. Холод собачий. Бр-ррр… Он зябко поежился.
– Да, не жарко, – вежливо ответила она, втайне радуясь, что и ещё кому-то пришла в голову блажь выйти на волю в такую стыдь.
– А интересно, хоть одна звездочка видна? – спросил он, проследив её взгляд.
– Вега вон там…
– В созвездии Лиры? Это она?
– Возможно. Я не уверена. Очки в сумке, внизу. Плохо видно.
– Вега – звезда осенне-летнего треугольника. Её в этих широтах можно видеть только вечером.
– Мне это не мешает, – сказала она и отвернулась.
– Как это?
– А никак.
– Ну ладно. А вы опять в Москву?
– Информированы? – сказала Алеся, поворачиваясь к незнакомцу.
– На всех москвовских есть особый отпечаток, – засмеялся он. – Так вы не ответили.
– Раз это для вас жизненно необходимо, то, пожалуйста. Сообщаю. Еду в названном вами направлении, но немного севернее.
– Что? Путешествие? Времечко не очень.
– В некотором роде. А вы что тут делаете? Вы же не местный.
– У меня отпуск.
– Времечко не очень.
Он снова рассмеялся. Она тревожно прислушалась – что-то очень знакомое было в звуке его голоса.
– А чем тешите себя в трудовые будни, если это не секрет, конечно? – тихо спросила она.
– Секрет, но вам откроюсь.
– Я польщена.
– Живу я в ма-а-аленьком городке и работаю в ба-а-альшом НИИ.
– Ну и.? Конкретнее – сфера ваших интерсов?
– Гражданские лайнеры.
Она отвернулась и снова стала смотреть на воду – пенный гребень вздымался почти до самого борта.
– Я тоже когда-то хотела придумать что-то вроде самолета. Устройство, которое будет летать без мотора. Ну, такого крылатого…
– Сапфира?
– Сенька!?
– Ты – дурак. Я угадал ваши мысли?
– Нет, неправильный ответ.
– А как же будет верно?
– Что эта вот пена за бортом – вовсе не пена…
– А косы царицы-русалочки? Которая плывет за нами? Так? Так, по глазам вижу. И я в это – верю.
– Да неужели?
– Чтоб мне сдохнуть. Алеся счастливо рассмеялась.
В это время раздался гудок и моторка резко остановилась.
– Опять на мель сели, – сообщил матрос, пробегая с багром на корму. – А вы шли бы в салон, сырость, да и мешать будете, – сказал он пассажирам у борта. – Глянь-ка, рыбина какая, хвостом так и бьет! – крикнул он, обращаясь к другому матросу. – Эх, жалко, не успел загарпунить.
2
На свекрухином подворье жила Мария вдовою при живом муже. Через месяц после свадьбы Иван подался в Гомель – сельскому грамотею не сиделось на крестьянском подворье. Иван и Мария были и до свадьбы не чужими друг другу. Бывало на селе, что женились между собой и сродники. Отец Ивана, волостной писарь, вел свой род от московских греков, был выслан из Москвы, осел в тихом месте и жил уже незаметно и скромно, однако, усердно обучая сына грамоте и всему тому, что сам знал. Знался больше с Василисой, с которой был однофамильцем и даже вроде состоял в родстве. Потом женился, имел семеро детей, жил не бедно и умер в глубокой старости, оставив после себя младшему, Ивану два мешка старинных книг.
Отъезду Ивана в город отец и мать не перечили, в семье были и другие мужчины. Домой Иван приезжал на праздники, но через два года такой жизни вдруг передумал и вернулся домой. Был обычный будний день, его не ждали…
Худющий, ребра наперечет, молчал день молчуном, к вечеру стал в себя приходить, но с Марией – за весь день ни слова! Потом стал работать в сельской конторе – бумаги переписывал.
…Бабку Василису, маму Марии, Алеся хорошо помнила. Умерла она, когда Алесе уже было шесть лет. По-настоящему, Матерью Алеси была Мария, а Василиса – бабушкой. Настоящая бабка-калябка из волшебной сказки – мелко семенила босыми узкими стопами по пыльной дороге, шла пешком из Старого Села в город Ветку. Домой, в село, Алеся ходила её провожать, едва поспевая за шустрой старушкой, до переправы. Сколько ей лет – никто точно не знал. Знали только, что много…
Иван и Мария переехали в местечко под удивительным названием – Ветка, и когда Алесю привезли туда родители, она подумала, что живут в этом городке люди-птицы…
Один раз, в бане, она прямо спросила у Марии, куда люди прячут крылья? Днем, на улице, под одеждой, это ясно, а вот здесь, в бане? Мария рассмеялась и ничего не ответила.
После революции Иван поменял фамилию – оставаться однофамильцем самодержца было ни к чему.
Тогда многие меняли фамилии – это разрешалось, но чаще меняли на еврейские, так было модно.
У Ивана же была другая причина, и он изменил всего одну буквицу – «н» на «ш».
Его назначили на работу в райпотребсоюз. Там он и работал всю свою жизнь, если не считать военной службы. Должность председателя была выборной, и вот однажды прошел слух, что Ивана не переизберут. Но слух остался слухом, и председателем вновь был избран он. Потом уже Мария узнала, что Ивана обвинили в краже шапки. Обвинение было столь абсурдно, что во всей Ветке не нашлось такого горлапана, который бы эту новость взялся публично обсуждать.
Квартиру им дали казенную, как раз напротив почты. Две комнатки и кухня с простой деревенской печкой. Вторую половину дома заняла семья товароведа из райпотребсоюза. Сарай был общий – там держали козу Розу и корову Палашку. Алесе доставалось и от козы, и от коровы. Роза была козой товароведа и считала себя настоящей хозяйкой двора. Она выслеживала Алесю и, как только скрипнет калитка, гналась за ней до самой двери в сени. Доски были сплошь истыканы острыми рогами въедливой козы. Хочет Алеся крикнуть, бабушку на помощь позвать, а коза своими острыми рогами слова в глотку обратно вбивает…
Когда Роза вколачивала свои рога в дубовые доски двери, появлялась соседка и вызволяла козу. Та жалобно мемекала, будто не сама только что чуть не сжила со свету несчастную девчонку, а её, козу, нещадно мучили. Соседка давала ей корку, приговаривала так громко, что было слышно на весь двор: «Пападзись ты мне, паненка траклятая! Тут табе и капцы!»
Сидорова коза с готовностью согласно отвечала – и я помогу, помогу обязательно, ммнеее ли не помочь, ммееее…
Между собой, однако, Палашка и Роза вполне ладили.
Когда же рядом была Мария, Алеся поднимала вопёж – ба, пусть Розу уведут! Мария брала хворостину и с криком – ах ты, злыдень! – прогоняла козу, а та, на прощанье зыркнув в их сторону злым желтым глазом, уходила прочь со двора, но задание на завтра было вполне очевидно – месть, месть и ещё раз месть!
Однажды Мария засекла Розу за этим разбойным делом. Коза как раз навострилась погнаться за девочкой и уже нетерпеливо сгибала коленку, как бегун перед высоким стартом, но Мария опередила её. Схватив палку, которой задвигали на ночь ворота, она погнала козу, приговаривая для остраски: «Лихаманка тябе забяры, чаго дитё чапаеш, луплены ты бок?»
Тут Роза продемонстрировала недюжинный интеллект и верх лицемерия, уткнувшись отвислыми, розовыми губами в подол гонительницы и нежно при этом подмекивая – дескать, я тут вообще ни при чем! Просто шла по своим делам, и вот…
Эдакой паинькой и поплелась, нога за ногу, в общий сарай. Дескать, и в ум не брала обижать каких-то там пришлых девчонок!
Алесю привезли в дом Марии, когда ей исполнилось два с половиной года. Маленькая, сухонькая старушка с очень умными и живыми глазками, Василиса, сидела на низкой скамеечке у печки и чистила пузатую, всю в буграх, картошку.
Мария сбивала масло в маслобойке.
Когда они вошли в дом, никто не встал, не поспешил на встречу – все сидели на своих обычных местах и молча смотрели на гостей. Девочку поставили на пол, сняли большой платок, которым она была обвязана поверх шубки под мышками, и, указав на обеих женщин, сказали:
– Теперь это твои бабушки! Будешь с ними жить – пока.
Кто нес её на руках – Алеся не могла вспомнить. Даже не могла вспомнить, кто это был – мужчина или женщина. Человек, что-то нашептав на ухо Марии, передал куль с вещами и, наскоро попрощавшись, ушел.
На кухне мягко пахло чем-то таинственным и душистым. Потом уже Алеся узнала, что так пахнет вереск и мятная полынь. Чудесный запах исходил от больших связок травы, которые висели под самым потолком над печкой, и от него было немного щекотно в носу. А ещё по утрам пахло чем-то острым и нестерпимо аппетитным. Это был запах свежего черного хлеба, испеченного на поду в печи.
Там, на далекой сказочной Вологодчине, не пекли черного хлеба, его брали в магазине, зато чуть не каждый день пекли большие, в противень, пироги – с клюквой и сладким творогом. Тесто ставили на ночь, а пироги садились в печь в пять утра, саму же печку затапливали в три ночи. Алеся любила просыпаться на рассвете, на теплой уже печке, от сладкого и дурманного запаха этих огромных вкусных пирогов.
Здесь всё было не так. И соленых волнушек в молоке здесь не едали ложками из мисок. Когда Алеся попросила дать ей такую еду, Мария даже не поняла, что она просит. Разве солят грибы в молоке? Пришлось объяснять, что молоко в миску наливают, а грибы берут из бочки, а бочка должна стоять на веранде, а здесь и веранды нет, и бочки стоят в погребе. Но не с грибами, а с невкусными и очень солеными огурцами, от которых щиплет губы…
И ещё больше удивило Алесю, что «на двор» здесь ходят куда-то за сарай, в отдельный маленький домик, который закрывается снаружи на вертушку, а внутри – на крючок, а не в специальную комнатку в проходных сенях между летней и зимней частями дома, как у вологодской бабушки Татьяны.
И хотя здесь всё-всё было не так, и говорили эти люди на каком-то ином языке, не всегда ей понятном, но вскоре Алеся нашла много такого, что заглушило её тоску и полностью захватило воображение. И она уже не так остро тосковала о вологодской бабушке Татьяне и её большом, просторном доме с развесистым кустом каринки во дворе – здесь тоже была жизнь, и тоже очень интересная.
Василиса ночевать не оставалась, уходила, иногда затемно, в своё село. Но утром, на самой зорьке, она снова приходила к дочке, усаживалась на свою излюбленную скамеечку у печки и чистила картошку, перебирала траву или штопала чулок. Мария же копалась в огороде или возилась в хлеву, а потом, когда работа была приделана, они садились к самовару и пили чай из стаканов с маленькими острыми кусочками колотого сахара и серой булкой под названием «сайка». После чая, посидев ещё немного на своей скамеечке и неспешно погутарив с дочкой о том о сём, Василиса начинала собираться, перед выходом из дома долго кланяясь на образа.
Однажды, когда Алесе уже исполнилось четыре, она попросила свою старшую бабушку:
– Василисынька, можно тебя проводить до речки?
– А дорогу назад найдешь? – спросила старушка, прищуривая на девочку свои острые молодые глазки под крутыми изломами темных бровок.
– Найду! Найду! – радостно кричала та, – мы всей улицей бегаем к речке каждый день!
– Куды, куды? – строго переспросила Мария.
– Да так…
Алеся поняла, что сболтнула лишнее, и быстро побежала из дома.
Так и шли они вдвоем, рука в руке, до самой переправы – маленькая сухонькая старушка с лицом веселой девочки и острыми молодыми глазками под бровками с изящным изломом и строгая внучка-малолетка с печальным взглядом старушки…
В Старом Селе про Василису говорили, что она знает…
Последний раз пришла она к Марии, когда девочке шел шестой год. Вечером, прощаясь, она сама позвала Алесю и сказала:
– Хочешь провожать меня? Ножки что-то нейдут.
– Идзи, деука. Трохи праводишь и вернешся, – поддакнула и Мария, которая всегда с большой неохотой отпускала Алесю к реке. – Ти дойдеш сама ад пераправы? – как-то по-особому внимательно и с тревогой спросила она у Василисы.
Василиса улыбнулась и кивнула головой, только улыбка получилась какой-то вымученной и жалкой.
Алеся живо набросила кофтейку и побежала во двор, пока бабушки не передумали. До переправы шли километра два. Алеся, прижимаясь плечом в черной плюшевой жакетке старушки, спрашивала:
– Василисынька, а тебе не жарко? Зачем ты ходишь летом в кротовке?
– Малое старому не указ, – сказала Василиса со своим обычным веселым смешком. – Это кто ж тебя так со старшими разговаривать научил? Ти не бабка твоя Вологодская?
Алеся чмокнула кротовку – в засаленный изгиб на рукаве.
– А что, я сама не могу видеть? – сказала она и ещё раз поцеловала Василису – в щеку.
– Шибко грамотная, дочка моя, вот про хусей мне рассказали. Дети не могут так говорить со старшими, поняла, малая?
– Так они смеялись, и никто на меня не обиделся.
– Это потому, что любят тебя. Вот и смеялись, а могли бы и плеткой угостить.
«Хуси» – это гуси. Здесь говорят мягко – «х» во всех словах, кроме трех – ганак, гузик и гвалт. Алеся это правило уже знала твердо.
Ганак и гузик – это крыльцо и пуговица, это Алеся тоже знала.
– А что такое гвалт? – спросила она у Василисы. – А то бабушка Мария часто это слово говорит, когда мы под окнами с ребятами бегаем.
– Вот оно и есть – гвалт, когда вы под окнами бегаете и кричите. А дедушка с работы пришёл и отдохнуть хочет. Нехорошо, детка.
– А почему ты, Василисушка, на другом языке говоришь, а не на ветковском?
– Потому что я тоже не местная, как и ты.
Мария тогда взяла маленькую Алесю на руки и сказала, показывая на гусей:
– Глядзи, якия хуси тлустыя да белыя! Вясной хусянят прывядуть.
– Бабушка, надо говорить гуси, а не хуси, это не правильно ты говоришь.
– Гэта няхай у вас у Волагде гуси будуть, а у нас, у Ветцы, и хуси добра казать. Дети старэйшым не указ. Хоть и дужа вумная деука, а усё ж дитё. Зразумела?
Так выговаривала ей Мария, строго грозя большим пальцем с коротко остриженным ногтем, однако никогда её не наказывала и даже не сильно ругала за разные шалости.
От речки потянуло ветерком. Алеся снова погладила рукав Василисиной жакетки.
– Не сердись, Василисынька, вспотеешь, простудишься, кашлять станешь. Я за тебя боюсь.
– А ты свою телятинку носишь, ну ту, Вологодскую?
– Ношу. Только зимой. Она уже совсем короткая стала. Как тебе кротовка. – Алеся снова вспомнила вологодскую бабушку и подумала, что теперь уже никогда её не увидит, хотела заплакать, но сдержалась, обняла Василису и спросила голосом жалобным и слабым: – А когда холодно станет, ты к нам будешь ходить?
– Зимой по снегу трудно идти. Да и речка ещё долго не встанет.
– Я буду скучать, – прошептала Алеся и на этот раз, уже не сдерживаясь, в голос заплакала.
Василиса смотрела спокойно, с улыбкой и гладила девочку по льняным волосам. Глаза её сделались влажными.
– Ты уже с меня ростом почти.
– Ещё не с тебя, а с твою хусточку, как раз до самого кончика.
– Ты вверх растешь, а я – в землю, – сказала она, засмеявшись, и поцеловала девочку.
Тысячи маленьких серебряных колокольчиков ответили слабым эхом.
Подошел паром, на берег сошли две лошади в упряжках и хозяйка с теленком. На другой берег народу было немного. Однако девочка не отпускала веселую старушку.
– Василисынька! Ну, Василёк! Давай чуть-чуть посидим, а то ты устала сильно. Катер во-о-он где! Ещё долго будет разворачиваться.
– Отдыхать потом будет. Жизнь кончается, хватит уже землю топтать. И другим место дать надо.
– Василиса, ты злая! – заплакала девочка. – Зачем ты это говоришь? Я хочу, чтобы ты была всегда!
Мария говорила с Иваном про Василисину болезнь – на спачын тягне…
– Всегда никто не бывает. Когда-нибудь все умрут.
– А зачем ты. Василёк, так много работаешь? Сидела бы и отдыхала, тогда бы твои ножки не болели. Приходи к нам зимой и лежи, пока холода, на печке. А? Ну, скажи, ты придешь?
От кротовки пахло лугом и ещё чем-то новым – незнакомым, пугающим.
– Малое ты дитя, неразумное, – говорила Василиса, и глаза её часто замигали.
– Василисушка, так не честно. Ты мне обещала…
– Обещалку-цацалку три года ждут.
– Нет! Нет! Ты обещала! Да, обещала! Ты не должна обманывать! Ты же древлерусская бабушка! Обещала рассказать про старо-древние времена, и ничего-ничего не рассказала! Тебе же сто лет? Да?
– И четыре года, а може, сорок четыре. Я давно свой век не учит ы в а ю.
Василиса улыбнулась и снова сыпанула веселых серебряных колокольчиков.
– Ну, пожалуйста! Расскажи! – просила девочка.
– Так я уже всё забыла.
– Василисынька, я хочу уже давно спросить – почему про тебя говорят, что ты всё знаешь?
– Не всё знаю, а просто – знаю.
– Про что – знаешь?
– Про кое-что. Так про знахарей говорят.
– А ты знахарь?
– Знахарка.
– Тогда ты все знаешь, не обманывай!
Алеся обхватила голову Василисы руками и приблизила смеющееся хитрое лицо к себе – в лукавых глазах стали видны даже мелкие крапинки на радужке.
Колокольчики на этот раз звенели особенно долго.
– Я обижусь на тебя, если сейчас же не скажешь.
– Просто я травы разные знаю и все тропки в лесу. Хочешь я тебе песню старинную спою?
– Спой, спой поскорее!
Паром уже отходил и разворачивался вверх по течению, Алеся бежала по берегу, а голос Василисы летел над водой, постепенно замирая вдали многократным эхом.
«В сластолюбии которыя – тех почтили все,
На седалищах первыми учинили,
А собор нищих возненавидели…
Лихоимцы все грады содержат,
Немилосердные – в городах первые,
На местах злыя приставники…»
Больше Алеся не ходила к парому провожать Василису. Напрасно стояла она у причала и ждала, вот-вот сойдет с парома маленькая старушка в плюшевой кротовке и засмеется веселым серебряным смехом…
3
Незаметно пришел ноябрь, и мелкая надоедливая морось без устали барабанила по закрытым ещё засветло ставням. Как-то вечером, когда уже двор был закрыт, и все сидели дома, глухо лязгнула клямка на калитке.
– Иван! Квортку адкрый! – крикнула Мария мужу, который в зале читал газеты. – Хтось иде.
Она возилась на кухне с большим, начищенным до блеска самоваром, подсыпая в него угли и подкачивая воздух сапогом. Однако самовар никак не разгорался, даже сухие щепки не помогли. Коротко прогорев, они погасли, оставив в помещении запах смолистого дыма и копоти.
Лицо Марии сделалось бурым от натуги, испачканный сажей лоб сплошь покрывали мелкие бисеринки пота. Белая хустка сползла на затылок и грозилась вот-вот упасть и открыть всему свету красивые волнистые волосы Марии, скрепленные на затылке коричневым гребешком.
– Иван, ти ты йдешь?
Стучали всё настойчивее – ту-тук-так! Ту-тук-так!
– Иду, иду… – ответил муж и, надев калоши, вышел в сени. Он ещё долго не мог открыть дверь – то ли дерево от сырости разбухло, то ли крючок никак не выходил из кольца, но он не сразу ответил пришельцу, стоя ещё какое-то время на крыльце.
– Тьфу ты, госпади! Не адарвецца нияк! – ругалась ему вслед Мария. – Што у той газетине пишуть такое, что й чалавека не бачыш зза яе? Чаго не адкрывашь, а, Иван? – крикнула она в сени.
Алеся лежала на печке, на теплых кирпичах, под боком у неё примостился Дым, любимый бабушкин кот. Оба за день намёрзлись и сейчас их дружно сморило в тепле.
Последняя послелетняя красота отходила, уступая место яркой, чудной, пахнущей пряными вкусными запахами осени.
На перекладине над полатями висели связки ровного и круглого, ядреного лука. Терпкий запах, исходивший от него, напоминал об ушедшем лете и теплой молодой осени, когда от начала сентября до самого рождества богородицы можно бегать по улице босиком. Кое-кто из ребятни бегал босиком и до снега, но Алесе этого не разрешалось делать. Эта ранняя осень была особенно вкусной и доброй – в огороде у Марии было полно ещё недозрелых, чуть буроватых помидоров, их со – бирали, боясь измороси и ночных заморозков, а те же, что уже успели покраснеть, продолжали висеть на кустах, наливаясь густым сладковатым соком осени и приобретая чудесный красно-золотистый цвет. В коричневых мочалах дозревала кукуруза, сладкие бураки наполовину торчали из земли и обещали быть очень сладкими в соленом винегрете – именно их Алеся всегда выедала из тарелки первыми, потом уже соленые огурцы с морковью, а лук осторожно отодвигала на самый краешек плоской эмалированной миски. Эти сладкие бураки можно даже сырыми грызть, когда долго не покупают конфет, а сахар в кусках наперечет.
В сенях стояли ящики душистой антоновки – и уже за одно это молодую осень можно было любить бесконечно и жаловать. Алеся улыбалась сквозь сладкую дрёму…
Снова призывно звякнула клямка, и во дворе громко заговорили. Алеся по голосу узнала – пришел бабушкин племянник, а с ним ещё кто-то, кажется, сын.
Мария, выпрямившись в струнку, прислушалась.
Гамонять пад даждем. Ти то нельга у хату увайсти? Она оставила самовар и как была – с перепачканным лицом и черными от угольев руками – вышла вслед за Иваном на двор.
– Дым ты мой, Дымулечка! – ласкала кота Алеся. – Скоро чай поспеет, я его буду пить из блюдечка с грибочками, а ложечкой с узорчиком – есть варенье из вазочки. А тебе, такому хорошему коту, молочка в мисочку нальют. И будешь есть своим розовым язычком – лак-лак! И потом снова залезем с тобой на печку, и будут нам сниться веселые сны – тебе про мышку, а мне – про …
Тут она задумалась – про что бы такое загадать себе сон. Хотелось всего сразу, и она никак не могла сделать выбор. Тогда она обратилась к третейскому судье – коту Дыму.
– Дымуля, а что бы такое мне во сне приснить?
– Вау-у-у! Вау-у-у! – пропел кот, показывая большую розовую пасть в сладком, до самых ушей, зевке.
– А, поняла! Спасибо тебе, Котя! Пусть мне Василисынька приснится, я уже сто лет её не видела. А ты, Дымуля, не ешь мышку, когда она тебе приснится. Только поиграй с ней немножко и отпусти до – мой. Пусть себе скребутся ночью мышки, мне от этого не так страшно в темноте. А я тебе кусочек сала дам.
Алеся прижала к себе Дыма, и тот яростно замурлыкал, сладко впиваясь коготками в её худенькую руку.
– Дымулечка! Ты не думай, мне не очень больно, но лучше бы ты не царапался! – попросила она кота. – А то следы остаются, мама приедет и будет ругать тебя. Подумает, что ты злой кот. А ты кот добрый. Очень добрый. Правда?
Во дворе заговорили громче и все разом. Мария заголосила: «Божа ж мой, божа ж мой! Ти ты ёстяка у свете?»
Когда вся компания ввалилась в хату, принеся с собой холод и сырость, Алеся испугалась ещё больше – Марию было не узнать. Лицо и её и не её одновременно. Глубже обозначились полукружья век. На полотняно-бледном лице разводами сажа. Руки повисли плетьми вдоль тела и мелко трясутся. И только пальцы живут своей нервной жизнью, судорожно перебирая края фартука…
Марию силком усадили на табурет. Иван достал флакончик и накапал из него снадобье на кусочек колотого сахара. Стало совсем тихо, и Алеся услышала, как стучат зубы Марии о стекло. Звук был неуютный и страшный – дз-з-з… т-т-т– …дз-з-з…
Все сели. Мария уже не плакала, сидела спокойно, выпрямив спину и поставив ноги крепко и чуть выдвинув стопы вперед, как если бы собиралась вдруг вскочить и куда-то срочно побежать. И только запекшиеся губы тихо повторяли: «Ах, ты, божа ж мой! Божа ж мой…»
Василису парализовало – случился удар, и отнялись рука и нога. Алеся не могла взять в толк – кто и как, главное, смог отнять их у Василисы? И почему никто её не защитил от злобного врага? И как же она теперь будет ходить к ним в Ветку без ноги? И что будет у неё вместо отнятых конечностей? Но главное – кто, кто отнял? И почему нельзя найти его и забрать назад отнятое?
Эти ужасные «почему» совершенно выбивали её из колеи – но входить в расспросы она не решалась.
Ночью Алеся, прижав к себе мокрого от её слёз Дыма, тихо плакала, повторяя и повторяя сказанные Марией слова – «кольки ёй цяпер марнеть засталося?» А когда она уснула наконец, ей приснился тяжелый сон, будто на Василису напали злые духи и в жаркой схватке отняли у прабабки руку и ногу. Она проснулась среди ночи и в голос заплакала. Прибежала Мария и спросила: «Ти ты незнарок з печки звалилася, деука мая?»
«Нет, бабушка. Я просто плачу, потому что Василисушку жалко-оооо!»
И она опять в голос заплакала, ещё крепче прижав к себе Дыма.
«Не рави, деука. Валкоу накликаешь! Спрадвеку так вядецца – старыя хварэють заужды».
Мария и сама плакала, но в темноте её лица не было видно, и она держалась твердо. Днем же, когда солнце заглянуло в окно, она тоже в голос расплакалась, и Алесе от этого стало почему-то легче. Она почти успокоилась, только губы её продолжали вести свой особый разговор с Василисой: «Бедная моя Василисушка старопечатная, как же ты теперь к нам из села приходить будешь?» – И сама за Василису отвечала: «Да хоть на крыльях прилечу, чтоб тебя повидать!»
И тут Алеся снова припомнила свою детскую мечту – обнаружить, где все-таки эти люди прячут свои крылья от других людей? Тех самых, у которых крыльев нет.
Любовь к бабушке старопечатной была особой – Алеся считала её почти что небожительницей, только по доброте своей живущей на земле, и даже мысли не допускала, что придет такой страшный час, когда Василиса вдруг исчезнет. И вот, наконец, пришла такая ночь, когда не стало слез. Алеся легла на спину, а кот, получив внезапно свободу, не убежал, а сел рядом и, тихо мурлыча, стал тереться усатой щекой о её плечо.
Было воскресное утро, Мария встала раньше обычного – ещё и четырех часов не прокукукало. Алесю разбудил грохот пустых ведер в сенях. Она посмотрела на ходики и спросила испуганно:
– Ба! А куда ты? И мне можно встать? Да?
– Спи, деука. Спи, не тваё дела? На ярмалку парысё павязем. А ты спи.
Мария надела кирзовые сапоги, новый ватник, голову покрыла толстым коричневым платком с розовой обводкой, обмотав вокруг шеи один конец, а другой – расправив на груди клином, взяла с лежанки кашелку и вышла в сени.
– Ба! И я с тобой! – крикнула её вслед Алеся.
– Спи, я табе яблык прынясу и мёду, – ответили из сеней и щелкнул замок на клямке.
– И я с тобой! И я! – кричала Алеся.
Спрыгнув с лежанки, она подбежала к окну, что выходило во двор. Переступая с ноги на ногу и поджимая озябшие пальцы, она стояла на холодных досках пола и уныло смотрела, как во дворе грузят на телегу поросенка два здоровых мужика в телогрейках, подвязанных ремнями. Она заткнула уши, чтобы не слышать визга на смерть перепуганного животного. Она открыла форточку и сквозь слезы закричала:
– Яблок антоновых купишь, ба, а, ба?
– Купишь, кали казу аблупиш! – сердито ответила Мария, помогая мужикам привязывать поросенка.
К счастью, Марии что-то понадобилось взять в доме, и она отперла сени. Алеся, как была, в одной рубашке, выскочила во двор, подбежала к телеге и стала подпихивать постилку под одуревшего от страха и неизвестности поросенка. Один из мужиков взял её на руки и отнес в дом.
Когда телега уехала и в доме стало тихо, она слезла с печки, села на пол перед иконой и сбивчиво, на своем детском языке, объяснила небесной заступнице суть дела – мол, бабушка древлерусская живет на свете с давних-давних времен, может, целых сто лет живет или даже больше, но это ещё не повод – покидать вот так сразу её, Алесину, компанию. А руки-ноги её от работы немножко, конечно, испортились, и нельзя человеку, да ещё такому хорошему, с такими поношенными руками-ногами на белом свете жить. Надо бы ей послать с неба новые руки, и ноги тоже поновее не помешают…
А работать Василисушке больше никто не позволит, просто чтобы ходить к ним, в Ветку могла, вот зачем ей новые руки-ноги нужны.
И всё. И тогда они долго прослужат, и её, царицу небесную, Алеся не станет больше отвлекать по своим детским делам. А если новых запасных рук-ног там, на небе, вдруг не окажется, может, просто закончились и не сделали ещё запас, то, может быть, можно какие-нибудь старенькие починить.
А то как же Василисушке на свете жить – гостинцы ведь надо носить, и чай пить – чашку держать?
Это была её первая серьезная молитва – она даже решилась на посулы, как это обычно делают взрослые, когда о чем-то между собой договариваются, подумав, что надо этой внимательной женщине с грустным ребеночком на руках что-либо пообещать за её работу, и не зная – что именно, сказала про кота – самое большое её сокровище: «Если Василисушка поправится, я ребеночку твоему Дыма отдам! Насовсем! А то малыш твой грустный очень, наверно, скучно ему всё время на руках сидеть. Хочешь? Дым такой ласковый! С ним так сладко спать на печке! И детей очень любит. Будет твоего сыночка ластить».
Немного подумав, она добавила: «А когда лето придет, я тебе явора с болота принесу, целый угол! Будет под иконой стоять и тебя радовать. Ты же любишь явор? Правда?»
Больше она не знала, что ещё можно посулить небесной заступнице – ну не обещать же ей своё «хорошее поведение»?
Перед тем, как закрыть дверь в залу, она помахала рукой женщине на иконе, как своей старой доброй знакомой, и даже, совсем развеселившись от мысли, что теперь Василисушка обязательно поправится, показала ребеночку «гуся» – согнув руку в локте и круто закруглив ладошку, она забавно «гагакала», делая большим и указательным пальцами птичий клюв. Тень «гуся» слабо дрожала в свете лампады, а рядом, по стене в неярких зеленых обоях ползла светлая солнечная полоса.
Женщина на иконе смотрела вполне благодушно…
Пора ставни открывать – весело подумала Алеся и вприпрыжку поскакала одеваться.
…Деньги за поросенка отвезли в Старое Село – на лечение. Да только не помогло. Зиму лежала Василиса «лежнем», а весной, как раз перед Пасхой, померла.
После кладбища все сидели в горнице, за длинным, некрашеным столом и ели из больших общих мисок деревянными ложками густой кисель…
На Пасху да ещё по родительским субботам Мария собирала узелок снеди, и они вдвоем с Алесей отправлялись пешком на Старосельское кладбище. Там Алеся, уже не сдерживаясь, горько плакала, ей вдвое было обидно – и за смерть Василисы, и за непригодность кота для какой-либо серьезной мены. Конечно, разве мог кот, даже самый умный и такой сказочной красы, показаться важным подарком такой важной женщине, а явор ей и так приносят на Троицу охапками. Целый угол!
И она спросила у Марии, когда шли с кладбища домой: «А чем за помощь богу платят?»
Мария не удивилась её вопросу и, немного подумав, ответила: «А ни чым». Алеся задумалась – как же так? Почему бог должен всем помогать бесплатно? И она решила уточнить: «А бог всем помогает?» – «Усим, усим, деука мая, усим, хто без граха».
Так вот оно в чем дело! Она – грешница!
Эта мысль ужаснула её. Особенно страшно делалось оттого, что она, Алеся, спокойно и весело жила на свете всё это время и даже не представляла себе, до какой степени грешна – ведь если кот Дым не смог своей чудесной красотой и вполне человеческим умом искупить её грех, то кто тогда вообще ей поможет?!
И она, богоматерь, могла сильно обидеться за то, что Алеся пыталась задобрить её, пусть и самым дорогим, с Алесиной точки зрения, но совершенно никчемным – по разумению богоматери, подарком…
Потом Алеся в ужасе вспомнила, как в пост Дым съел сливки из кринки, а бабушке сказала, что это она, Алеся…
Грех здесь был двойной – и солгала, и скоромное в пост ела. Не могут же там, на небе за каждой мелочью следить!
Иначе, зачем на исповеди вопросы всякие задают? Она ведь и на исповеди про сливки сказала – что съела их в пост. А кот вообще дома не был. И батюшка поверил…
Получалось, что солгала она дважды – Марии и батюшке. И это – только начало! А сколько ещё всяких других грехов за ней числится? А разбитая бутылка алея? А порез на ноге? А побеги на речку без спроса? А ложь на каждом шагу?
Алеся вполне уже понимала, что прощения ей не будет никогда, и никакие молитвы здесь не помогут…
Она остановилась и сказала решительно:
– Бабушка! Я хочу вернуться.
– Куды? – удивилась Мария, дергая за руку стоявшую столбом посреди дороги внучку.
– На кладбище.
– Чаго ты там забыла?
– Мне надо срочно попросить у Василисы прощения.
– Чаго, чаго?
– Прощения. За то, что я ей напрасно обещала новые ноги.
– Чаго?
– И руки тоже, – сказала Алеся, безнадежно вздохнув и опуская голову.
– Ну, пайшли, – внимательно глядя на неё, сказала необычно тихим голосом Мария, и они вернулись с полпути.
Алеся сидела на траве, рядом с могилкой и горько плакала о том, что вот так живешь на свете и даже не понимаешь, что уже успел всем навредить. А эта женщина с небес смотрит своими зоркими глазами, и ничего не упускает.
Всё про всё помнит…
И ей стало неприятно думать о том, что ещё в будущем строгая богоматерь заметит со своей высоты и обязательно припомнит когда-нибудь, когда ты уже про этот свой грех и думать совсем забудешь. Конечно, она не какая-то там вреднючка злопамятная. Просто у неё работа такая – она должна быть справедливой ко всем.
Но всерьез обидеться на женщину с маленьким скорбным ротиком и большими печальными глазами всё же не получилось – да, просто у неё работа такая! Она и сама, наверное, переживает, что ей надо всё время приглядывать за людьми, запоминать, что они там, на земле, такого страшного нагрешили. Может, ей тоже иногда хочется просто так поиграть со своим ребеночком, как другим женщинам, разрешить ему немного пошалить, а для этого надо отвернуться или закрыть глаза, но она не может, у неё нет времени. Ей надо всё время смотреть за людьми…
Вот и сидит она день-деньской с несчастным младенцем на руках, который чуть уже не плачет, хотя и рот не открывает, так ему хочется побегать по траве…
Теперь Алесе стало до смерти жаль богоматерь с её невеселым несчастным младенцем на руках. Ночью, когда все спали, она тихо пробралась в залу, села на пол перед иконой и тихо-тихо прошептала: «Знаешь что, за Василису я не обиделась, даже не бери в голову, слышишь? Ну же, одобрись!»
Однако глаза на иконе смотрели по-прежнему строго и отстраненно.
Тогда она немного подумала и обнадеживающе добавила: «Скоро и тебе свобода выйдет! Мне Василисушка в старой песне пела. И ты будешь жить, как тебе захочется! И будешь со своим ребеночком на лужайке вольно играть. И никто не закричит – а ну, иди-ка на своё место! И кот у вас свой будет, правда-правда! Может быть, это будет сынок или внучок нашего Дыма…»
Дождавшись, когда Иван снова захрапит, она осторожно выбралась из залы и быстро шмыгнула к себе на печку, в приятное тепло и добрую компанию кота Дыма, которому и во сне не могло присниться, какая заманчивая перспектива внезапно появилась у его потомства.
Иногда она смотрела на плачущую Марию и рассуждала втайне: вот случись такое горе с её бабушкой, Марией, она, Алеся, не станет дожидаться воскресенья, чтобы пойти на базар и продать там что-нибудь, а сразу даст телеграмму хоть в саму Москву, потому что Иван всегда говорит, когда сердится на неё за каверзные вопросы – ума палата, хоть в саму Москву посылай!
А это могло означать только одно – уж где-где, а «в самой Москве» всегда точно знают, что и как надо делать в разных там опасных случаях. И пришлют тогда «из самой Москвы» самого лучшего доктора. «Вылечи мою бабушку!» – попросит она самыми добрыми словами, а потом, когда Мария излечится, она будет работать на этого доктора хоть всю свою жизнь. Пока не заработает столько денег, сколько стоит самое дорогое лекарство на свете. В Москве всё есть. Там даже есть кто-то страшный, который по радио всё время грозится, что съест народных депутатов. И она как-то тихо спросила, чтобы дедушка не услышал, не депутат ли их Иван? На что Мария сердито ответила – «адчапися»!
Теперь Алеся внимательно приглядывалась к тому, как Мария ходит. Однажды, когда ей показалось, что Мария начала прихрамывать, она, как бы невзначай, сказала: «Бабуленька, давай с тобой посидим на крылечке. Ты мне страшную сказку расскажешь».
Мария отвечала всегда одинаково – не замай! А сказок не знала или не помнила, садиться отказывалась и продолжала делать свою бесконечную работу. Алеся настаивала, чувствуя непосильный груз ответственности за свою последнюю доступную бабушку, и та, наконец, удивленно спрашивала: «А ти ты стамилася? Иди у хату, бяры книжки и разглядывай малюнки».
Книжек в Алеси было много. А читать она выучиась так – пришла как-то к ним в гости из Старого Села племянница Марии, Алеся её и попросила научить читать. Та взяла карандаш и написала на коробке от домино – «ЛОРКА-КОРКА». Буквы она запомнила и из них сама уже написала несколько новых слов – «кора», «крок», «рока», «кола».
…Через неделю Алеся снова пристала к ней – напиши новые слова. Та по – смотрела на её записи и рассмеялась: «Это что за „рока“?» – «Ну вот», – сказала Алеся, показывая на свою руку. Девушка исправила ошибки и объяснила, что не все буквы звучат одинаково – в разных словах они произносятся по-разному. Алесю это очень удивило и даже показалось глупым – а почему же нельзя придумать буквы на каждый звук? И она стала придумывать разные значки для обозначения различных звуков. Для известных ей в письменном виде слов она нарисовала два десятка картинок, а когда её домашняя наставница спросила, весело смеясь, что это за иероглифы, она, до близких слез обидевшись, с достоинством непонятого лингвиста – серьёзно, хотя и несколько отчужденно, ответила: «Так… Чтобы люди не путались».
Ей выдали тетрадь, в которой были записаны три десятка слов в форме знакомых стихов-считалок:
«Дождик, дождик, перестань, мы поедем на Ростань, богу молиться, Христу поклониться!», «На золотом крыльце сидели…» и других, тех, что дети обычно выкрикивают на улице, когда вместе играют.
Так была освоена грамота, и Алесе стали доступны не только картинки, но и сами тексты в книгах. Она сама нашла библиотеку, записалась в неё и первым номером взяла две самых интересных – «Конек-горбунок» и «на Баррикадах» – обе книги были в ярких, с рисунками, обложках. На печке, за трубой, нашла ещё и старый учебник истории для пятого класса.
Отчего же такие плоские тела у воинов? – думала она, разглядывая изображение колесницы и всадников на конях. – И головы повернуты набок! У тех, кто на троне…
Её это очень удивило, она не могла отделаться от назойливой мысли о том, что в этой очевидной глупости художника, возможно, есть какая-то жуткая тайна. И вдруг её осенило – ну, конечно, всё просто – он, этот правитель, просто глухой на одно ухо! Вот и повернул голову набок, чтобы лучше слышать своих подданных!
Зато «Конек-горбунок» был без таких вот каверзных закавык – простой и веселый, как и положено сказке. Вот только жалко рыбу-кит, зачем же ей спину плугами пахать? Больно ведь все-таки…
А может, это вовсе и не рыба, а живой остров. Хочет, стоит на месте. А не захочет – возьмет и пойдет на дно! Наверное, и в этой истории есть своя закавыка.
Книжка «На баррикадах» была тоненькая, и картинки в ней не цветные, хотя тоже очень интересные. Дети воюют! И как странно они одеты! Воюют, потому что тоже хотят, чтобы воля поскорее вышла.
Эту волю, плененную неизвестно кем и неведомо когда, Алеся себе представляла в виде женщины в большой светло зеленой шали, с распущенными волосами по пояс, с красивыми длинными глазами до висков, и обязательно с цветами в руках – розовыми, желтыми и голубыми.
Идет она, эта воля, через леса и болота и смотрит вдаль, и явор перед ней расступается и ласково стелется под ноги…
Как давно жили фараоны, Алеся даже вообразить себе не могла, потому что самым большим ощущаемым количеством была для неё цифра «сто и даже больше» Записывала она это так – единичка два нуля. Причем второй ноль был высокий и жирный, раз в пять больше нуля первого. Вот это и было – больше ста. А тут – целые тысячи лет! Сколько это – ничего не ясно. Сто – это два полных кармана листьев липы. Она их могла сосчитать. И десять – тоже понятно, это помещается в одной руке, из десяти листьев клена можно сделать небольшую гирлянду на этажерку с книгами. Но тысяча!
Теперь это новое для неё количество прочно было увязано с образом фараона, хоть и страдающего на одно ухо слуховым расстройством, но все-таки чуткого к нуждам своих верноподданных.
Когда, наконец, размышления о понятии тысяча настолько надоело, что перестало её тревожить – просто очень-очень много и всё, она удивилась другому невероятному открытию – как давно люди за волю воюют! Ведь и в учебнике с фараоном на обложке было написано то же самое…
И тут её объял дикий, совершенно неведомый ей до этого страх. Она опять обманула! И кого?! Эту тихую грустную женщину с ребеночком на руках, которая и мухи не обидит и всем верит на слово! Ведь та могла подумать, что воля совсем скоро выйдет, может быть, даже этим летом! Она ждет-пождет себе, ребеночка успокаивает – скоро, скоро шалить будешь, сколько хочешь, и даже на речку один побежишь гулять по воде, – а воли всё нет и нет!
А что «воли нет», она точно знала от Василисушки. Иван тоже говорил, и Мария часто говорит – была б моя воля!
Значит, её нет, этой самой воли. Никто ведь не будет мечтать о том, что у него уже есть. Она стала внимательно следить за иконой, иногда ей казалось, что глаза тоскующей женщины делались такими грустными, что казались совсем черными.
И тогда она снова приходила к ней ночью. Осторожно садилась на пол и тихо шептала: «Потерпи маленько, ну чуть-чуть потерпи! Скоро уже, скоро…»
А младенчику, чтобы стал чуть-чуть веселей, показывала «гуся» и «собачку». Глаза у ребеночка веселели, но ротика он так и не открывал…
…Однажды Мария разбудила Алесю рано, когда ещё Иван на работу не уходил.
– Годе спать, у церкву пойдем. Свята сення. Сафия.
– Ба, а Дым пришел?
– Нямашака.
Дым пропал неделю назад, тоже был праздник – рождество богородицы. И тоже они с Марией в церковь рано ходили.
Алеся бегала по улицам и спрашивала у всех – не попадался ли кому на глаза её кот, большой такой и очень красивый. Однако никто кота не видел, и только старуха Тося, что жила у самого луга, сказала, будто видела похожего кота из окна. Его машина сшибла, но не насмерть, а просто оглушила. Тут, откуда ни возьмись, появилась нищенка с клюкой, завернула кота в лопух и положила в свою котомку. Тося вышла в проулок, чтобы сказать нищенке, что кот хозяйский, а той уже и след простыл…
Они ждали, что кот вдруг придет, возникнет из ниоткда, без никаких поисков, но Дыма все не было и не было. Алеся спрашивала о коте уже привычно, безо всякой надежды, и слезы снова комом встали в горле и мешали дышать.
Она спрыгнула с лежанки, быстро оделась и побежала во двор.
Ей стало трудно дышать – от колючего свежачка по утрам уже бывало морозно, а не просто прохладно, но умывались всё ещё из рукомойника за крыльцом. Однако едва открылась дверь, глазам её предстала картина, от которой дыхание прекратилось вовсе. То, что она увидела, казалось ей волшебным продолжением чудесного предрассветного сна. На крыльце сидели два больших, просто огромных кота!
Она протянула руки и осторожно прикоснулась к одному из них. Кот был наяву!
Потом она потрогала второго – он тоже был живой!
Нет, это ей не снится. Коты самые настоящие. Они были совсем ручными и, ласково мурлыча, гудели, как трансформатор, когда Алеся их гладила по блестящим черным спинкам. Один кот был немного толще и крупнее второго, но они всё же были братьями, так она почему-то решила. Глаза их были одинаково янтарными и круглыми и смотрели доверчиво и по-детски. Темная, почти черная блестящая шуба, мех под мышками коричневый, на шее у младшего красовалась белая звездочка, у второго, он был крупнее – белая перевязь на животе.
Она взяла их на руки и едва дотащила до печки, каждый кот весил, наверное, как пять буханок хлеба. Младшего кота она назвала Звездочкой, из-за белого узора на шее. Того же, что был больше ростом и толще, Софоклом, или – Софиком, за его спокойный и полный мудрости взгляд.
Так начался праздник Веры, Надежды, Любви и матери их Софии.
Не дождавшись возвращения Дыма, Алеся для себя решила, что вся эта волшебная история может иметь только одно объяснение – Дыма богоматерь все-таки взяла себе. А ей взамен дала двух своих котов. Из этого следовало, что у небесной царицы есть всё, даже чудесные красивые коты, почти такие же замечательные, как и её Дым. И, вообще говоря, она, богоматерь, могла бы и без её Дыма обойтись, но все же мена состоялась, хотя и не такая, на которую надеялась Алеся. Но как же насчет воли? Выходило, что и воли небесной царице не надо. Она у неё и так есть. Просто она её не употребляет без надобности, так ей, наверное, хочется. Вот дедушка тоже мог бы по выходным на службу не ходить, а ходит! Особенно когда квартал кончается. И чтобы квартал не умер окончательно. Он и ходит на работу в свой выходной. И это – по своей собственной воле.
Конечно, кому приятно смотреть, когда кто-то кончается. Даже если этот «кто-то» просто квартал. Он стонет, мечется, ему плохо…
Тут всякий по своей воле пойдет помочь.
Как он кончается, Алеся точно не знала, но Иван, без всякого сомнения, своим присутствием на службе мог ему, этому кварталу, конечно, как-нибудь помочь.
Теперь Алеся о Дыме хоть и вспоминала по-прежнему часто, но уже без той угрюмой тоски и противного кома в горле, что в перые дни после его исчезновения. Она верила в то, что Дым не пропал, и ему сейчас хорошо.
– Ба! – спросила как-то Алеся. – А ты почему книжки не читаешь?
– А што у тых книжках такого, чаго мне не хапае? – отвечала вопросом на вопрос Мария.
Но Алеся видела, что есть в этом какая-то закавыка. И она прямо спросила: «А ты в школу где ходила – в Старом Селе или здесь, в Ветке?» Мария вытерла руки о фартук и сказала: «Я у школу хадила адну зиму. Работы у матки было многа. Некали было у школу хадить».
Всё встало на свои места. Теперь Алеся понимала. Почему, когда приносили пенсию, бабушка говорила: «Иди, деука, распишися, не ведаю, дзе мае ачки».
И добавляла, повернувшись к почтальонше: «Не гляди, што малое. Яна грамату знае. Няхай расписваецца».
А когда дверь закрылась, и они остались одни, Алеся сказала ласково и настойчиво, тесно прижимаясь к мягкому животу Марии: «А давай, я тебя учить грамоте буду!»
Мария сначала отмахивалась – а йди ты! Но потом согласилась и читать выучилась скоро.
«Я адну зиму у школу хадила», – сказала Мария и принялась писать крупные неровные печатные буквы.
Слово же писала пока только одно – свою фамилию, только первые буквы «Рома» и потом длинный хвост-росчерк. И это было здорово – теперь не надо искать вечно потерянные очки, когда принесут пенсию, а внучки не окажется дома. Вывески же она читала легко – «райсобез», «горпо», «раймаг».
«Райсобез» отдавал чем-то сочувствующим, «горпо» было словом жестким и строгим, а вот «раймаг»…
Это последнее, волшебное слово давно интриговало Алесю – маг в раю! Но, когда они туда зашли с Марией, оказалось, что рай там действительно был, в смысле – было много всего, а вот мага обнаружить не удалось. Хотя про хмурого продавца с маленькими ручками и толстым животом Мария сказала как-то в разговоре с Иваном – вельми крутамозки! И это могло означать только одно – он умел крутить мозгами. А это, конечно, настоящий фокус. И не каждый так умеет.
Алеся удивлялась, сколько есть на свете слов, настоящее значение которых просто невозможно узнать. Об их смысле можно только догадываться.
Скоро она сделала ещё одно важное открытие. Относилось оно теперь уже не к отдельным словам, а целым предложениям. Люди говорили и писали одно, а понимали под этим совершенно другое. Когда она читала в книге, что кого-то в воду опустили, становилось ясно, если дальше прочесть, что этот кто-то просто имел унылый вид. А когда в ту же воду опускали концы, то это надо было понимать, что кто-то что-то важное хочет скрыть. А кануть в воду значило просто хорошо спрятаться. Когда с гуся текла вода, то понимать надо было, что кто-то очень хитрый и умеет притворяться, что ему всё «по балде», как говорит её дружок Сенька. А когда кто-то прошел через воду и огонь, это значило, что его много били, а если кто-то мог броситься в огонь и воду, это значило, что человек этот храбрый умный и хитрый. Потому что мокрая одежда не горит. А если кто-то мутил воду, то понимать это надо было так: этот кто-то не просто хитрый, а ещё и обманщик. Если кто-то ловил рыбу в мутной воде, то попадались ему не караси и окуньки, а деньги, и наверное, монетками… А если кто-то не мутил воду, то был это человек тихий и простой. А тот, кто в воду глядел, просто был колдуном. Кто же носил воду решетом, был от рождения бездельником или просто дураком. Кто же писал по воде вилами, явно хотел кому-нибудь голову задурить. Если же кто-то набрал в рот воды, то ясно было, что он просто обиделся или почему-то не хочет разговаривать. А кто сидел на хлебе и воде, тот просто ничего не ел. Лить воду на мельницу означало кому-то поддакивать, наверное, тому, у кого эта мельница была. Кто же был седьмой водой на киселе, просто притворялся родственником и своим человеком. А уж кто мог выйти сухим из воды, тот был ужасно опасным и хитрым человеком. Кто же умел ходить по воде, тот был самим Христом.
Так много этих мудростей было связано с водой, что Алеся даже пошатнулась в своей вере – в то, что люди произошли от птиц. Наверное, они произошли от рыб. И жизнь их была такой, что надо было всё время делать вид, что ты думаешь совершенно не о том, о чем на самом деле думаешь. Вот они и придумали разные хитрости со словами.
И теперь совершенно понятно, почему кто-то воду толчет в ступе или каких-то людей водой не разольешь, сколько её ни лей…
Эти невозможные тайны занимали её воображение, но более всего ей хотелось знать – кто же все-таки был тот ужасный, кто хотел всех съесть?
Она, слушая утром радио, лежала на уже остывшей печке и мечтательно думала, как, должно быть, сказочно красивы заснеженные стены Кремля. Сам Кремль она видела на картонной упаковке духов «Красная Москва» – в виде башни, у жены начальника почты, когда ходила играть с их дочкой. Но снега на этом Кремле почему-то не было. А ведь должен был быть! В песне ясно сказано – утро красит снежным светом стены древнего Кремля. А снежным свет делался оттого, что Кремль был весь в снегу. Неужели тот, страшный, затаился где-то там, у прекрасных стен заснеженного Кремля, и ловит момент, чтобы жадно съесть народных депутатов…
Жуть!
И ещё одна непонятность – волшебные кустракиты над Москва-рекой! Она хорошо себе представляла эти огромные деревья, и под их корнями, которые уходят далеко под воду, живут большие красные раки, и может, этот страшный как раз там и спрятался и теперь ждет своего часа? Однако никто не знал наверняка – почему стены Кремля снежные, и каково оно на самом деле – это волшебное дерево кустракита. Не знала племянница Марии, что за чудесные кустракиты растут в родном, навек любимом крае, не знал и сам Иван. Мария же просто сказала – адчапися! И Алесе ничего другого не оставалось, как ещё и ещё раз вслушиваться в слова песни, которую каждое утро передавали из Москвы по радио какие-то простодушные и беспечные люди – «Край родной, навек любимый – кустракиты над рекой»…
Вот они поют и радуются чудесным кустракитам над рекой, и никто-никто не знает, что скоро этот страшный съест народных депутатов и даже самого капээсэса. А этот неведомый капээсэс, уж конечно, кто-то очень непростой!
И оттого, что всё-всё было так непонятно, и никто ничего не хотел толком объяснить, становилось ещё страшнее.
Однажды Алеся попросила Марию отвести её к Ивану старшему, отцу её дедушки. Мария сказала, что он совсем старенький и живет «сам» – книжником, а это означало, что он не любит, когда его беспокоят. Но всё же в родительскую субботу, когда ходили на кладбище, зашли и в маленький домик на краю села. Там жил её прадед Иван.
По дороге Алеся спросила:
– А где Василиса жила?
– А тута, – сказала Мария, показывая на домик прадеда.
И тогда она впервые рассказала Алесе, что мать Василисы звали Марией, а бабушку – тоже Василисой. И жили они вовек в этом домике. А когда Василиса слегла прадед Иван, к тому времени уже овдовевший, переселился к ней в домик и, сам уже слабый, как мог, ухаживал за хворой. В селе говорили – сошелся со своячницей. И, таким образом, был Алесе, по линии Марии и Василисы, как бы прапрадедом.
Прадедушку Алеся видела первый раз. Он был очень похож на старичка из книжки волшебных сказок. Волосы на голове были черными, глаза синими, а нос и лоб составляли одну линию в профиль. На полке между окнами стояли книги, сам старичок, в очках на веревочке, что-то внимательно читал и, казалось, не заметил их прихода. Они поздоровались, Мария, немного поговорив с хозяином, ушла, оставив Алесю наедине с маленьким старичком в очках на веревочке.
– А что ты читаешь, дедушка? – спросила Алеся.
– Книгу, – ответил прадед, откладывая чтение и ввнимательно разглядывая девочку. – И ты читай книги, на свой только разум не надейся. Толикая есть слабость человеческого рассудка, что если мало отдалится от вещей, им осязаемых, из заблуждения в заблуждение ввергнется, то как возможно человеку льстить себя достигнуть единою силою своего рассудка до понятия высших вещей. Блаженство рода человеческого много от слова зависит. Как бы мог собраться рассеянный народ, как бы мог он строить грады, храмы, корабли, ополчаться против неприятеля и другие, требующие союзных сил, дела творить, если бы способа не имел сообщать свои мысли друг другу? А язык, которым Российская держава великой части света повелевает, имеет такое природное изобилие, такую красу и силу, что никакому иному языку не уступит, и даже пребудет впереди. Вот что такое наша речь.
– Дедушка, а речь – это речка? – спросила Алеся, весело засмеявшись.
– Речь – это речка. Но течет в её русле не вода, а человеческая мысль. Это ты правильно заметила сходство. Учись красноречию, и всегда впереди твои мысли будут.
– А красноречие – это…
– Это есть искусство – перебил её прадед, – искусство о всякой материи красиво говорить и тем преклонять других к своему об ней мнению. А ты, я вижу, хоть и мало воспитана, что всё старших перебиваешь, а всё ж природные дарвания имеешь. Это хорошо. Особливо важно иметь хорошую память и остроумие, это в учении так же важно, как и добрая земля для чистого семени. Ибо как семя в неплодной земле, так и учение в худой голове тщетно есть и бесполезно.
Алеся мало что поняла в этом его долгом, как зимняя ночь, высказывании, но, помня его замечание, вежливо кивала и продолжала внимательно слушать. Не только возражать или переспрашивать, а даже вольно говорить какие-то слова этому волшебному старичку, она уже не смела. Из длинного наставления своего ученого предка она поняла только одно – раньше люди все книги знали наизусть. И если Алеся хочет чему-то научиться и что-то познать, она должна, прежде всего, научиться запоминать и вспоминать.
Дома уже, лежа на печке, она долго думала – как этому можно научиться.
«Сам Иван» был самым, наверное, грамотным человеком и в селе, и в городе Ветка. Во всяком случае, так про него говорили, когда кто-то что-либо не мог для себя уяснить – у граматея спытали?
К Ивану ходили на суд даже буйные соседи. Он всегда говорил тихо, даже немного медленно, и с ним никто не спорил.
И он, её ученый дедушка, тоже ничего не говорил. Наверное, тоже ничего не знал! Потому что если бы знал, обязательно сказал бы про этого страшного…
Но Иван молчал, а если говорил, то про экономический потенциал Ветки и про новый мост, который скоро построят через Сож.
Когда началась война с немцем – в 14-м году, Ивана, тогда уже женатого, взяли в штаб, писарем. Вернувшись с войны, тут же подался в Гомель, не долго крестьянским трудом тешился. Тогда он увлекся экономическими вопросами, а в Гомеле работал известный в то время молодежный кружок «Мы – за свободу и разум». Первые лекции были посвящены национальному экономическому вопросу, и товарищи Ивана по новому увлечению много и бурно выступали на тему о том, почему это свободным считается то, кто может позволить себе бездельничать, а если ты в поте лица добываешь свой хлеб, то ты – раб, потому что работаешь!
Мария не стала, да и не смогла бы, ему перечить. Не было тогда такой моды – мужа поучать. Ушёл на чистую жизнь – значит, так надо. Виделись они теперь только по воскресеньям и праздникам.
На той же улице, где жили Иван и Мария, поселился Акимка, старинный Мариин ухажер. Отец его ушел с белополяками и осел где-то на Западней.
Марию он заприметил, когда та совсем ещё молоденькой девицей была, было это на Спаса. Акимка вез яблоки на ярмарку, а Мария за мёдом на базар наладилась – припарки медовые Василисе на ноги делать. Сядай, подвезу! – Ну, села. Слово за слово, дорога незаметно прошла.
Потом ещё раз-другой в Старое село заглядывал, сам же был халецкий, версты полторы от них будет. И вдруг пропал, куда девался, никто не знал. Отец жил бобылем, слова из него лишнего не вытянешь…
Когда вернулся, Мария уже замужем была, он, год промаявшись под чужими окнами, женился, взял в жены Марыльку – маленькую, неврзачную полячку с весьма крутым, однако, нравом. Поляков ещё много оставалось в этих краях и после двадцатых.
И побежали годочки один за другим зима – лето, зима – лето, зима – лето…
Настал тридцать шестой.
Одиннадцатого июля готовились праздновать шестнадцатую годовщину освобождения. Мария тоже на митинг пошла, ей, как жене председателя райпотребсоюза, было строго предписано посещать все общественно-политические мероприятия.
На Красной площади, перед магазином сельпо и на Советской площади – перед райкомом партии было полно народу. Куда ей надо, она точно не знала. Решила пойти на всякий случай на Красную. С ней была и младшая дочка Броня. И не ошиблась – Иван стоял на трибуне. Мария указала дочке на него.
– Гляди, вон твой батька! Слухай, што казать будуть.
Броня захныкала, ей хотелось побежать к подружкам и заняться привычным делом – беготней по улицам, пока домой не загонят уроки делать или по хозяйству что помочь. Но Мария сильно дернула её за руку – «тиха стой!»
Иван говорил недолго – поздравил ветковчан с праздником и уступил место у микрофона гостю из края. Тот, напротив, говорил долго и громко.
– Дорогие братья! – начал он, прокашлявшись. – Я – белорусский рыбак с озера Нарачь, теперь для вас я, ваш брат, западник. Страшенные бедствия терпим мы там, хлеб едим только на Каляды, а в другие дни – только бульбу, да и то не досыта. Про яйца и масло и думать забыли, это для нас – роскошь. Спичек тоже не покупаем. Из одной хаты в другую горшочек с углями носим. Огонь добываем из кремния, как якия-то приматы. Керосин могут купить самые богатеи. А тут ещё стали строить военные заводы, и земли наши отымать стали и отдают их асадникам – служкам фашистским! Вот какая у нас жизнь там настала, братья!
У оратора заиграли желваки, стиснув кулак, он погрозил на запад, невидимому лютому врагу.
Все дружно захлопали и громко закричали – долой! Долой! Долой!
Мария слушала и незаметно поглядывала на небо – лениво тянулись длинные седые облака, белесое солнце просвечивало сквозь них слабо и нежарко. Бульбу апалоть нада. Ти паспеем да начала дажжей?
Ей было жалко людей, которые едят «только бульбу», а хлеб – на Каляды. У них тут было и сало, и гусятина. Хозяйство в Ветке держать не хлопотно, не так, как на селе. Луга здесь рядом, за околицей, трава высокая, сочная, корму скоту хватало. На поле сеяли жыто, просо и пшеницу. Кукуруза росла в огороде, на задах. Семья Ивана и в селе не была бедняцкой, но и кулаками их не числили, так что отбирать ничего не стали. Семья большая была и дружная, в бедность никому впадать не давали. И теперь, в городе Ветка, связь с селом не кончилась – Иван им денег посылал, а ему оттуда – яиц да бульбы, куриного пера на подушки, льна на простыни.
…На трибуне сменился оратор. Теперь говорил человек из обкома.
– Вот тут товарищ с Западняй рассказал нам про их трудную жизнь, а я от себя добавлю последнюю информацию – только на одном Полесье отобрали у людей тридцать тысяч га земли. А ещё больше – на Виленщине. – (В толпе прошел ропот.) – Да, это так – Западные Украйна и Беларусь теперь стали колониями! Внутренними колониями Польши! – (Шум в толпе митингующих всё усиливался.) – Их вице-премьер Квятковский на днях заявил: есть теперь две Польши – Польша «А» и Польша «Б». А что это значит? А то. В Польше «А» сосредоточена вся промышленность, почти все культурные и научные учреждения. А вот десять миллионов наших бывших граждан на Западняй не имеют даже своих национальных школ! А в польские их не пускают! Вот и получается, что большинство наших братьев – теперь неграмотные. «Злочынцами» объявляют тех, кто требуют открытия национальных школ!
Пока шел митинг, Мария передумала все свои думы – и про бульбу, которую надо спешить окучить, и что корова стала туго доиться, и пол подойника не нацедишь. И что Франю, старшую, хвароба змучыла…
– А что это ты, бабонька, не хлопаешь, когда товарищ секретарь говорит? – шелестел прямо над ухом знакомый голос. – Га?
– А йди ты, сатано! – отмахнулась Мария от Акимки, во все глаза глядя на трибуну и ощущая холодок в спине, между лопаток и противную тяжесть в ногах.
Она ждала пятого ребенка и знала, что родится мальчик, живот не раздался вширь, а торчал бугром. Четвертое дитя умерло при родах год назад.
– Мам, а, ма! – канючила Броня. – А пойдем домой!
– Тиха, деука. Цыц! – усмиряла Мария дочку, едва сдерживая тошноту.
На другой день было гулянье, и во всех окрестных колхозах объявили выходной. Правление выдало каждому колхознику по десять рублей.
С утра небо хмурилось, временами слабо накрапывал дождик, но к полудню погода разгулялась, а в шесть часов вечера в сквере над рекой заиграли фанфары.
Здесь сейчас была вся Ветка. На деревянной площадке, где всегда по субботам и выходным играл духовой оркестр, стояло несколько человек. – «Ти то ж апять митинг буде?» – подумала Мария, крепко держа Броню за руку, но тут из тарелки громкоговорителя с треском и жужжаньем выплеснулось звучное – «Трудящийся народ горячо любит своего вождя!»
Со всех сторон закричали «урра!»…
Пока волны аплодисментов катились от сквера к реке, над Сожем заклубился легкий туман и летний сумрак подполз тихо и незаметно и накрыл собою все окрестные улицы и заулки.
К пристани подошли моторки, степенные и нарядные мужики, разодетые бабы и девки, веселая ребятня – вся эта пестрая толпа шумно повалила к причалу и загрузилась на украшенные фонариками и гирляндами палубы. На каждой играл свой духовой оркестр. Катались по реке долго, потом гулянье продолжилось в сквере. Вспыхивали фейерверки, заглушая друг друга, играли вразнобой оркестры…
Напрасно Мария высматривала мужа, за весь день он к ней так и не подошел ни разу. Она его видела издалека – вокруг Ивана всё время толпились какие-то дядьки. Зато Акимка крутился вьюном, и на моторку тоже сел вместе с ней, на ту же палубу. Лицо его, нагловатое во хмелю, всё время оказывалось как раз там, куда она направляла свой взгляд. Один раз он даже наступил её на ногу, что на местном языке влюбленных означало неуклюжую попытку объяснения в чувствах. Мария так свирепо глянула на него, что он больше не решился мозолить ей глаза и дальше и подался к мужикам.
– Нияк на тябе глаз паклау, – со смехом сказала Домна, незамужняя соседка Марии, отсыпая в карман Марии тыквенных семечек. – А што ж твой чалавек няйде?
– Ня балтай, балаболка! – сердито сказала Мария, ожесточенно лузгая семечки.
– А чыя гэта маладица пайшла? – переключилась на другую тему Домна. – А каму вон той сваяк буде?
– Погулаяем, красавицы?
Снова возник Акимка и тут же был изгнан вдруг сделавшейся стро – гой и неприступной Домной:
– А ты сиди, бес!
Акимка втянул голову в плечи и понуро побрел в темноту. Мужик он был ничего, хоть как посмотри. Да не было у него таланта нравиться людям. Все его от себя гнали, и мужики и бабы. А тут ещё за отца насмехаются – выродок кулацкий!
Сейчас он стоял один, безо всякой компании, в тени акаций и смотрел злыми глазами на веселую толпу. Вот был бы он председателем или хотя бы старостой халецким, не так бы с ним обходились – не гоняли бы от себя, не насмехались…
Он завидовал многим, но больше всех – Ивану. Грамотей, тудыть его в качель! Был бы Акимка на его месте, он бы ни на минутку не отпускал от себя эту красавицу кужлявую!
Мария, родив четверых детей, ещё краше стала, чем в девках была. Не испортили её фигуру роды, не портила её и беременность. Бедра стали шире, но талия упрямо возвращалась к прежнему, девичьему размеру.
Густые черные волосы вились ещё бойчее, светло-карие глаза смотрели смело и открыто, спина, хоть Мария и таскала тяжести, как все другие бабы, тоже оставалась прямой и неширокой, как у девки. А уж как наденет в праздник плюшевую жакетку в обтяжку, так и заноет Акимкино сердце, так и заноет в бессильной тоске…
Здесь, в этих краях, Акимка видал разных баб – были и такие раскрасавицы, что хоть завтра за шляхтича отдавай, не осрамишься. И хороши, и статны, но в Марии был, кроме красоты и стати, ещё и свой гонор – этим прямым открытым взглядом янтарных глаз она его и сразила в первую же встречу. Откуда у девки-беднячки такие глаза безбоязные?
«Паненкай паглядае! А годы выйдут, такая же старая стане!» – говорила про неё Марылька, перехватывая тоскующий не по ней взгляд мужа.
Да. Пройдут годы, и она, эта раскрасавица, тоже сделается старой, сгорбленной, как все старухи в округе, Работа на хозяйстве кого хочешь укатает!
Но даже эти мысли не могли утешить Акимку и погасить его тяжелую страсть. Даже старую и сгорбленную, он бы её желал так же пламенно и нестерпимо. Была бы его воля – убил бы, чтобы никому не досталась, раз судьба отвела ей другого мужчину.
Как-то Марылька сказала в сердцах:
– Всё сохнешь по своей красуле? Паненкой из курятника всё бредишь? А своя жонка лагодная не люба тебе? А то бабы казали…
– Паненка и есть. Значится, квас не про нас. И не слухай ты хлусню бабскую. Ничога не было.
– Ах ты, жук гнаявы! – кричала на него Марылька и била неверного рушником.
Однажды, ненароком встретившись на улице у колодца, Акимка подошел к Марии – будто помочь ведро на коромысло подцепить, и тихо, почти в самое ухо, сказал:
– Что это ты, бабонька, всё зыркаешь на меня, как на ворога? А я ж тебя, любка моя, больше жизни кахаю.
– Няужо? Адчапися! – тихо крикнула Мария, расплескивая воду. Но Акимка совсем забыл осторожность – близость любимой женщины совсем помутила его разум.
– Иди да мене, красуля, Ивана сення в селе нетути.
Мария поставила ведра на лавку у колодца и прошипела ему в лицо:
– А ты усё больш нахабны робишся! Я ж тябе, штоб ты знау, болей смерти ня хочу! Нашморгае табе Иван загрывак! Вот пабачыш! Прыде час!
– Ишь ты, панна якая! Чем я не подохожу, а? Мужик как мужик. Не пальцем, знаешь, делан! А ты кто такая супратив меня? Весь ваш род ганарливы, штоб вас усих… – злобно сказал Акимка и отошел в сторону. А когда Мария прошла шагов десять по тропке, негромко крикнул ей вслед: «И нечего нос драть! Нихто ты. Поняла? Нихто передо мной! Поняла, ты, хлусливая баба?»
Мария не обиделась на его грубые слова – она их уже не слышала. Она любила своего Ивана, была с ним обвенчана, и даже думать о том, что кто-то мог бы встать между ними, в её голову не приходила и не могла придти.
Судьба такая – жить за Иваном. А судьбу не меняют. И никакой мужик на целом свете не мог для неё хоть что-либо значить.
…Акимка рос незлым мальцом. Только не очень его брали в компании. Да ему и в одиночку не сильно скучно было, любил зверьё, особенно, дворовую собаку, что на привязи у амбара сидела. Ему жалко было псину, и он подкармливал своего мохнатого дружка Каштана, таская из кухни кости и корки хлеба, когда батька не видел. Узнает, порки не миновать. Однажды, когда Акимка отвязал Каштана и пустил его побегать на задах усадьбы, батька так цопнул его за шиворот, что чуть шею не свернул. Тогда Акимка был посажен на цепь и просидел у собачьей конуры до самой ночи. Мать плакала, а батька сказал, что прибьет её, если она отвяжет сына.
После этого случая Акимка стал заикаться, особенно сильно, когда шел к батьке на отчет. Через год бабка-шептуха заговорила, заикаться он перестал, но к собакам подходить не решался. И даже как-то бросил камнем в бродячего пса.
Получилось так, что работники украли мешок зерна из амбара, и Акимка это видел. Батьки он по-прежнему боялся, хотя уже осмеливался в глаза ему смотреть, когда тот брался за плетку.
У Акимки тогда уже усики пробивались. На девок начал заглядываться. Против батьки идти он, конечно, не мог, но и себя в обиду давать не спешил.
Он видел, как мужики мешок с амбара тащили, не потому что пожалел их, а просто батьке хотел отомстить – вот никому и не сказал. Когда батька стал дознание вести, один мужичок всё про больную жинку что-то мямлил, мол, с печки не слезает, хворая, у другого – детей полон двор, вечно голодных…
После десятой плетки этот, последний, стал кричать, что их нечистый попутал, «смутил з розуму».
«Вон твой пацаненок видел! Супротив своей воли в амбар залезли!» – так кричал мужик под плетью, а батькина рука уже тянулась к его, Акимкиной шее.
Мужиков отпустили, а нерадивый сын был порот до потери пульса. После наказания его отнесли в клеть, и там он лежал всю неделю. Только мать могла к нему заходить, да и то когда батьки дома не было.
Он долго молчал молчуном после этой экзекуции, а как спина зажила, словно другим человеком стал. Ему уже не страшно было, когда батька мужиков наказывал. Он сам приходил смотреть, и, сначала со стыдом, а потом – с тайной гордостью, он стал замечать, что эти картины волнуют его кровь.
Он теперь чувствовал себя совсем взрослым.
Однажды весной он видел, как буренка, разрешившись от беремени, закатила лиловый глаз и издохла, высунув изо рта большой бурый язык…
Он потом часто вспоминал эту подыхающую корову – во всех ужасных подробностях и красках, как слюна, тягучая и темная, текла изо рта, и как ноги её судорожно дергались на грязном полу хлева.
Где-то за грудиной начинало сладко ныть, а в ногах поднималась приятная истома…
4
Прошло три года после шумного праздника с фейерверками и катаньем на катере по реке. Красавица Франя померла – от живота, Мария поместила ей срисованный с фотокарточки портрет в простенке между окнами и часто смотрела на ставшее незнакомым лицо строгой девушки в городской, бархатной шляпке, сдвинутой на одно ухо и хорошо гармонировавшей с её четким, как на чеканной монете, профилем. Про Франю говорили – «вылитая Катерина». Она и впрямь походила, в свои небольшие ещё годы, статная и фигуристая, больше на знатную панну, чем на сельскую девушку.
Сыны, Федечка и Миколка, белявые и кирпатые, росли ладными мальцами, на здоровье жаловаться грех. А Броня совсем невестой заделалась, хлопцы под окнами вьются, как вечер, тут как тут.
«Глянь, Мария, – говорила соседка Домна, – дачка уся у тябе! Тольки воласы – лен».
Молодая красавица Броня и правда взяла от матери всё – и стать, и руки, тонкие и сильные, с ровными узкими запястьями, и ножка аккуратная, но с высоким подъемом, которой так шел венский каблучок.
Мария, слушая похвалы красе своей дочери, хмурилась и молчала, смутно и тревожно думая – молодая, да ранняя! – и что-то не легкое припоминая из своего далекого теперь уже прошлого. От красы девке больше горя, чем счастья…
Иван неделями пропадал в районе, приезжал усталый, с лицом темным и мрачным. Метнув самовар на стол, Мария садилась на лавку и ждала, когда муж, осушив второй-третий стакан, начнет разговор про то, что «опять нового секретаря прислали», «директора колбасного комбината сняли и хотят отдать под суд», и что Варшава, как столица Польши, больше не существует, польское правительство распалось, и где оно, никто не знает, единокровные братья оставлены на произвол судьбы, польскому послу вручена нота, а Красная Армия перешла границу, так что теперь западники снова будут наши…
Мария, по своей привычке – молча, слушала и думала, что опять ей одной бульбу копать. И торфу надо побольше нарезать, пока погода стоит.
Как-то Иван приехал с района сильно больной, попал под дождь и простудился. Не помогло и чаепитие у самовара – слег и утром на работу не пошел. День лежал молча, а потом попросил Марию принести с чердака мешок с отцовыми книгами и баул, который он из Гомеля когда-то привез.
Там были какие-то исписанные бумаги и книги по искусству, религии и истории. Отец Ивана, тоже Иван, звался в селе поповичем, хотя никогда в церкви не служил.
Само же имя «Иван» он трактовал как местное произношение греческого выражения «святой отец», то есть – «ава ан» или «ава ант», что правильнее было бы перевести, как «античный отец», и получалось уже не имя, а служебная должность. Отцовы книги были читаны-перечитаны, но Ивану нравился сам процесс листания этих старинных книг – занятие успокаивающее, отвлекающее от забот и суеты текущего дня.
В бауле была пачка старых газет – «Гомельская мысль» и «Копейка». Иван имел дело с обеими – писал заметки и делал обзор сельских вестей.
Та жизнь, в Гомеле, вскоре после женитьбы, теперь казалась ему очень далекой и какой-то невзаправдышной, будто и не с ним это было.
Сначала он поселился в огромном доме, где все этажи, кроме нижнего, занимала местная знать средней руки, а в нижнем жили такие, как Иван – те, что прибыли из провинции искать новой жизни.
Комнатенка у него была небольшая, но чистая и светлая, из мебели – только железная кровать с шишечками да стол с табуретом. У двери шкафчик для одежды. Ивану здесь нравилось.
В деревне у них был свой дом. Большой и просторный. Да и семья была не бедной. Но своей комнаты у него не было, как не было её и у родителей Ивана. А он мечтал о своём доме, красивом и торжественном внутри, и простым, похожим на все – снаружи. И много лет спустя он свою мечту осуществит – построит в ветке дом под «серебряной» крышей, с изразцовой печью и двумя спальнями, с чудесной, хоть и небольшой залой для приема родни.
И теперь, когда уже столько лет прошло после его частых поездок в деловой центр и работы там, он, бывая в Гомеле, всегда выкраивал минутку, чтобы навестить тот дом, где впервые жил один, вольно, приходил сюда, чтобы прогуляться по улице, пройтись по парку, где стоял замок Паскевича. В библиотеке он брал архивные документы и подолгу рассматривал чертежи старинных построек Паскевича. Замок виделся ему таким живым, как если бы он мог созерцать его в эпоху Екатерины.
Однако сейчас правое крыло некогда прекрасного здания было почти всё разрушено, и среди развалин вороны свили себе гнезда. Иван останавливался, слушая вороний грай, смотрел на башенные часы и пытался представить себе, как здесь было век, и два века назад…
Иван взял в руки номер старой, порыжелой от времени и сырости газеты. Бумага была хрупкой и легко рвалась. Он осторожно распрямил страницу.
…Гомель в 1775 году Екатерина II пожаловала фельдмаршалу Румянцеву-Задунайскому «для увеселения». Именовался он в документе, как «деревенька в 5000 душ в Белоруссии».
Румянцеву местечко понравилось, и он решил здесь укорениться, начал строительство нового поселения недалеко от Гомеля. Туда же перевел и все государственные учреждения. Новый город назвали Белица. Население пригнали из окрестных сел.
В Белицу, на новое место, потекла еврейская беднота. Не было ещё школ, не построили ещё училищ, а вот питейных домов здесь было – на каждом углу по паре. Городской голова и уездный судья – оба были неграмотные.
Так бывший торговый центр, шумный Гомель с пятитысячным населением, стал рядовым местечком, рядом с архитектурным шедевром своего времени…
Румянцевская усадьба чисто русского устройства. Это был небольшой островок русской культуры в белорусской провинции. А рядом. В двадцати километрах, старообрядческий центр – городок Ветка.
Усадьба была одной из самых богатых, благоустроенных и известных в России. Все её владедьцы были в тесной связи с царской фамилией. П.А.Румянцев с Екатериной Второй, Н.П. Румянцев – с Александром Первым, князь Паскевич – с Николаем Первым. После первого раздела Речи Поспалитой Восточная Белоруссия перешла к России, а с нею и Гомель.
Закончилась моровая язва. Пойман Пугачев, победили турок – и вот повод для пожалования новых земель новому национальному герою Румянцеву, чья фамилия правильно читалась как Романцев.
Строительство начали летом, в год трех семерок. Через пять лет здание было построено. Потемкин тем временем теснит Румянцева, интерес Румянцева к дареной усадьбе падает, отделка затягивается. Сам же фельдмаршал управляет Малороссией. Вскоре дом приходит в запустение. Так повторяется судьба многих построек екатерининской эпохи: яркое начало, полное помпезности, и затем резкое охлаждение, и вконец – постепенное забвение…
Но не только судьба, но и художественный стиль гомельской постройки, на редкость созвучны духу екатрининского времени. Это и выбор места – прямо посреди бывшей усадьбы, на месте снесенного деревянного дворца бывшего владельца князя Чарторыйского. Так императрица показывала оппозиции её настоящее место.
Эстетика нового замка была полностью в духе эпохи Просвещения и в точности отвечала устремлениям императрицы – культ новейшей классической архитектуры.
Эта постройка была новым словом в русской архитектуре конца восемнадцатого века. Ею открывался ряд крупных царских резиденций с компактным планом и купольным завершением, прообразом создания которых служила вилла Ротонда Палладио.
Симметрия постройки была основана на простых геометрических формах, не усложненных пристройкой флигелей.
Четкая вертикальная ось давала образ высшей гармонии, принадлежащей идеальному миру, и предназначалась более для созерцания, нежели для каждодневной жизни в суете.
Дом, как и положено для домов увеселения, украшался коринфским и ионическим медальонами.
Особо была устроена парадная зала – центр композиции дворца. Ярко освещенная, сверкающая белизной, поражала изяществом отделки и разнообразием пространственных решений. Это было первое в российской архитектуре парадное помещение специально для пребывания дворянства. Потом что-то похожее было сделано в Москве, в Колонном зале Дворянского собрания, но там уже был настоящий дворянский клуб…
Всё здесь в точности повторяло схему интерьера культовой классической постройки и на редкость соответствовало требованиям ритуала общественной жизни дворянства. В зале проходили торжественные приемы, балы. Ярко освещенный центр, предназначенный для дворянства, выгодно выделял героя своего времени. Окружающие затененные помещения предназначались для ожидающей выхода в свет публики – отсюда, наверное, и пошло выражение – выйти в свет, светское общество. Возвышающиеся же вторым ярусом хоры предназначались для оркестра и зрителей. Это праздничное действо дополнялось темой торжественного шествия. Архитектор этого эффекта добился просто – выстроив все внутренние пространства по одной оси.
Портики на фасадах, напоминающие римские триумфальные арки, открывали и завершали действо. Всё здесь говорило о воинской доблести и триумфе.
Но главным в композиционной идее всё же было устройство верхнего освещения главного зала. Свет, льющийся сверху – это знак особой благодати, он призван подчеркивать исключительность находящихся здесь людей. Свет в зал проникал через отверстие в куполе наподобие римского Пантеона. Верхнее освещение в классическом культовом зодчестве решалась устройством двойного купола. Здесь же был сооружен квадратный в плане бельведер. Ещё и этим отличался гомельский дом, в довершение пирамидальной, как бы ступенчатой композиции, что вообще было присуще древнерусскому зодчеству.
Тот, кто строил гомельский замок, хорошо знал архитектуру античного жилого дома, итальянской виллы, культовых построек раннего Возрождения в Тоскане, французского классицизма. От всего здесь было что-то. Гомельский замок можно было бы принять за своеобразный музей всех архитектурных эпох. Это был исторический справочник в архитектурных экспонатах. Но кто же был автор этой сумасшедшей в своей гениальности идеи?
В эпоху «трех семерок», в году 1777-м, в России было не так уж много европейски образованных и классически ориентированных мастеров. Екатерина Вторая ещё только готовила поворот к освоению итальянской манеры в архитектуре. Кварнеги, Камертон, Львов ещё не начинали действовать.
Но вот появляется Иван Старов. (Ивану думалось, что это не фамилия, а прозвище. И означает оно вот что: из Старого Села, или – старовер, хотя это одно и то же – Старое Село и было когда-то основано староверами.) Он-то, Иван Старов, и создает парадное столичное окружение екатерининского времени. Именно он создал тип царского дворца, строгого и по-римски простого снаружи, и поражающего великолепием анфилад и парадных интерьеров изнутри. Всё это было в духе русских побед того времени. Много было построено после – и Таврический дворец. И грандиозный дворец в Пелле, жизнь которого оказалась недолгой. Но именно гомельский дом стоял у истоков. Он – прекрасный памятник самому Румянцеву. Герою русско-турецкой войны.
Второй Румянцев владел гомельским замком при Александре, в эпоху всеобщего смягчения нравов и насаждения просвещения. Сам хозяин жил по модной в то время формуле Вольтера – каждый должен возделать свой сад. Он активно меценатствовал, собирал русские древности и, наконец, основал Румянцевский музей. Вторую половину своей жизни он провел в Гомеле. Он создает здесь совершенно новый город и усадьбу, воплощающую романтический идеал. Он без тени сожаления покинул государеву службу и стал жить в своем имении по своему усмотрению, в труде с народом и для народа. И вот чудесный итог – новый Гомель.
В год первый века последнего в тысячелетии он решительно перепланировал Гомель. С чисто просвещенческим радикализмом он прокладывал новые улицы, строил дома для горожан, используя лучшие образцы мировой архитектуры. Город теперь являл собой идеал военно-аристократического поселения, подобно Петербургу. Сама слово Гомель – от «гомео», «гомо», то есть «малое подобие», а вовсе не «го-го-го! Мель!» – крик на реке Сож, предупреждающий суда об опасности, хотя мелей на Соже близ Гомеля действительно немало…
Но он не забыл и опыт строительства Парижа – неподалеку от Гомеля тоже есть свой «Париж» – местечко Паричи, что означает, вероятно, «поречье», по-белорусски – «парэччэ» или «паричи» в обратном переводе.
В строительстве же собственной резиденции он воссоздал мир небольшого английского жилого дома по принципу «мой дом – моя крепость» и окружил его пейзажным парком.
Так регулярное устройство города смягчилось чертами живописности в устройстве парковой зоны.
Как и в Петербурге, здесь были лучевые улицы, незавершенность общей композиции, и это давало возможность развивать город дальше. Гомель смело можно было именовать юго-западной копией Питера или восточной тенью – Парижа. И даже главная площадь Гомеля – в духе луврско-Тюильрийского ансамбля и площади Людовика Пятнадцатого. Точно такое же устройство на одной оси дворца Румянцева и главной площади Гомеля, установка в её центре обелиска, схожий характер фасадов духовного училища и зданий, окаймляющих с севера площадь Людовика Пятнадцатого, то же замыкание перспектив улиц, идущих от центра, классического вида постройками.
Как и в Париже, центр города – площадь, застроенная ратушей и гостиным двором. Это общественный форум, и сюда как бы вливается всё городское пространство. По соседству находятся культовые постройки, расположенные в строгой иерархии – православный собор, костел, синагога. И теперь уже не дом хозяина – роскошный замок – находится в центре города, он теперь отодвинут в сторону, а городские общественные здания. И самое крупное из них ланкастерская школа, первое в Российской империи подобное заведение, открытое ровно за сто лет до свержения царя. Ею руководил англичанин Джеймс Артур Герд. Здесь же был и лицей по типу Царско-Сельского.
Гомель – Гомо – эль – «город, подобный элю», то есть, богу. Гомель, как и Париж, как и Петербург – эллинские города?
Гомо-сапиенс – подобный мыслящему? Подобный – кому? Богу! Человек – образ и подобие Бога – только самостоятельно мысляще. А Бог – не мыслит? Бог – знает! Мыслящий – не знает, но ищет. Чтобы знать.
Петропавловский Собор на крутом берегу Сожа, слева от усадьбы, похож на церковь св. Женевьевы в Париже, костел – римский Пантеон.
Сын Румянцева не стал обживать роскошный дом своего отца. Добавив к нему два флигеля весьма скромной архитектуры, он отвел его для размещения гостей и специалистов. Собственную же усадьбу он устроил вдали от площади, в самой бровки реки Сож. Она находилась на границе регулярного города и роскошного природного окружения. Это был «экономический дом», точная копия жилого дома в Бедфордшире, построенном в 1795 году. И рядом – миниатюрный ампир, небольшой охотничий домик.
В Гомеле работало много иностранцев, но больше всего – англичан.
Румянцев очень дорожил своим детищем и завещал продать его только фельдмаршалу или канцлеру. Похоронить же себя завещал в Петропавловском соборе, где при коммунистах был открыт музей и висел маятник Фуко.
После смерти хозяина его сын заложил Гомель со всеми околицами в государственный банк, а потом и вовсе продал казне.
Фельдмаршал Паскевич Варшавский, тот самый, что люто подавил польское восстание в 1830-м году, тут же перекупил город. Паскевичу пришлись по душе постройки Румянцева старшего. Но он дополнил строение парадными покоями для размещения военных трофеев. Теперь это был воистину царский дворец. Он и был царским наместником в Польше. Покои князя находились в башне. Классический стиль осторожно дополнялся средневековыми мотивами, особенно в декоре самой башни. Это подчеркивало древность и знатность рода Паскевичей. И дом стал похож на замечательный дворец Станислава-Августа в Лазенках. Так польского короля уравняли с царским наместником.
Суховатый классический стиль – но это не от упадка, просто так экономично.
Однако совсем иной была городская застройка. Устройство ограды и высокой зелени вдоль неё ликвидировало все связи с городским ансамблем. Усадебный комплекс как бы самоизолировался, акцент вновь перенесен на дом владельца.
А потом настал прозаический, упрощенный 19-й век, с его приземленными образцами практического стиля. Так родился и угас классицизм в гомельском устройстве города и усадьбы, как родилась и угасла и сама эпоха Просвещения.
Но почему же столь масштабный замысел был реализован именно здесь, в архитектурных ансамблях Гомеля? Здесь есть какая-то тайна…
Александр хранил вариант конституции в Варшаве, говоря, что именно поляки будут учить русских свободам.
Ещё при Румянцеве в старом парке был выстроен дворец по плану архитектора Растрелли. В этом дворце, по слухам, императрица гостевала в графа, и после этого гостевания осталось вроде дитя, которое было втихую сплавлено с глаз долой, но – в надежные руки.
Однако это были слухи, и не более того. Никаких документов на сей счет составлено не было.
Паскевич заново перестроил дворец с невиданной в этих краях роскошью и размахом. Замок теперь окружали павильоны, беседки, причудливые фонтаны. По всему парку расположились мраморные статуи, повсюду были цветники и оранжереи. Через глубокий овраг перекинулся железный мост.
Перед замком торжественно установили бронзовую статую – племянник польского короля Понятовский на коне.
В парке теперь было электричество, а город, простиравшийся на несколько верст за пределами усадьбы, утопал в грязи и мраке…
Иван, живя в Гомеле, выходил из дому за час до начала службы, чтобы прогуляться в парке. Вечером и днем здесь был народ, шумно и людно, а в утренние часы – ни души.
Мысли в Ивановой голове роились самые разные. Ему хотелось бурной деятельности. Вести колонку обозревателя в своей газете уже казалось слишком мелким, почти ничтожным делом. Уже работая в редакции, он пристрастился ходить в публичную библиотеку. Была она в левом крыле замка. Заведовал книжным отделом старенький дедок из бывших (некогда богач, потом разорился и стал эс-деком), в золотом пенсне, фамилия его была Степанов. Иван брал и политическую литературу, её тут давали свободно.
Приезжая изредка в Ветку или Старое Село, он видел совсем иную жизнь. Пробыв недолго с женой, он поспешал назад, в город. Мария была старше Ивана, на сколько точно, никто не знал – метрику ей выправили, когда она уже была девкой, впрочем, на селе такие браки считались делом обычным. Он её немного побаивался, хотя Мария никогда не поднимала голоса на мужа, не перечила и вообще была тихой, покладистой женой.
Однако эсдеком, несмотря на горы прочитанной агитационной и политической литературы, Иван всё же не стал.
Первые социал-демократы появились в Гомеле в 1903-м году, а в 17-м уже действовал Полесский комитет по установлению Советской власти. Из центра был прислан Лазарь Каганович – он и был главным.
9 сентября приняли резолюцию об отношении к войне, меньшевик Севрюк был отстранен. Прошло две недели, и меньшевики добились нового решения о продолжении войны, только после петроградских событий вся политическая власть перешла к большевикам.
В тот же вечер созвали экстренное заседание Гомельского Совета – меньшевики и бундовцы объявили единственной политической властью «Комитет спасения родины и революции». И только в ноябре Ставка в Могилеве была разгромлена, власть вернулась в Гомель, к Советам.
Продержались Советы всего одну зиму – 1 марта 1918 года немцы заняли город. Партийцы ушли в подполье.
…Обложившись газетами, Иван словно погрузился в тяжелую дрему. Он лежал и ничего вокруг себя не замечал, мыслями уносясь в далекое прошлое.
Мария сидела рядом, сбивая масло на маслобойке – в неделю на базар снести.
Ей вспомнилась почему-то ту далекую детскую пору, когда пешком из Старого Села ходила с матерью в город – отнести передачу в трудовой дом. Там в заключении томились какие-то «братья», так сказала Василиса. Очередь занимали с вечера. Потому что передачи брали ровно час, а хвост очереди тянулся до другой улицы…
Уже и ком масла, желтый и пахучий, выкатила Мария в большую эмалированную миску, и отгон слила в кринки – скотине на пойло и самим на блины, а Иван всё лежал да лежал на постели, прижимая к себе ворох жухлых газет, и не ясно было, спит ли он, или просто задумался о своём, а глаза открывать ему лень…
Мария тихо вышла в сени, погрукотала там ведрами воды мало, но утра хватит, потом вышла закрыть ставни. Вернувшись в дом, подкрутила фитиль в лампе и отправилась спать, завтра вставать на зорьке. Но беспокоить Ивана так и не решилась. Ему спешить некуда, днем отоспится – «хвароба у теле – яки работник?»
…Студент дает уроки от двух до четырех по улице Кладбищенской, дом номер 7…
Шел тринадцатый год. Всё дорожало на глазах. Иван тогда учился на экономиста, дополнительный приработок ему не помешал бы. Решил брать учеников.
Иван сменил жильё. Он ушел из большого, богатого дома, где в средних этажах ютилась, теснясь в доходных комнатенках, пестрая беднота, и поселился с шиком, невиданным для студента, на Кладбищенской, сняв пол дома с палисадником и отдельным входом.
Расходы его возросли. Он по-прежнему работал в газете, сидел поздно, часто заполночь, готовя ежедневные обзоры внутренней жизни для первой страницы. Ещё он вел историко-краеведческую рубрику, но материал для неё брали раз в неделю. Однако этого заработка всё же не хватало. Надо было и в семью деньги давать, и себя содержать достойно. Он ведь теперь вращался.
И народ, среди которого он вращался, был весь достойный.
Тринадцатый год был совсем не тем, что год отошедший. Работавшие на всю катушку местные исполнительные органы и вяло топтавшиеся на месте новые законодательные учреждения создавали, вообще говоря, лишь видимость деятельной власти, и единственным настоящим полем деятельности была именно нива просвещения. Уже на первых порах новая просвещенческая власть изъяла из владения земских учреждений принадлежавшие им библиотеки. Потом в несколько месяцев перевели всех профессоров из одного города в другой, замещая кафедры людьми малоизвестными, но обязательно благонадежными.
Всё четче обозначивались баррикады, по обе стороны которых собирались представители двух противоположных мировоззрений, не могущих никак между собой примириться, да и вообще не должных, если следовать логике текущих событий…
В тот год также вышло наделавшее много шуму постановление о борьбе с хулиганством, и это дало администрации широкие полномочия в области карательной. Вопрос о хулиганстве быстро вырос в крупную политическую величину, на которой полностью сосредоточилось внимение особенно дворянского сословия. Обыватели говорили о хулиганах с тем же ужасом и трепетом, что и о бандитах и бомбистах.
Общество жило в постоянном ожидании всевозможных катастроф. И они случались – одна за другой, произошли два крушения на железной дороге. И это стало прелюдией к переговорам о железнодорожном займе, по поводу которого министр Коковцев выехал в Европу. В отсутствие Коковцева спешно ликвидировали наследство зимней сессии Государственной Думы – разрыв между министрами и Думой состоялся.
Между самими министрами несогласованность сохранялась, и об этом шумели за границей.
Год был богат на всевозможные съезды – их состоялось более ста.
Но и за границей жизнь не стояла на месте. Балканы приковывали к себе всеобщее внимание. Ближний Восток с его вечным горючим материалом беспокоил великие державы, ожидающие турецкого наследства, и к этому беспокойству прибавилось ещё нечто – явный антагонизм России и Австрии.
Австрия была спокойна лишь до тех пор. Пока была уверена в победе турок над союзниками.
Хотя все и понимали, что положение тяжело именно потому, что иностранный экспорт малых государств – хлеб, скот, вино – имеют только одну дорогу: через австрийские владения, всё же по произволу Австрии граница закрылась для Сербского вывоза, и малой славянское государство, единственное православное – в центре Европы, превратилось в послушное орудие могущественной соседки. Австрия опять победила, а в Думе всё ещё звучало эхо известного – «Россия не готова к войне»…
Маленькая Сербия вполне понимала, чего хочет ненасытная Австрия – поглотить её, как уже поглотила Хорватию, Боснию, Герцоговину, – и оказалась между двух огней: с севера Австрия, а с юга – Болгария.
Болгария просто спятила – она готова была на всё, даже на поддержку союза Австрии с Турцией, лишь бы навредить Сербии. Выгодно это было одному из двух царствующих дворов в Белграде и Софии, но гибельно для их народов. А вот уничтожит ли это «личный режим» – большой вопрос.
Но пока что надменный Фердинанд оказался в положении кающегося грешника.
В прежние времена монарх при открытии Народного собрания разыгрывал сцену, режущую глаз современного просвещенного человека. Он входил в Собрание, где было полно депутатов и простой публики, держа в руке шляпу, и направлялся к трону, на ступеньках которого располагались министры, а затем, надев на голову шляпу, начинал читать тронную речь, а присутствующие оставались с непокрытыми головами.
Теперь всё было иначе. Среди депутатов имелись несколько десятков социалистов и компактно сбитая масса оппозиционных землевладельцев, и царь Фердинанд после долгих колебаний уступил – во время чтения тронной речи он больше не надевал шляпы.
Кому-то это могло показаться мелочью, но человеку вдумчивому было ясно: имеет место исторический этап.
Снять шляпу по собственному желанию сущие пустяки, а вот под давлением обстоятельств – совсем другое дело.
Помимо политики и экономики, мысли Ивана занимала ещё и литература. И в тот роковой год он начал робко, но настойчиво пробовать своё перо, делая зарисовки местечковой обыденщины. Однако скоро понял, что силы его в этом деле слишком малы, и оставил литературные опыты – до времени. Писал только в газету – в своем привычном суховато-казенным стиле, но иногда в его текстах попадались острые, заковыристые фразы, которые и ему самому очень нравились. Они словно являлись в гости неизвестно откуда, потому что Иван даже в просторечии говорил так же, как и писал свои статьи, и потом будет писать отчеты…
В литературе же год тринадцатый прошел под знаком сильных бро – жений. Всё, что с таким азартом читали после пятого года, теперь уже никого не интересовало, на книжном рынке били рекорды тиражи совсем других книг. Сонников, вопросников и прочего литературного мусора спрашивали все реже. Было уже ясно: на пороге время ликвидации сумбурного наследства тяжелой эпохи. Газеты не скупились на бранные слова в адрес уходящего безвременья и его бытописателя Арцибашева. Во врата истории стучалась новая жизнь, и литераторы, художники, публицисты и доморощенные политики с азартом устремились к ней. Отжившие литературные традиции, царившие последние десять лет, и новые течения вели между собой ожесточенную борьбу, и это всё больше захватывало внимание читателя, куда больше, чем само чтение произведений сражающихся авторов. Совершался неумолимый круговорот времени и литературных симпатий.
Ивану казалось, что всё же в этом, выглядевшем вполне стихийным, круговороте есть элемент не случайного, как бы привносимого чьей-то невидимой, но устрашающе мощной рукой.
Он с энтузиазмом углубился в сопоставление двух эпох – до 1905-го года и более поздней, когда модернизм вступил в открытую схватку и отвоевал себе вполне почетное место в литературе, особенно этому помогли общественные потрясения последнего времени. И вот теперь он терял одну позицию за другой, а на смену шел писатель, совсем новый, жизнерадостный, верящий в человека, с отвращением глядящий в сторону смерти, ликующий от полноты мироощущения и с огромными надеждами на будущее. Вместе с пришедшей новой литературой начиналась и совсем иная жизнь. Близилась новая историческая эпоха.
Иван печенкой чувствовал это тектоническое движение, понимая, что грядущая эпоха всё сметет на своем пути, всё перевернет вверх дном, и утвердится на долгие годы.
И только одно обстоятельство лишало его радости участия во всеобщем обновлении – эта, едва различимая для стороннего наблюдателя, однако вполне очевидная для внимательного наблюдателя, заданность направления текущей жизни.
Из книг, которые оставил ему в наследство отец, он знал, что смены культурно-исторических эпох происходят объективно. Символизм родил наследника в виде акмеизма-адамизма и эгофутуристов, которые, едва родившись, тотчас же по рождении решили поглотить своего родителя. И это было законно – вполне в духе времени!
В противовес символистам, признающим одни лишь символы, акмеисты провозгласили самоценность явлений. В гомельских литературных кружках боготворили Ахматову, Городецкого, Мандельштама, объединившихся вокруг знамени, на котором было начертано: возврат к Адаму, к первородной чистоте, к чувству цельности, к природе, наконец, – их искренне почитали и взапой читали всё, что выходило из печати или ходило по рукам в списках, а потом – взахлеб обсуждали.
Тезис о явлении как самоцели был принят с особым энтузиазмом.
Но акмеисты, по печальному недоразумению, не узрели, что новые слова, торжественно и пышно ими сказанные, вовсе не были новыми…
Вот это-то и казалось Ивану странным в новой общественной жизни – на время у людей как бы отшибало память, а потом, после тяжелых опытов жизни, они вдруг как бы всё вспоминало заново. Такая постоянная временная потеря памяти очень напоминала некую болезнь, вроде рассеянного склероза, но болело ею с удивительным постоянством целое общество.
Вот и кружила общественная мысль, как собака на затерянном следу, в поисках той ниточки Ариадны, которая и приведет, наконец, к заветной цели.
Новаторство футуристов, ставшее в короткое время притчей во языцех, скандально организовало вокруг себя значительную часть публики, которая ещё вчера только одним интересовалась по-настоящему – эротической литературой. Но теперь вопросы пола уверенно отодвигались на второй план, и даже не верилось, что ещё два года назад ни одно серьезное явление в искусстве не мыслилось без связи с этой, запретной некогда, проблемой.
Под щитом футуристов распускали лепестки новые литературные соцветия.
Отцы символизма поспешили произнести теплые слова над колыбелью новорожденного литературного младенца. Брюсов, Мережковский тоже, хотя и очень осторожно, поприветствовали футуристов. И осторожность эта была вполне объяснима. Стоит лишь вспомнить те времена, когда символизм был под запретом, и каждый записной рецензент издевался совершенно безнаказанно над «бледными ногами» Брюсова, а Сологуб принужден был печататься на страницах третьесортных журналов, чтобы понять, почему символисты так осторожничали в отношении футуристов.
История должна не повторять ошибок. Или хотя бы – должна стремиться к этому. Но сейчас этого сказать было нельзя, иначе будущее литературы представится ужасным бездорожьем, на котором мелькают и маячат без определенной цели всевозможные направления.
И всё же. Идут, идут уже из самых недр жизни, из запретных глубин того быта, на который недавно смотрели сверху вниз, из лона той природы, которая открывает своё богатство только влюбленным в неё…
Ещё одно открытие сделал Иван – можно сочетать мрачное отчаяние, из которого спасение только смерть, и бесконечную радость и ожидание близкого счастья.
Из новых авторов он брал для чтения Шмелева, Тренева, Никандрова. Из старых – Горького, Вересаева, Бунина. Они-то и пели над горькой, оплаканной символистами жизнью романтическую песнь возрождения.
В унисон этому новому пробуждению духа прозвучали юбилейные торжества Короленко и Огарева.
Так появился ещё один повод заговорить о «не умирающих традициях героической русской литературы».
Так прошел год, отметив резкие рубежи. И как вся страна зашевелилась, так и умы пробудились, и жизнь стала наслажденьем.
…Все эти отвлеченные мысли, высказанные в его статьях, были несказанно далеки от крестьянского быта, всей той жизни, которою он должен был теперь жить, потому что так распорядилась судьба и его родители. Но он привык жить в относительной воле – даже в редкие его приезды домочадцы не заставляли его работать по хозяйству, по какому-то молчаливому сговору, оставляя за «грамотеем» право жить своей вольной жизнью.
Мария же, хотя и была совсем другим человеком, нежели Иван, и если бы он встретил её в городе, вряд ли они были бы хотя бы знакомы, всё же стала ему близким человеком и, хотя держала расстояние и внешне была холодновата, любила его искренне и страстно. Какая-то невидимая, но очень прочная нить связывала эти два, такие разные «на погляд», существа. Иван в своих городских отлучках любовей на час не заводил, и, тем более, серьезного интереса у него никто так и не вызвал. Их любовь с Марией была уже без терпкости первого общения, но спокойной, крепкой и казалась вечной.
Любовь Марии была тихой, немногословной, Иван имел над всем её существом неограниченную власть, один звук его голоса заставлял холодеть нутром, но и сам Иван немного побаивался её тихого, полного чувства взгляда глубоких, светло-карих, ореховых глаз. Мария была старше, но с возрастом разница в летах сгладилась, и в зрелые годы уже Иван казался старше Марии, она же, дойдя до сорока трех, как-то враз перестала меняться и лицом, и телом, оставаясь надолго зрелой красавицей во цвете лет.
Уезжая в понедельник утренней моторкой, около пяти часов, он испытывал щемящую тоску в своем чутком, но очень скрытном сердце, однако плюнуть на все свои городские дела и остаться дома, на хозяйчстве, он всё же не смог бы.
Мария по утрам, когда уезжал Иван, вставала затемно, растапливала печь. Пекла любимые Иваном ладки из пшеничной муки, на сыворотке, приносила из погреба банку свежей сметаны, а накормив мужа, который, переместившись на диван, принимался за газету, готовила корм скотине и курам с утками. И только когда уже за Иваном закрывалась с громким лязгом калитка, садилась на лавку у окна и долго смотрела перед собой, думая свою бесконечную думу.
Иван же, подойдя к пристани и заслышав гудок причаливающей моторки, быстро забывал о своем внезапном томлении и, заняв место у окошечка, на нижней палубе, привычно уже думал о том, какие книги он возьмет в библиотеке, с кем встретится в кружке и на какую лекцию пойдет в среду.
Шел четырнадцатый год. Шестого июля гомельская общественность решила устроить большое пароходное гулянье по Сожу до Ченок. Средства собирали для Еврейской детской колонии для сирот. Играл духовой оркестр, жгли фейерверки, хлопали хлопушки, на ярко освещенной набережной раскинулись палатки, где было всё – даже настоящий голландский товар чистого льна. Цены были решительные, купцы вели торг дешево и без обмана. Ивана привлек веселый шум у одной из палаток. Высоко над прилавком висел портрет пожилого господина со щедрой улыбкой, и под ним была яркая надпись крупными буквами: «Много сил я потратил, никогда не был весел, всё что-то тяготило, а сейчас я познал улыбку веселья и счастье жизни. Ранее я был стыдлив с женщинами, вечно был недоволен собой, а теперь мне рады в любом обществе. Сто раз спасибо за целебный препарат „Био-Ласлей!“»
– От чего это? – спросил Иван у сосредоточенного старичка, который всё никак не мог отыскать кошелек в широком кармане пальто.
– Говорят, от этого самого, от онанизьмы. И куда только кошелек мой подевался?
– А это от чего? – спросил Иван у продавца, беря с прилавка флакончик с яркой наклейкой.
– От зеленого змия, господин хороший, – ответил услужливый продавец. – Спасение для тех, кому проклятое пьянство искалечило жизнь и жизни всех членов семьи. Я сам когда-то страдал этим недугом. И вот, благодаря чудесному снадобью, я исцелился весь целиком, и радости моей сегодня нет конца. Конечно, можно купить коробочку «Ситравин-Эмбрэй» в аптеке господина Рафаловича и ждать четыре месяца результата, но моё средство действует мгновенно – примите сейчас и о вине вам даже вспоминать будет противно!
Мужики застенчиво ухмылялись и подталкивали друг друга локтями. Но желающих попробовать чудотворное снадобье так и нашлось.
Иван получил задание от редакции – написать репортаж о народном гулянье в пользу еврейских сирот. В последний год вряд ли выходил хоть какой-то номер без материала о еврейском вопросе, теперь это была важнейшая тема общественной жизни. Все, кто хотел завоевать доверие публики, независимо от темы своего выступления, всегда начинали речь с высказываний о том, что «евреев притесняют», «не дают развиваться и продвигаться»…
В редакции Иван просидел до утра. Помимо репортажа, ему надо было дать в номер текст сообщения на политическую тему. Получилось неплохо, однако, перечитав, все порвал в мелкие клочки и начал писать заново.
«Итак, жребий брошен. Телеграф принес известие, что Сербия дала неудовлетворительный ответ на ноту Австрии – то есть решительно пошла навстречу вооруженному конфликту. Вопрос о войне и мире будет решен в зависимости от того, какую позицию займет Россия. А то, что Россия должна вмешаться, никто не сомневался. А это, само собой, повлечет вмешательство Германии – и тогда разразится европейская война!»
Иван перестал писать и стал думать о том, что мир безнадежно обречен, категорически обречен, и что бы он тут ни написал, ничего это по существу не изменит. Как, в сущности, просто и обыденно делается мировая политика! Дай только волю амбициям какого-нибудь правителя – и начнется цепная реакция?! И всё пойдет прахом…
Исписав ещё четыре страницы, он всё скомкал и снова бросил в корзину для бумаг. Этот текст не пройдет, а по-другому писать в таком духе – попусту терять время. Просидев над чистым листом около часа, он, наконец, написал всё заново. Теперь это было краткое, сухое сообщение о том, что Сербия отважно решила ступить на стезю европейского конфликта. Выводы же о дальнейшем поведении России так и остались лежать в корзине для бумаг.
Ивану уже давно надоело быть простым злободневщиком, он хотел писать статьи глубокие, серьезные, такие, чтобы и через полвека читались с интересом и приносили пользу обывателю. Быть не просто хладнокровным созерцателем текущей жизни, а глубоким исследователем современности, организатором общественной мысли с помощью печатного слова.
Судьба Минаева была для него уроком. И четверти века не прошло, а его имя уже крепко забыто публикой. А те, кто ещё помнит, вспоминают его недобрым словом. Когда-то он слыл едким сатириком, теперь же его иначе не называют, как опытный версификатор…
Своими острыми злободневными статьями он сделал всё, чтобы его творения потеряли всякую ценность для потомства. Писательское дело – не спорт, нужны идеи, а не только спортивный азарт. А Минаев пародировал всё, что ни попадя, и «Гамлета», и «Горе от ума». Не было произведения, к которому он отнесся бы с уважением. Когда злободневность прошла, уважать перестали и самого автора злободневщины.
Родись Минаев на два-три десятка лет позже, его литературная звезда могла бы и вовсе не взойти. Он не дорожил ничем, кроме гонорара, был необычайно востребован в своё время, и – предан забвению, когда пришли другие времена.
Однажды оседлав фортуну, они, эти удачливые писатели чувствуют себя на ней, как на спине налима. И, однажды соскользнув с неё, уже навеки пропадают в небытии. К таким фигурам общественная мысль не любит возвращаться, откровенно брезгуя авторами, разжиревшими по случаю, помойничая на развалинах цивилизации.
Он же хотел писать по-другому. Бредя поутру домой, не сомкнувши воспаленных до красноты и рези глаз, Иван рассеянно разглядывал витрины магазинов и механически, не вдаваясь в смысл, больше по привычке, прочитывал объявления, пестрой рыбьей чешуей наклеенные на заборах. Вот уже в третий раз зазывают обывателя на «сильно драматическое зрелище» – иллюзион «Пьянство и его последствия». Вот предлагают выгодно жениться «барышни и дамы с приданым от 8 до 400 тысяч рублей. Хотя бы и за лиц без состояния готовы хоть сейчас…»
Российский обыватель прост и доверчив, как дитя, он верит печатному слову, иначе – зачем зря печатать? К тому же, «дамы и барышни» предлагали направить заявление по берлинскому адресу! А к загранице отношение особое.
Иван одно время курировал отдел объявлений в газете «Копейка» и знал немало историй с продолжением на этот счет. Написав по такому адресу, искатель, скорее всего, получит ответ: какова должна быть невеста, на его вкус? Он напишет снова – конечно же, с приданым тысяч на двести! И никак не меньше. Редко кто соглашался на сто. Вопросы дальше – брюнетка или блондинка? Молода или постарше? И так, между прочим, просьба выслать своё фото и двадцать пять рублей на расходы по пересылке фотографий с рынка невест. После чего берлинский адресат для жениха умирает навсегда!
Иван год назад расследовал одну из таких афёр, только жадный жених выслал аж целую тысячу, чтобы заполучить фото всех подряд невест, имеющихся в банке брачного бюро, а когда случилось неизбежное – поднял вой на всю вселенную. История получила огласку, Ивану дали поручение во всём разобраться, потому что иск был предъявлен именно газете, напечатавшей объявление.
Без особого труда удалось выяснить, что за границей пребывает целый штат «профессуры», живущей за счет наивности российского обывателя. Свои сети вездесущая «профессура» раскинула уже и в российской деревне. Когда на почтовом отделении Старого Села один парнишка переводил в Берлин десять рублей, Иван, оказавшийся случайно рядом, спросил, зная бедность семьи отправителя: «Кому это?» Однако парень не смутился и с гордостью ответил: «В Берлин, за невесту!» – «Зачем ты это делаешь, тебя же надуют!» – пытался остановить его Иван. А тот в ответ счастливо рассмеялся: «Зато получу приданое – двести тысяч рублев!» – «Обдурят они тебя!» – не сдавался Иван. Но парень держался своих убеждений крепко и все Ивановы аргументы парировал своим, убойным: «А Пятрусь уже и хватаграфию получил!»
Иван ушел, сильно рассердившись. Да, раньше российского обывателя «женили» Варшава и Лодзь, а теперь вот и заграница добралась до скудных сбережений легковеров…
Его уже давно не удивляло, а подчас и раздражало простодушие не образованных, забитых нуждой и тяжелой работой или её отсутствием городских лопухов. А теперь вот и среди мужиков таких развелось немало. Их наивная хитроватость, мечта всех обойти на повороте и разбогатеть с бухты-барахты его просто бесила…
И всё это катастрофическое поглупение населения как-то было связано с внешней обстановкой. Чем больше росла напряженность в политике тем тупее становился обыватель! И этот не совсем понятный фокус был крайне неприятен Ивану и неизменно вызывал его досаду. Будучи человеком уравновешенным. Рациональным и вдумчивым, он во всем пытался найти систему причин и следствий, понять алгоритм поведения человека в нестабильной обстановке. Выводы были лишены всякого оптимизма. Куда же мы зайдем, если случится мировой катаклизм? Так спрашивал он себя, но ответ дать боялся даже самому себе.
Шел, между тем, июль четырнадцатого года. Госдума погрязла в прениях по финляндскому вопросу. Председатель Гучков дал полную свободу слова, что немыслимо было при Хомякове. Милюков воззвал к совести русского народа, и Дума ответила – да!
Да. Мы готовы. Готовы принять на себя, перед лицом Бога и судом истории, ответственность за гибель целого народа.
Эсдеки против. Они посылают финнам горячий братский привет – русский народ против насилия!
…Почему-то именно этот, гомельский период вольной, вдали от семейных хлопот и крестьянского дела, жизни вспоминался ему особенно часто. Хотя ничего такого, что было бы под запретом дома и делалось им здесь, вдали от бдительных глаз родни, с ним не случалось. Однако сама возможность жить по вольному разумению давала то особое ощущение, которого потом он нигде и ни при каких обстоятельствах не испытывал, даже позволяя себе изредка кое-какие вольности.
Из дому он привозил сало, масло, яйца, муку, но денег всегда не хватало. И он пополнял свой тощий бюджет, давая уроки и сочиняя статьи на заказ.
И всё же это была счастливая жизнь. Когда он в первый раз приехал в такой большой и богатый город на жительство, ему подумалось без зависти, но со здоровым сельским любопытством: Как это можно не сеять, не пахать, а жить безбедно и даже весело? Вначале ему казалось, что город сплошь состоит из одних только лентяев, и его охватывало противоречивое чувство – ему было и стыдно за этих людей, и одновременно распирало от гордости за свою родню – трудящийся народ. Но, покрутившись месяц-другой в городе на своих хлебах, он с горечью обманутого легковера отметил, что эта внешняя легкость и веселость городской жизни больше кажущаяся, чем настоящая. Прошло ещё немного времени, и он окончательно пришел к неутешительной и даже мрачной мысли, что кусок горожанина ничуть не легче, а то и солонее и горше, чем селянина.
Однако, городская жизнь затягивала, и теперь он, бывая дома по праздникам, в мыслях своих, нет-нет, да и вернется в маленькую комнатку на Кладбищенской, рядом со старым городским захоронением, где был разбит парк и протекала извилистая речушка с серыми жирными утками, в изобилии плававшими по ней.
В тогдашнем Гомеле общественная жизнь велась бойко и весьма активно. Особый интерес у молодежи вызывали собрания еврейских общин, вход на которые был открыт для всех. Ничего похожего ни в Ветке, ни в Старом Селе не было. Чернявый чуб Ивана и нос с горбинкой нередко наводили кое-кого из собравшихся на сходки на весьма обидную для него мысль – не еврей ли он? И он, сперва сердясь, а потом уже весело, рассказывал семейный апокриф о своем ученом прапрадедушке-греке, некогда поселившемся в Москве. Его небесно-синие глаза служили тому подтвержденим. У местных евреев если и бывали светлые глаза, то больше серые и водянистые, но чаще – темно-коричневые или желто-зеленые. Греки – единственная нация брюнетов, под смоляными челками которых, иногда случалось такое, сияли небесной синевы глаза, окруженные прямыми, а не загнутыми, как у евреев, ресницами.
К евреям в ту пору в Гомеле отношение было не просто хорошее, но теплое и трогательное. Местечковые евреи были предметом всеобщей любви и заботы.
Однако на вечеринках, которые проводила еврейская община, многое ему казалось забавным, искусственно придуманным. Вот он пришел на давно обещанный вечер народной еврейской музыки. Представлял себе скачущих кружком евреев со скрипочками и в черном. А стали играть Мендельсона и Глинку…
Зал негодовал, свистел и топал. Иван громче всех. С Мендельсоном ещё можно было бы согласиться. Но причем же здесь Глинка? Концерт прекратился, и начался стихийный митинг: до каких пор будут ущемлять права еврейского населения? Когда речь заводили о правах, дел всегда доходило до драки. На глазах Ивана из «тьфу-проблемы» создавались целые истории, неизменно переходившие в «национальный вопрос». И чего здесь было больше – глупости или умысла, сказать было не просто.
Вот на одной из сходок затеяли спор о языке преподавания в еврейских школах. И это было Ивану в диковинку. В Старом Селе вообще своей школы не было, дети ходили в халецкую, или в Ветку, за пять верст, а здесь сыр-бор разгорелся из-за того, что преимущество в еврейской школе было отдано древне-еврейскому языку! А «жаргонисты» считали своим язык «голуса». Им возражали – жаргон, мол, в России держится только потому, что евреям не была доступна русская школа. Но местные евреи упорно требовали обучения на жаргоне, но никак не на классическом еврейском языке, которого многие просто не знали. Получилось глупо до смешного – протест у евреев вызвало решение учить их, евреев, еврейскому же языку, на котором и написаны все древние книги! Или они не считают этот язык своим?
Комнатка, где жил Иван, была отделена фанерной перегородкой от хозяйской гостиной. По субботам там, в этой просторной гостиной, собиралась гомельская просвещенная интеллигенция. Тогда уже началась новая волна эмиграции евреев в Америку, и за стенкой велись громкие споры о том. Хорошо это для общества или плохо? Особенно то, что эмигранты теперь будут прибывать через порт Гальвестон в штате Нью-Йорк. Одни говорили, что это хорошо, потому что там как раз высокий спрос на рабочие руки. Другие бойко возражали, что в Гальвестоне как раз теперь затяжная безработица…
И что всёю эту бузу затеял английский писатель Зенгиль – глава эмигрантского общества, и банкиры-филантропы Шпор и Ротшильд специально, чтобы отвлечь еврейских эмигрантов от перенаселения востока – Чикаго и Филадельфии.
В тот год из Гомеля уезжало каждый месяц несколько сот человек. Нью-Йорк, куда они все устремлялись, уже без того переполненный евреями, создал внутри себя еврейское гетто – на участке в две версты в поперечнике проживало около восьмисот тысяч эмигрантов. Тысячи разочарованных евреев уезжали обратно в Россию, потому что терпеть невозможную скученность не было сил.
Иван тогда написал статью, ставшую сенсацией. Заканчивалась она громко: «Так Дикий Запад решал свои проблемы. Так вечный ответчик – еврей – снова становится разменной монетой в политике больших держав и толстых бумажников…»
Иван, в первый год вольной жизни в Гомеле, тоже подрабатывал, торгуя с лотка. Он продавал крем «Блеск», три капли которого, если верить рекламе, превращали грязнейший металл в зеркало. Потом хозяин товара его повысил, доверив торговать цветами садоводства Чедемон. Через два года уже был небольшой запас монет, и торговля с лотка была с радостью оставлена. Иван подумывал о том, что, накопив денег, он мог бы поехать в образовательную поездку за границу, но без скидки все же выходило дорого, а правом на льготу пользовались только учителя и врачи, особенно повезло народным учителям, командированным земством, – им и вовсе давали бесплатный проезд. Ивану же оставалось только мечтать о поездке в Италию или хотя бы в Германию.
Работу в газете он начал курьером, и только через полтора года его назначили младшим редактором. Сколько тогда скандалов прошло через «Гомельскую мысль»! Особенно урожайным на склоки был девятьсот десятый год.
Тогда начался строительный бум – жилья в Гомеле на всех не хватало, а население всё прибывало. Земельные банки прекратили выдачу ссуд, и новые здания не на что было взводить. Квартиросъемщики платили за жилье по столичным ценам. И вот тогда Иван решился написать хлесткую статью о домовладельцах-обиралах. И вышел конфуз…
Подкараулили его поздним вечером на Кладбищенской и вломили по первое число – за всех обиженных домовладельцев. Едва очухался после побоев – новое дело. За железной дорогой была прачечная, где мыли бельё заразных больных со всей линии. Грязная вода после стирки выливалась на улицу, потому что никаких таких специальных стоков не было. И он написал заметку с обращением к властям – взять под контроль этот «источник оздоровлдения». И власти не замедлили обратить свой взор на проблему – два сотрудника редакции были оштрафованы…
Тогда Иван опубликовал реплику – хороша-де свобода печати! И редакция заплатила очередной штраф.
Столько штрафов, сколько их заплатили в десятом году, не платили ни в какие времена. Целых сто тысяч рублей! Редакторов и авторов по суду приговорили к тридцати годам заключения – по совокупности…
И это ещё ничего! Многие издания просто закрывали. На сходках поговаривали, что прежняя цензура, когда не было объявленной свободы слова, была куда как милостивее. И что ныне пишущая братия в капкане – однако, сама туда залезла…
Иванова карьера в «Гомельской мысли» закончилась внезапно и бесславно. Выжил его жалкий докторишко – дантист Раппопорт. История получилась весьма глупая. Молодая девушка пожаловалась в полицию, что её изнасиловал зубной врач, воспользовавшись её беспомощным положением, когда она пришла лечить зубы. Пожаловаться-то у неё духу хватило. А вот передать дело в суд она испугалась. Про эту историю узнала журналистка Якубова из их же газеты, дама она была известная, даже столичные газеты печатали её заметки. Но с Раппопортом вышла осечка – доктор их засудил! За дезинформацию – Якубову, а пациентку – за ложный донос. На суде этот хлыщ ещё и пожаловался – газета его разорила! И сорвал овацию! Вот что за нравы были в то время…
Иван не выдержал, и, несмотря на обещание не совать свой нос, куда не следует, тут же начеркал фельетон и о душителях гласности с толстыми кошельками, и о таких вот докторах …
Через день он уже сидел в участке по обвинению в краже.
Тут же находились и свидетели, а при понятых изъяли на квартире «украденные вещи», которые Иван, разумеется, видел в первый раз. Подавленный и угрюмый, вернулся Иван в тот вечер домой. Но дома его ждал неприятный сюрприз – письмо без подписи, от «доброжелателя». Он писал печатными буквами: «Убирайся из Гомеля, пока цел!» Иван, конечно, понимал, что без Раппопорта тут не обошлось, но кому что докажешь!
И он уехал.
Уехать-то уехал, но душа по-прежнему плутала в тех местах. Иван полюбил газетное дело, редакционную суету. Помаялся зиму в селе и по весне опять подался в город – как раз открылась новая газета – «Гомельская копейка». Конечно, местная «Копейка» не могла конкурировать с «Копейкой» Петербургской, но с «Гомельской мыслью» состязалась вполне успешно.
Однако Ивана взяли в новую газету не сразу – почти три месяца он числился внештатным корреспондентом и посылал статьи из села. Первая весть с мест называлась «Страшный враг». Напечаттная заметка была аккуратно вырезана и хранилась в специальной папке. Иван иногда перечитывал свои удачные статьи. «Страшного врага», статью пафосную и темпераментную, он помнил наизусть: «Пришла весна. Казалось, беднота оправится после лютой зимней голодовки. Но тихо подкрался с первым лучом солнца вечный спутник бедноты – тиф… Всех несчастных он страстно прижимал к своей груди и крепко целовал, заражая несчастных своим ядовитым лобзаньем. Плач стоит повсеместно. Безумный бред стоит стоном. Но никто из тех, кто вооружен знанием и должен бы выйти на бой со страшным врагом, будто бы ничего не слышит!» Статью он подписал «Иван Хмурый». Теперь это был его новый псевдоним.
После истории с Раппопортом он теперь никогда не пописывал материал своей фамилией. Иван купил пачку свежих газет с напечатанным «врагом» и положил в сундук.
Однако в редакции случалось и забавное, такое, над чем потом долго смеялись. Как-то поутру – Иван тогда дежурил по редакции – в помещение, где правили гранки свежего номера, ворвался псих и, не здороваясь, заорал на Ивана, обдав его сивушным духом, – а подать сюда г. редактора собственной персоной!
На законный вопрос – а зачем? – он не ответил и заорал ещё громче: «Хочу знать, кто автор статьи „из зала суда“!»
Иван спросил – а зачем ему редактор, хотя уже сам догадался, что, конечно же, не для того, чтобы передать ему фунт сала.
«А чтоб набить физию!» – уточнил, чтобы не было сомнений, решительный посетитель. Иван сказал – сейчас. И вызвал полицейского. Посетителя звали Г. Пагельсон.
Иван брал любые поручения. Скандалы – это всегда к нему. Материалы, за которые пагельсоны приходят «бить морду», писал только он, и, уже не дожидаясь специального задания от редактора, сам примечал, где что не ладно, и брал на карандаш. Как-то проходил за баней по Владимирской, видит какой-то странный дом. Ставни закрыты, хоть и не вечер. А изнутри несутся вопли, вроде дети плачут…
Зашел к соседям спросить – что там? Говорят, там дети краденые, а сам дом этот – приют ионитов.
Сунулся Иван за калитку, его не пускают, женщина из сеней кричит: «Газетчик это!»
Иван подозрительный дом всё же не оставил своим вниманием – это и вправду был приют ионитов.
История с г. Пагельсоном тоже увидела свет, и вечером того же числа пришло в редакцию письмо: «примите поздравления по поводу инцидента с Пагельсоном, милостивый господин редактор! Когда г.г. пагельсоны приходят с угрозами, это верный признак того, что газета честно отражает явления жизни и верно служит политике гласности!»
И далее шла подпись – «заядлый подписчик».
В тот злосчастный день, когда его уволили из «Гомельской мысли», он решил кутнуть – для утешения души. Начал с посещения иллюзиона Штремера. Был разгар сезона, и с большим успехом шли представления м-с Вольта – заслуженной и наизвестнейшей королевы электричества. Публика от восторга валилась под лавки, люстры качались и едва не падали на зрителей от грохота безумных оваций. Спецы говорили о ней – поразительный случай полной атрофии нервной системы. Другие же считали, что у м-с Вольта высшая форма истерии…
Ивану было все равно – что у неё, истерия или атрофия нервов, главное – эффект! Искры от электрической женщины летели на десятки метров, а она стояла и улыбалась чудесной улыбкой нимфы!
Слегка ошалев от волшебного зрелища, он двинулся в театр-варьете «Аквариум» при гостинице «Москва». Сколько раз, проходя мимо, он с мечтательной тоской поглядывал на роскошные подъезды «Москвы». Но нет, таким, как он, туда не попасть. Месячного заработка не хватит, чтобы заплатить за сутки постоя. Хотя в ресторан он однажды зашел, когда получил свой первый крупный гонорар за репортаж о школах. Сейчас он зашел просто пообедать, но с видом, как если бы он здесь бывал каждодневно. Центральный зал был отделан заново, варьете сплошь заграничное, а кухня…
Кухня была сказочная. Известный кулинар из Варшавы, сам пан Мегульский, управлял поварским делом. Почтеннейшая публика пребывала в полном удовлетворении.
Иван съел ножку индейки, при этом отметил, что деревенская курица, запеченная в печи, пожалуй, вкуснее будет. А поев, ушел в счастливом убеждении, что не так уж много потерял, обедая у хозяйки или питаясь припасами со своего двора.
Из «Аквариума» он двинулся в театр Художеств – гулять, так гулять! Постоял в задумчивости перед афишей – на ней значилось: «Одна среди хищных зверей!» И ремарка: «необыкновенный сильно драматический сюжет».
Пошел. Сюжет и в самом деле был сильно драматическим. В середине сеанса прямо у него за спиной закричала девушка так нервно, что её всем залом едва успокоили. Однако во втором действии Иван заскучал и ушел, так и не дождавшись сильно драматической развязки.
На соседней улице давали другой «сильно драматический сюжет» – кино «Атлантик во власти океана», по роману Гауптмана. В главной роли была занята артистка из Вены Ида Орлова. Кроме знаменитой Иды и безрукого Уинтона, снималось ещё тысячи три статистов. Ивану было удивительно – откуда только иакую прорву бездельников набрали?
Вышел после сеанса с больной головой.
Измученный зрелищами и вконец зачумленный «сильно драматическими» и «небывалыми» зрелищами, он решил освежиться духовной пищей и забрел на лекцию профессора Гредескуса – на весьма модную тему «личность и общество». Профессор, в стильной одежде, жалобно подвывая и запрокидывая голову, вещал с кафедры о внутреннем раздвоении личности «в такое сложное время, как наше» и о том, что по этому поводу думает профессор Мечников. Зал нервничал, особенно, когда Гредескус говорил об индивидуализме правом и неправом. «А что думает по этому поводу Ницше?» – задиристо выкрикивали из зала. Похоже, Ницше в Гомеле становился своим человеком.
Когда же скатились на вопросы о личном счастье, зал разразился криками: «А что думает по этому поводу Кант?»
Индивидуальная программа личности потребовала присутствия суждений Леонида Андреева…
В заключение зал разбился на две группировки – одна требовала совершенствовать личность, другая – исправлять общество. Ивану хотелось встать и сказать свое слово о том, что, если человека не кормить, то человек этот, голодный и злой, никакому усовершенствованию вообще не поддастся. Однако эта простая мысль почему-то никем не высказывалась, и почтеннейшая публика продолжала плутать мыслью в столь простом вопросе так энергично, что Иван воздержался от высказываний и подумал, что самым верным решением будет тихо покинуть собрание и убраться восвояси. Наскоро перекусив в буфете (бутерброд и стакан сельтерской), он быстро зашагал в городской клуб, где уже заканчивался вечер Аркадия Аверченко, который был люб Ивану за его острое перо. К тому же, Аверченко прибыл не один, с ним выступала премьерша из Санкт-Петербурга Садовская.
Аверченко в тот вечер был особенно в ударе, а вот госпожа Садовская сильно нервничала и, в конце концов, ушла со сцены, не завершив номера. Была серьезная причина – отвалился плюмаж от шляпки…
…Потом Ивану довелось и ещё разок погулять, но было это уже перед самой войной. Гомель к тому времени стал совсем другим городом. Весь тихий и скучноватый, если не считать особых мест увеселения, где бурлила культурная жизнь, город вдруг сделался суетным, запестрел прохожими с растревоженными, и часто пунцовыми от возлияний, лицами. На всех углах только и слышно было: «Война! Сербия! Австрия!»…
Все вдруг превратились в знатоков политики. Всякий, спрашивают его или нет, уверенно высказывал свои взгляды. Свежие газеты рвали из рук. С жадностью зачитывались скучными, в былые времена и вовсе не читаемыми, передовицами.
Иван как-то по старой памяти зашел в редакцию «Копейки». Там его встретили как родного, дали кружку черного чай и усадили к телефону, спрашивая непрерывно – что новенького?
В редакцию звонили день и ночь, без перерыва. У редакторов глаза красные от недосыпа и бодрящих напитков, дежурства теперь стали обязательными для всех сотрудников. Свежие вести теперь были доро – же золота и нужнее хлеба, особенно волновались гомельчане, чьи родственники отдыхали на курортах Германии и Австрии. Всем хотелось получить ответ на волнующий их вопрос – что же делать? Одни считали, что ничего страшного, всё обойдется, надо оставаться там, другие же, пребывая в панике, желали скорейшего возвращения родных и близких домой.
Экстренный выпуск «Копейки» вышел на зеленой бумаге. Во всю первую полосу было написано: «22 июня 1914 года Германия объявила войну Франции. 32 дредноута вышли в Балтийское море».
С этого дня Гомель перешел на осадное положение. За нарушение тишины и порядка, и особенно – за распространение слухов или даже по подозрению в их распространении, предписывалось брать в граждан военный налог в наивысшей мере. За продажу хотя бы рюмки спиртного отправляли в тюрьму безо всякого суда и следствия.
Среди взволнованных и запуганных граждан сновали подозрительные личности и выкрикивали всевозможные призывы. Тут и воззвание ко всем малокровным – объединяться и искать помощи только в самообороне собственного организма. Для этой цели всего-то и надо было, что купить «биомальц» – возрождающее кровь средство, но при этом надо было смертельно опасаться подделок, следя за тем, чтобы фабричное клеймо правильного «биомальца» – «два кролика» было на месте.
От гадалок и предсказателей просто некуда было деваться.
А вскоре на столбах и заборах цветными лоскутками запестрели объявления:
«Всем! Всем! Всем!
Со времени расклейки оного никто не имеет права оправдываться незнанием последнего Высочайшего повеления о призыве! За неявку в установленный срок на сборные пункты без уважительных причин низшие чины запаса подвергаются наказанию как за отлучку или за побег. Отлучка, продлившаяся более семи дней, называется побегом и наказывается одиночным заключением в военной тюрьме до одного года и четырех месяцев!
Переселение из одного места в другое после объявления мобилизации не допускается».
Эти грозные листки лепили прямо на призывы товарищества гомельских аптекарей записываться на медицинский кефир и газированное молоко, «сильно помогающее от расстройства нервов».
Ждали самого ужасного – и гром грянул. С утра, под проливным дождем, у всех столбов, где расклеены объявления, толпы взволнованного народа. Не всем ясен смысл грозных фраз. Переспрашивают – что значит «по расписанию 1910 года»?
Ясно было пока одно – надвигается кровавый кошмар. Завтра, из не ясного и неопределенного, стало чем-то определенно страшным и ужасающим. Завтра почти все правительственные, общественные и частные учреждения останутся наполовину без работников и служащих. Вся эта масса людей, у которых были свои большие и маленькие заботы – о семье, о службе, об обязанностях, – все они внезапно выбиты из привычной колеи этим ужасным известием. В 24 часа надо покончить счеты с привычной обыденной жизнью, заплатить и получить долги, обмундироваться и – ждать с покорностью темного, но неотвратимого завтра…
Срочно записывают новорожденных, оформляют тихие браки, которые, не случись войны, так и дожили бы до Страшного суда – тихо и незаметно.
Однако безжалостная война сорвала все завесы – одни срочно венчаются, другие безо всякого сожаления разводятся. Сколько семейных драм ликвидировано в эти часы? В 24 часа надо устранить или исправить ошибки всей предыдущей жизни!
Много алчущий найти забвение в вине. Но по распоряжению администрации все питейные заведения Гомеля закрыты, не было поблажек ни первоклассным кабакам, ни кафе-шантанам. Не продавали горячительное даже из-под полы – боялись репрессий.
В воскресенье на улицах появились манифестации – собравшиеся с глубокой ненавистью кричали: «Долой Австрию!»
Вечером повсюду пустынно и до жути тихо. Все боязливо сидят по домам и носа не кажут на улицу. Да и недосуг гулять – в эти часы многие прощаются с родными и близкими, может так статься, что и навсегда.
Жадно ловят невесть откуда выползающие слухи. У редакции «Копейки» всегда толпа – читают последние выпуски телеграмм. Здесь, в разноликой толпе, и прислуга, и священник, и аптекарь, и чиновник…
Завтра – касается всех.
Вот уже закрылась «Гомельская мысль». Последний номер содержал только призыв к объединению перед лицом грядущих испытаний…
Иван, вместе с другими сотрудниками, обходил дома и разносил последний выпуск своей газеты. Там были напечатаны его стихи.
Передовица говорила о том, что война объявлена, и. Быть может, в эту минуту пули врага уже разят наших братьев и отцов. Из рядов армии начнут выбывать раненые и искалеченные. Долг каждого – помогать им без различия положений и национальностей.
На пожертвования граждан в Гомеле открыли лазарет. Жертвовали не только деньги, но и вещи, и перевязочный материал. Кто умел, шил бельё для раненых.
Жертвовали щедро и охотно, желающих ходить за ранеными было множество – целый длинный список, иные терпеливо ждали вакансии.
У входа в редакцию стояла привычная уже толпа, но на сей раз уже не за свежими телеграммами – редакция ведь закрылась. Высокий рыжий парень в картузе читал текст, напечатанный на последней полосе последнего выпуска. Слова он, видно, уже выучил наизусть, это ясно – он, изредка заглядывая в текст, всё же больше глядел на собравшихся, при этом страстно грозил кулаком на запад невидимому врагу.
По всей земле промчался слух,
Зловещий, черный слух:
Опять в поход собрался
Мальбрук – крушитель мух…
На бочке-пьедестале, с сосиской на гербе,
Он держит речь в Берр Холле
Собравшейся толпе.
Давайте, австрияки, покажем удальство!
Пусть прежде бил нас всякий, но это ничего!
И плакать я не буду, когда нас вновь побью,
За битого ведь всюду небитых двух дают.
Победа ль, пораженье —
Нам нечего терять.
Итак – без промедленья давайте воевать!
В ответ молчит мертвецки венгерец и хорват.
Что делать? По-немецки они не говорят.
Мальбрук в тоске гражданской
Замолк, издавши вздох.
Пока посол Германский не крикнул
Соло «хох»!
Эй. Полно там! Синице-ль сжечь море? Что за чушь?
Сиди и ешь свой шницель
И штопай свой кунтуш.
А вот для одногодка загадочка одна:
«Что крепче – наша плетка.
Иль швабская спина?»
«Мальбрук» имел неизменный успех у публики – вскоре его цитировала на каждом углу с большим воодушевлением. Иван впервые наблюдал, как действует слово, сказанное ко времени, на массы людей, и радость эта ничуть не померкла оттого, что зажигательное слово озвучивалось совсем другим человеком.
Ранним утром следующего дня он уже был на сборном пункте.
5
На улицах Ветки немцы появились сразу после ухода частей Красной армии. Ещё пыль не улеглась на проселочной дороге, а со стороны запада по улицам уже шел враг. Ивана записали в ополчение, Мария с детьми оставалась одна.
Когда несла скотине корм, во двор вбежала Ганна, Мариина соседка.
– А ти ты застаешся? Усе ж пабегли, – едва переводя дух, сказала Ганна.
– Тиха ты, балаболка! – цыкнула на неё Мария. – Кажи толкам – хто пабег, куды пабегли, га?
– А усе пабегли, бабы з детьми. У балота пабегли, ад немцау хавацца! Збирайся хутчэй, усих загубять, хто застанецца. Ой, матка мая, матачка! – заголосила Ганна.
– Не рави, зараз пойдем, – сказала Мария и пошла в дом собираться.
Всё, что попадало под руку, складывала на середину большого коричневого кашемирового платка, потом концы завязала в большой узел. Кроме теплых детских вещей, взяла ещё буханку ржаного хлеба, шмат сала, две цыбульки, в спичечную коробку насыпала щепотку соли. На два-три дня хватит, больше всё равно на болоте не высидеть. Позвала детей с огорода, и бежком за всеми на болота.
Сидеть пришлось неделю, ползком, под пулями старшая Броня добывала бульбу с ближнего поля. На рассвете, когда сильный туман был, жгли небольшой костерок, а потом в золе пекли картофелины. На седьмой день, чувствуя страшную ломоту в спине и нытье в ногах, Мария, перекрестив детей, решилась возвращаться. Ганна пошла вместе с ней, но дома её ждало горькое горе. Двор был весь разворочен и дом опустошен. Она подняла вой – «ничога нямашака!»
Однако плакать было поздно, надо как-то обживаться заново. Мария успокаивала:
– Можа што у гароде вырасте. Кали не усё стаптали… Хтось свой у тябе палазиу. Не рави, бульба, бураки вырастуть, морква засталася ля забора.
– Ага! Вырасте! Што вырасте? Ни скатины, ни скарба! Ничога не засталося! Ы-ыыы!
– Да мяне прыдешь, бульба ёстяка. Нам усю ня зъесть.
После того сиденья в болоте у Марии стали болеть ноги к непогоде. Ганна зелье приносила для растирания, немного полегчало, но по ночам так, бывало, крутило, что глаз за всю ночь сомкнуть не могла.
Жизнь в Ветке понемногу налаживалась. В ларьке давали соль и спички. Снова открылась контора, Халецкий совхоз не распустили, а так же, как и при коммунистах, отправляли на работу и выставляли трудодни. Даже председателем была та же самая баба. Школа работала, но только начальная, белорусская, русскую же десятилетку совсем закрыли.
Кто знал немецкий, брали на работу в штаб.
Немцев расквартировали по домам, что были ближе к центру. К Марии подселили рыжего, незлобливого парня, похоже, из деревни. Он смотрит, как Мария работает, и приговаривает: «Гут, баба, гут! У меня на Фатерлянд тоже Мария есть». Ничего худого он не делал, и вскоре Мария, привыкнув к постояльцу, перестала и вовсе обращать на него и его назойливую болтовню внимание.
– Ня баишся нямчуру? – выспрашивала Ганна, опасливо поглядывая на солдата.
– А чаго яму зробицца? – пожимала плечьми Мария. – Жыве и жыве сабе патиху. А ну, фриц паганы, атыди! – прикрикнула она, замахнувшись тряпкой на немца, который, который, догадавшись, что речь идет о нем, решил подойти к женщинам поближе, за что и поплатился.
Однако немец не обиделся. Сел в сторонке на скамейку для подойника, улыбаясь и щурясь на солнышке, и начал играть на губной гармошке веселую песенку.
– Зауседы таки? – спросила Ганна.
– А чаго яму зробицца? – зло ответила Мария и начала мести двор, сильно пыля метлой. Расспросы любопытной Ганны ей не очень нравились – а что, как немец очухается – бабы-то рядом. И без мужиков!
– А чаго ж ён не дапаможа? – спросила Ганна, которой явно не хотелось скоро уходить.
– Не адчэпишся ад тябе! – рассердилась Мария и вытолкала Ганну за калитку. Немец заиграл что-то грустное.
– Гут, баба. Гут! – бормотал он в усы, когда Мария проходила мимо него с ведрами.
Немец прожил в доме Марии ещё месяц, а потом вдруг исчез. Зашел Акимка, зыркнул злым глазом, Мария обомлела – чаго дурню нада? Он же, вволю насладившись её испугом, сказал неторопливо:
– Готовь хату, красуня. Высокий чин у тебя на постой будет нынче поселяться.
– А гэты где ж? – спросила Мария, предчувствуя недоброе.
– А у твоего рыжего в Германии дела с властями, вот оно что, – сказал Акимка, внимательно следя за её лицом и расковыривая побелку на печке. – Ну что, баба, снедать будем?
– А ти ты галодны? – сказала Мария, убирая со стола миску с бульбой.
Погнать бы незваного гостя метлой. Да нельзя – высокого полета он птица теперь. Староста, начальник полицейских.
– Так я пойду, – сказал он, так и не дождавшись угощения. – А ты смотри, чтоб чисто было. Ну и пыль подняла!
– Иди, иди, – проводила его Мария взмахом веника. – Сатано! – выругалась она ему вслед, когда стукнула дверь в сенях.
– По фрицу заскучала, бабонька? – спросил Акимка, снова открывая дверь. – Каханку завела с ним, га? На фронт твой немчура пойдет. На фронт, поняла? А меня так гонишь? Я что, хуже фрица? У него брат коммунист. Пиф-паф брательника! Поняла?
Мария заплакла. Злые слезы текли по щекам, но что она могла сделать? Убить бы гада, но тогда и её убьют. И детей в Германию отправаят. Она схватила со стола нож.
– Но-но, баба! – крикнул Акимка и отскочил к двери.
– Яшчэ ня запрэг, чаго нукаешь? – сказала Мария и, опустившись на колени, начала с ожесточением скоблить испачканный пол у печки, затем следы от сапог Акимки у порога. – Усю грязь прытягнул, ирад бязмозглы… Немцау пёс… – бормотала она себе под нос, ползая на коленях по полу. Грязные брызги летели во все стороны.
– А ты безбоязная, бабонька! – вкрадчиво сказал Акимка, и Мария затаила дыхание. – Ладно, пойду, – сказал Акимка.
На этот раз он действительно ушел и больше не возвращался.
Старая болячка – его любовь к строптивой бабе. И рад бы её сковырнуть, да зудеть пуще прежнего будет. Как на зло, Иван и Мария жили ладно, без публичных семейных свар, таких обычных в маленьком городке. Иван – сухарь, книжник. Ему до баб и вовсе дела нет, А вот она что себе думает? Бабий век недолог, кому она потом нужна будет?
Подумав так, Акимка ещё больше разозлился. Мария, в свои, за бабий век, годы и пятеро рожденных детей, была хороша и приятна на вид. А такой хозяйки, как она, ещё поискать!
Навстречу попалась Ганна с ведрами на коромысле. Полные, несет бежком – ни капли не расплескает…
Ганна прошла быстро, молчком, только головой кивнула – или просто наклонилась, под ногами что увидела? В былые времена не упустила бы случая шпильку вставить, застав его у дома Марии: «Што, злыдень, зайздростиш жанатаму чалавеку?»
Ганнины родители на Акимкина батьку батрачили, сама она девкой бегала по ягоды для их двора, гусей пасла, а потом времена переменились – нос драть перед ним стала. Пся крэв!
Акимку раздражало спокойствие Ивана. Представить его орущим, кидающимся в драку он просто не мог. Марии он никогда не пенял, даже её неграмотность как бы не замечал вовсе. Перед ней своей ученостью не выставлялся. Может, дома гоношится, вдали от людского глаза-то? Но нет, это даже и по пьяному делу не могло случиться – Иван пил не больше одной рюмки, и то только по случаю больших торжеств, что знали все.
Этот ходячий херувим был им люто ненавидим, но давно уже не вызывал той зависти, которая съедала Акимку в молодые годы. Он знал, и это знание только крепло с годами, особенно после того, как иван и мария стали жить в Ветке и Ивана избрали председателем райпотребсоюза, что случай выйдет, обязательно выйдет! Мария отринется от Ивана сама и станет, наконец, его бабой.
Акимкина жена Марылька, была моложе Марии, женился он на ней по воле отца. Любви не было – стерпятся-слюбятся, так говорила родня, но не слюбилось, хотя и стерпелось. До работы квелая, языком по – чесать – мастер, но Акимка не бросал её, потому что ему люба была одна-единственная баба, но была она за другим мужиком, и просвета в его беззаветной и безответной страсти не было. Но вот грянула война, и Акимка, втайне надеясь, что Иван не вернется домой, что достанет его шальная пуля, и путь к сердцу Марии освободится. Но Мария, с тех пор, как Иван ушел с ополчением, ещё злее стала на Акимку зыркать в ответ на его неловкие ухаживания. И надежда на счастье с Марией, если вдруг Ивана убьют, снова угасла.
Ганна, ядовитая бабенка, в спину Акимке отпускала злобные шуточки про Марыльку: «Усё гамонить ды гамонить, а работу кали спрауляе?»
Акимка гулял от жены, она это знала, но виду не показывала. Он напивался пьян по праздникам, бывало, и поколачивал, когда попадалась под горячую руку. Так и шла их жизнь – без любви, без охоты.
А как немцы пришли, и Акимка старостой сделался, Марылька, из затурканной и нелюбимой мужем бабенки, превратилась в одночасье в очень важную персону.
Она и телом круглее стала, и балаболила теперь меньше. И перед Марией, которую в спину называла пренебрежиельно – «Романчихой», держалась настоящей барыней. Как-то раз она, встретив Ганну у колодца, позвала её к себе «на хлеб». К ней уже хаживали женщины по найму, но она мечтала подобраться к «самой Романчихе», Ганна же была пробным камнем, который она со временем бросит в Романчихин огород. Сначала она привадит, щедро прикармливая, её лучшую подругу, потом подомнет под себя и эту ненавистную, упрямую гордячку, у которой старость уже близко, за плечами, а гонару всё ещё на пятерых…
Повстречав Ганну у колодца, Марылька сказала ей, что есть кое-какая работа. Та промолчала, а когда Марылька снова спросила: «А ти ты не пойдешь?», – Ганна выпрямилась, поманила Марыльку пальцем. Та подошла, даже ухо приблизила к Ганниному лицу, и то, что Ганна сказала ей злым шёпотом, заставило её отскочить от ядовитой бабы подальше. Ганна засмеялась и, вполне довольная собой, весело напевая, пошла по улице, легко неся полные ведра на коромысле.
Когда бабы с детьми и старики от немца на болота ушли прятаться, на их улице только Марылька с Акимкой вдвоем и остались – Акимка был непризывной. Их звали, Марылька отвечала:
– А чи у мяне своей головы няма? Прападете там, на балотах.
– Так с грамадой и памирать ня страшна!
– А мы пака и жить не адказваемся!
Так и остались они вдвоем на целой улице, так и встретили немцев. А как стали люди возвращаться, пополз слух, что-де Марылькиных рук дело – по хатам безнадзорным шарить-промышлять.
В город потом в базарные дни с катомкой так и шастала. Бабы возмущались, но открыто ссориться с «лупоглазой старостихой» не решались. Так это дело и сошло на нет.
У Акимки был сын, Бронин одногодок. В школе вместе учились, в одном классе. Акимка не раз замечал – сыну его тоже любо мимо заветных окон лишний раз пройти.
Как-то, завидев в щелку крайней ставни слабый свет, подумал с беспокойным любопытством, что это коханка там поделывает, какую такую справу так поздно справляет? Пробрался в палисадник, и, приладившись к щели, стал смотреть, что там, внутри, за ставнями. Только умостился поудобнее, как за спиной что-то хрустнуло. Обернулся, весь в холодном поту – а ну как Мария его за этим стыдным делом застукает? Да они с Ганной прохода ему не дадут, засмеют дурня…
Но сердце его чуть не лопнуло от злости и досады, когда он увидел прямо перед своим носом сына своего Петра. Малец опрометью выскочил из палисадника и понесся во все лопатки по улице – подальше от отцовского гнева. Босые пятки ещё долго гулко тупали по утрамбованной тропке…
Немного успокоившись, Акимка стал думать – а что, если сын его в потемках и не распознал? Так и ладно. Решил виду не подавать, что сам Петра видел, в палисаднике застал. Пусть думает, что обознался, если вдруг видел его в лицо. А про себя с досадливым удивлением подумал:
– Глянь-ка, и Пятро азаравать мастак!
Но всё же тревога не оставляла его. А вдруг станет Петр ему намеки разные делать? Тогда что? Ну, тогда уж он найдет, чем сына застращать! Будет молчком молчать, не рыпнется!
И уже окончательно успокоившись, Акимка с предосторожностью покинул наблюдательный пост. Однако уже на следующий день вернулась назойливая мысль – что это за справу Мария по ночам справляет? Подкараулив её в проулке, он, загородив проход, спросил прямо, без экивоков:
– Что свет по ночам палишь, красуня?
– Адчапися, – как всегда в таких случаях, ответила Мария и, оттолкнув его руку, прошла мимо.
Однако Акимку такая манера только раззадорила. Он резко схватил её за локоть и притянул к себе. Мария стала, как вкопанная. Лицо её сделалось пунцовым, на лбу выступили капельки пота.
– Так, так, так… – покачал головой Акимка, наклоняясь к самому её лицу. – Никак, бабонька, тебя лихоманит?
– Пусти, антихрыст! – прошептала зло и беспомощно женщина. – Пусти!
– Ага, баба, что-то не тае! Говори правду, кто у тебя там? Кого скрываешь от людей? Гляди, проверю! И ничто тебя уже не спасет, ни забор высоки, ни собака злая…
Он отпустил локоть Марии и стоял перед ней, подбоченясь и пряча злую ухмылку в усах. Он видел, как лицо женщины постепенно приобретает мертвенно-бледный вид. Губы её дрожали, глаза смотрели в землю.
Мария не зря испугалась.
Как-то поздним вечером, когда уже все дела были приделаны, дети спали, и она сама на покой собралась, в маленькое окошечко с огорода тихо постучали. Оконце было маленькое, почти, как в бане, без ставни, и Мария, прикрутив фитиль на керосиновой лампе, отогнула угол занавески, прислонилась к стеклу и стала вглядываться в ночную темь. Дурной человек так осторожно стучать не будет. Да ещё с огорода…
Никого не разглядев в потемках, она пошла в сенцы. Прислушалась, и ей показалось, что тихий, едва слышный стук повторился снова, но теперь уже стучали в дверь.
– Хто там? – едва слышно, срывающимся шепотом, спросила она. – Хтось шкрабецца, а голасу не падае…
Однако во дворе, за дверью, опять промолчали. Она ещё раз переспросила, на этот раз чуть громче, и хотела уже уходить, подумав – со страху помстилось, как ей тут же ответил из-за двери испуганный шепот:
– Открой, Мария, Христом Богом прошу, открой! Пусти в хату! Родненькая, пусти!
Мария поспешно перекрестилась. Это был голос её соседки по меже, их огороды сходились на задах, а сам дом её был на другой улице.
«Прынесла нялёгкая!» – подумала с досадой она, но крючок всё же откинула.
– Чаго табе? – спросила через щель, крепко придерживая дверь рукой и не впуская ночную посетительницу.
– Мария, золотко, пусти! Не дай погибнуть несчастной душе! – сказала просительница и всунула ногу в щель между дверью и косяком.
– Заходь, – неохотно сказала Мария после длинной паузы.
В сенцы тенью скользнула худенькая женщина. Это была Дора. Молодая еврейка незадолго до войны переехала в Ветку из Гомеля, поговарили, сбежала от нелюбимого жениха. С Марией они знались больше «по меже», когда соседская курица в её огород забредет или кому траву косить на общем участке, ещё какие мелочи…
Муж Доры ушел на фронт, пятилетнего сына она ещё в самом начале июля отправила к родне под Брянск, уж туда немцы точно не пройдут! Отец Доры умер за три года до войны, от крупозного воспаления легких. Матери своей она вовсе не помнила – та умерла, когда девочка была грудной. Был ещё когда-то старший брат, лицо его она знала по фото, в девятнадцатом году его убили стрекопытовцы.
…Советская власть в Гомеле едва установилась, как эсеровцы устроили налет. В городе было около двухсот коммунистов. Эсеры решительно грозились всех повесить. Коммунисты засеяли в гостинице «Савой» и ровно неделю держали оборону. На восьмой день от эсэровского командования пришел приказ – кто сдастся, того помиловать. Однако никто не вышел из дверей «Савойи».
Обстрел гостиницы велся прицельным огнем. Гранатами закидали вход, рухнула парадная дверь, белые ворвались в здание. Всех, кто ещё держался на ногах, вывели на улицу и погнали к станции прикладами.
Четыре дня длились погромы в городе. Рекой лилась кровь, убитым уже никто не вел счета. Когда пришло известие о приближении Красной Армии, всех пленных из гостиницы «Савой» расстреляли прямо на платформе.
«Савой» вскоре восстановили, на стене появилась табличка с написанными золотом именами её защитников. Среди них был и Зяма, старший брат Доры…
– Мария, родненькая! Пусти! Схавай у себя! У тебя ж искать не будут! Ты ж постояльца держишь!
– Куды ж я тябе схаваю? – испуганно прошептала Мария, прижимая спиной дверь на кухню. – Немец спить у зале, я с детьми у бакавушцы. Куды я тябе схаваю, га?
Дора упала на колени.
– Пусти! Пусти в дом, Мария! А то капец мне, понимаешь?
– Не, деука мая. Не магу. Иди сабе, иди!
Но Дора не давала ей закрыть дверь в сенцах. Она вцепилась в её подол, прижалась лицом к её коленям, плакала навзрыд и просила впустить её.
– Никуда я не пойду! Буду сидеть здесь, на ганку, пока немцы не заберут. Пусть твой немец меня и расстреляет! Никому мы не нуж-ны-ы-ы… Мария! Спаси-и-и…
– Тиха ты, дура! Ня вый! – толкнула её Мария в плечи. – Немец праснецца!
– Мария… Мария… Ы-ы-ыыыы…
– Цыц, табе кажу! Заходь, лихаманка тябе забяры!
Когда Дора проскользнула на кухню, открылось ещё одно нехорошее дело – в огороде, в кустах малины, она спрятала своего сына.
– Мария, сыночка в дом позови, он сам придет. Только позови из окошечка, он там, малине…
– Яки сынок? Ты з глузду зъехала. Деука? – разозлилась Мария.
– Мой сынок. Мой, тётачка!
– Ты яго пад Бранск адправила!
– Я так только сказала. Он здесь был, Прятала его в сарайчике. В клети для кур. В старой усадьбе. Да сейчас по всем домам ходят. Всюду смотрят, найдут, и конец нам, тетачка!
«Старая усадьба» – это заброшенные склады в трех километрах от Ветки вверх по течению Сожа. При складах жил сторож, вел хозяйство и после того, как склады перестали использоваться по назначению. Потом сторож умер, и тропка в те места быстро заросла.
Вот на этой «старой усадьбе» Дора и нашла себе и своему сыну временный приют.
– Тетачка! Мария! Сынку моего тоже в дом возьми! – и она принялась поспешно и как-то истерично принялась целовать руки Марии.
– А йди ты! Кинь, кажу табе! – не на шутку рассердилась Мария. Она силком отстранила от себя Дору, обтерла подолом мокрые от Дориных слез руки, открыла подпол и сказала:
– Лезь у падмостте. У бульбу зарыйся и сяди. Мяшки наверх п аклади.
– А сынок мой, Мария? Сынок же как?
– Прывяду хлопчыка. А ты тиха сяди!
Дора спустила в подпол, а Мария, накинув ватник на плечи, вышла в огород. Немец сегодня пришел сильно пьяный, свалился на диван в сапогах и сразу уснул. Ещё час-два спать будет, как мертвый. За это время она Дору и её сына как-нибудь устроит половчее.
Одуревший от холода и страха мальчонка, смотрел на Марию большими круглыми, совсем черными в темноте глазами. Она взяла его за руку, осторожно вытащила из кустов и, закрыв ему рот ладонью, повела в дом. На кухне посадила у печки, налила кружку молока пополам с кипятком, добавила ложку коровьего масла и заставила тут же выпить залпом. Ребенок, захлебываясь, пил горячее молоко, проливая на одежду и стряхивая капли с курточки на пол. А когда с питьем было покончено. Мария. Подхватив его под мышки, быстро опустила в отверстие в полу, затем спустилась туда и сама.
Устроив Дору с ребенком среди бульбы, она завернула в половичок горшок каши и бутылку воды, плотно заткнутую бумажной пробкой, а за горкой мешков поставила ведро с крышкой – для нужды. Бросив старый кожух Ивана поверх кучи бульбы, в которую зарылись Дора и ребенок, она строго сказала:
– Штоб не звягать! И мамку не кликать! (Потом Доре.) З падполля не вылазить, лествицу я забяру. Я тут на камень жбан сываратки пастаулю, марляй абвяжу. Пи, як захочаш, тольки усё ня пи. Заутра ладак напяку. Ну, так, сядитя тиха!
Остаток ночи Мария провела без сна. И понимала, что теперь ей спокойно долго не спать – от каждого стука за окном вздрагивала – не к ней ли идут с проверкой?
Поздно ночью, когда немец крепко засыпал, она, плотно закрыв старым одеялом проем между кухней и залой, осторожно лезла в подпол, подавала Доре еду и питьё, мокрое полотенце для обтирания лица и рук, поднимала наверх ведро «с нуждой», относила его «в яму», мыла во дворе пучком соломы, и затем снова отправляла вниз, уже чистое. Она боялась, как бы дух из подпола не пошел.
Вот и похолодело нутро, когда Акимка её за локоть прихватил. – «На шыбельницу пападеш з-за жыдоуки паганай…» – тоскливо подумала она, снова запоздало пожалев, что впустила в ту злополучную ночь в свой дом Дору.
Однажды ей показалось, что немец что-то заподозрил. Проходя через кухню, он внезапно остановился и стал прислушиваться. Голова его была наклонена набок. Рот приоткрыт. Вот сейчас закричит, схватит её и детей, погонит на площадь. И там их повесят…
Однако немец, так постояв, словно прислушиваясь к чему-то, тряхнул головой и пошел в сени, так ничего и не сказав.
Ночью она хотела выгнать Дору. Открыла подпол, позвала её, та высунулась из груды бульбы, вся пепрепачканная в земле, серая от пребывания в потемках и страха, одними губами спросила:
– Что, тетечка? Что?
В мелких кучеряшках, некогда медные, давно нечесаные волосы её сбились в грязные пейсы, глаза, дикие, в огромных темных полукружьях теней, смотрели испуганно и жалко…
– Вылазь! – скомандовала Мария, опасливо поглядывая на занавеску, не проснулся ли немец?
– Хочешь нас выгнать? Да, Мария? Выгнать хочешь? Не, не пойду! И Дора забилась обратно в кучу бульбы.
Тут, откинув занавеску, из залы вышел заспанный немец. Мария обомлела. Постоялец, наклонившись над подпольем, строго спросил:
– Кто там есть?
– Хто? А нихто! – растерянно ответила Мария. – Радня мая, Са Старага Сяла. Пляменица с дитем. Нельга выходить. Хворыя яны. Тиф у их. Паночак, тиф!
Немец усмехнулся и погрозил Марии пальцем, однако отошел подальше.
– Юда? – спросил он, указывая на открытое подполье.
– Тиф… Тиф… Паночак, Тиф!
Мария быстро закрыла подпол, закрыла отверстие половиком и поставила сверху табуретку. Усевшись на неё, всё продолжала повторять – тиф… тиф… тиф…
Немец снова ткнул пальцем в подполье и сказал:
– Юда! Юда! Юда! Паф-паф-паф! – и, засмеявшись, пошел спать.
…Вот эту жуткую сцену мог бы подсмотреть Акимка, если бы его собственный сынишка ему в этом не помешал. Однако догадался, что дело здесь какое-то имеется. Но мысли его были о другом – не партизаны ли к Марии наведываются? Броня переводчицей при комендатуре. На квартире чин стоит. Информация так и так имеется.
А когда вдруг исчез немец, не явившись в комендатуру с утра, он быстро смекнул, кого надо спрашивать. Посыльным из комендатуры она сказала, что постоялец ушел рано, куда – не сказался.
Немец же исчез с белого света навеки. Ночью, когда храп с присвистом стал ровным, Мария, обмотав полотенцем топор, обухом стукнула постояльца по темени. Крови почти не было. Храп тотчас же прекратился. Убедившись, что немец мертв, Мария позвала Дору из подпола, вместе оттащили труп вниз и закопали в яму с песком. Яма была приготовлена для зимнего хранения моркови и бураков и уходила вглубь на два метра. В песке даже летом было прохладно. Сейчас же на дне ямы был настоящий холод. Поверх песка они насыпали горку бульбы.
Мария долго мыла полы, потом собрала постельное бельё, чехол с дивана и половики, замочила всё это в двух корытах и в большом ведре, щедро насыпав туда хлорки и сухой горчицы, и на рассвете начала большую стирку. Закончив работу, всё стираное развесила на чердаке, полы в доме протерла крутым отваром полыни и мяты – всякий вредный дух отбивает…
К обеду пришли два немца с овчарками, привел их Акимка. Мария села на лавку, положила руки на колени и молча ждала решения своей судьбы. Страху в ней не было. Не было и никаких других чувств. Была только усталость во всем теле. Хотелось спать.
Собаки закружили над половицей с кольцом, один из патрульных дернул кольцо, поднял половицу, заглянул вниз. Оттуда пошел сырой тяжелый дух.
– Паночки! Закрыйте масницу, Хрыстом Богам прашу! Пляменица у мяне там. Тиф у яе, тиф! – спокойно уже сказала Мария и широко зевнула. Патрульные отошли к двери, Акимка же зло сказал:
– Племянница, говоришь? Посмотрим, проверим, что за племянница такая. Зайду потом.
Они ушли, так ничего и не обнаружив.
Ночью Мария хотела спустить еду в подпол, но Дора на её зов не отозвалась. Тогда она сама туда спустилась и, увидав пленницу подполья лежащей на мешках, потрогала её лоб, лицо и поняла, что случилось недоброе – Дора крепко захворала. И в самом деле – не тиф ли накликала?
А что, как помрет здесь, в подполье?
Ребенок же, на его счастье, почти всё время спал.
Мария вытащила Дору из подпола, поместила её в клеть, где хранились съестные припасы и стоял деревянный ящик с отрубями для скотины, остригла спутанные в колту волосы больной, повязала ей голову чистой хустой, низко, на лоб, как это делают бабы в жатву, накрыла зипуном, перекрестила и стала думать, что вот и пришел их последний день. Если это и в самом деле тиф, то живыми никто из них не останется.
Однако признаков тифа не было, возможно, это была нервная горячка и длительное беспамятство от испуга и общего истощения. Ребенка Мария тоже перетащила из подпола – на печку, теперь уже, когда всё почти открылось, для спасения оставалось твердо стоять на том, что это её «пляменица с дитём». И будь что будет.
Мальчику, как и Доре, она повязала голову платком. Все-таки не так заметно, что чернявый да кудрявый. Хотя Иван её ведь тоже не рыжий-белобрысый…
Так прошло две недели, Дора стала поправляться и, очнувшись и придя в память, сама сбежала из клети – обратно, в надежный подпол.
6
Мария только по хозяйству всё приделала, как в сенях стукнула дверь. Она вышла – там стояла, вся запыхавшаяся. Ганна.
– Канец света прыйшоу! Ой-ё-ёй! Усим нам канец! – заплакала она, закрывая лицо руками.
– Ничога ня зразуметь, кажи толкам! – сказала Мария.
– На плошчы. Ак раз перад райсаюзам. Шыбелицу паставили. Кагось вешать будуть, каты паганючыя!
– Да ня рави ты! – сказала Мария, перекрастилась и тоже заплакала.
На другой день, с утра, все население Ветки согнали на бывшую Красную площадь, теперь она называлась – «площадь Свободы».
При страшном молчании огромной понурой толпы двое солдат вывели мужчину и вздернули на виселицу. Дул сильный западный ветер – влажный и резкий. Тело качалось на ветру, веревка терлась о перекладину, извлекая из неё ужасный, дерущий душу скрип, руки казнен – ного казались непомерно велики и были противоестественно вывернуты. На груди его висела табличка. Мария наклонилась к самому уху стоявшей с ней девушки и сказала: «Што там, на шыи… У Василя? Што там написана?» – «За дапамогу партызанам», – так же тихо ответила девушка и ещё что-то зашептала Марии на ухо.
По всей Ветке допрашивали людей – куда девался немец? На Василя показали какие-то злыдни, заподозрив в больном, а потому непризывном и не ушедшем в Красную армию, мужичке врага.
Пропавшего немца больше не искали – считали, что его действительно похитили партизаны как «языка», «для звестки»…
Мария брела домой сама не своя. Ноги едва слушались, в голове стоял шум и гул, а в мыслях было одно: «Закатавали Василя! Закатавали! И мяне закатують, гады паганючыя… Усё зз-а жыдоуки гэтай…»
Однако обзывать Дору привычно – «паганай» почему-то не хотелось. Внезапно мысли её потекли совсем по иному руслу. Перед глазами стояло жалкое Дорино лицо, её свалавшиемя в колтун волосы, торчащие мослы на худых плечах, большие тощие ноги.
«А ти я ж яна винаватая, што яурэйка? И што з таго, что яурэйка? Ти чалавек винавыты у тым, яким радиуся?» – подумала Мария и сама дивилась тому, что в мыслях своих назвала Дору по-книжному, а не как обычно говорили люди – «жыдоука».
Уже подходя к дому, подумала, что надо бы хворой черники сушеной отварить, поможет.
На всех столбах уже расклеили листовки: «за помощь партизанам смерть!», «за укрытие жидов – смерть!»…
Броня, испуганная, с мокрым от слез лицом, встретила её на пороге криком:
– Ой, мамочка! В комендатуре говорят, что сосед наш Василь партизанам помогал. Он немца помог взять! Сам на допросе признался.
– Хто казау? – спросила Мария, беря дочку за руки.
– Акимка. Он ночью и рано утром по нашей улице ходил с патрулем, а Василь всю ночь не спал. Его и заподозрили, схватили, он и признался.
– Ах, ты ж, госпади! – снова заплакала Мария. – Грэх мой на сваю душу узяу…
Василь жил в маленьком домике напротив них. Одна нога с культяпкой – не ходок. На хлеб сапожницким делом добывал. За всякую работу брал одинаковую плату – «рубель», «цалковы»!
– Мамочка, а кто там… у нас… в клети… кто? – едва слышно шептала Броня, не пропуская Марию в дом.
– Хто, хто… А нихто! – грубо ответила Мария и, оттолкнув дочку, вошла в сени, гулко топая ногами. У порога сняла бурки, вытащила их из глубоких калош, поставила сушить в печурку, приложила озябшие руки к печке. Внезапно она ощутила внутри себя ледяной холод, который шел от кончиков закоченевших пальцев до самого сердца. – Пляменница. Кажу табе. И ня суй свой нос у чужы вапрос.
– У нас нет такой родни, мамочка! Нету же! – тихо плакала Броня.
– А ти ты з глузду зъехала. Деука мая? – закричала на неё Мария. – Мая пляменница! Хварэе яна. Дапаможам, а потым пойде яна к сабе дамой.
– А где её дом? – продолжала выспрашивать Броня.
– А у Добруши, – солгала Мария.
– Мамочка. А почему она похожа на нашу…
– Цыц! – злым шёпотом приказала Мария и закрыла ей рот ладонью. На крылечке кто-то вытирал ноги о скребок и громко прокашливался.
Они прислушались – вот уже гость вошел в сени, дернул ручку двери и вошел в кухню.
– Ага, усе как раз дома, – сказал Акимка, присаживаясь на лавку у входа и внимательно оглядывая хозяев. – Навел я справки. Таки нет у вас такой племянницы, бабонька, нетути! Нямашака, разумеешь, про что я?
Мария села на табуретку против него, посмотрела ему в глаза – взгляд их был наглым и хитрым. Она отвернулась от Акимки и стала думать тихо и не спеша, как если бы сидела безо всякого дела одна дома: а что если война эта никогда не кончится, и муж её Иван никогда-никогда не вернется домой? Где он сейчас? Живой ли он? Может, уже давно убит шальной пулей и в поле лежит, а вороны в глаза клюют? И так всё будет теперь навечно – беспросветно-тоскливо и горько…
И в ней поднялась решимость положить этому невозможному пути конец. И сделать это она готова хоть сейчас. Немедленно. Подойти к ироду, снять со стенки серп…
– Э! Э-э-э! Бабонька! Глянь-ка сюды! Ты что-то не тае! – Акимка встал и схватил её за руки и сказал мрачно: Приду, как стемнеет, готовься. Что? Не нравлюсь, тогда Броню давай. Девка уже ладная стала.
– Акстись, паночак! – упала на колени Мария. – Дитё малое яна! Дитё! Грэх яки!
– Ну, годе, вижу, ты меня зразумела, – сказал Акимка и, оттолкнув Марию, быстро вышел из дому.
– Як не зразуметь, паночак… сатано блудливае!
Мария плакала. Тяжелые, не бабьи слезы текли по её щекам. Убить Акимку она смогла бы, убила же немца! Да что потом? Повесят её. Замучают детей. Расстреляют Дору…
Однако в эту ночь, сколько ни прислушивалась Мария, никто не постучал.
Однако наутро новое дело, в комендатуре у немцев переполох – пропали документы, а на входной двери первый посетитель обнаружил синий листок – обложку от школьной тетради, с начертанными на нём печатными неровными буквами стишками:
Немец рыжы белабрысы
Лезе на маю страну.
Яго гаду лизаблюду
Усе я… адарву!
Хоть и не до веселья было в те дни, всё же случайные прохожие, пересказывая друг другу самодеятельный стих, добавляли кое-что и от себя – какое ещё членовредительство можно учинить над немецкими служками. На базаре в этот день особенно задорно и задиристо торговцы сельхозпродуктами выкрикивали: «Яйки! Свежыя адборныя яйки! Тольки што адабрали!»
На допрос таскали всех подозрительных. Пришли полицаи и к Марии в дом.
– Где мальцы?
– А у сяло побегли. Хоть жменькай муки разжыцца, – ответила Мария, сама обеспокоенная тем, что её хлопцы с ночи куда-то пропали.
– Проверим, что за мука, а пока пойдешь с нами. Палач своё дело туго знает.
– Эту бабу не тронать… Пусть застаецца. Под моё поручительство, – неожиданно вмешался Акимка, подходя к печке и грея руки о теплые кирпичи.
Полицаи ушли, а он остался. Мария смотрела на эти руки с желтыми от табака пальцами и думала, что в них, этих руках сейчас собрана вся черная сила. Захочет, погубит её и детей. Пристрелит на месте, немцам всё откроет – и про неё, и про Дору с её жалким дитём. Всё в его воле сейчас!
– Родненьки, не згуби нас, – заплакала она, падая ему в ноги, – я тваёй жонцы свою новую хустку аддам. Гарусную! Иван на ярмалке купиу кались…
– Давай твой падарунак, – сказал Акимка, затем встал, молча смотрел, как Мария заворачивала в бумагу свой новый платок, взял, спрятал сверток за пазуху и молча вышел.
Хлопцы вернулись к вечеру – были в Старом селе, у бабки Василисы, к ней и жиденка отвели, она спрячет у себя до лета. Дом Василисы стоял на отшибе, у самой опушки леса, и к ней без особого дела никто не захаживал.
Пришла и Броня из комендатуры. Долго молча сидела на лавке, потом вдруг сказала:
– Мамочка, если вдруг меня возьмут, ты ничего плохого не думай, не думай никогда! Я потом тебе всё расскажу, ладно?
– Чаго там думать? – горько сказала Мария, ей уже приходилось слышать злые разговоры про свою дочь, особенно после того, как та стала петь и танцевать по вечерам в клубе, на сцене. – У тябе и свая галава на плячах ёстяка.
Когда немцы пришли, её Броню первую позвали в комендатуру – переводить. Она лучше всех в школе знала немецкий. Даже приз получила в области – коробку красок и цветные карандаши. И за пение награду получила – на Первое мая.
Мария не сразу согласилась, но всё же отпустила дочку на работу в комендатуру, втайне надеясь, что не тронут девку, раз она нужна им, да и деньги в дом кто-то же должен приносить…
В ту же ночь постучали в оконце на кухне, с огорода.
– Хто там? – срывающимся шепотом спросила Мария, приоткрыв форточку.
– Я, – глухо ответил Акимка.
– Што… што табе нада, Аким Пятрович? Чаго прыйшоу?
– Выйди в клеть, слышь?
– Куды? – обомлела Мария.
– В клеть, говорю, выходь. Где жидовку хавала.
У Марии язык отнялся. Всё, всё знает…
Ирад паганючы! На шибелицу, няйначай, павяде…
– Чи ты йдешь? – настойчивый стук повторился. – А то, можа, за подмогой послать?
Под его пальцами затрещали резные наличники.
– Иду, иду, Аким Пятрович…
– Так поспешай, мне приспичило. Умей мужику умастить, и самой ладно буде.
– Канец света настау… Иду…
Мария перекрестилась широким крестом и вышла в сени.
В одной рубашке и босиком стояла она на голом холодном полу перед Акимкой. Он был пьян, от него сильно пахло самогоном. Его налитые кровью глаза жадно блуждали по её полным рукам, шее. Потом он снял сапоги, запихнул в них портянки и, со злобным задором, спросил:
– А что, Иван твой мужик с толком? Что молчишь, телка яловая? – и для начала ударил её по лицу ребром ладони.
Потом ещё и ещё бил, кулаком. С оттяжкой. Когда же возбуждение перехлестнуло через край, свалил её на лежак…
Но что было дальше, как ни силился, вспомнить не мог.
…Из клети она вернулась под утро полумертвая.
«Жывёла, жывёла зрэбная! Штоб табе падохнуть пад заборам, кабель таскливы…» – бормотала она в бессильной злобе, отмывая свое испоганенное тело от следов Акимкиной страсти.
Как ни силен был страх за свою жизнь и жизнь детей, за несчастную Дору с её дитем, но боль внутри груди была так сильна, так нестерпима, что она поняла: ещё одного такого испытания не выдержит – порешит и Акимку, и самую себя. И положила в клети топор, за ящиком с отрубями…
В клети было душно и пыльно, дышала Мария со свистом и хрипом и при каждом вдохе резкая боль разрывала её нутро.
Брона пришла из комендатуры, глянула на мать и съехала по стенке. Лицо матери отнкло. Глаза смотрели из узких щелок горько и отчаянно.
– Што, деука? Што? – забеспокоилась Мария, наклоняясь к дочери.
– Мамочка! С тобой что? – спросила, плача, Броня, и обняла её колени.
– Иди, деука. Иди, атдыш трохи. Хварэю я, хварэю…
– Мама. Я тетку Ганну пойду позову, ладно?
И она, зажав рот рукой, чтобы не слышно было рыданий, побежала к соседке. Та быстро смекнула, что к чему, в бабьих хворях понимала, сказала, что придет, но только не сразу, а когда стемнеет…
К вечеру пришла Ганна и принесла плохую весть из Старого села, куда с утра уже успела сбегать, – за Василисой следят, однако дитё Доры пока не трогают.
– Ой-ё-ёй, – запричитала она, когда увидела синяки и кроводтеки на руках и шее Марии. – Пакаж-ка сюды, як ён тябе…
– Чаго ты вярзеш? – прикрикнула на неё Мария, заматывая шею платком.
– Да я так… Сдуру ляпнула…
Ганна поспешно ушла. Однако вскоре вернулась и принесла с собой темную бутыль с тягучей жидкостью.
– Намаж, кали спать пойдеш, – сказала она, ставя бутылку со снадобьем на подоконник. Гэта мая матка мяне вучыла настайвать. Усё, як рукой, зниме. Тута увесь агарод – шипоуник, смарода, вишня и слива, антонука, па ложцы пи увесь день, не лянися. Ой… Да у тябе носам крывя тячэ! Она помогла Марии сесть, развела соленой воды в кружке, добавила уксуса, квасцов, и, подставив таз, с пригоршни давала ей втягивать раствор то правой, то левой ноздрей.
– Там пад апилками, за хатай, лед ёстяка. Прыняси у мисцы, – попросила Мария.
– Зараз збегаю, – сказала Ганна. – А ты сяди, не варушыся.
Она сделала примочки на ушибы, натерла сухих листьев липы и насыпала порошок в обе ноздри, а к шее приложила половинку сырой луковицы.
– Тута усё балить, – сказала Мария, показывая на грудь.
– А кали крывёю харкать пачнешь, пи гэты адвар, – сказала она, положив на стол кулек с травой кошачья лапка, – Василиса для Доры перадала, я й забылася, а крывя у тябе тячэ. Так ты и пи.
Когда Ганна ушла, Мария вышла во двор и легла на холодную, сырую после дождей землю. Ей не было холодно, её измученное тело горело, и так ей легче было бы встретить смерть.
Так пролежала она до первой звезды, покорно ожидая своего конца… Однако смерть к ней не пришла. Не пришел в эту ночь и Акимка.
Минула неделя, потом другая – без каких-либо перемен. Раны постепенно зажили, боль в груди улеглась, но пусто и уныло становилось у неё в душе всегда, когда она вспоминала эту страшную ночь.
Акимка отворачивался, проходя мимо, а то и вовсе другой улицей шел, лишь бы не встречаться с ней. Тяжелое похмелье наступило уже на рассвете, когда он увидел, что натворил. Сначала испугался, подумав, что Мария под ним умерла. Но это было беспамятство, сердце её билось – рывками, сильно, словно хотело выскочить из груди.
Он лежал на полу, спиной на холодных голых досках. Сам упал, Мария ли его столкнула, припомнить не мог. В животе крутило, затылок болел тупо и нестерпимо, будто там кто-то злобный, пока он спал, долго и старательно ковырял ржавым гвоздем…
Кое-как оделся, и, согнувшись в три погибели от боли в животе, он незаметно ушел огородами, к счастью своему, никого не встретив на пути домой.
Так прошла зима, первая зима под немцем. С наступлением весны Мария снова забеспокоилась. Поговорила с Дорой, и та согласилась, что пора уходить. Немцы делаются всё злее, облавы чуть не каждую ночь – ищут связных партизан. Но тут Дора опять занемогла – по женскому делу. От долгого сидения в сырости у неё открылось кровотечение.
Так прошло лето. Осень была долгой и небывало теплой. К середине октября Доре стало лучше, и Мария снова повела разговор о том, что пора уходить. А то ведь зима скоро, а ещё одну зиму Дора в подполе не высидит – того и гляди, харкать кровью начнет.
Однако привыкшая к сидению в укрытии Дора и слышать не хотела об уходе из дома Марии. Та, уже отчаявшись избавиться от опасного соседства, вдруг услышала слова, поразившие её пуще грома среди ясного неба.
Дора должна перебраться в Добруш – у неё там свои, найти средства, а всего-то и надо, что пять граммов золота. За них, эти пять граммов драгоценного металла, немцы дают евреям откупную, и тогда уже можно быть спокойной, с надежным документом на жизнь в кармане…
Решение было принято, осталось только выждать удобный случай.
День был теплый, хотя уже вполне осенний, но к вечеру пошел сильный дождь, и Мария подумала, что это как раз и есть тот самый удобный случай, чтобы незаметно спровадить Дору со двора. Октябрь кончается, но пока не холодно, лист на вишне ещё держится, значит, снег не скоро на зиму ляжет, можно, пока доберется до места, и в лесу заночевать. Если идти вдоль реки, то за две ночи как раз и управится. До местечка Добруш было километров двадцать. Дора говорила, что там у неё братовой, а у него своя аптека, обещал ей на свадьбу золотую брошь, даже показывал приготовленный загодя подарок. Вот этой брошью Дора и откупится – в ней будет даже больше пяти граммов весу…
Мария собрала немного еды – пять вареных картофелин, оковалок сала, краюху хлеба, в спичечном коробке немного соли. Завязала снедь в клетчатый платок и положила узелок в большой внутренний карман Иванова старого плаща.
Стемнело, на улицах установилась тишина, – не стало слышно даже брёха соседских собак. Женщины прошли огородом и незаметно выбрались в проулок через дыру в заборе. Отсюда до околицы рукой подать. Мария шла впереди, Дора, закутанная в плащ, осторожно кралась за ней, низко склонив голову и подгибая слабые от болезни и долгой бездвижности колени…
Когда они уже почти прошли весь проулок и прилично удалились от дома Марии, из тени старого клена вышел, широко и бесшумно ступая, Акимка.
– А кудай-та девки-красуни собралися в такие потемки? – спросил он тихо, широко раскидывая руки и решительно перегораживая им дорогу. – Погутарим?
Это была их первая встреча и «гутарка» за всю зиму.
– Ах, ты ж, божа ж мой, божа… – заплакала Мария, понимая, что вот сейчас и пришел ей конец, погибнет всё – и она, и её дети, и злосчастная эта Дора, из-за которой всё и занялось, и которая от страха и ужаса, казалось, даже не понимала, что сейчас произойдет, и только таращила на Акимку свои огромные темные глаза, глубоко запавшие в больших круглых, как дыры, глазницах…
За углом громко лязгнула клямка на калитке, и послышалась пьяная немецкая речь. Они, не сговариваясь, бросились в тень клена и замерли, стоя втроем, почти вплотную друг к другу, так близко, что Мария отчетливо слышала, как мощно бьется за толстой кожанкой сердце Акимки.
Подгулявший ефрейтор, напевая веселую песенку, свернул в проулок и теперь шел прямо на них.
– Аким! – одними губами позвала Мария, беря его руку в свои л адони.
Он вздрогнул, как от удара хлыста – никогда раньше она не называла его по имени…
– Ти чуешь? – снова чуть слышно прошептала Мария. – Спаси деуку. Спаси, Аким!
Акимка какой-то миг глядел в её глаза, ни слова не говоря и только шевеля губами, потом резко выдохнул, грубо прихватив Дору рукой за шею, прижал её к своему плечу так крепко, что она едва смогла дышать, пьяно выкрикнул: «Ах, ты, любка моя!» Затем, сильно шатаясь, пошел прямо на немца, волоча на себе полумертвую от страха и ужаса Дору.
Мария, не смея дышать, стояла за толстым стволом старого дерева, прислонившись горячей щекой к его шершавой коре и, повторяя про себя слова мольбы – господи, спаси и сохрани! – уже прощалась со всем белым светом.
Немец остановился и перестал петь, рука его потянулась к оружию. И в тот же момент раздался выстрел.
Тело немца, тяжело и медленно, оползало по изгороди.
– Девки, тикайтете! – хрипло скомандовал Акимка, передергивая затвор.
Дора, что было духу, уже неслась за околицу. Там, за последним домом, начинался густой кустарник, за ним – топкое болото, тайные тропы которого были ведомы не каждому ветковчанину. Первую неделю оккупации женщины с детьми как раз там и отсиживались.
Мария, отодвинув доску в заборе, нырнула в темноту своего огорода и успела запереть сени ещё до того, как по улице проехали два мотоцикла и раздались крики и выстрелы.
Дождь превратился в настоящий ливень. Всю ночь Мария вслушивалась в темноту и горячо молилась. Неровный, нетерпеливый стук дождевых струй под окнами, в палисаднике не прекращался до утра.
На следующий день она не выходила из дома, не вышла и с утра другого дня, а когда к ней забежала Домна с последними новостями, она, быстро одевшись, поспешила вместе с товаркой на площадь – там, на высоком, свежеструганном столбе с перекладиной висело, тяжело раскачиваясь на ветру, тело Акимки. На груди была фанерная табличка с надписью – «за укрыццё жыдоу».
Немец, которого Акимка не убил, а лишь ранил в живот, видел Дору и дал показания против неверного полицая. Марию, на её счастье, он не разглядел в темноте.
Саму же Дору искали, да не нашли, наверное, успела добежать до леса, а там ей могли встретиться партизаны, которые, возможно, и провели её в безопасное место.
Немцы тайных троп в этих гиблых местах не знали и в болота, тем более, ночью, не очень-то стремились ходить…
Мария надела высокие кирзовые сапоги и пошла к болоту, захватив с собой лопату для резки торфа и большую кошелку. Пробыла за околицей около часа, нарезая узкие кривые полоски жирного торфа и незаметно поглядывая по сторонам – нет ли каких следов пребывания здесь Доры. Не обнаружив ничего подозрительного, она облегченно перевела дух и пошла обратно, припадая на правую ногу под тяжестью своей ноши.
Торф несла в кошелке, а поверх лежала охапка уже огрубевшего темно зеленого явора.
Всю ночь Мария стояла на коленях перед иконами, а когда настал рассвет, она снова вышла в проулок и положила под старый клен явор. Хотела заплакать, но слез не было, только колючий шершавый ком стоял в горле…
Только совсем плохо стало Марии с той осени. Долгими мокрыми ночами, когда надрывно свистел и выл ветер в трубе, болела спина, ныли натруженные ноги, выкручивало суставы. А весной пришла в их край малярия…
Мария выжила, мать приходила из Старого села, выхаживать. Помогла Василиса многим в ту пору, в лечении хворей толк знала, за что и прозвали её лекаркой.
– От села всего-то и осталось, что три дома из кирпича, да Василисин дом – за околицей, у самого леса.
Потянулись унылые, один на другой похожие будни. Шло время, и с ним безвозвратно уходила жизнь, люди, уже привычные ко всему, каждый по-своему, приспосабливались к новому, немилому существованию – под врагом, среди врагов-чужаков и своих, предателей.
…По-осеннему слякотно было в ту короткую, июньскую ночь. С утра зарядил мелкий, наполовину с градом, дождь.
Мария вышла в огород, постоять на воздухе. Холодные колючие капли падали на лицо – и на душе будто теплее ставилось, легче и светлее. Луны и звезд видно не было, только плотные темные облака низко неслись сплошной громадой над озябшей землей. И вдруг над самой её головой засветились яркие, как звезды, фонарики. Мария перекрестилась – нужто ангелы летят…
Она не знала, да и никто в Ветке не знал, что летят в темном небе на специальных парашютах светящиеся бомбы.
Утром на площади редкие прохожие рассказывали друг другу свежие новости – недалеко от Гомеля, в местечке Азаричи за колючую проволоку согнали стариков и детей и заразили их тифом. Придут наши, кинутся солдаты спасать пленных – и загуляет сыпняк по Красной Армии…
Но и партизаны не дремали – успели упредить беду.
Прошло ещё несколько дней после того, как светящиеся в темном небе ангелы явились Марии, и в одном из штабов советский радист записал короткое сообщение: «Достиг границы, форсировал Буг вброд, занял круговую оборону».
Кукушка на часах прокуковала четыре раза. Занималось утро двадцать первого июля 1944 года.
Кавалерийский эскадрон капитана Крамаря совершал рейд в глубоком тылу врага. В тот же день в эфир унеслось ещё одно сообщение: началось наступление советских войск на оккупированную Польшу.
7
Немцы уходили спешно и, уходя, захватывали с собой всё самое ценное, угоняя в Германию местную молодежь.
Угнали на запад и Марииных мальцов – взяли прямо на улице. Хватилась искать, на речку бегала, на болота, нигде нет! И когда шла домой, Ганна сообщила страшную новость – всех погнали в Гомель. Оттуда, со станции, в товарных вагонах повезли в Германию, поезд попал под бомбежку, много погибло, раненых бросили посреди поля, о своих сыночках Мария весточки так и не получила…
Броню тоже немцы увезли, с комендатурой. В спешке собирали документы, прощаться не отпустили, смогла только передать записку – «жди».
После Победы стали возвращаться пленные, кое-кто дождался домой и детей, угнанных в Германию. Вернулся в сентябре сорок пятого домой и Иван – с двумя ранениями, но весь целый. А зимой пришло письмо из Кракова от Брони – жива. Была ранена в ногу при бомбежке, но теперь нога в порядке, только небольшой шрам на колене остался. Скоро, наверное, приедет домой.
Дочь появилась в родном доме через три года. Первой новость узнала Ганна, побежала к Марии – та в огороде копалась, скоро бульбу сажать.
– Иди, иди да квортки! Твая паненка вяртаецца! З прыстани иде! Люди бачыли!
– Што… Што ты гамонишь? – Мария распрямила спину, утерла лицо краем хустки. – Якая … паненка?
– Да твая Броня! Бяги хутчэй!
Ганна от нетерпения приплясывала на месте. Мария двинулась ко двору, однако ноги не слушались её. Сделала шаг-другой и медленно опустилась на межу. Сердце то замирало, то начинало бешено скакать в груди, тело же сделалось легкое, будто весь свой вес потеряло. Только это огромное сердце и металось в нем сейчас…
В ушах стоял тонкий пронзительный звон.
«Ти не памираю я?» – подумала Мария без страха, но всё же очень сожалея о том, что умрет, так и не повидав своей дочери. Лицо Ганны было искажено ужасом, она что-то говорила, но Мария не могла разобрать – что. Собрав последние силы, она встала на ноги, сделала шаг, другой, но дальше идти не смогла – силы покинули её. Тошнота подступала к горлу, голова кружилась, земля уходила из-под ног. В ушах звенело колоколом.
Сквозь этот нарастающий звон она всё же услышала, как во дворе звякнула клямка.
«Иду! Иду!» – хотела крикнуть, но звука от её голоса не было.
…Когда Мария пришла в чувство, и ей разрешили разговаривать, она попросила позвать к ней дочку. Броня пришла не одна, с ней был муж.
Мария долго смотрела на ставшее каким-то незнакомым лицо дочери – повзрослела. Теперь это была уже совсем не та бойкая симпатичная светловолосая девчушка, а вполне солидная высокогрудая барышня с густыми каштановыми кудрями, небрежно раскиданными по красивым округлым плечам. Муж, статный офицер, держался скромно, смотрел на Марию почтительно, в общем, вел себя так, что Марии, даже если бы она этого захотела, придраться было не к чему.
«Рана, рана деуку акрутили», – лишь подумала она с грустью, но дело сделано, и обратного хода нет.
Броне на тот год исполнилось только семнадцать.
Дочь сидела на постели, плакала в голос, слезы текли по щекам, рот кривился некрасиво, по-старушечьи, и Мария сказала:
– Годе, деука, слезы лить, живая – и добра! Усю сваю красу праплачаш.
Броня привезла домой не только молодого мужа, но и маленькую дочку – двухмесячную девочку.
Когда Мария вышла из больницы, она сама затеяла разговор с дочерью о том, что та собирается делать дальше.
– Мужык твой – хлопец ладны. Малады тольки. И ты деука маладая. Галава на плячах ёстяка, а розуму нямашака.
– Проживем как-нибудь, ты, мам, не беспокойся. А что Николай такой молодой, то это ничего не значит. Знаешь, какая голова у него? Он умнее любого академика. Его друзья так и звали – наш Курчатов. Он Краков освобождал, заместителем коменданта города потом назначили. Меня спас, я в госпитале была с такой раной, что никакой врач не взялся бы ногу сохранить. Он пришел и приказал – вылечить непременно. И вылечили! Ко мне даже священник приходил, все обо мне беспокоились… Я потом в Кракове в театре плясала.
– Хлопец ладны… – снова повторила Мария, а про себя подумала: «Молодой, с деньгами – целая планшетка сторублевок!» – Гляди, деука, тяжка табе з им буде!
Это её больше всего пугало – откуда такие деньги? Иван тоже офицером был, до Берлина дошел, но только планшетки денег почему-то не привез.
– Батька твой грамату знае шибка. Кольки кгижак прачытау! А колько наград з вайны прывез? А нихто яму стольки деняг ня дае. Ти у тваяго батьки работа прастая?
Броня только плечами пожала – откуда мне знать?
И ещё одно тревожило Марию – почему Броня не кормит дитё грудью? Ребенку давали еду из бутылочки – разводили кипятком какой-то порошок из большой коробки, на которой был нарисован толстощекий, веселый младенец. «Нет молока», – сказала Броня, и Марию это тоже очень удивило, в их роду не было ни одной безмолочной «маладицы».
Через три дня Броня с мужем засобирались в Вологду, к родне мужа – сестра Николая месяц назад родила ребенка, кормит грудью, согласилась кормить и Олю, дочку Брони. Там, в Вологде, и зарегистрируют ребенка.
– Дачка мая, а где гэтая Волагда? – спросила Мария.
– На севере. Поездом два дня ехать.
– А якия люди там живуть?
– Русские люди там живут, русские, мама.
– А матка яго знае? Што ён с жонкай еде? – допытывалась Мария.
– Ну, конечно. А мы недолго там будем, Олю отвезем в Вологду на кормление, а сами в Лениград поедем – Николай в университет поступать будет, на биолого-почвенный. А я – в пединститут.
Мария замяла фартук на коленях. Но ничего не сказала. Только к вечеру уже снова завела разговор о ребенке:
– Унучку и я б магла зняньчыть. И ты б магла и у Гомели вучыцца. Пединститут и тамака ёстяка. У свахи теткинай дачка там вучыцца.
– Нет, мама, мы уже решили – поедем. Так надо, понимаешь? Сестра Николая как раз ребенка кормит, в прошлом месяце родила, молока много, а у меня совсем нет. А когда Оля подрастет, мы её к тебе привезем.
– Ну, як знаешь-ведаешь, – огорченно ответила Мария и больше об этом с дочерью не говорила.
Марию девочку ненароком назвала Алесей, так и осталось за ней это, видоизменённое на новый лад, имя.
Кроме коробки с молочным порошком, у ребенка имелось ещё и приданое – дюжина распашонок и пеленок из батиста, чепчики с кружевами, несколько белых платишек разного размера, черные чулочки и две пары фасонных ботиночек – поменьше и побольше.
Ночью ей долго не спалось. Иван всё где-то пропадает по делам. Детей, кроме Брони, не осталось. Одна, всегда одна…
А силы есть пока, могла бы и с дитём понянькаться.
Это её страстное желание – любить, любить вопреки всем напастям мира, было абсолютно беззащитно перед любым злым обвинением. Ведь у неё хороший муж, дочь замужняя, какой любви ещё надо?
И тогда она полюбила свой огород, все растения, которые там росли, разговаривала с ними, как с детьми, давала им собственные имена.
Любила она и домашнюю скотину, но эта любовь причиняла ей много боли и муки. Корова живет лет десять, а вот поросенок – меньше года. Когда хрюшку вели на закланье под ноябрьские праздники, она пряталась на кухне под занавеску, за пальто, затыкала уши, чтобы не слышать ужасного предсмертного крика забиваемого животного, и никогда не пробовала приготовленной для рабочего свежатины.
Иван, «женатый на газете», всё свободное время проводил за чтением. Обсуждать с Марией растущий экономический потенциал Ветки ему было неинтересно, потому что Мария интересовалась только ценами, и где что давать будут…
Её «добрый муж», который слова худого не сказал ей за всю их общую жизнь, с головой ушедший в свои служебные дела, не замечал, как тоскует Мария и тает на глазах. Никогда-никогда она своей печалью с мужем не делилась! У него своё, у неё – тоже.
Да и кто жил по-другому? У бабы – бабье дело, у человека её – дело мужское. И всякий понимает, какая тут разница. И потому не было у Марии на ивана обид.
Шла жизнь, день сменялся новым днем. И этот новый уже никогда не станет тем, прошедшим, хоть всё-всё повтори в точности. В этой смене дней была роковая последовательность – тянутся, тянутся ровные, как старая гладильная доска, дни твоей жизни, а потом, незнамо откуда, вдруг рухнет на несчастную голову горе. Но и оно пройдет. А потом вдруг радость выпадет – дочь вернулась! Потом уехала – опять горе…
Но не век же слезу точить – и снова посыплется-покатится горох серых, одинаковых будней – без радости и особой печали.
Мария терпеливо ждала, ждала всегда, даже точно не зная, что за радость она ожидает. Но она знала наверняка – это случится. Всегда случается что-то, что сердце согреет…
У Ивана свои расклады. Его прежняя, редакторская жизнь ушла в прошлое и, казалось, была уже прочно забыта. Свободный, ничем не сдерживаемый бег мысли и её прихотливое блуждание на вселенских просторах уже давно прекратились – все его мечтания и умещались в масштабе одного, Ветковского, района. Осталось лишь от тех времен юношеское убеждение, что всё должно быть по справедливости. Он уже давно не писал стихов и острых фельетонов, не мечтал сотрясать умы свежей, оригинальной идеей, уже давно начиная день с одной-единственной мыслью – что сделано и что ещё осталось сделать?
Многое из того, что началось в городке после ухода белополяков, казалось ему диким, очень далеким от всего того, что намечталось в юности. Но он быстро усвоил смысл слова «надо» и «должен». И в минуты душевной невзгоды не хватался за томик стихов какого-нибудь поэта-символиста, а собирал свои знания и верования на очередную проверку и, если концы не сходились с концами, просто говорил себе – «так надо» и «я должен». Тут и рассуждать не о чем.
Иван по-прежнему чувствовал себя честным и правильным человеком, и это чувство было естественным – как и ощущение своего физического здоровья. Разлада в душе не было – грязь и ужас как прежней, так и вновь наступившей жизни его лично не коснулись – он был там, в старом быте, хоть и активным, однако всё же – наблюдателем, но не лицом страдательным, над которым совершают действия, как не коснулась его лично старая и новая роскошь жизни. Он жил всегда одинаково. В этом смысле с ним никаких решительных перемен не произошло. Просто теперь у него был иной круг обязанностей, выполнение которых и было его смыслом жизни. Может быть, поэтому душа его с возрастом не ожесточилась, не оглохла, не одичала, а доброе отношение к людям стало надежной привычкой.
Он честно делал нужную работу для людей, и это давала ему право уважать себя и ждать уважения о других. Но было ему до кипучих слез обидно, что, как велось, так и ведется дальше один и тот же неправый порядок – хозяин ломается перед тем. Кому он дает работу. А труд, который-то и кормит человека, за уважаемое дело не считается, что бы там ни писали в газетах. А вот тот, кто может позволить себе бездельничать, то есть учить других. Как надо правильно работать, и есть уважаемый человек. Настала новая жизнь, но принцип сохранился тот же. Другими стали только работодатели.
И этот, чисто российский способ вести экономику, сохранился и здесь, на его родине. Опять тот, кто работал, был ниже того, кто работу давал.
А раз не изменилось главное экономическое начало, то и вся жизнь немногим изменится к лучшему, – так рассуждал Иван, вылеживая на диване после обеда свои законные тридцать минут, однако на людях этим крамольным рассуждениям воли не давал. Это тебе не с пагельсонами тяжбу тянуть! Вполне понимая всю несоизмеримость своих внутренних сил с силой внешней, он убедил себя, что надо делать на своем месте то, что считаешь полезным для общего дела в этот момент. Оппозиционировать, бездельничать и вредить в знак протеста считал глупым и бессмысленным занятием. Молодые гонорливые мечты переделать мир с помощью печатного слова сами собой улеглись и присмирели, вспоминаясь иногда с легкой светлой грустью, как вспоминается в зрелом возрасте первая неумелая любовь – быстро отлетающая, но живущая ещё долго-долго в растревоженном сердце познавшего чувство человека.
Он всегда держался ровно – и с подчиненными, и с теми, кто был нверху, не заискивал перед сильными и не ломал шапку перед высоким начальством.
Словом, был человеком, знавшим себе цену, но при этом нимало не интересовавшимся, знают ли её другие.
Мария для него существовала как существо отдельное, в чем-то совершенно самостоятельное, но бесконечно дорогое и навеки данное ему в безвозмездное пользование. Он любил её всем сердцем и никогда не размышлял о природе этой любви, любил, как любят воздух, солнце и всё другое. О чем не думают ежечасно, но без чего жизнь попросту невозможна.
Мария часто впадала в задумчивость – не важно, о чем думать. Она могла одинаково серьезно и во всех подробностях обдумывать, как прошел день на хозяйственном дворе и что делать с каплуном, забредавшим постоянно на чужой огород. Но мысли её могли внезапно побежать и совсем по другому руслу – она начинала вспоминать свой дом в Старом селе. Свою девичью жизнь вдвоем с матерью.
Смутно вспоминалось детство, когда совсем маленькой девочкой ходила она с матерью в лес, как мать её, Василиса, своим звенящим серебряными колокольчиками голосом, пела старинные песни на поляне, под деревом, а повсюду росли цветы – желтые, розовые и голубые…
У Ивана никогда не было своей значительной собственности – в смысле имущества. Сначала он жил в отцовском доме, потом, при Советах, переехал в Ветку, и там ему дали казенную квартирку из двух небольших комнат и кухни с печкой. И только перед самой войной он построил свой красивый и строгий дом – с двумя отдельными спальнями, в спальне Ивана стояли кровать и платяной шкаф, окно выходило на улицу. У Марии – кровать и грубка, которая отапливала обе спальни и своей изразцовой стороной выходила в залу, обогревая и её; с небольшой прихожей – там стояли буфет и швейная машинка Марии – перед выходом в трехстен, где были кухня, клеть и веранда. Серебряная крыша была крыта оцинкованным железом.
Построил Иван дом по-старинному, но мебель была уже вся новая, современная – круглый дубовый стол, стулья с мягкими спинками, железные кровати, диван в зале. В праздники обедали за этим, круглым столом, на который Мария клала вышитую скатерть и сервировала приборами, которые в остальное время хранились в новом же буфете.
По-старому было только на территории Марии – в уютном и просторном трехстене. На кухне стояли всё тот же прямоугольный стол, табуретки, самовар с трубой, большая, тяжелая занавеска на гвоздях, за которой висела верхняя одежда. Всё это было привезено ещё из Старого села и не подлежало замене.
Ивана, однажды принятого на работу в Райпотребсоюз, переизбирали всякий раз, когда бывали очередные выборы.
На него не было компромата, и, когда в потребительской кооперации сажали каждого второго, его тоже арестовали по ложному обвинению в краже шапки, но через два месяца отпустили – ввиду полной абсурдности обвинения. Человек, организовавший донос, метил на его место, но поспешил радоваться и… проболтался.
Это был двадцать восьмой год.
Иван вел себя осторожно, зря на рожон не лез, понимая, что плетью обуха не перешибешь. Когда он в ночном бессонье обдумывал странные дела, творящиеся в районе, то приходил к неутешительному выводу: либо «так надо», либо…
Далее его дисциплинированная мысль резко тормозила и давала задний ход. Обсуждать, даже наедине с самим собой, основной принцип внутренней жизни – бей своих, чтоб чужие боялись, – ему не позволял внутренний цензор.
Он вовсе не стремился изменить ситуацию – так можно голову положить, и ничего толком не сделать. Но он искал для себя пути праведные, тщательно просчитывая все возможные варианты, – как честь сохранить и не выйти в тираж? Кроме ума, здесь ещё требовалась и незаурядная сила воли. А ведь так просто поддаться соблазну легкой карьеры! И никто бы не осудил, потому что многие тогда не гнушались грязным делом. Наблюдательный Иван быстро заметил, что те, кто с готовностью и азартом включались в игру по новым правилам, завтра сами с такой же легкостью становились жертвами схожих обстоятельств.
Жил он в те годы – как по минному полю шел. Знал, что за каждым его шагом наблюдают десятки несытых глаз, – и потому не мог позволить себе оступиться. Потом уже, когда началась война, понял – тогда нервное напряжение было выше. Ещё работая в газете в то, не такое уж и далекое, но совсем не похожее на нынешнее, время, он понял всю подлость человеческого характера, но всё же не проникся модной тогда заразой всеобличительной иронии. Головы начальников летели только так, у многих рыльце было в пушку, копни – и дальше всё само пойдет-покатится. А что совесть? Она скромно молчит – ведь многие так делают. Была бы выгода, и всё как-нибудь обойдется…
Иван, так хорошо начавший свою службу, карьеры не сделал. Огорчало ли его это? Да он подобных мыслей и в голову не брал! Где родился, там и сгодился.
Однако, что бы ни происходило в государстве, жизнь шла своим чередом. Народ работал, женился, рожал детей, умирал. В общем, всё было как всегда.
В тот день, когда проводили на моторку Броню с её новым семейством, он срочно уехал в район. Когда вернулся, было ещё не поздно, и удивился, что Марии на дворе не видать. Подумал, может, прилегла отдохнуть и уснула? Тихо вошел в сенцы, старясь не скрипнуть половицей, прошел в кухню – и замер. Мария плакала за занавеской, тихо и мучительно всхлипывая. Словно наглухо запертый в груди звук надломился и теперь вырвается наружу.
Ивана такой поворот дела сильно смутил. Он никогда не видел её слёз и не слышал, чтобы Мария плакала. Он осторожно вышел во двор, снял пиджак, надел на ботинки калоши. Повесил пиджак на крюк у входа в сени и отправился в огород – проверить не взошла ли картошка, не пора ли подвязывать уже сильно подросшие помидоры в рассаднике за домом? Посмотрел, как привились черенки на старой яблоньке – осенью прививал дичок черенком антоновки. Листья на дичке зыбились и трепетали, легкий золотисто-кровавый блик играл на них. Ему казалось, что это дрожат кровавые слезки.
И ветер, когда стемнело, повеял как-то грустно – словно протяжно всхлипнул и затем долго подвывал.
Как очутилась Мария рядом – не заметил. Он не смог посмотреть ей в глаза, отвернулся, щурясь на закатное солнце, стоял так долго, целую вечность, пока она сама не заговорила – позвала вечерять.
8
Знакомство Брони и Николая произошло при весьма романтических и даже таинственных обстоятельствах. Когда она ждала в условленном месте Петруху, в поле, за околицей, вдруг на проселочной дороге появились бабы с клунками, было их человек десять. Вдали показалось облако рыжей глинистой пыли – ехали на мотоциклах. Колонна умчалась в сторону Гомеля, едва улеглась пыль, бабы с клунками, погрозив им вслед кулаками и выкрикивая – «ах, вы, дрэни!», тронулись в том же направлении.
Так и не дождавшись сына Акимки, она ещё какое-то время ждала в поле – налетел вольный разгульный ветер и пошел ходить волнами в огромном некошеном клевере, гнул конский щавель и заметал крупные ромашки на длинных стеблях, гнут их к земле.
Броне стало зябко, голые, дочерна загорелые руки покрылись пупырышками, и она пошла домой. На улице её позвал рассыльный, сказал, чтобы она сей же час была в комендатуре.
Броня обомлела – не иначе, открылось то, что она так тщательно и до сих пор успешно скрывала – передачу копий тайных распоряжений партизанам. Но оказалось, что срочно надо перевести какой-то перехваченный документ. Из текста следовало, что советские войска уже совсем близко. Немцы спешно собирались отступать, Броне не разрешили выходить из помещения. Лишь на минутку выпустили в соседнюю комнату, если ей чего надо по своим делам. Там и черкнула короткую записку матери – «жди». Она не знала, на сколько её ещё здесь задержат, но понимала, что немцы уходят навсегда, значит, свобода и для неё скоро наступит.
Когда её внезапно кто-то взял сзади за плечи и на голову накинули какую-то вонючую плотную ткань, она не испугалась, не закричала – просто отупело ждала разрешения инцидента. Была мысль – а вдруг это Петруха так шутит? Хотела кричать – ей заткнули рот противно пахнущей тряпкой.
Мерцающее сознание сохранило лишь обрывки воспоминаний – её тащат, перебросив, как овцу, через плечо, потом она лежит на дне телеги, среди ящиков и мешков. Потом бомбежка…
Очнулась среди обломков – рядом разбитый грузовик, вон стонет женщина с вывернутыми наружу внутренностями…
Когда люди в военных формах подняли её и положили на носилки, она подумала, что это немцы. Но это были поляки.
Её на машине доставили в госпиталь. Осколком разворотило коленку на правой ноге. Однако в госпитале города Кракова она пробыла недолго. В город пришли советские войска.
На второй день пребывания русских в Кракове новый комендант с помощниками обходил госпиталь.
– Это она и есть? – спросил он в полголоса сопровождающее лицо.
– Она, пан комендант, ножку осколком повредило, – сказал лекарь и услужливо откинул одеяло, показывая ранение.
– Так. Вылечить срочно и наилучшим образом, это приказ, – сказал комендант.
– Слухаюсь, шановныя панове! – поклонился лекарь.
– Да что ты зладил – панове, панове! Мы русские офицеры, воины Советской армии, а не паны тебе. Разумеешь, аптекарская пиявка?
– Разумею, разумею, паночки!
– Он опять за своё! – засмеялись офицеры и, негромко переговариваясь между собой, отошли в сторону, о чем-то между собой ещё какое-то время горячо шептались, затем комиссия ушла, а лечащий врач вернулся к Броне и долго с нежностью смотрел на неё слезящими добрыми глазами.
К вечеру её перевели в отдельную палату, лечение шло быстро, а к исходу второй недели к ней пришел человек в черной одежде священника, и они долго вели беседу наедине. У входа в палату стояли часовые и даже проходить мимо никому не разрешали.
Войцеху, так звали старого лекаря, комендант дал дополнительные карточки на продовольствие. Тот снова начал кланяться и бормотать:
– Дзенкуе. Дзенкуе, пан… товарищ офицер!
Когда Броню выписали из госпиталя, нога была излечена по первому разряду – только небольшой шрам серпиком через всё колено указывал на полученное некогда ранение.
За ней приехали на машине и отвезли в русский штаб действующей армии. Среди провожатых коменданта был один молодой офицер, который особенно внимательно на неё поглядывал. Он и забирал её из госпиталя. Его звали Николай, был он на четыре года старше шестнадцатилетней Брони. Как вспыхнула любовь – бог весть! Не влюбиться в Броню было трудно – молода, хороша, умна, нраву веселого. Николай тоже был очень хорошо собой и тоже любил хорошие шутки. Любовь состоялась, они поженились. Друзья Николая поздравили. Выпили по рюмке водки и долго, до самого утра пели песни под гитару.
9
Жизнь в Ветке шла своим чередом – сегодня как вчера. И завтра будет то же самое. Родители приезжали навещать Алесю. Были выборы, её взяли в школу на участок. Для детей в одном из классов оформили настоящий сказочный городок – с игрушками, детскими книжками и угощением. Через всю стену висел большой красный транспарант: «Все на выборы 17 марта!»
Броня привезла подарок – большую говорящую немецкую куклу, но вместо «мама» кукла почему-то говорила «вова». И это очень веселило Алесю – ей всё хотелось найти доказательства того, что кукла живая. Она, положив куклу спать на печке, на теплых кирпичах, всё время её трогала – ну да, живая! Конечно же! Она – живая!
– Пришла Броня поцеловать Алесю на ночь. Та спросила:
– А когда ещё выборы будут?
– Тебе понравились выборы? Через четыре года, – засмеялась Броня.
– Нет, мне понравилась кукла.
– Куклу тебе подарили не потому, что выборы, а потому, что у тебя сегодня день рождения.
– Неправда. Недавно приходила тетенька из дедушкиного правления и записывала всех детей, чтобы подарки на день рождения дарить. Бабушка метрики показывала, там написано, что я в мае родилась, а сейчас март.
– Всё-то ты знаешь! – снова засмеялась Броня и, сказав что-то про возможную путаницу в записях, ушла.
На завтра Мария строго спросила Алесю:
– Ты сваю матку ти любишь?
– Люблю.
– А чаго ж ты яе мамкай не завеш?
– Не знаю, – опустила голову Алеся.
– А хто за тябе знать буде?
Алеся пожала плечами и ещё ниже опустила голову. Со словом этим и в самом деле происходило нечто странное. Как она ни силилась произнести простое и понятное каждому ребенку слово «мама» в применении к Броне, которую любила горячо, до горьких слез при расставании, в мыслях своих спрашивая неизвестно кого – а когда мамуленька приедет? – однако вслух слово «мама» произнести не могла, оно, это слово, словно застревало в её горле и ни за что не желало выходить наружу…
На Интернациональной улице, где в новом доме жила семья Марии, было семеро детей-подлеток. Взрослые заняты своими делами, дети тоже без дела не сидят. За пивоварней, напротив почты, на свалке битой посуды они выискивали бутылки, сколы на горлышке которых были едва заметны. Такие бутылки принимали в магазине с небольшой скидкой, но всё же это были настоящие деньги. Эти бутылки отбраковывали на фасовке – под пробку из жести они не шли. В магазин же их брали как тару под алей – растительное масло, которое здесь продавали в разлив из большого бидона. В хороший день попадалось три-четыре таких бутылки, а это как раз на кулек подушечек с обсыпкой «бон-бон». Конфетки эти, душистые карамельки в шоколадном порошке, с белой полоской по краю, твердой, как камень, и особенно вкусной для обсасывания, любили они больше всего на свете. Купят «бон-бонок», сидят на крылечке, языками причмокивают, даже болтать забывают – так вкусно!
Второе захватывающее занятие – собирание фантиков от конфет. У магазина или на скверике, где «дедушка хлебушка просит» – это памятник вождю с протянутой рукой, можно было найти разные фантики – от «Авроры» до «Мишек», таких конфет никто из их компании никогда не пробовал, но никого этот факт не смущал. Такие фантики собирали для коллекции, как и наклейки на спичечные коробки, картинки от конвертов. А потому и считала голопузая и босоногая ребятня, что «бон-бон» и есть самая достойная сласть на свете.
Когда Алесе исполнилось три с половиной года, на их улицу, в дом напротив красного клена приехали новые люди. У этого удивительного клена попадались пурпурные листья уже в июле. В конце августа и сентябре они были жесткие и ломались, если сильно согнуть. А эти, июльские красные листья были вовсе не сухие. А даже мягкие, нежные и прозрачные на свет – зеленоватой кровью живого растения. Отчего росли на этом клене такие листья, никто не знал. Но Алеся, впервые распознав его среди других деревьев, решила, что это чудесное дерево не простое, а, конечно же, волшебное. И растет оно здесь, на этом месте, для какой-то своей специальной цели, а вовсе не для того, чтобы кормить летом майских жуков, а осенью осыпаться на землю красивым, пестрым ковром. Это красное дерево, в отличие от других, не трещало воробьиным гомоном в июне и мае, не гремело подсохшей от сильной жары листвой в середине июля. В августе же листва его начинала незаметно, изо дня в день, превращаться в красный мрамор. Не было на этих листьях обычной седины с изнанки – оборот у них был такой же багряный, только чуть тусклее…
Падали эти листья с клена одной ночью, все вместе. Вечером ещё весь клен мраморно-красный. А утром – вся листва пурпурным ковром лежит на земле, весело искрится изморосью. Когда наступала зябкая стужа, волшебный клен голо и хмуро стоял под зимним небом, но там, внутри, в едва различимых пупырышках на хрупких и ломких от мороза ветках, уже родились упругие пурпурные почки, которые только и ждали первого ласкового весеннего луча, чтобы выпустить из клейких темниц чудесных огненных красавиц. Осенью из них, этих волшебных листьев, можно было делать гирлянды, и они долго сохранялись, если развесить их на стенке.
Вот напротив этого волшебного клена и поселилась в служебной квартире приезжая семья. Босоногая команда в первый же день заявилась к ним с визитом. Там тоже была девочка, Алесина ровесница. Детей пригласили к столу. Это было событием чрезвычайным – взрослые никогда никого не угощали просто так. Еду подавали только нищим, знакомые же, зашедшие по делам или на посиделки, лузгали семечки.
Дети смущенно топтались на месте, первым откликнулся на приглашение Сенька, самый решительный в их компании. На широкой плоской тарелке лежали кружки колбасы, хлеб лежал на другой тарелке и нарезан он был совсем не так, как обычно резала хлеб Мария – кривыми большими ломтями, а маленькими ровными кусочками. Конечно, есть большой ломоть хлеба было вкуснее, чем этот ровный строгий кусочек. Конечно, самое вкусное – это обломанный краешек корочки или горбушка, которую всегда давали в довесок к трехрублевой буханке хлеба.
Хлеб с тарелки для гостей имел запах ножа, и это было невкусно. Алеся разломила свой кусочек хлеба и стал есть ту часть, которая была с корочкой – теперь запаха ножа не было, хлеб издавал прекрасный запах свежего мякиша. Есть такую корочку почти так же вкусно, как и обсасывать белый поясок на «бон-бонке».
Съев корочку, Алеся посмотрела на Сеньку. Он же с громким чмоканьем, весь измазанный томатным соусом, ел кильку из банки. Колбаса на тарелке не понравилась не понравилась ей своим видом – она была серой, с большими кусками белого жира. Алеся подумала о том, что этот кусочек был бы хорошим поводом для радости той маленькой мышке, что жила в буфете у бабушки и катала по ночам то ли сухую корочку, то ли кусочек сахара – пытаясь протащить добычу в узенькую щель. И она незаметно положила кусочек колбасы в кармашек платья. Когда дети всё съели, к ним вышла низенького роста женщина в платке на плечах, погладила Сеньку по голове, Алесе же сказала, наклонившись к самому уху: «Зайди, детка, на кухню, когда уходить будешь».
Алеся сначала хотела спросить – зачем? Однако подумала, что это будет невежливо и, кивнув головой, пошла, потому что дети уже собрались на выход.
– Вот это возьми, отдай бабушке, – сказала женщина, улыбаясь большими темно-коричневыми глазами и протягивая ей толстый, душно пахнущий чесноком, сверток. – Скажи, от тёти Доры посылка. Пусть заходит, когда время будет.
Алеся молча взяла сверток, отнесла бабушке и смотрела, как та, повертев его в руках, отнесла в кладовку, а потом долго гремела ухватами – всё не могла найти чепелу, чтобы вытащить из печи сковородку с печеной картошкой и шкварками. Когда пришла в субботу племянница из Старого села, отдала сверток ей – отнеси малым гостинец.
Дора устроилась на работу экономистом, в райсоюз, а муж её, маленький седенький старичок в пенсне, заведовал райздравом.
Ни дружбы, ни вражды между Дорой и Марией не было. Они все-таки были очень разными людьми, однако чувствовалось, что в этих, несколько натянутых, но всё же близких отношениях была какая-то страшная тайна, известная только им двоим.
Встречаясь на улице, они здоровались, иногда перебрасывались парой слов и шли дальше по своим делам. По какому-то негласному уговору о прошлом не говорилось ни слова.
Ганна Дору и до войны недолюбливала. Теперь же, когда та стала важной птицей в их краях, она её возненавидела лютой ненавистью. Язык так и чесался «полаяться», Ганне большого труда стоило сдержаться и не высказать скрытые чувства.
Старший ребенок Доры – высокий мальчишка с уже обозначившимися усиками, держался ближе к взрослым, девочка же была болезненной и из дому почти не выходила. Уличная компания так и не пополнилась новыми членами.
Однажды Алеся, стоя в тесной очереди за хлебом и наблюдая, как Сенька из-под весов мелочь вышкребает, пока продавщица отвернулась и берет буханки с полки, вдруг услышала, как их соседка Ганна громко, с вызовом, крикнула:
– Иде крывапийца, пагляньте, якая важная!
В магазин вошла Дора. Минуя очередь, она подошла к продавщице, и та, кивнув ей, дала пять буханок хлеба. Дора собралась уже на выход, но Ганна заступила ей дорогу.
– Пабачте, бабы, иде и не здароукаецца, а з-за яе чалавек загинув! Усё забыла, тетачка кужлявая?
– Отстань, – сказала Дора и, отпихнув Ганну, вышла из магазина.
Бабы зашумели, очередь смешалась, кто посмелее – полез без очереди, кого-то у прилавка вытолкнули вовсе к самому порогу. Алеся, так и купив хлеба, оказалась за порогом магазина.
Зато Сеньке крупно повезло – воспользовавшись суматохой, он выгреб из-под весов целую пригоршню мелочи, сосчитал – рубль двадцать, как раз на сто граммов «бон-бонок»! А это целый кулёк! Если проскочить незаметно в клуб, когда кино показывать будут, то всю картину можно хрумкать, вызывая лютую зависть у всех окружающих.
Дома Алеся залезла на печку и сразу уснула. Проснулась ночью от шума – неужели мама приехала? Да, она обещала, но ждали её завтра, вечерней моторкой. А она взяла и приехала раньше! Вот и хорошо!
Алеся собралась уже соскочить с печки, как поняла, что шум в зале совсем иного свойства. Да, хорошо слышен голос Брони, но она, кажется, плачет…
Вся дрожа от страха, слезла она с уютной тёплой печки и, подгибая пальцы, осторожно ступала босыми ногами по холодным масницам, тихо подбираясь к двери. Щель была узкой, но через неё можно было видеть, как на диване лежит дедушка, в одежде и сапогах, смотрит куда-то в потолок и не слушает, что ему говорят бабушка и Броня.
Ещё больше удивилась Алеся, когда увидела, что Броня стоит на коленях перед дедушкой. Она обнимает его сапоги и плачет, сквозь всхлипывания приговаривая, как маленький ребенок:
– Папочка! Папа! Нет, нет! Ты не уйдешь! Нет! Ты не бросишь нас!
Алеся замерла на месте, не осмеливаясь войти в залу, где происходило что-то ужасное. Обмирая от страха, смотрела она на самых дорогих ей людей, не понимая, кто кого обидел, кто кого должен простить, почему её мама стоит на коленях и горько плачет, и почему дедушка молчит, и почему ондолжен или не должен куда-то уходить.
Она перевела взгляд на Марию. Та, вся бледная, с плотно сомкнутым ртом, стояла у кафельной стенки, прижавшись к ней боком, мордочки зверей на верхних плитках хитро улыбались, нисколько не сочувствуя страдающим людям.
Алесе было холодно и страшно, но вернуться назад, в уютное тепло только что покинутой печки, она всё же не могла, пока не разрешится этот ужасный спор.
Между тем, Иван молча смотрел перед собой, по-прежнему оставаясь безучастным к слезам и мольбам дочери. Броня, не вставая с колен, подобралась к матери и потянула её за подол.
– Мама, мамочка… Проси и ты, проси же! Проси папу не уходить! Папочка! Прости нас, прости маму, война ведь! Война-а-а…
И она, сильно дернув за подол Марииной юбки, заставила и её, свою мать, упасть на колени перед Иваном.
Иван резко встал с дивана, одернул гимнастерку и, повернувшись к женщинам, глухо произнес:
– Ну, хватит! Сказал же.
Броня, распластавшись на полу, плакала навзрыд, Иван стоял молча и, никого не видя перед собой, смотрел сквозь стену.
Он будто не видел, что в комнате находится ещё один человек – причина всеобщего, непоправимого горя.
Иван стоял молча ещё какое-то время, потом, с неожиданной резкостью, свистящим шепотом выкрикнул:
– Хватит, я сказал.
И вышел, широко и тяжело ступая начищенными до блеска сапогами по только что отстиранным к празднику половикам.
В звенящей тишине покинутого хозяином дома слышно было, как бьется сердце несчастной Марии.
Калитка злобно хлопнула, ещё пару раз скрипнули Ивановы сапоги под окнами залы, потом и вовсе всё стихло.
– Госпади, прасти тяжкага граха! – прошептала Мария, бледная, как побелка, крестясь и кланяясь, и тут же упала, как-то неловко и некрасиво завалившись на бок.
Это был второй инфаркт.
Марию отвезли в больницу. Броня осталась за хозяйку, Иван на обед не пришел, сказал Алесе, которая прибежала позвать его, что поел в столово борщ и макароны с котлетой…
У Брони, всегда такой ловкой, всё валилось из рук. За один этот день она разбила кринку с молоком и глиняную миску с творогом.
Вечером Иван пришел поздно, ступал осторожно, словно крадучись, от ужина отказался, только долго и молча сидел у самовара, размеренно мешая ложечкой в стакане, всё это время о чем-то сосредоточенно думая. Нарушив традицию, Алеся села напротив. Пила чай вприкуску, из блюдечка и рассматривала отражение Иванова лица в самоваре. Нос дедушки был большим и толстым, а рот – маленьким и кривым. Потом она посмотрела на своё отражение – оно было ещё более забавно – огромный лоб и почти отсутствующий подбородок.
На следующий день Алеся встретила дедушку, когда побежала в магазин за хлебом. Иван ходил взад-назад перед зданием райпотребсоюза – это как раз и было время обеда. – «Умрет дедушка от голода!» – со страхом подумала она, даже не представляя себе, как это – остаться сразу без бабушки и деда. Его ночную жестокость она уже простила и думала только о том. Чтобы Мария скорее поправилась…
Бабы на улице говорили, что Иван хочет бросить Марию и уйти к какой-то Кабловой.
На соседней улице один мужик бросал свою жену. Но она была очень злая, всегда кричала на детей, когда те сильно шумели под её окнами, и сама она ничего не делала в огороде. Но как можно было бросить Марию? Её замечательную бабушку! Такую несправедливость Алеся не могла себе даже представить. И она ночью, когда дедушка куда-то ушел, захватив с собой плащ и парадный костюм, а Броня, наконец, уснула впервые за это время, свалившись с ног от усталости, пробралась в залу, села по-старинному на пол под иконой и стала обо всем, что знала по этому делу, рассказывать своей небесной заступнице.
– Ой-ё-ёй! – услышала она над самым ухом голос Брони, – что это ты здесь… спишь что ли на холодном полу?
– Я не знаю, – испуганно ответила Алеся и, быстро вскочив, вся дрожа, побежала к теплой печке – сама не заметила, как уснула под иконой.
Через месяц Мария выписалась из больницы, Иван, почерневший от горя и голодовки в холостяцких скитаниях, бросив какую-то Каблову, а не бабушку, вернулся, наконец, домой.
Скандал не вспоминали больше, и он как-то сам собой забылся, оставив, однако, в душе Алеси первое тяжелое ощущение большой несправедливости жизни.
В тот год к ним приезжал гость из Польши – просидел час, о чем-то поговорил с Марией, передал ей сумку из бумазеи и, попрощавшись, поклонился и ушел.
– Ну-ка, деука, хади сюды, – позвала Мария внучку.
– Что, бабушка? – отозвалась Алеся, слезая с печки, где играла со своими любимцами – Софиком и Звездочкой.
– Хади аденне прымер. Ти падойде?
Она достала из бумазеевой сумки детские платья – одно светлое, полотняное, с длинным рукавом, другое крепдешиновое, голубого цвета, с узорами. Оба платья были перешиты и выглядели очень фасонно.
В сумке было ещё несколько пар черных, в мелкую резинку, чулок.
– Опять эти платья, – заныла Алеся. – Не хочу я их носить. Меня итак за пыльник с вышивкой мальчишки дразнят – «Паненка! Паненка!»
– Аденне прыгожае, насить нада, – строго сказала Мария, разглядывая подарки из-за границы. – Па вулицы бегай у шерым, а у люди и у церкву гэтыя надявай.
– Ой, спасибо, бабуленька! – радостно закричала Алеся и прижалась лицом к цветастому фартуку Марии.
Это серое, в мелкую клетку, платьице, сшитое в прошлом году Марией на трофейной машинке «зингер», она любила больше всего. В нем и бегала с весны до звонких осенних холодов. Платьишко было страшно застирано, сделалось совсем коротеньким, но она никак не хотела с ним расставаться, явно предпочитая затрапезу этим вычурным дареным нарядам.
Она побежала на улицу. Компании нигде поблизости не было видно. Для начала надо проверить на кладбище, а это за Пролетарской улицей – надо только обогнуть магазин. У магазина стояла телега со свежим хлебом. От него шел невозможно вкусный запах. Алеся немного постояла на повороте, глубоко вдыхая чудесный аромат и мечтая о том, что когда-нибудь дедушка отведет её на пекарню. Потом побежала дальше. На палисадниках почти каждого дома была большая красная звезда – это означало, что кто-то из этого дома погиб на войне.
На кладбище было тихо, красиво и уныло. На могилах росли анютины глазки и ноготки, а почти за каждой оградкой – обязательный куст сирени.
Друзей она нашла за одним из таких вот больших развесистых кустов. Дети сидели в узкой канавке между могилками и тихо, таинственными голосами рассказывали жуткие истории – кто что знал или про – сто придумывал…
В третью неделю весны, когда мутная весенняя вода затопила низкие огороды, а река Сож сделалась широкой и бурной, так что другой берег едва прорисовывался в тумане, и конца-края этим мрачным водам не видать, Алеся нашла недалеко от затопленной половодьем пристани беспризорную лодку-душегубку. Утлое суденышко было привязано бечевой к деревянному столбику, от которого торчала, над прибывающей и прибывающей водой, одна только темная, вся в трещинках рыхлая макушечка.
Рядом, на пристани, никого не было. Алеся кое-как распутала бечевку и, перекинув её через плечо, потащила лодку в ближнюю заводь – небольшую речушку Карелину. Там, на Карелине берега были круче, и Алеся, натянув бечеву так, что та едва не лопнула, привязала свою добычу к старому развесистому дереву с торчащими наружу корнями.
Оглядевшись ещё раз по сторонам, и особенно внимательно изучив подступы к пристани – там по-прежнему никого, она весело побежала домой.
Безумный план путешествия по разливу созрел в ту же ночь, загвоздка была за самой малостью – кого взять в компаньоны.
На поиски подходящей кандидатуры ушло два дня. За это время вода в речке ещё поднялась, и добраться до лодки стало проблемой. Але – ся плакала от досады, но тут пришло спасение в лице Сеньки, самого задиристого мальчишки в их компании.
– Что разнюнилась, Леська?
– Лодка моя… У-ууу…
– Да не реви ты! Энта что ли?
– Ага!
– Есть план. Гайда за мной.
И они побежали к домам. В огородах, уже наполовину затопленных, они нашли старое корыто, выдолбленное из дерева. Оно было похоже на небольшую лодку, только вместо носа у неё была ещё одна корма. Они уселись в утлое суденышко и, отталкиваясь деревянным вальком для отбивания белья, который плавал рядом с корытом, медленно двигались по затопленной меже, стараясь не зачерпнуть бортом грязную жижу.
Корыто причалило почти точно к дереву. Ободренные первым успехом, они благополучно перебрались в лодку, захватив с собой ещё и валек – вместо весла, отвязали бечеву, уселись на самом дне поудобнее и, счастливо улыбаясь, отважно отправились в путь.
Лодка, выйдя в открытую реку, плыла всё быстрее и быстрее. Вода, темная, густо бурлящая за неровно обтесанными бортами долбленки, неслась под ними, обхватывая утлое суденышко двумя кипящими пеной крыльями.
Алеся наклонилась к воде и опустила руку в белую пену. Пальцы свело от холода, и она быстро вытащила руку из воды и стала дышать на окоченевший кулачок. Однако теплее не стало, и она спрятала негнущиеся пальцы на груди, под шубкой, засунув их между двумя большими пуговицами. Кругом было море беснующейся воды. Вода, только вода была и справа, и слева и спереди, и там, позади, где уже совсем исчезали из виду черные домики окраины Ветки…
Было очень страшно и, вместе с тем, чудесно и весело. Алеся, утомившись молчанием, спросила:
– Сень, а Сень, а как ты думаешь, здесь могут жить русалки и водяные?
– А шут их знает, – серьезно ответил он, жирно сплюнул в темную воду и, заметно нервничая, опять стал сосредоточенно смотреть вперед, уверенно орудуя вальком и ловко придавая нужное направление лодке, потом как-то неопределенно сказал: Может и есть, только никто их почему-то не видел.
– А я думаю, что точно они тут есть, они тут! Есть! Есть! Я ничего не придумываю! – настойчиво повторила Алеся и даже стукнула кулачком по борту лодки.
– Ну, пусть – есть, – пасуя перед натиском разволновавшейся Алеси, спокойно сказал Сенька. – Только ты не стучи по краю, а то можем перевернуться и потонуть. Сиди уж посередине, а то к волне боком встанем, тогда кранты.
– Сенечка! Ты миленький! Конечно же! Я буду сидеть тихо! Но ты скажи – они есть!? Ты же веришь? Давай послушаем, ты слышишь? Так и поют, так и поют…
– Где поют? – нахмурился Сенька. – Никого не вижу. И никто не поет. И темно уже. И чего пристала? Ты веришь, вот и верь, сама и слушай.
– Но мне одной не так интересно верить! Ты даже не слушаешь! Перестань болтать и не греби ты этим вальком, от него только брызги. Речка сама нас отнесет на своих рученьках. Сядь тихо и просто послушай. Ну? Слышишь?
Дети замолчали и стали прислушиваться к звукам бегущей воды и всё усиливающегося ветра. Конечно же, там, под темной бурлящей поверхностью, сейчас идет настоящее веселье!
Набежавшая волна едва не перевернула лодку.
– Точно, – сказал, наконец, Сенька. – Они воют, русалки энтия. Сожрут к чертовой матери, оголодали за зиму, поди. И то, рыбы толком зимой нету, вся спит… И упокойники, как назло, зимой не топнут. Один только халецкий спьяну в прорубь на Ражество полез и утоп.
– Что ты, Сень-Сень! – засмеялась в ответ Алеся. – Всё глупости болтаешь! Они совсем не злые, наши русалочки! Я одну видела, когда с бабушкой ходила на речку белье полоскать. Они поют, потому что сама царица русалок за нами плывет, это её чудесные косы на воде плещутся, видишь?
– Это не косы, а пена, она всегда на воде бывает, когда быстрое течение, – рассудительно объяснил Сенька.
– Нет, нет, ты ничего не понимаешь, это же русалочка! Она хочет вскочить в лодку и повеселиться вместе с нами.
– Вот ещё! – надулся Сенька. – Ужо в лодку я точно всяких пускать не стану. Нам и самим тут места мало. А как опрокинемся? Ей что? Она ныр под воду, и у себя дома. А мы? Утопнем, пока до берега добултыхаемся. А раки лицо и руки сожрут, я летась одного такого упокойника видел. Ужасть одна, как обожрали…
Лицо его стало строгим, и он надолго замолчал, наверное, представляя себе эту малопривлекательную перспективу. Но Алеся только рассмеялась ещё больше.
– Сенечка! Да глупости всё это! Не ворчи, пожалуйста, а то она взаправду может обидеться. Царица-русолочка все-таки.
Сенька на минуту перестал орудовать вальком.
– Не буду с тобой больше на лодках кататься, раз ты всякой нечистью пугаешь, – зло прошипел он, пристально глядя на воду.
– Ой, прости-извини-подвинься, я и не знала, что ты такой ужасный трус, – засмеялась Алеся. – Русалочки, мне Василисушка говорила, по-правильному берегинями называются. Они берегут людей. А не зло им делают!
– Я не трус, – с вызовом ответил Сенька, – я даже тому пацану из Воркуты, что у бабки Симы гостевал летом, в ухо двинул, и ничуть не испугался. И в глаз бы дал, да он сбёг в свою Воркуту.
– Зачем? Зачем ты с ним драться полез? Он же здоровый! Он курит! И водку пил на поминках из большого стакана! Я сама видела!
– Ага, зачем? Вот именно – зачем? Знал бы, что ты такая…
– Какая?
– Вредная, вот какая. Вот и не стал бы тебя спасать.
– Спасать? Ты что мелешь, Сенечка? – рассмеялась Алеся. – На меня никто не нападал. Ну и от кого же ты меня спасал?
– От энтого урода из Воркуты.
– Но он меня совсем не обижал! – ещё громче засмеялась Алеся. – Он очень вежливо со мной разговаривал. И даже много фантиков подарил.
– Вот именно, фантиков! Это же со смыслом! А на ногу наступал?
– Не помню, а что?
– А это намек, что хочет познакомиться. А ты знаешь, что этот гад против тебя замышлял? А?
– Знаю. Ничего не замышлял. Ты просто наговариваешь.
– Как же! Он сам пацанам говорил, что когда уезжать будет, тебя обязательно поцелует. На спор. Вот что! А ты…
Сенька стал с ожесточением тереть правый глаз.
– Это серьёзно, – перестала смеяться Алеся. – Надо его фантики бабе Симе поскорее отнести, пусть их в печку бросит.
– Вот видишь! – обрадовался Сенька, и голос его потеплел. Он перестал тереть глаз и сказал уже почти миролюбиво: Говорю, что спас тебя. А ты не веришь.
– Дурак ты, Сенечка. Я, может, сама хотела, чтоб он меня поцеловал. Но он струсил, тебя испугался, значит, тоже дурак, такой же, как и ты. А дураков я не люблю. Совсем не люблю, понимаешь? Мне скучно с дураками. Скучно, очень скучно, скучно так, что даже «бон-бонки» не помогают. Понимаешь?
– А я царей не люблю, – задиристо сказал Сенька, – я просто их не люблю, и всё, никаких царей вообще не люблю, поняла? И цариц ихних тоже. Даже смотреть на них не хочется, не то что говорить про них.
Алеся внимательно посмотрела на Сеньку, тот сердито отвернулся и продолжал молчать.
– Ну, ладно, ладно, не хочешь – не люби, кому какое дело, я здесь при чём? Ну ладно, одобрись, а то совсем поссоримся, – миролюбиво, но как бы сама с собой, бормотала Алеся. – И ты вовсе не дурак, а очень даже умный. Это я просто так. От глупости. Ты вальком грести умеешь и мелочь тыришь у продавщицы очень ловко. Ты очень умный человек, Сенечка, правда-правда. Мир?
Алеся протянула ему руку, Сенька как бы нехотя пожал её.
– Ну, ладно, – как-то вяло, но уже широко улыбаясь, сказал он.
– Тогда давай так. Когда русалочка к нам в лодку запрыгнет, ты отвернись, ладно? А я дам ей мешок, и она укутается им по самую шейку. И тогда ты на неё тихонько, одним глазком посмотришь. Ладно, а? Сразу нельзя на неё всю смотреть. Она может забояться. Испугается и снова в воду нырнет. А поиграть? Так что смотри только, когда она в мешок закутается. Потому что в мешке её никто сразу не узнает. Мало ли кто там сидит? Может, просто девочка озябшая.
– И вовсе не стану на неё смотреть! Хоть в мешке, хоть без мешка, – сердито опять же, сказал Сенька, опасливо поглядывая на воду. – Русалок что ли не видел? Ещё сколько видел! Я просто ими не интересуюсь. Не маленький, поняла? Вон за баней, у моей бабки на задах, сколько хочешь, энтого добра по ночам воет!
– Да врешь ты всё.
– Не вру. Чтоб мне сдохнуть, не вру совсем. Приходи и смотри сама, раз интересно, только мне их не надо. На что они мне, сама подумай? Русалки, они – женщины! – сказал он, хлопая себя ладонью по лбу.
Тут лодка резко остановилась, и дети упали на дно.
– Что это? – спросила тихо и боязливо Алеся. – Почему мы стоим, Сенечка, а?
– Потому что приплыли, вылазьте, госпожа царица-барыня, мы на косе, поняла? Потому и стоим.
– На русалочкиной косе?
– Остров так в реке называется – коса, – ответил всё ещё хмурый Сенька и ловко выпрыгнул из лодки на твердую почву.
– Тогда мы будем жечь костер, – весело закричала Алеся, выпрыгивая вслед за ним и доставая из внутреннего кармана шубки коробку спичек и кусок старой газеты.
Назавтра, рано утром, их сняли с островка халецкие мужики. Алеся, сильно простудившись, долго болела. Сенька, по случаю её болезни, сделавший Алесе временные уступки, прибегал с утра, и они, сидя рядышком на горячих кирпичах печки, жарко рассуждали о том, а живут ли русалки в Долгенькой – другом притоке Сожа.
И неплохо бы это дело проверить.
10
Зима откатилась так же внезапно, как и наступила. Снегопады, завирухи – всё в раз кончилось, и на белесом небе ярко засветило щедрое весеннее солнышко. Осел побуревший мартовский снег, вот-вот пройдет первый весенний дождь, и вся эта слежавшаяся жирная грязь будет бесследно смыта его бурными потоками.
Ребятня целыми днями пропадала на речке. Лучше реки места в мире нет в любую пору года.
Алеся с утра отправилась на Сож – проверить, как ведет себя порубь. Ещё на Иверскую (когда приходила Василиса, Алеся бегала её встречать) края проруби были ровные, крутые, а вчера, она заметила, уже кое-где обтаяли, закруглились. Прошлогоднее таяние льда она почти не помнила – как-то сразу забурлила в реке вода, и их с Сенькой унесло на долбленой лодочке. А вот теперь можно узнать точно, что скрывается подо льдом? Зимой отверстие маленькое, подернутое тонким ледком, и солнце редко светит, а вот к весне ближе вода съедает часть льда, и отверстие делается большим и светлым, всё в него хорошо видно.
Лед на середине реки весь темный и кое-где взбугрившийся. Местами стояли небольшие проталинки. Однако на коньках ещё катались.
Прикрутив «снегурку» к валенку и туго завернув палочкой веревку, Алеся бодро, отталкиваясь другой ногой, заскользила к заветной проруби. Прошли, мелко ступая, две старушки с ведрами на коромыслах. Для самовара вода, – подумала Алеся и покатила дальше. Отверстие порядком раздалось, она присела на край и стала внимательно смотреть в глубину. Малюсенькие волны ходили в проруби туда-сюда, в них многократно отражалось солнышко, нежаркое ещё, но уже очень ласковое…
Она не заметила, как рука её оказалась в воде.
Поболтав рукой в проруби, она тихонько опустила туда ногу и осторожно тронула коньком воду. Раздался мелодичный звук – пли-пли…
Дальше всё случилось в одно мгновение, само собой…
«Снегурка» окунулась в воду, светлый металл весело заиграл на солнце, конек потерял форму, причудливо изогнулся, весь как-то искарежился. Теперь он был похож на изогнутое веретено.
Дно казалось совсем близко, даже видны были мелкие камушки и ракушки, они так заманчиво мерцали между вытянувшихся по течению водорослей! Конечно, если бы здесь была настоящая глубина, то не сияла бы вода так весло и празднично, не рябили бы в лунке тысячи бликов…
Ей нестерпимо захотелось достать ногой дно, твердо встать на него. И она опустила ногу ещё ниже. Валенок сделался мокрым и тяжелым, ногу словно кто-то тянул – туда, вниз, на вожделенное, но теперь уже страшное, всё колеблющееся дно. Алеся села и оперлась о края проруби руками, слабый лед угрожающе затрещал. Она стала медленно скользить к отверстию, слезы досады побежали у неё из глаз, но крикнуть, позвать на помощь она почему-то не могла. Стремительно приближался конец света посреди ясного весеннего дня и всеобщего, хорошего настроения.
– Вот балда, зачем в пельку полезла? – кто-то грубо крикнул над её ухом, хватая её за плечи.
– Сам балда, – сквозь злые слёзы ответила Алеся. – Я просто дно меряю.
– Хватайся за рукав, – скомандовал спаситель, а сам, ухватив её за ворот «телятинки», изо всех сил тянул из воды и при этом ругался так, будто сторговал на ярмарке жеребца и страшно был пьян по этому случаю.
– Ой, Сенечка! Это ты! – обрадовалась Алеся, цепляясь обеими руками за своего спасителя. – А я думаю, кто это так противно орет? А это ты орешь. Ты зачем балдой обзываешься? И рукав вот у шубки моей оторвал! Знаешь, как бабушка меня ужасно накажет? Не ругайся больше, ладно? Мне это не нравится.
– Ну, тебе ж нравятся разные уроды, которые ругаются по-всякому. Которые курят. Водку пьют. Ты, кто-то сказал, целоваться с ними собиралась…
– Но это я просто так сказала. Мне совсем не нравятся такие уроды, и вообще уроды не нравятся. Я их просто презираю. Презираю и всё. Тьфу на них.
Домой она проскользнула незаметно, пока Мария была в хлеву, сняла мокрый валенок и засунула его под кровать, к самой стенке. Сама же залезла на печку и забилась в темный угол.
– Иди, деука, снедать, – позвала Мария, которая только что закончила стряпню и уже закрывала печку.
– Спасибо, бабушка. Что-то я не голодна.
– Так иди чай пи.
– Спасибо. И чаю что-то мне не хочется…
– Чагой-та ты усё спасибкаешь? – удивилась Мария такому приступу вежливости и, встав на приступок, заглнула на печку. А, заглянув, увидела перепуганное лицо Алеси, потрогала её мокрый чулок и сказала голосом, который не предвещал ничего хорошего: На рэчцы зноу была?
– Была-а-ааа…
– Так. А валянки де?
– Там. Под кроватью…
Добрее Марии бабушек на свете нет. Но и эта, самая добрая бабушка на свете, не выдержала и взялась-таки за веревку.
– А ну-ка хади сюды! – грозно сказала Мария, складывая бельевую веревку в несколько редей.
Алеся отчаянно вопила – больше для порядка, а не от страха или боли, когда бегала вокруг стола, ловко увертываясь от ударов веревкой. Но всё же ей было до слез обидно, что наказывали её не за мокрый валенок, который высох только на пятый день, и не за оторванный рукав шубки, а за невинное, в сущности, занятие – исследование состояния дел в мартовской проруби. То есть – за чистую науку. И это было очень несправедливо.
Спать Алеся улеглась на печке, а не на диване, в зале, куда её перевели спать после того, как она ночью слетела вслед за котом на лежанку.
Она очень устала за этот день – всё тело гудело и ныло в тяжелой истоме, была сильно обижена Марией, не понимавшей, как это важно – узнать, что там, на дне…
Но даже эта непомерная усталость и горькая обида от сотворенной над ней несправедливости не смогли сразу свалить её в спасительный сон.
Он просто не хотел приходить, этот упрямый сон! Мешал ли стрекот куражистого сверчка за печкой, или шум свары, которую затеяло вздорное кошачье племя, с некоторых пор взявшее моду собираться зимой, по ночам, на их чердаке, – так или иначе, но сон к ней всё не шел и не шел.
А мысли в голове вертелись все старые-престарые, вдоль и поперек передуманные, и делать в столь поздний час, в этой неприветливой темноте, когда уже загашена лампа и ещё не топится печка, а луны за окном не видно, было абсолютно нечего – Алесе стало нестерпимо скучно.
Иногда ей всё же удавалось каким-то чудом погрузиться ненадолго в сладкую дрему, но, не успев порадоваться пришедшему сну, она тут же выныривала из его теплых и мягких объятий и видела перед собой только пустой потолок печки и неуютную черноту долгой ночи.
Но вот, наконец, спасение пришло – связка пахучего лука стала мягко раскачиваться. Печка куда-то поплыла, и открылось, наконец, гостеприимное сонное царство со всеми его чудесами и радостями.
Проснулась она от громких криков, рано утром, когда только-только и приходит настоящий сон. Едва-едва тягучая патока смутного сновидения, наконец, поглотила её, как началось светопреставление. Над самым её ухом зашумели, загомонили растревоженные чем-то люди. Печка резко притормозила, Алеся окончательно пробудилась, вмиг сбросив с себя пелену ночного морока.
– Розуму у тябе заусим нямя! Ти ты з глузду зъехала?
Мария отчитывала Ганну, а та, крестясь на угол, мотала головой и кричала:
– Кажу табе – памер! Хрыстом Богам клянусь.
– Годе языком лямкать, – замахнулась на неё полотенцем Мария. Ганна заплакала, продолжая причитать.
– Памер, памер батька наш! Ой, Марья, памё-ё-ёёёр… Што тяпер буде? Изноу вайна буде?
– Брахня якаясь. Ня вый ты!
Ганна плакала с подвываньем, обхватив обвязанную большим серым платком голову, а Мария, всё ещё не веря её словам, вытирала фартуком руки, морщила лоб и силилась понять – чтобы всё это могло означать? «Хтось брахню распустиу, а бабы и рады разнесть па свету!»
– Ба! Кто умер, а? – спросила Алеся, но бабушка не ответила.
В былые времена Мария не упустила бы случая передразнить Алесю – «ба да ба, бабай-ага!»
Бабаем пугали детей все, а вот что означает «бабай-ага», Алеся узнала лишь недавно. В татарских сказках и легендах она прочла, что так звали военачальника. Но это выражение означало также – «баба-яга», потому что «я» – это два звука – «й» и «а». Бабушка ещё любила ругать их компанию «ордой», когда дети с шумом и криком носились под окнами, а дедушка в это время лежал на диване и читал газету: «Ишь, орда расходилась!»
Но сейчас она промолчала, значит, действительно случилось что-то невероятное и непоправимое.
Мария накинула ватник, на голову, поверх белой хустки, низко на лоб, повязала большой коричневый платок, и они с Ганной вышли.
Снова навалилась дрёма, возвращая её в сладкий сон, но громкие крики на улице не дали, как следует, уснуть. Она широко открыла глаза и стала обдумывать то, что услышала. Ничего такого, что могло коснуться лично её, похоже, не произошло.
Предутренний сумрак навевал покой, Алеся подумала, что, раз бабушка и тетя Ганна куда-то надолго ушли, оладушек сегодня не видать. Печка прогорела, трубу надо закрывать, а Марии всё нет. Так всё тепло в доме можно выстудить.
Она, на свой страх, закрыла вьюшку, положила сверху на движок тяжелый чугунный круг, и, вся перепачканная в саже, долго в сенях отмывала руки.
Но Марии всё не было и не было, не пришла она и к обеду, не пришел домой и дедушка. И тогда ей стало по-настоящему страшно. Что же все-таки случилось?
Кто памёр? И с кем што буде?
11
Смерть Алеся уже видела два раза. Первый раз это были котята, которых выбросили на помойку мертвыми. Трупики были окаменевшими, кожа на животах была натянута, как барабан. Алеся смотрела на эти тугие барабанные животы и вспоминала слова стихов, которые вечером читал дедушка на кухне вслух, сидя заполночь у остывшего самовара:
В ослиную шкуру стучит кантонист,
Иль ставни хрипят в отдаленье?
Кантонист ей представлялся диким разбойником, который собирает стуком в ослиный барабан своих сотоварищей. А они прикинулись ставнями и хрипят, потому что разбойничать им надоело или просто боятся, что их поймают жандармы…
Алесе было жалко котят с барабанными животами, но взять их в руки она боялась. Но когда ночью вспомнила про несчастных, то подумала – завтра их надо оттуда забрать и закопать где-нибудь в огороде. Все-таки живые твари были, а не щепка какая-то или черепок разбитый. Василиса говорила, что всё живое на свете – это одно такое большое существо.
А если одно, то и ей, Алесе, у которой есть такие хорошие бабушки и уютная теплая печка, тоже будет плохо оттого, что под холодным дождем валяются и мокнут эти никому ненужные трупики.
Рано утром, когда Мария ушла с подойником в сарай, она закопала их в саду, под сливой и сверху поставила четыре маленьких крестика из щепок.
А совсем недавно, прошлым летом, на соседней улице, померла старушка, все пошли смотреть, и Алеся тоже пошла. Посередине хаты, на большой лавке стоял гроб, рядом с ним громко плакали бабушки в черном. Они по очереди читали большую церковную книгу. Лица покойницы Алеся не могла разглядеть, только острый нос торчал из гроба. Её поддоткнули поближе.
– Падыди, деука, за ноги патрогай. Штоб ня страшна было, – сказала ей сродница старушки, лежавшей в гробу.
Она подошла к лавке, её сзади снова толкнули. И она, чтобы не упасть, ухватилась за тапки покойницы. Неподатливость остывшего уже тела отозвалась в её живом организме дерущим душу воспоминанием о захороненных котятах, из кожи которых кантонист сделает ослиный барабан.
Однако лежащую в гробу старуху ей не было жалко, как тех котят. Все внушало отвращение – её костистое большое тело, выпростанное во всю длину, синева застывших губ, лицо с глубоко запавшими глазницами, в каждом из которых лежало по пятаку – что она там себе купит?
Сладковатый запах тлена вызывал тошноту, ей захотелось выйти на улицу, но пробраться к выходу сквозь плотную толпу она не могла. Оставалось ждать.
Помолившись и поплакав вволю, собравшиеся стали делать и вовсе чудные вещи. Из потолка вынули доску. Алесе стало любопытно – зачем? И она спросила у стоявшего рядом с ней старичка с длинной белой бородой. Тот ответил, наклонившись к ней так низко, что его борода щекотала ей щеку:
– Видать, старуха в жизни много нагрешила. Прилетит за ней нечистая сила и уведет, куда надо, её душу через трубу.
– Сейчас прилетит? – оживилась Алеся, печальные события стали приобретать новый смысл.
Страх сам собой исчез. Алеся сейчас боялась только одного – как бы не пропустить прилет нечистой силы и умыкание грешной души.
О нечистой силе она слышала много – Мария часто ругалась: «Нячысты тябе забяры!» Видела чертиков и на картинках. Но тут обещалось совсем иное зрелище – живая нечисть извлекает грешную душу из мертвого тела и тащит наружу! Есть от чего разволноваться! Так вот отчего здесь так много народу! И воют так громко, потому что боятся…
Однако нечисть всё не прилетала. Алеся даже подумала, что надо бы подсказать мужичку с белой бородой, что надо выйти во двор и помочь нечистым найти предназначенный для них лично вход. Однако старичок куда-то исчез. Другие же старики и старухи ничего не понимали и на все её слова отвечали одинаково бессмысленно: «Чаго?»
Так и не дождавшись заблудившихся где-то нечистых, стали выносить гроб из хаты. А душа, эта тоненькая девушка в кисейном платье, наверное, где-то спряталась и сидит втихомолку – а что ей, самой, что ли в дырку на потолке лезть?
Вышли во двор, вслед за толпой, Алеся побрела на кладбище, всё ещё на что-то надеясь, так же, как и все, бросила горсть липкой глинистой земли в могилу, слышала, как грукнул ком о крышку гроба – камешек, что ли попался?
Потом родственникам дали горшки с зерном, и те сыпали его горстями в могилу, а пустые горшки били об ограду кладбища. Чтобы смерть разбилась с горшком, и чтобы упокойница не лишила хлеба живых…
Посуду били часто – и это очень удивляло Алесю. За разбитую тарелку Мария долго её ругала, но это же было случайно! А тут бьют специально – и ничего! Били посуду на крестинах – ставили горшок с кашей на стол, и тот, кто больше даст денег на поднос, разбивает горшок. Если каша оставалась целой, не разваливалась на куски, люди начинали радостно шуметь – будет в доме достаток!
Черепки же клали за пазуху молодым женщинам, чтобы рожали много детей.
Били горшки и в день венчания – от радости, что молодая честная. А если вдруг выяснялось, что не честная, то шли всей толпой в дом родителей и били там всё, что под руку попадало. Несчастную мать заставляли пить из черепка, на шею ей надевали хомут…
В среду, на четвертой неделе Великого поста, девки и парни забегали в дома и разбивали о стенку горшок с золой – перебивали пост.
Бросали горшки в колодец, чтобы вызвать дождь. Причем горшки эти надо было сначала где-то украсть – свои не подходили для этого дела.
Самое же интересное битье горшков бывало в конце свадебного обеда – их кидали в печку с приговором: «Сколько черепков, столько и детей!»
…Могилу уже давно засыпали землей, запечатали четырьмя крестами – лопатой по углам, чтоб душа не выходила и не мучила живых, и толпа, значительно поредев, самотёком направилась с кладбища.
Близкие пошли на поминки. Алеся тоже пошла за всеми, вцепившись в руку старичка с белой бородой, который, неизвестно откуда, снова появился и встал рядом с ней. Есть ей не хотелось, но она всё ещё надеялась увидеть нечисть. Её посадили на лавку с краю, ближе всего к ней стояла алюминиевая миска с киселем. Алеся зачерпнула ложкой. Поднесла ко рту. Но тут её снова затошнило. Вот принесли кутью, старуха в понёве обходила стол и каждому совала ложку с кутьёй в рот. Рядом сидела старуха, почти такая же страшная, как и покойница. Алеся увидала её большой беззубый рот, в котором исчезла ложка с кутьей, и полезла под стол.
Дома, ночью, лёжа на печке, она со слезами думала о той несчастной тоненькой девушке в кисейном платье, которую так и не увели нечистые. Вечно будет она маяться, без упокоя, на земле, а злой греховодной старухе и дела мало – лежит себе в гробу и отдыхает под березкой…
А придут ли за душой Марии, и, если придут, то кто? Уж конечно, не какие-то вонючие и вертлявые нечистики, а прелестные ангелы в картузах и круглых фетровых шляпах, но не такие, как счетоводы в рай-потребсоюзе, а с милыми лицами и крыльями под плащами. Или, если это будет зима, они придут в шубах из овчины и плюшевых жакетах?
Ангелы на иконах ей казались не совсем настоящими – конечно, на небе в таком виде, может, и нужно ходить. Но здесь, на земле, одежда даже у ангелов должна быть совсем другой. А то и милиционер заберёт! Или какой дурак посмеется. Смеются же над ней, когда она в пыльнике ходит…
То, что ангелы ходят по земле, она знала так же твердо, как и то, что после ночи всегда приходит день. Но никто и никогда не видел их в таком виде, как нарисовано на иконах. Значит – переодеваются.
Алеся всё лежала на печке, а Мария так и не пришла. Сон давно слетел, и в душе была одна жуть – кто умер? И что теперь будет? А будет что-то ужасное, раз Мария бросила печку и ушла неизвестно куда.
Наконец, стукнула дверь в сенях и вошла Мария. Лицо её было бледным и потерянным.
– Ба! Кто умер, а?
Мария ничего не ответила. Алеся свесилась с печки, чтобы лучше разглядеть глаза Марии – что она там себе думает? И почему молчит?
Но эти горящие глаза на мелово бледном лице испугали её ещё больше, чем глухое молчание Марии. Даже плач Ганны со всеми её ужасными и жалобными причитаниями не был так страшен!
Мария достала из сундука Василисину икону – старинную, бисерную. Нежное шитье хорошо смотрелось в резком, жарком, как теперешние глаза Марии, окладе. Она поставила образ рядом с привычной иконой Казанской, опустилась на колени и стала молиться: «Матерь Божья, Неопалимая Купина!..»
Такой Алеся свою бабушку никогда не видела. Даже на похоронах Василисы она была живее!
Но вот в сенцах опять загомонили. Вошли две бабы, за ними – Ганна. Вошли без стука, не сняли калоши, сразу двинулись в залу. И там все трое, дружно начали плакать и причитать. Потом Мария сказала: «Пойдем-ка да грамады!» – и она ушли, громко плача уже на улице.
Ясно, что так ничего не выяснить. Алеся тихонечко слезла с печки, оделась, отыскала под лавкой старые сапожки, сняла с гвоздя у двери свою шубку, вывешенную там для просушки, и скорее на улицу!
Как много народу, оказывается, живет в Ветке! Даже на праздники, когда бывали демонстрации, их столько не собиралось на улицах и площади! Но узнать что-либо конкретное ей так и не удалось. Люди или плакали, вытирая лица платками или ладонью, или молча стояли в длиннющих, как хвост дракона, очередях за керосином и мукой.
На городской площади из репродуктора лилась и лилась бесконечная траурная мелодия. Она слышала такую музыку на Благовещение, когда хоронили одного человека их райкома. По улице шла процессия, и Алеся, с перевязанным горлом, высунулась наполовину из форточки, чтобы получше всё рассмотреть.
«Ах, ты, ирад цара нябеснага! – закричала на неё Мария. – Усю хату выстудишь!»
Форточку закрыли, а её загнали на печку, но кое-что всё же удалось рассмотреть. Это были очень странные похороны – без батюшки и череды плачущих старух. На специальных подушечках, впереди гроба, несли ордена, их было пять.
… А траурные марши всё звучали и звучали. И на следующий день, и на следующий, и ещё на следующий…
Иван теперь подолгу палил на кухне свет – прочитывал кипы газет, какие-то брошюры, книги в тонких бумажных переплетах, без картинок. Вслушиваясь в монотонный голос Ивана, который, по старой привычке – приобщая Марию к политграмоте, читал вслух, Алеся понимала только одно: происходит нечто такое, что Ивана страшно мучает. Ей даже снились слова, которые Иван особенно часто повторял, читая газеты.
Лежа на краю печки с полузакрытыми глазами, она внимательно наблюдала за Иваном.
«…Объединить Министерство госбезопасности и Министерство внутренних дел… назначить министром внутренних дел Берию… военным министром Булганина… вместо двух органов ЦК один из десяти человек… товарищу Хрущеву сконцентрироваться на работе в ЦК… товарища Брежнева перевести на работу начальником Политуправления Военно-Морского Министерства…»
Алеся, незаметно для себя, уснула, и приснилось ей, что она работает в газете, и её послали пленум снимать. В руках у неё фотоаппарат, но затвор никак не щелкает, заедает почему-то. Тут к ней подходит высокий красивый человек с усами, в белом кителе и без фуражки и говорит ей строго: «Долго вы ещё будете мешать работе?» Она догадалась, что это сам вождь всего народа – Сталин, и вдруг видит, что в руках у неё не фотоаппарат, а большой аквариум, а в нем – живая черепаха. Тут Сталин тоже смотрит на аквариум, улыбается и хитро так говорит: «Что это вы, молодая тетенька, таким допотопным фотоаппаратом снимаете?» – «Он не старый, а самый свежий – видите, на нем год написан – 1956-й. А вас уже три года в живых как нет». – «Меня-то нет, – смеется Сталин, – а вот аппарат всё равно старый!»
Так говорит и начинает чинить затвор. Потом сам снимает пленум.
Алеся проснулась и увидела, что Иван уже не читает газету, а листает синюю книжку и делает в ней закладки.
– Дедушка, дай мне кружку молока, – просит Алеся, свешивая руку с печки.
– А ты что не спишь? – спрашивает Иван и снова углубляется в чтение.
Алеся снова засыпает, и ей снится всё тот же сон, но теперь снятся какие-то органы – болшая свиная печенка, огромный коровий желудок…
Их кто-то заменяет, снимает, переставляет, делает из них колбасу и сальтисон. Она погрузилась в сон так плавно, как будто съехала на санках по склону ровной горы и никак не могла из него выкарабкаться.
Потом ей приснился второй сон. Дедушка долго болеет, но вот стал поправляться. Хочет пойти погулять. Вдруг кричат – доктор едет! Ивана лечить!
Зачем? Он же итак выздоравливает. Но врач быстро подходит к постели. На ней лежит дедушка в сапогах. И врач говорит: «Слив не надо, приготовьте мяса!» Алеся заглядывает в лицо доктору и видит круглое, как миска с тестом, лицо с огромной, как фасолина, бородавкой…
Она кричит: «Это не доктор! Это Хрущ!»
Все бегут к ним, хватают врача и кричат: «Это не Хрущ! Это убийца в белом халате!»
Алеся бросается за этими людьми, чтобы вызволить дедушку, но вдруг начинает падать, падать, падать…
Сердце замирает, как в прыжке с огромной баржи солдатиком. От этого страшно и ужасно хорошо.
Она просыпается – её ловит Иван и говорит ласково: «Ну, девка, долетаешься, надо бы тебе пригородочку к печке сделать!»
Алеся засыпает в третий раз и попадает на ёлочный базар, где продают всё чудесное и вкусное – чем украшают и что кладут под ёлку. Они покупают всё это, а на часах уже – без пяти двенадцать. Мария говорит: «Кинь кашолку и бяги, паслухай, што ён буде гаварыть»…
Алеся бежит домой, хочет включить радио, а дом уже двухэтжный, на окнах – резные наличники. На крыльце – мужчина в черном костюме. Она думает, что это Иван, а это Ленин!
«Где была?» – строго спрашивает Ленин. – «На базаре с бабушкой».
Ленин дальше не слушает и топает ногой: «Сколько раз говорил – не ходить на рынок!» – сказал так и пошел в подвал. Алеся бежит за ним. А это не подвал, а библиотека! Ленин поднимает оторванный корешок и говорит: «Враги народа взорвали музей Маркса, это всё, что осталось от Бухарина». На корешке написано: «Социализм – третья фаза капитализма».
Алеся проснулась от холода. Вода в ведре покрыта коркой льда. – «Труба что ли открыта?» – подумала Алеся. Но труба была закрыта, а дверь в сени – настежь. Иван стоит на крыльце в наброшенном на плечи полушубке, курит «беломор», под ногами – куча окурков.
– Дедушка, что ли ты дверь открыл?
– Что, девка, говоришь? – говорит Иван и спускается вниз.
– Дедушка! А что такое? – спрашивает Алеся и подходит к нему. От Ивана пахнет неприятно, так пахнет от «сивушных чертей» на второй день после праздника.
Летом опять бегали и голосили бабы – агента поймали!
– Берия – агент иностранного капитала! – сказал Иван. – Чистая игра. Выходит, искусственные трудности с продовольствием – их рук дело?
– А як зноу вайна? – плакала Ганна. – Так што з им буде, з гэтым агентам?
– Судить будут.
– А вайны ня буде?
– Я не генштаб.
– Нидзе прауды не дабъешся, хтось адну брахню распускае… Перед самым Новым Годом Иван пришел опять «под мухой», долго молча курил, потом, глядя в стенку, глухо сказал:
– Расстреляли гада Берию.
Мария перекрестилась.
Иван приходил каждый день поздно, а то и вовсе не появлялся по нескольку дней. Измучившись до предела, он даже в Москву собрался ехать. Мария высмеяла его: «Ти ж там дурней тябе люди жывуть?»
Ивана назначили председателем комиссии по расследованию неполадок в совхозах района, и он неделями сидел на местах. Непорядка было столько, что никаких протоколов не хватало, чтобы записать всё на бумаге. В одном селе зерно сушить негде, и оно гниет. Заняли клуб под сушилку – негде молодежи собираться. Вот и пьют по углам вместо культурного отдыха…
В Хальче телят-трёхдневок поставили в одно стойло с годовалым скотом, и всех заразили. Падеж такой, что и припомнить ничего похожего невозможно. Там фельдшер людей лечить не хочет, сам поселился в амбулатории, дочку санитаркой взял, жену акушеркой, а в приёмной свиней держит.
Тягловая сила обезличена. Рабочие кони за ездовыми не закреплены. Дневные нормы корма не соблюдаются. И опять падеж в разгар сезона…
Удобрениями все хозяйства обеспечили, а на поля вывозить некому. Скот гибнет от голода – всю солому по хатам растаскали, и бригадир – первый вор.
Ввели закон о сельхозналоге – на твердых ставках, с одной сотки приусадебных земель, а никто не соблюдает!
Иван говорил, что в Москву ехать надо, а Мария молча слушала и только головой кивала. А когда он выходил на крыльцо покурить, под нос себе бормотала:
– Куды, дурань, патягнецца? Вумник яки! Усё смолить, ды смолить…
А случай был – поехал мужик с Пролетарской улицы в область жаловаться, так его крепко припечатали на месте. Так, что и внукам заказал жаловаться.
– А што з нами буде? – опять прибегала Ганна к Ивану за выяснениеми. – Вайна скончылася, дык амерыканец пачау гадить! А забараняцца чым ёстяка?
– Всё есть, – отвечал Иван спокойно. – С этим делом всё в порядке. Вон собственную водородную бомбу испытали.
– Годе вам балаболить! – гнала их Мария с кухни и громко гремела чепелой у печки, – только бабам и справы, што пра бомбы балаболить…
Про бомбы ей слушать было очень тоскливо.
Война осталась для неё за чертой, и черта эта была проведена в памяти горечью воспоминаний об Акимкиной страсти. На него злобы больше не было. Встреть она его сегодня, не отвернулась бы гордо, не обругала бы злым словом…
А вот с Дорой дружбы не получалось, хоть та и улыбалась приветливо при каждой встрече, и старалась угодить, где могла.
К осени Марии становилось тяжко – ныли ноги, спина. Часто ложилась на лежанку и тихо постанывала.
Иван шутковал, неловко подбадривая её:
– Вот в Москве Пантеон собираются строить, перенесут туда тела вождей мирового пролетариата. Поедем смотреть, всех пускать будут, без пропуска. А ты, поглянь, помирать собралась? Не знаю, как ты, но я за ваколицу пока не спешу. До коммунизма дожить собираюсь. В Москву, говорю, поедем?
– Паедем, паедем у Маскву за песнями.
Иван делался серьезным и пускался в пространные рассуждения об экономическом потенциале Ветки, о строительстве нового моста через Сож, поминал недобрым словом холодную войну и вдруг замечал, что Мария уже давно клюёт носом. Не обижался, однако, шел в свою спальню, а назавтра повторялось то же самое – ликбез возобновлялся.
С той ночи, когда с Марией случился второй удар, отношения их стали другими – они не разошлись, как надеялись недруги Ивана и Марии, но отношения их всё же изменились, в чем-то стали проще, дружелюбнее.
Теперь они между собой часто разговаривали – просто так, безо всякого повода, – так, как если бы Мария «балаболила» со знакомыми бабами.
Но спали они теперь отдельно, каждый в своей спальне.
АЛЕСЯ Часть вторая
Вселенную нельзя низвести до уровня человеческого разумения, но следует расширять и развивать разумение человека, чтобы воспринимать обновляющийся образ вселенной по мере её открытия.
Открывать вселенную можно вечно, и всё равно она останется тайной для нас.
Страсть к познанию – одна из немногих страстей, не разрушающих, а создающих мир. И отказывать женщине в праве на эту страсть, по меньшей мере, неразумно. Женский ум тоньше и глубже сильного логикой ума мужчины, потому что он, ум женщины, опирается на вековой инстинкт сохранениея рода человеческого.
Вселенная женщины – её дом. Но женщина, охваченная страстью познания, в силе превратить и вселенную в свой собственный дом.
1
Закончилась Алесина вольная жизнь. Осенью в школу – и это хорошо, но это означало также и нечто ужасное – отъезд из Ветки. Учиться она будет в Гомеле, и жить – у родителей.
В день отъезда, рано утром, в ставень постучали, выглянула во двор, крикнула – кто? – но никто ей не ответил. Она оделась, вышла на крыльцо. И тут только заметила, что в почтовый ящик засунут сложенный пополам листок бумаги в клеточку, а в уголке, под лавкой, лежит небольшой аккураный кулек. Она вынула тайное послание из ящика и прочла.
Кривым, разбегающимся почерком было написано: «Надо кое-что сказать. С.»
Под лавкой, в пакетике из плотной серой бумаги были конфеты «Кавказские», без обертки, почти что шоколадные, на сое, по рубль сорок сто граммов. Она положила кулек в карман кофты, и ей вдруг захотелось заплакать. Она позвала мальчонку, который крутился неподалеку, самозабвенно гоняя «чижика», и послала его за Сенькой, дав ему в счет аванса две конфеты «кавказ». Тот радостно крикнул – «ага!» и, забросив в крапиву «чижик», побежал вприпрыжку по переулку.
Сенька явился скоро, был одет в чистое и руки тоже были чисто вымыты.
– Ты это чего, уезжаешь что ли? – хмуро и как-то отстраненно спросил он.
– Ну да. К родителям. А что?
– Нуда хуже коросты, – так же хмуро ответил Сенька. – Я вот чего… Он замялся, не решаясь или не зная, что и как говорить.
– Ты хотел сказать мне – счастливый путь, да?
– Ещё чего, – всё так же хмуро сказал Сенька, ковыряя большим пальцем босой ноги землю на дорожке.
– А что тогда? Что цари не такие уж противные или что?
– Да ну тебя… Я тут думал про одно дело и вот хочу сказать тебе…
– Если про любовь, то лучше не надо, – быстро перебила его Алеся, дергая за пуговицу и закрывая ему рот ладонью.
– С чего это? – посмотрел на неё исподлобья Сенька.
– Опасно.
– Это как?
– Просто. Как дам по балде, одни уши останутся.
– Очень надо про любовь говорить! Я ж не урод какой-то там из Воркуты…
– А про что тогда? – спросила Алеся, уже вполне развеселившись и подступаясь к нему поближе, – а вдруг у Сеньки тоже есть родственники в городе, и тогда они в Гомель вместе уедут! – Ну, скорей говори, что ты узнал? Что? Что?
– Ничего я не узнал, просто я подумал… – Он немного помялся и, глубоко вздознув, смело выпалил: Помнишь, ты говорила про русалок?
– Помню, помню, конечно, помню! Ну, Сенечка, говори дальше! Ну же!
– Ты говорила, кажись, что они берегинями называются?
– Да, говорила, говорила! Ой, Сенечка! Я так и знала, так и знала, что ты когда-нибудь в них тоже поверишь! Ты поверил в них, да? Ты веришь? Какой ты милый, Сенечка!
И она, схватив его в объятия, крепко прижала к себе.
– Да отстань ты от меня, – неловко отбивался Сенька, – совсем задушила к чертовой матери…
– Ага! Счас! Я тебя ещё и поцелую, чтоб все видели и не вздумали приставать к тебе!
– Совсем дурная стала! – шипел смущенный Сенька, отчаянно сопротивляясь неожданной ласке.
Однако Алеся крепко его держала. Поцелуй получился неловким – из-за того, что Сенька всё время вертелся, он пришелся как раз в мочку уха…
– Чего привязалась… отстань… – буркотел Сенька, красный, как вареный рак, высвободившись, наконец, из Алесиных объятий. – Я совсем про другое хотел сказать. Ну их в болото, энтих русалок чертовых!
– А что… что же тогда?
– А давай, я буду тебя охранять, а?
– Чего? – Алеся вмиг отскочила от приятеля. – Сенька! Ты… ты подлец противный! Ты просто меня обманул! – сказала, горько заплакав, она. – А я тебе поверила-а-ааа…
– А я на кларнете учусь играть, слышь? Ту-ру-ру, ту-ру-ру-ру-ру, – испуганно заговорил он, – слёз он не переносил вовсе. – Выйду в огород, как заиграю, в Гомеле слышно будет. Не веришь?
Однако Алеся была безутешна. Мало того, что её лучший друг в город вместе с ней не едет, так он ещё и в русалок не хочет верить и, наверное, не поверит теперь уже никогда…
В городе была тоска смертная – здесь никто не умел веселиться по-настоящему, в школе учили глупостям – как писать палочки и крючки. Но зато там была большая библиотека, где можно брать сразу пять книг на неделю: одну познавательную, одну – сказки, и три – всякие истории про людей.
Она очень скучала по Ветке. Мама, рассердившись на её внезапные слезы при упоминании о бабушкином доме, строго сказала:
– Больше в Ветку не поедешь, раз от этого одни слёзы.
– Нет, нет, я не буду больше плакать! – закричала Алеся и зарыдала в голос.
Они жили далеко от центра, на улице Кирова, бывшей Кладбищенской, совсем близко Прудок, а там есть конзавод, и туда можно пойти – там будет интересно. И ещё есть одно, весьма достойное место – аэродром. И там работал её отец, летчиком гражданской авиации.
Дом их был «жактовский», что означало – не свой, а дали на работе, четырехквартирный, с отдельными входами для каждой семьи.
Глубокая канава вдоль шоссе с начала лета заростала бурьяном, лопухами и цветами василек. В конце августа, так же, как и в Ветке, от садов остро пахло антоновкой, но всё же это была не Ветка.
Это был большой шумный город, по улицам которого ездило много разных машин, а в небе со страшным гулом летали медленные, как стрекозы в жару, самолеты, город совершенно незнакомый и мало понятный – его ещё предстояло узнать и, может, полюбить.
Там, у бабушки, через пять домов начинался луг, где росли такие высокие травы, что в них можно было легко спрятаться, и в двух шагах тебя никто не заметит.
А речка? Где тот чудесный Сож, на левом берегу которого во всю длину растянулась Ветка? А если подняться вверх по течению, то можно попасть в чудесное царство, где Алеся пока ещё не побывала, но знает наверняка – там есть волшебный город Светиловичи, в нем, конечно же, живет солнце, во всяком случае, оно куда-то туда вечером уходит.
В Гомеле тоже есть река Сож, но трудно поверить, что это тот самый Сож, что и в Ветке. Этот Сож был совсем другой – много шире, и не с таким быстрым течением. И через него уже был построен мост, по которому ходили поезда. Вода в этом чужом Соже была невкусной, и на самовар её никто не брал – от неё пахло гадостью, у пристани, рядом с дебаркадером, на воде плавали пятна солярки, а борода зеленой плесени противно всисала со старого причала. Пляж был на другой стороне, там, на желтом песке, лежало много разного народа в теплые дни. На Ветковском Соже они купались, где хотели. Берег был весь поросший травой, но всегда можно было найти место, где не было тины и где дно не вязло под ногами.
А какая замечательная коса на том, любимом Ветковском Соже!? Как ласково она поглядывала из самой середины реки на своих добрых знакомых! А в том Соже был брод, и можно, кое-где вплавь, а в других местах хоть на цыпочках, всё же перебраться на заветное место безо всякой лодки. Одежду в узел, в левой руке высоко над головой – и, сильно забирая против течения, не оглядываясь назад, стремиться к заветной цели. А уж там настоящая воля…
За косой текла узенькая, безымянная и совсем домашняя речушка без названия – вела она прямо к Старому селу. Здесь же, в Гомеле, не было ни косы, ни притока, ни заводи Карелины. И до Старого села страшно как далеко…
Алеся шла по краю канавы, всё дальше и дальше убредая от родительского дома, в полной уверенности, что чем дальше отсюда, тем ближе к Ветке. Однако заветная Ветка всё не появлялась на горизонте, а местность становилась всё более дикой.
Впереди простиралось огромное поле, на нем, тут и там, стояли самолеты. Аэродром!
Здесь Алеся ещё ни разу не была. Папа всё обещал взять с собой на работу и даже полетать вместе обещал, но обещание так и оставалось обещанием.
Над Веткой часто летали аэропланы, иногда в поле она видела, как самолет «кукурзник» вытряхивает из стрекозьего брюха какой-то едкий порошок, от которого в носу щипало, и из глаз текли слезы, но таких самолетов здесь не было.
Это были не самолеты, а какие-то огромные птицы! Она затаилась в канаве и стала внимательно наблюдать за тем, что происходило на взлетной полосе. Из кустов, что росли густой каймой вдоль аэродрома, тревожно пахло осенним тленом, но даже этот знакомый запах не мог смутить её – она уже понимала, что той, Ветковской, осени здесь не будет.
«Прощай довеку, милая Ветка!» – пдумала она, и горькие слезы побежали по щекам.
Старый, до последней крайности знакомый и до жгучих слез любимый, мир уходил, приговоренный и дальше существать без неё, а ей предстояло вживаться в эту чужую, шумную и бестолковую, городскую суету.
Грустила она и о Сеньке, вспоминая его испуганно раскосившиеся синие глаза под белесой длинной челкой, когда Алеся сказала, что уезжает из Ветки к родителям, навещать бабушку и дедушку будет, но только по праздникам. Просяные веснушки на Сенькином носу побледнели, тонкие губы искривились. Когда Алеся хотела взять его за руку, он, крутнувшись на пятке, побежал прочь, распугивая сонных кур и толстых поросят, которые вольготно расположились на отдых в уютной подворотне.
Сегодня особенно грустно было с утра. Воскресенье – день очень длинный, самый длинный день недели. Времени много, а с толком упоребить его некуда. Проснулась затемно, когда родители ещё спали, оделась, положила в карман аппетитный хлебный довесок и выбежала во двор.
Серебряный утреник был чудесен, она принялась ласкать глазами траву и листья, покрытые мелкими разноцветными капелькам и – бриллиантами.
Это действо на какое-то время развлекло её, однако, вернуло к дерущим сердце воспоминаниям о тех временах, когда она рано поутру вольно выбегала из дома босиком – посмотреть, не идет ли с базара Мария с большой кашелкой, полной всяких вкусных вещей. Мед, яблоки, огромные груши и, главное – сахарные петушки на палочке, и всё это ей, Алесе!
Глазам её открывались такие привычные картины солнечного осеннего утра, сердце замирало от восторга, а потом начинало бешено скакать в груди – вон уже идет через мостик, тяжело ступая и отставив свободную руку немного в сторону, её милая бабушка Мария!
За ночь подморозило, и обожженная грядка всем своим видом говорила – видишь, всё, как там…
Но это был город – по шоссе ехали большие тяжелые трехтонки, по тротуару катили велосипедисты, люди, с утра до вчера, снуют туда-сюда безо всякого специального дела…
Вот и пошли её ноги сами собой вдоль канавы, на поиски утраченной Ветки.
Но ещё больше, чем сам город, не нравился ей их сосед. Конечно, у него не было ужасной козы с большими острыми рогами, но зато были другие неприятные качества, на которые совршенно невозможо было закрыть глаза. Коротенький мужчина в кителе, тоже летчик, страшно боявшийся своей жены-помпушки, вечно надутой и что-либо жующей, она не ладила ни с кем, никого не любила и всегда делала Алесе обидные замечания. Они жили в своей квартирке, как два крота в норе, отделившись от всего остального мира и выказывая интерес только к злым сплетням про соседей. Его звали Федор, а жену – Нинель. Она была неработающей домохозяйкой, имела два золотых зуба и огромный, колышащийся при ходьбе, живот. Сплетничала с охотой, глаза её в такие минуты загорались и увеличивались в размере, в остальное время она с неизменным аппетитом ела и ела – варёную свёклу утром, потом всё подряд и что под руку попадало. При всех её занятиях, кроме сплетен, на лице оставалось одно и то же выражение, и если постоянное выражение лица Федора можно смело называть приклеенной улыбкой, то хоть как-то обозначить то, что выражало лицо Нинель, было просто невозможно. У мужа её голова была клином, стрижена под гребенку, наверное, дома, для экономии, шея вообще отсутствовала. Продолговатые глаза из узких щелей смотрели остро и подозрительно. Улыбка, широкая и на вид дружелюбная, была адресована в пустоту – точно так же он смотрел на бочку с водой или на шланг, валяющийся на земле. Нинель целыми днями вышивала какие-то салфетки, в их квартире всё было устлано этими вышитыми салфетками – и полки на диване, и сами диванные валики, и этажерка, и радиоприемник. А когда в Гомеле в частных домах появились первые телевизиры, и вечно ликующий Федор привез на багажнике велосипеда дорогую покупку, то на следующий же день модный КВН был покрыт вышитой специально по этому случаю салфеткой.
Всю работу в огороде делал муж. У них был на участке небольшой сад – две антоновки и низкое, развесистое дерево пепенки. Яблоки падали на общую дорожку, но Федор ни разу не предложил Алесе по-прбовать этих румяных и сладких яблок. Однажды она незаметно прихватила две падалицы, но тут же на крыльце поялилась Нинель и громко спросила: «А что это у тебя в карманах».
Алеся ответила: «Яблоки. Я их у вас украла. Но мне больше их не хочется. Можно, я брошу их в помойное ведро? Спасибо».
Алеся слышала, как соседка из другой половины дома спрашивала Нинель, не заглядывается ли её муж на Броню. Нинель, тряся животом, в защиту которого сама же говорила: «Женщина без живота, что комната без гардероба», со смехом отвечала – «было бы на что!», и рассказывала жиличке из дома напротив, как Броня готовила вареники: «Представляешь, она их жарила! Она думает, что вареники – это потому что с вареньем. А не потому, что варят! Представляю, какая гадость получилась!»
Весь их жактовский дом был поделен на две половины, и каждая из них имела по две квартиры. И только в четвертой квартире жили подходящие, по Алесиному разумению, люди – уже немолодая мама с девочкой, которая училась в той же школе, и Алеся научила её быстро решать задачки по арифметике. Мама болела – у неё было что-то с ногой. После работы она сидела на большой табуретке, а больную ногу клала на маленькую скамеечку. Она чаще молчала или что-либо спрашивала просто так, без специального смысла. В доме всё было просто и очень чисто. Такой чстоты Алеся нигде больше не видела. Все выскоблено и начищено – табуретки беленькие, как только что обструганные, кастрюли и чайник сверкают, посуда блестит, стекла в окнах прозрачные. Эти люди никогда ни про кого не сплетничали, всегда радовались за других, когда Алеся рассказывала что-то хорошее – в доме напротив мальчик родился или у соседской кошки пять черненьких котят и один белый… Эта мама никогда не говорила дочке – замолчи, отстань или другие грубые слова.
И вот про эту тихую, скромную женщину с больной ногой и её милую дочку Нинель однажды сказала Броне: «Твоя Леська опять к этим голодранцам побежала».
Алеся услышала эти слова, и, когда стемнело, нашла самый большой булыжник во дворе, вытащила из-под него самого жирного слизняка и, написав на листке из школьной тетрадки: «Привет поклонникам царя Ирода!» – завернула в него отвратительного жителя «изпод-каменья» и бросила пакетик в почтовый ящик соседей – Федора и Нинели, со злой радостью думая о том, как отчаянно завизжит Нинель, когда схватит своими пухленькими пальчиками этого жирняка…
…Алеся лежала на краю канавы и смотрела во все глаза, не отрываясь, как двое метеорологов готовятся запускать наполненные газом черные и белые шары.
Они летали высоко и долго, потом вовсе пропадали из виду.
Она побежала к людям, которые распоряжались этим великолепным чудом, но оказалась пчему-то на взлетной полосе. Она не замечала, что уже давно машут флажками и кричат – уйди, уйди! – ей, а не кому-то ещё.
Её отвели в служебное помещение, там сидел Федор со своей вечной улыбкой в золотых зубах. В руке у него была свяка белых и черных шаров. – «На, возьми вот, – сказал Федор, показывая во весь рот тускло сверкающие зубы. – Только давай вот … больше не бегай по взлетной полосе, ладно?»
Алеся взяла шары и собиралась уже быстро исчезнуть, но Федор сказал: «Погоди бежать, сейчас американсий „Дуглас“ сядет. Хочешь посмотреть?» – «Ещё спрашиваете», – ответила Алеся и осталась.
«Дугласов», присланных в СССР по ленд-лизу, Алеся никогда раньше не видела, такую возможность пропустить было нельзя.
Самолет, похожий на большой незрелый бобовый стручок, тяжело заходил на посадку. Когда самолет сел, Алеся, не спросившись у Федора, побежала к ввзлетной полосе. Самолет рычал, из его хвоста вырывался плотной струей теплый воздух. Алеся встала спиной к струе, раскинула руки и запрокинула голову. Оказалось, что на ней, этой теплой плотной струе, можно спокойно лежать. Огромное синее небо над головой поглотило всё пространство – города больше не было.
Федор позвал её снова через неделю – теперь уже смотреть парад парашютистов. Те, кто, увлекшись зрелищем, вылезли в центр приземления, отделались лишь парой тумаков. На голову парашютисты никому не сели, зато крышам соседних домов повезло меньше – один спортсмен уселся прямо в тазик со студнем на летней веранде…
Отца она нашла в комнате отдыха – он с напарником играл в биллиард.
2
Надвигалась ноябрская стыдь, на аэродрме тоже становилось скучно. Парашютисты больше не прыгали, к «Дугласу» близко не пускали, воздушные шары надоели, делать там было абсолютно нечего.
В поисках дела она подбирала бродячих кошек и поселяла их в домик из ящиков в саду, под яблоней. Съэкономленных на завтраках денег хватало на ливерную колбасу. Кошки колбасу съедали, а от супа в черепках нос воротили, в домике из ящиков жить тоже не хотели, предпочитая ему просторные чердаки и сараи. Так приют, просуществовав неделю, развалился, не успев толком продемонстрировать бродячим животным все преимущества обладания собственной крыши над головой.
В соседних домах были дети – у шофера Вани и его жены Тамары сын Митька и дочка Танюшка. Митьке было лет шесть или восемь, сколько точно – никто не знал. Он бы придурочный и в школу не ходил. Мать привязывала его к спинке кровати веревкой и била ременной пряжкой по голове. Он дико кричал, а потом. После наказания, кидался на улице камнями и дрался палками. Девочка лежала в кроватке и ещё не умела ходить, у неё был родимчик, и она тоже всё время плакала. Осенью она умерла от воспаления легких.
Алеся неделю не покупала себе завтраки, скопила целое состояние и купила за восемь рублей матерчатые туфли для Митьки, он их взял, стал носить, но мать обновку заметила, отобрала и отнесла на базар, а сына опять долго лупцевала. Алесе же сказала, что и ей задаст трепку, если та будет лезть не в свои дела. Через месяц Митьку отправили в Могилев, в дом для «малахольных».
И она снова стала бегать на аэродром.
Послонявшись вдоль голых уже кустарников, Алеся поглазела на мокрую от дождя взлетную полосу в пустой надежде увидеть какой-нибудь новый самолет или, может, даже целый дирижабль, и грустно подумала, что будь здесь Сенька, они бы не скучали, уж что-нибудь, да придумали бы. Как хочется взять и улететь птицей в самое небо!
Тут её взгяд остановился на какой-то странной хибарке вдали от аэродрома. Что это? Может, избушка на курьих ножках? А что, если сбегать да посмотреть? А может, это тренировочная площадка для спортсменов? Или вышка для прыжков? Но в той же стороне была и Ветка!
Она стала всматриваться до рези в глазах – но горизонт тонул в зыбком мареве, и ничего толком не было видно. И тут неожиданно началась поздняя осенняя гроза…
Когда блеснула молния, она ясно различина и дом Марии с блестящей серебряной крышей, и дерево рядом с домом, и двух, летящих прямо по воздуху, больших черных котов…
До щекотки в ноздрях она ощутила терпкий влажный запах глухой крапивной заросли за большим забором, в переулке, увидела сырые пожухлые лопухи на меже…
Это длилось всего мгновение, но и его, этого мгновения хватило, чтобы Алеся поняла – если она немедленно, лучше бы – тотчас, не попадет в Ветку, душа её понесется туда сама собой, самовольно покинув несогласное тело.
Она вскочила и побежала. Упала. Разбила колени. Снова вскочила…
Она бежала так долго, что, когда снова упала, то лежать пришлось целую вечность – ноги не слушались приказа двигаться дальше.
Но вот над ней склонился толстый злющий дядька, схватил её за плечо и заорал прямо в ухо: «Ты…! Вон самолет садиться будет!»
Он схватил её за руку и поволок прочь от взлетной полосы. Бетонированная полоса, серая, голая и дикая от безлюдства территория, уходящая неизвестно куда, в черноту надвигающйся ночи, дышала холодом и безразличием ко всему, что не имело отношения к полетам…
В ту же ночь она решила – надо сделать «крылья», какой-нибудь свой собственный летательный аппарат. И научиться летать – над городом, над всем миром…
У отца была старая, затрепанная подшивка разных технических журналов. В одном из них она нашла чертежи конструкции, которая, как ей казалось, может вполне подойти. Материал есть – нужна большая холщевая простыня, два десятка прочных реек, гвоздики и всё такое. Но главное – нужен Сенька, его ловкие руки и смекалистые мозги!
Первая четверть закончилась. Предъявив дневник с пятерками родителям на подпись, Алеся, промаявшись в коридорчике целую вечность, наконец, решилась, подошла к Броне и безаппеляционно заявила: «Я заслужила награду. Можно на праздники поехать в Ветку?» – «Зачем это?» – «Просто одно дело есть, я плакать не буду, честно-честно! Мама…»
Шестого ноября, пополудни, она уже ехала на райсоюзовских санях, закопавшись в сено по самый воротник шубки и глядя в серое низкое небо светлыми влажными глазами, сладко мечтала о близком невозможном счастье. Мягко кружась, падали крупные снежинки, они таяли на лице и приятно охлаждали её горящие от радостного нетерпения щеки.
Только Сеньки в Ветке не было. Его отдали в Суворовское. Алеся, придумав название для своего изобретения – «крылатый сапфир», уже сладко грезила о том, как они с Сенькой полетят под самым небом так высоко, что можно будет потрогать облака, но теперь вот придется ждать лета.
Бабушка плакала и вытирала фартуком слезы, когда через три дня Алесю снова усадили в сено и отправили с конюхом в город. И летом они испытали «крылья».
Две простыни были разрезаны на куски, натянули их, эти куски кое-где светящейся, истертой уже ткани, на дервянный каркас, и после первого летнего ливня, когда земля чуть-чуть пообсохла, забрались на старый сарай в заброшенной усадьбе и стали готовиться к полету.
Алеся сжала в ладонях два камешка – плоский и круглый. Плоский – лететь первым.
Сенька долго, бесконечно долго гадал, какую руку выбрать. Вышло – круглый.
– Не грусти, Сенечка, – весело сказала Алеся, в следующий раз тебе повезет больше. Я только немного полетаю, а потом ты. Я недалеко – только во-о-он до той лужайки и назад.
– Ага, недалеко! – недоволььно бурчал Сенька. – Тебе только дай волю, так разлетаешься, ищи-свищи потом. Лучше б я первый, а? Лесь, а, Лесь, я тебе все свои стеклышки для колейдоскопа отдам. Ну, как?
– Нет уж, Сенечка. – отвечала Алеся, приспосабливая крылья к своей спине. – Жребий есть жребий. Так что никаких. Лучше помог бы, что ли. Ну, давай же!
– Ладно, лети первая. Всегда ты так…
Алеся втиснула руки в ременные петли, Сенька помог ей выравнять каркас и скомандовал: «На старт! Внимание! Маршшш!»
Алеся присела, чтобы посильнее оттолкнуться и смело шагнула вперед, в прозрачный, пахнущий клевером воздух.
Треск рвущейся ткани она услышала не сразу – первым очнулся Сенька.
– Держись! Держись, Леська! Я поймаю тебя! Держись! Маши крыльями, маши сильнее! Только не падай!
Крыльями махать нельзя, они крепились жестко, но он так хотел, очень хотел, чтобы Алеся летела по-настоящему, как летают птицы, что она не упала вниз, сразу, а ещё какое-то время планировала над густо заросшими крапивой задворками. И когда каркас с треском переломился, и крылья обвисли клочьями, она всё летела и летела над землей, а когда, наконец, рухнула в крапиву, вокруг установилась такая тишина, что Сенька даже зажал уши, чтобы не оглохнуть от её звона…
Алеся лежала в крапиве, и ей казалось, что печенки-селезенки напрочь отбиты, а душа уже летает на воле, где-то отдельно от всего её тела.
– Ты не плачь только, Леська, мы с тобой волшебный фонарь сделаем и ещё телескоп. Вот только очки где-нибудь стыбзим, и сделаем настоящую подзорную трубу. На луну смотреть будем.
Назавтра вечером, когда стемнело, он пришел под навес, где на кушетке лежала Алеся, и подал ей склееную из картона тубу, в которую была вставлена другая – диаметром поменьше.
– Ну, вот, смотри, – сказал он. – Смотри первая, луна вон какая. Ну что видно, а?
– Фокус никак не налажу.
– А так лучше?
– Так хорошо.
– А кратеры видишь?
– Вижу.
– А вулканы видишь?
– Ага.
– Ну и как?
– Классно.
– То-то же.
Алеся перевела тубу на фонарь, светивший у самого дома.
– Сенька, а линзы с брачком.
– С каким брачком? Вечно тебе всё не нравится.
– А с таким. Ты сам посмотри, на линзах царапины и какие-то точки. Да не на луну смотри, а на фонарь. Видишь? То же самое, та же картинка. Вот такой вот лунный ландшафт на уличном фонаре.
Потом они, при свете карманного фонарика, долго разглядывали Алесин альбом, где были собраны чертежи «крылатых сапфиров», конденсоров, телескопов системы Максутова и ещё бог знает что.
В школе друзей у неё было немного. Ребята ей нравились, некоторые даже очень, и у них было тайное общество с секретной пугловицей под воротничком справа – по ней они и отличали друг друга от остальных, непосвященных, но всё же интереснее всего было одной «ходить по свету». А для этого совсем не нужна компания, и не обязательно куда-то убредать, рискуя попасть в историю и заработать на пряники, можно было просто где-нибудь тихо сидеть и думать о своём, ничего не видя и не слыша вокруг.
Учиться в школе было легко, но совсем не интересно. А иногда даже обидно. По поведению ей часто делали замечания. И часто – совсем не справедливо. И ладно бы – просто замечания. Так ещё и под часы ставят на неделю. Все дети сидят за партами, а она – стоит под часами все уроки. И за что? За какую-то ерунду! То сосед забрался под парту и щипнул её за ногу. Она закричала от неожиданности – неделя под часами…
То её пара по играм на физкультуре – девочка с толстыми короткими косичками, торчащими над ушами, как рожки и молодого бычка, взялась гоняться за ней и щекотать за бока. Спрятаться от неё некуда, вот Алеся и забежала в учительскую. Встала там за дверь и ждет. Пока звонок не прозвенит. Но тут вошла их учительница. Стала перед зеркалом прическу поправлять и уведела её отражение. Потом на уроке обидно высмеяла – мол, Алеся в кошик с булочками прятаться залезла! За это – вторая неделя под часами.
Потом мышонок вылез из кармана фартука и прыгнул к учительнице на стол…
А ещё вопросы! Почему правильно писать «заец» и «пианер», если она точно знает, что в книжках написано – «заяц» и «пионер»? И почему всех женщин надо называть сударынями?
Учительница вызвала мать в школу, и Броня дома, долго выговаривая Алесе за дурное поведение, пригрозила самым лютым – отдать в няньки.
Нянек держали многие даже на их улице. Это были простые девушки из деревни, платили им двести рублей в месяц и отпускали по воскресеньям на танцы в клуб железнодорожников. Они не читали книг, в школе проучились семь классов, в деревню возвращаться не хотели и страстно желали только одного – поскорее выйти замуж за городского.
Алеся любила наблюдать, как отец её работал в огороде. Он вечно что-либо придумывал. То грушу на антоновку привьет, то помидор на картошку…
Он и дочери выделил для опытов небольшую грядку. Она посадила на своём подопытном хозяйстве три растения – куст клубники, картофелину и помидор. На радость Алесе, победила клубника.
День был хмурый и какой-то невнятный. А тут ещё родители никак домой не идут…
Когда же пришла домой Броня, и вовсе началось нечто странное. Закрывшись в комнате, родители громким шепотом что-то секретное обсуждали.
Алесе пришлось сидеть на кухне в одиночестве и есть из кастрюли холодную манную кашу, оставшуюся от завтрака и уже порядком подсохшую.
Прошел час, но родители всё ещё разговаривали. Алесе очень захотелось узнать – о чем они там секретничают так долго. И она на цыпочках подошла к двери. Сначала ничего толком нельзя было разобрать, но родители вдруг перешли на крик и стали говорить такое, что Алесе захотелось залезть под кушетку от страха и сидеть там до тех пор, пока взрослые во всем, наконе, разберутся. Оказывается, кто-то на собрании бросился срывать портрет самого вождя и стал топтать его ногами, а староста группы схватил ведро с мусором и побежал во двор – к памятнику. Когда же ведро оказалось на вытянутой руке вождя, люди стали шуметь. Кто-то плакал, а кто-то громко смеялся и хлопал в ладоши…
На крыльце затопали, и родители в раз замолчали. Алеся едва успела отскочить от двери. В дверном проеме показалась внушительная фигура соседки-помпушки.
– Вы что, опупели, дддарагие вы мои! – то ли притворно, то ли по-настоящему испугалась она. – А что не сняли этого…?
– А что? – спросила Броня, закрывая спиной этажерку, над которой висело небольшое фото Сталина.
Соседка пожала плечами, ещё раз скользнула глазами по стенам комнаты и вышла, оставив за собой шлейф «вредного духа», который она почему-то назывыала «духами».
Потом и ещё заходили знакомые, и все спрашивали про портрет над этажеркой.
И Броня сняла его.
Портрет Сталина и ещё несколько книг с этажерки она убрала в ящик и поставила его в сарай, за дрова. Там, у стенки, за поленицей, скрывалась небольшая ниша – она и стала хранилищем запретного отныне изображения ещё вчера любимого народом вождя, а ныне – разоблаченного и низвергнутого диктатора.
Алесей в дровяном сарайчике велось целое хозяйство – после неудачи с устроением кошачьго приюта она решила завести кроликов. Ушастые зверьки ели много морковки, смотрели испуганно красивыми блестящими глазами и мелко дрожали, когда она их гладила по круглым, горбатым спинкам.
Гоняясь за выскочившим из клетки кроликом, Алеся развалила поленицу и увидела спрятанный за ней небольшой ящичек. Кролик получил амнистию, а она уселась на дрова и принялась листать книжки и брошюры. Она знала, о каком человеке говорили её родители, запершись в комнате и едва не поссорившись из-за чьего-то странного по – ведения. И о каком памятнике шла речь, она тоже знала – не раз, поджидая свою маму у входа в институт, она разглядывала бронзовое изваяние человека в длиннополой шинели и строгим усатым лицом. И помнила, как все люди в Ветке горько плакали, когда он вдруг умер. И как все боялись, что вот опять война начнется…
Теперь надо было как-то разобраться в том, почему вся «грамада» то плачет от горя, то злится на вождя и злобно смеется, вывешивая мусорные ведра на его протянутую к народу руку. И всё потому только, что кто-то «потановление выпустил»…
А что бы сказала бабушка про всё это? Наверное, про «чугунок с бульбай» на плечах вместо головы или ещё что-нибудь такое же обидное. Однако бабушки рядом не было, а спрашивать у родителей про такое она не решалась.
И Алеся, листок за листком, стала внимательно просматривать спрятанные в тайнике секреты. Но вот ей попалась фотография размером в пол-страницы, только на ней не было снято чьё-либо лицо или улица города – это была какая-то справка.
Алеся, закрыв дверь на крючок, села на чурбан для рубки дров и стала читать. В углу слева, в графе «род преступности» большими письменными буквами было написано С.Д.
Дальше шла графа «ложное имя», в ней от руки было вписано – Петр Алексеев Чистяков. В графе «прозвище, кличка» – Коба. Первая длинная строка называлась «имя и отч., если иноверец – то все имена. А если еврей, то каким именем крещен в христианстве?» Здесь было написано – Джугашвили Иосиф виссарионович. «Место рождения» – Тифлисской губернии, Лиловской вол. В графе «отец и мать», «живы ли они?» не значилось ничего.
«Женат, холост, разведен, любовные связи?» – холост. «Вероисповедание» – православное.
«Где получил образование?» – в Тифлисе, в духовной семинарии.
Привлечен 22 апреля 912 года по делу проверки паспортов.
Ранее привлекался в 908 году по делу партии СД, в 911 по делу проверки паспортов.
Плечи, шея, ступни ног, осанка, походка, особенности мимики, гримасы и манера держаться не были описаны вовсе.
Природный язык – грузинский, голос – баритон. В особых приметах значились сплошные оспинные знаки.
Карточка была составлена 22 апреля 1912 года.
Николай запил. Осенью Броня заболела воспалением легких и попала в больницу. Допившись до чертиков, он не узнал Алесю, схватил её, и с криками – «Шнель! Шнель!» бросил в подпол и стал изображать пулеметную очередь, издавая такие дикие звуки, что Алеся теперь уже боялась одного – как бы её отец не лишился голоса вовсе…
Когда Николай, поскользнувшись, недловко завалился на бок, она выскочила из подпола, сорвала крючок с двери, вывалилась в коридорчик, споткнувшись о половик у входа, закричала…
Однако никто не пришел. Она прислушалась – отца не было слышно. Тихонько поползла она по холодным доскам пола, выбралась на крыльцо и уже оттуда понеслась опрометью по двору.
– Откройте, откройте! – кричала она у соседской двери, но ей никто не ответил. – Папе плохо! Помогите ему! Вы слышите? Да откройте же, это я. Алеся!
– Ну, хватит колотить, дверь сломаешь, – раздался наконец голос Федора. – Что там у вас опять?
– Папе плохо, помогите…
– Будет плохо, сли человек совесть продал сатане, – раздался из глубины комнаты голос Помпушки. – Гони её, слышишь?
– Слышу, слышу… – ответил Федор и, задвинув засов, ещё долго шлепал войлочными туфлями в коридорчике, тяжело вздыхая и громко, со свистом сморкаясь.
Из открытой двери комнаты доносились звуки телевизора, и это испугало Алесю ещё больше – по ночам телевизор не работал, и это знали все. Неужели война?
До утра дрожала она в сарайчике, лежа на охапке сухой травы в обнимку с двумя длинноухими кроликами – черным и белым, гладя их по чутким спинам и приговаривая: «Что с нами будет? Что с нами будет, а?»
Если бы только здесь была бабушка! С ней никакая беда не страшна.
Утром, кое-как одевшись в разное, что нашлось в сарайчике (оставляли передать в деревню), она пошла в школу и получила свою первую в жизни двойку, потому что не слышала вопроса учительницы и вообще ничего не слышала, а всё это время. Пока шла в школу, пока сидела на уроках, а в классе стояла гнетущая тишина – кого спросят? – думала только об одном: как это – продать совесть?
Это так мучительно больно, и человек так сильно страдает, что даже родную дочь готов убить, чтобы другая, ещё более сильная боль, заглушила эту нестерпимость? И что все люди, даже такие никчемные, как Помпушка, презирают отца её и не хотят ему помочь?
Мысли эти, так и не разрешившись каким-либо спасительным объяснением, гвоздем сидели в её сознании, причиняя боль, не менее острую, чем та, которую испытывал её отец.
Однако, то ли потому, что множество других вопросов приходило в голову сто раз на дню, то ли потому, что дети вообще не могут долго страдать, и, если не находят утешения вовне, придумывают себе иной мир, где нет этого, большого непереносимого страдания, и поселяются там, в своем придуманном уютном мире, надолго, пока не вырастут из противорчия между своими представлениями о мире и возможностью этот неправильный мир приспособить к своим представлениям о нем.
Иногда она так глубоко задумывалась и уходила в себя, что даже не слышала, как её окликали. Тогда о ней говорили: «Какая невоспитанная особа!» или «Ну да, конечно…»
И это было обиднее всего.
Прошел ещё один месяц после той ночи, и Николая исключили из партии, а потом и вовсе уволили с работы. Броня в очередной раз затеяла разводиться. На этот раз – всерьез.
Когда имущество распаковали по ящикам, и Николай, днями пропадавший у своей новой знакомой – продавщицы из винного отдела, отправил свой небольшой багаж на вокзал, Алеся заглянула в сарайчик, где уже не было кроликов – их отвез на лошади в Ветку конюх Федор.
Ящик по-прежнему стоял за поленицей.
Из Польши приехал Петр, сын Акимки, встретились с Броней – старая любовь не ржавеет…
«С Народной властью я в ладах», – говорил он, сидя на диванчике, с которого уже сняли чехол. А Броня, ласково улыбаясь, говорила ему, как хорошо было бы поехать вместе в новый город, который только-только начали стоить на Березине. На новом месте и жить по-новому легче.
Алесу автобусом отправили в Ветку, к бабушке. Из вещей у неё были с собой только портфель и кукла, которая вместо «мама» говорила «вова»…
Шел уже конец первой четверти, а она всё слонялась без дела. В школу её не определили, никаких указаний не оставили на этот счет, вот она и решила, что сразу после праздников сама пойдет к директору и всё объяснит. Если можно, пока у вас буду учиться. Да, можно, – сказала директор школы, и её записали временно в шестой «А» класс. Уже на следующий день она, сидя за последней партой, разучивала вместе с классом стихи на немецком, чужом для неё – у них в Гомеле учили английский, – языке: «Кляйне вайсе фриден стаубе, – громче всех выкрикивала она, – ком рехт бальб цурюк!»
После Нового Года Броня отдала её в Гомельскую школу-интернат – жизнь в новом городе на Березине пока ещё не устроилась…
Лежа в казенной постели и глядя в потолок далеко заполночь воспаленными от бессонья глазами, Алеся слушала привычные уже сигналы спутника по радио, доносившиеся из комнатки дежурной в конце коридора. Она с грустью думала о том, какой круговертью вдруг пошла её детская и ещё вчера такая беззаботная жизнь, и почему мама всё никак не может забрать её домой отсюда, из этого ужасного места, где клопы такие злобные и не дают уснуть, а все, даже девочки, дерутся друг с другом и обзываются всякими словами, и увидит ли она своего отца хоть когда-нибудь? Промаявшись без сна две ночи и едва держась на ногах днем, она объявила своим соседкам по комнате:
– Пока не вытравите всех клопов, никому списывать не дам, ясно?
– А как их вытравить? Они тут всюду.
– А вот так, – сказала Алеся и принялась отодвигать кровати от стен.
Множественные кровопийцы жили во всех укромных местах – в ножках кроватей и под потолком, в углу, у теплой трубы. Их жгли бумажными фитилями, и вскоре все стены покрылись толстым слоем копоти. Кое-где облупилась краска. Однако к полуночи сафари было закончено полным успехом.
В эту ночь Алеся впервые спала крепко и без снов, без пугающих, но таких жутко-сладких мыслей о беспредельном и вечном, а утром, по горну, едва смогла разлепить всё ещё сонные глаза.
В первый же выходной она отправилась в Ветку утренней моторкой. Можно было бы уехать ещё в субботу вечером, но её очень хотелось заглянуть на Кладбищенскую, в свой бывший дом.
С тут-тукающим сердцем в самом горле стояла она у знакомой калитки и долго не решалась войти. В их квартире теперь уже жили другие люди, Алеся тихонько отворила калитку и вошла во двор. Небольшое окошко у крыльца выходило на кухню, и если дверь в комнату будет открыта, то можно увидеть хоть что-нибудь – стоит ли их круглый стол посердине комнаты, и лежат ли на этажерке её книжки?…
Привстав на цыпочки, она осторожно заглянула в раздвинутые вышитые занавески. В квартире стояла чужая мебель, а у стола хлопотала незнакомая женщина, этажерка стояла у окна, но книг на ней не было видно.
Это обстятельство придало Алесе бодрости – было бы хуже, если бы их вещами распоряжались чужие люди. Набравшись смелости, она постучала, и, когда ей открыли, кратко объяснила, кто она такая и что ей надо. А надо было зайти в сарайчик и кое-что там из своих старых игрушек забрать. Ей разрешили, и она бегом помчалась к сарайчику. Новый хозяин пошел за ней и с любопытством остановился у двери – что же такое она там будет брать, ведь кроме поленицы дров, там ничего дельного не было.
Алеся замялась, не зная, как сказать ему, чтобы ушел.
– Ты что, стесняешься? – спросил новый хозяин. – Да бери ты всё, что твоё – нам то зачем этот хлам? Детей-то нет. Да и дрова ваши нам не надобны – углем топимся.
И, отойдя на пару шагов, отвернулся и закурил, глубоко затягиваясь и сплевывая себе под ноги.
Алеся, притворив дверь, осторожно полезла за поленицу, вытащила ящик, вынула оттуда книги и портрет, завернула всё это в половичок и, прихватив резиновый мяч и плюшевую собачку, выбралась из сарая, крепко прижимая к груди свою ношу.
Когда уже была за калиткой, слышала, как Помпушка крикнула новому соседу: «Этого… дочка!»
К обеду воскресного дня она была в доме Марии.
Бабушка только что передолела простудой, опять болели ноги к непогоде, дома же работы накопилось немало, если бы не Ганна, трудно бы Марии пришлось. Алеся хотела вымыть полы, но Мария сказала, что работать можно только вечером, пока же – праздник. Хотела ещё и припечек поблить. Но Мария сказала – это уже к светлому празднику, сейчас не надо.
Иван пришел поздно – теперь он часто обедал в столовой. Ужинали все вместе, а не как раньше – сначала Иван. Потом – Алеся с Марией. От печки шел приятный дух простоявшей в ней целый день еды – борща и тушеной картошки с мясом. Когда поели, и Мария прибрала со стола и пошла в спальню, Алеся тихонько сказала:
– Дедушка, ты не будешь сердиться? Я очень перед тобой виновата.
– Что ещё? – рассеянно спросил Иван, тоже собравшийся на покой, не подавая, однако, признаков гнева или раздражения.
– Я без спроса брала твои книги. Ну, летом ещё…
– И что?
– Ну, ты же не разрешаешь трогать твои книги?
– А зачем тебе мои книги?
– Ну, чтоб читать.
– У тебя свои есть.
– Я их уже прочла.
– Что же ты прочла в моих книгах, каких авторов читала? – спрашивал с нарастающим интересом Иван.
– Ленина, тоненькую такую брошюрку, она ещё подсолнечным маслом испачкана, на белоросском языке. Называется «Что такое „сябры народа“ и как они воюют». И ещё прочла один том Маркса.
– А почему же не спросила?
– А если бы ты не разрешил, мн бы пришлось эти книги украсть.
– А разве можно красть?
– Книги – можно. В Древней Греции это не считалось преступлением.
– А вам что, уроки такие задают?
– Неа, мы сейчас историю средних веков проходим.
– Так что там такое нашла интересное?
– Всё интересно. Только не всё понятно. Я там карандашом вопросы поставила. Вот Маркс пишет, что каждое слаборазвитое государство, стремясь подняться на более высокую ступень, проходит через диктатуру, и граждане в такие времена сильно утесняются. Да?
– Возможно.
– А я вот думаю, что ж так плохо всё вышло у нас после революции!
– Эге, девка. Ты что-то заболталась. Не тебе судить про это, понимаешь? Ты ещё ничего в этой жизни не сделала, чтоб о таких вопросах разглагольствовать. Люди за это хорошо и плохо своими жизнями платили, а тут всякий сопляк будет свои оценки выставлять!
Иван встал и, скрестив руки на животе, грозно посмотрел на Алесю. Однако она не оробела и продолжила разговор.
– Дедушка, ты меня неправильно понял. Я никого не собираюсь осуждать или судить. Но ты знаешь, что я подумала, когда прочла всё это и ещё другие книги и газеты? Почему политика не может быть справедливой? Доброй для всех? Чтоб никого не обижать. Ну, хоть в какой-нибудь стране было так, чтоб никого не обижали? Хоть в самые древние времена?
– Нет, не было. Потому что всем сразу не может быть хорошо. Так устроена жизнь.
– Но коммунисты хотели же сделать жизнь хорошей для всех?
– Для всех. Кроме паразитов.
– Годе вам балбатать! – кркнула из спальни Мария. – Иди, деука, спи!
– Иду, бабушка, иду, я счас, – ответила Алеся и прикрыла поплотнее дверь.
– Да, хотели построить счастливую жизнь для всех трудящихся.
– Но не вышло же?
Иван молчал, бровь его поднялась, а губы искривились в горькой усмешке. Потом глухо сказал:
– Пока не вышло. Но когда-нибудь выйдет.
– Ты знаешь, дедушка, я вот что подумала. Но если будет глупо, ты не смейся, ладно?
– Валяй. Философствуй.
– Вот пусть в каком-то детсадике решили соревнования устроить – кто быстрее добежит до забора. И один папаша, который очень хотел, чтобюы победил его сын, взял его на руки и побежал вместе с ним. И прибежал бы первым, но дистанция оказалась очень длинной – забор всё отодвигался и отодвигался. А малыш рос и рос. А отец всё старел и старел… И когда отц совсем обессилел, сын решил бежать сам, но ножки его были слишком слабые. Потому что не развивались, пока он сидел на руках у отца. И его стали обгонять другие малыши, которые уже стали взрослыми и сильными, потому что бежали всю дистанцию сами.
– И что это за притча такая? – рассмеялся Иван.
– Этот малыш – мы все. Наша страна. Пока отец несет нас на своих руках, мы сильны, а когда он уже не справляется с этой ношей, мы оказываемся безо всякой защиты. Мы должны сами научиться крепко стоять на своих ногах. Тогда мы всех догоним и перегоним. Ну, хотя бы Америку. Я так думаю. А ты?
– Ну, девка, уморила ты меня, – рассмеялся Иван. – Да уже второй час! – сказал он, подтягивая гири у часов с кукушкой.
– Дедушка, ну самое последнее у тебя спрошу и всё. Если Сталина одного ругать, то это очень несправедливо получается. В газете написано. Что всё плохое из-за него вышло.
– Из-за него.
– Ну, тогда смотри. Если Сталин плохой, чначит, мог быть какой-то другой – Иосиф-хороший. И всё было бы хорошо. Но ведь это же не так! Нам учитель истории говорил, что сказки про доброго царя придумали сами эксплуататоры. Не бывает добрых царей, я так думаю. Царская работа – это очень плохая работа.
– Сравнила! Царь – сам наибольший эксплуататор. Глава же социалистического государства – не царь, а вождь.
– Ну, дедушка же! Вожди были у индейцев! Мне до старсти жалко маленьких царевен и цесаревича. Так жалко, как если бы это мои родные сестры были и просто очень близкие люди… Они же не виноваты, что родились в царской семье! Но когда они вырастут и станут коронованными особами, они тут же начнут угнетать народ. У них должность такая. У царей. И они в этом не виноваты. Люди так устроены, что хотят заниматься каждый только своим делом. А как их заставить делать то, что надо для всей страны? Только силой. Или обманом. А те, кто ругает Сталина, думают, наверное, что бывают добрые цари и государи.
– Сталина не ругают, а осуждают культ личности. За преступления, совершенные под его руководством. И никто не отрицает его заслуг перед Родиной.
– Но не он же один руководил страной, ведь так?
– Так. Не один. И что же?
– У нас в Гомеле сосед был, а у него жена была – Помпушка. Очень вредная. Они жили лучше всех, и всё у них было, а когда Сталин умер, и памятники стали ломать и портреты выбрасывать, больше всех они его ругали. Что он им лично плохого сделал? Мешал стать ещё бо – гаче? Я ждала в биллиардной комнате своего папу, а у них в аэропорту шло собрание. И я всё слышала. Как Федор требовал, чтобы моего папу из партии исключили. Потому что он не стал голосовать вместе со всеми, когда принимали какое-то воззвание против культа личности. Он сказал, что не может менять свои убеждения даже по указанию ЦК. И его исключили из партии. А Федора не исключили, хоть он вообще никаких убеждений не имеет.
– Отца твоего исключили из партии за пьянку, – строго сказал Иван.
– Нет, это не так. Он стал пить после того, как начались твориться всякие несправедливости вокруг. Ему было противно от всего этого. Вот он и пил. Ему даже кошмары мерещились, он, знаешь, как со сна кричал?
Иван задумался, помолчал и потом уже другим голосом сказал:
– Больно много ты стала знать, рано тебе этими вопросами голову забивать, – рассердился Иван.
– А мне надо это обязательно знать, упрямо сказала Алеся. – Потому что я не понимаю, как это может быть – то ничего не видеть, то вдруг прозреть и всё сразу увидеть. А мне уже скоро в комсомол вступать. Я должна во всём разобраться.
– Вот что лучше почитай, раз уж про такие вопросы задумываться стала. Твоя ровесница будет. Ты родилась, и он для тебя её написал.
Иван ушел в комнаты, вскоре вернулся, держа в руке маленькую брошюрку – «О задачах комсомола». Сверху красными буквами было написано – И.В. Сталин.
– Спасибо, я обязательно буду читать. Но ещё один вопрос – последний-препоследний. А почему не нашелся хотя бы один человек, который тогда, когда ещё Сталин был жив. Вышел бы на площадь и сказал: «Товарищи, вас обманывают! Это не вождь, а душегуб! И не ставьте ему памятники, и не пойте песен про него!
– Такого человека сразу же убили бы.
– А если бы он правду любил больше жизни?
– Если бы да кабы…
– Дедушка, но ведь любиди же люди Сталина! Я помню, как люди целых три дня плакали и кричали: „Батька памёр!“.
– Ну, любили.
– Дедушка, у нас в классе ябед никто не любит. Почему же нормальные люди доносами занимались? Разве их хвалили за это?
– По разным причинам. Дело здесь не в похвале, кто по неведению, кто по шкурному интересу, а большинство – всё делает „как все“.
– Но это же глупо и подло!
– Ладно, спи уже, завтра рано вставать, – сказал Иван и, зевая, ушел к себе.
Однако Алесе в эту ночь совсем расхотелось спать. Она погасила электричство и зажгла керсиновую лампу, поставив ей подальше от края печки.
Чтобы свет не попадал на дверную щель, загородила лампу дедушкиным тулупом. После всех этих приготовлений принялась читать – про привода и рычаги в системе диктатуры пролетариата и про то, что партия есть сборный пункт лучших элементов рабочего класса.
И тут опять ей вспомнился Федор, муж Помпушки. Какой же он лучший? Её отец лучше Федора управлял самолетом, лучше играл в биллиард, вообще всё делал лучше и был очень красивый. Но его исключли из партии. Его, а не Федора, который только и умеет, что воздушные шары в небо запускать. И он первый поднял руку, когда голосовали за исключение. Какой же он, Федор, авангард?
От этой мысли она даже вскочила, едва не опрокинув лампу, и пролила, правда, чуть-чуть, керосин на тулуп. Она вскочила, чтобы разбудить Ивана и тут же потребовать разъяснений по этому вопросу…
Но всё же благоразуме взяло верх – она решила подождать до утра и стала читать дальше – про бюрократов и критику снизу. В их классе уважали тех, кто мог прямо и честно сказать любому о его недостатках. И на такого человека никто не обижался. А бюрократа у них в школе недавно уволили – им оказался завуч. Очень толстый и противный. И тут, читая дальше, Алеся опять вскочила. Да и как же было не вскочить, если Сталин пишет такое! „Монополию партии довели до абсурда, заглушили голос низов, уничтожили внутрипартийную демократию, насадили бюрократизм“?
Но кто же всё это делал, если всем и всеми управлял он, вождь? Значит, не всем и не всеми?
Выходило, что почти сразу после войны Сталин сам призывал к революции масс против партийного и всякого другого бюрократа? И просил освободить его от занимаемой должности? И просил своих товарищей по партии не восхвалять его, даже сам ненавидел образ „товарища Сталина“, образ, которым пользовались бюркраты для своей же пользы?
Но революции не случилось, а когда Сталин умер, подняли революцию против него самого – и как раз те самые бюрократы, которых он призывал свергнуть, чтобы передать власть массам?
Так они ему отомстили за чуть было не утраченные позиции.
Под утро Алесе приснился сон. Будто она живет в лесу среди волков. Ослеп вожак волчьей стаи, и ему дали двух поводырей. Но однажды поводыри оставили слепого вожака, и он сослепу стал загрызать своих же собратьев. А когда понял, что натворил, умер от разрыва сердца.
Когда она проснулась, сон не забылся. И она стала думать, от чего же ослеп старый волк? Потому что он любил смотреть на солнце. Ведь все кричали: „Ты – наше солнце! Ты – ярче солнца!“ И он решил это проверить – он долго, очень долго смотрел на солнце в надежде, что оно померкнет под его взглядом, и… ослеп.
Люди всегда ненавидят тех, кому когда-то льстили.
Когда Мария и Иван проснулись, Алеся уже во всю прыть мчлась к причалу – моторка уходила в пять-сорок. Пока бежала, думала, что если бы она была взрослой тогда, когда Сталин был ещё жив, она бы обязательно написала бы ему письмо: „А помните, уважаемый Иосиф Виссарионович, что вы говорили на восьмом съезде комсомольцам? Так вот, в нашем государстве все наоборот! Не разрешайте мучить людей и не верьте разным подхалимам! С пионерским приветом! Остаюсь ваша, Алеся“.
Ровно в восемь она уже была на построении. Её отсутствия никто не заметил. Дети на выходные разбегались кто куда.
Но на первом же уроке её одолела неудержимая дрема, и она крепко уснула, склонив голову на учебник. Ей приснился кошмар – Помпушка с ненавистью смотрит на неё и запускает свои пухленькие пальчики в её волосы. Она вскакивает и…
…все смеются. Рядом стоит учительница и стучит указкой по парте.
Однажды, это было вскоре после весенних каникул, во время урока математики в класс вошел директор и сказал, чтобы все вышли и построились на втором этаже в коридоре.
Заговорило радио, и гул смолк.
„…с человеком на борту… Юрий Гагарин…“
Алесина голова шла кругом, кто-то больно толкнул её, кого-то толкнула она. Все старались протиснуться ближе к динамику, как будто эта близость к источнику фантастической информации могла дать какие-то новые, пока никому ещё не известные сведения.
Когда она приехала в Ветку, первое, что сказала Сеньке при встрече, было:
– И мы бы смогли летать, если бы лучше работали над проектом.
– Да уж. Всегда я виноват, – обреченно ответил Сенька, готовность которого „брать на себя“ уже давно приучила Алесю к мысли положительной, но всё же мало для неё приятной – если она в чем-то просчиталась, отвечать перед их маленьким, но очень дружным коллективом будет всё равно Сенька. Значит, она должна всё продумывать на двести процентов, чтобы не давать ни малейшего повода своему верному Санчо одерживать бесконечные моральные победы без каких-либо усилий с его стороны. Ведь всегда на душе становится светло и приятно, когда есть возможность помочь кому-либо не обременять совесть грузом нечаянной вины!
И они снова сидели до темноты, склонившись над Алесиным альбомом, на обложке которого по диагонали теперь была нарисована ракета „Восток“, а по всему её корпусу шла размашистая надпись красным карандашом: „Алеся плюс Юрий“.
– Подумаешь, я бы тоже мог в космос полететь, если бы меня взяли, – сказал он с легким оттенком досады на невозможное.
– Сень, а Сень, пока мы школу закончим, а потом институт, люди уже в космосе будут целые заводы строить, давай себе выберем другую специальность, а?
– Какую ещё другую? Мне космонавтом хочется стать.
– Нет, Сенечка. Туда мы уже сильно опоздали. Мы теперь с тобой пойдем учиться в мореходку. Будем штурманами дальнего плавания.
– Чего-чего? Не понял. Куда пойдем?
– В мореходку, говорю, пойдем. Будем Кубу спасать.
– Скажешь тоже. Кто нас туда пустит?
– А мы сначала на Дальний Восток рванем, вот я уже письмо написала начальнику мореходного училища. А оттуда рукой подать до Кубы.
– А мы там нужны?
– Ещё как. Я кровь видела.
– Чего? Где кровь?
– На карте. Там, где Куба нарисована. Кровь как настоящая! Я чуть сознание не потеряла от ужаса. Вот, смотри!
И она развернула сложенный вчетверо лист атласа.
– На карте? Так это просто так раскрашено.
– Нет, Сенечка, не просто раскрашено. Только Советский Союз красным раскрашивают.
– Да ничего тут нету.
– Ты смотри получше. Смотри! Видишь?
– Неа.
– Сенечка, миленький, да вот же, вот…
– Да нет никакой крови! – разозлился Сенька.
– Я тоже не сразу увидела. А когда долго-долго смотришь, то видно, что кровь есть. Да вот же! Красная! И видно, что течет!
– Это у тебя от переутомления. Или ты грибов объелась. Мой дед как-то грибов объелся…
– Ой, Сенька, кто-то сейчас получит по балде.
– Молчу.
– Говори – видишь?
– Ещё как! Такое красное, что аж всё синее. Только лучше б ты очки носила, так не мерещилась бы всякая билиберда.
– Вот и в классе все только смеялись, когда я это сказала. И учитель даже слезы вытирал от смеха.
Она встала и, ссутулившись совсем по-старушечьи, пошла в дом.
– Леська! Стой! Я пошутил. Я тут одну вещь выучил. Для тебя. Слушай.
Алеся остановилась и нехотя повернулась к нему.
Он начал читать, сбивчиво и комкая фразы, очень стараясь произносить слова выразительно, с чувством:
„Когда тебя стунут осаждать ничтожества, считая равными себе, вступая с тобой в пошлую борьбу, когда глупость захочет ошеломить тебя, а отвратительными насмешками жалкого обывателя – уязвить своим ядовитым жалом, тогда на мощных крыльях любви к людям поднимись над ничтожеством мелкого, и ты услышишь все волшебные звуки, застывшие в груди, ты услышишь голос страдающего мира, и страдания эти оживут в твоей крови и вспыхнут, как искрометная саламандра…“
Закончив декламацию, он робко взглянул на неё и замолчал. Молчал долго, очень долго, пока она не сказала, сама сильно смущаясь:
– Сенечка, ты чего? И впрямь грибов объелся?
– Я серьезно, Леська. Ты меня ещё не знаешь. Я такой.
– Одуреть.
Сенька прокашлялся и сделал шаг по направлению к ней.
– Я всегда с тобой буду, если ты этого захочешь. И никто над тобой смеяться не посмеет.
Он поднял кулак и погрозил невидимому врагу. Алеся весело захохотала.
– Сень, мы с тобой прямо заговорщики какие-то, правда. Или сумасшедшие. Ладно, поздно уже, пора по домам.
– Ну вот, ты развеселилась. Я так и хотел.
– Иди ты уже…
– И вот ещё что я для тебя выучил: „Только ум может питать другой ум. В одиночестве долго творить невозможно“.
– А он у тебя есть? Сократ местного значения.
И Алеся побумкала по голове костяшками пальцев.
– Ну, ты опять обзываешься?
– А то.
– Тогда я пошел. Можешь дружить со своей собственной тенью. Она всегда будет делать только то, что госпоже угодно.
– Ой. Ты и впрямь какой-то чумной сегодня. Не будем ссориться. Ты всё равно хороший, а уж какой умный! Ну, а я – полная дура, раз этого не вижу.
3
Алеся училась в восьмом классе, когда в их школе появился новый ученик – переросток с очень странной фамилией.
– Ну, привет, так это ты отличница? – сказал он, наклонив голову набок и глядя на Алесю прозрачными светлозелеными глазами. – Мэникарпов. Будем дружить.
– Что это за фамилия такая?
– Вааще-то я Поликарпов, но так эффэктней. Как тебе?
– Обалдеть как.
– Да ты неласковая какая-то, – сказал Мэникарпов, внимательно разглядывая её, как если бы она была неодушевленным предметом. Ничего, глаза красивые, – наконец, констатировал он, ни к кому, собственно, не обращаясь, – и талия как у Гурченко… – Я, надо полагать, изберусь секретарем комсомольской организации, разговор с завучем уже был. Если хочешь, можешь пойти на идеологический сектор, будешь моим первым замом. После школы устроюсь на завод освобожденным секретарем парткома. Я в десятом в партию вступать буду.
Он взял её за локоть и прижал к себе.
– Послушай, ты совсем притыренный? Или только прикидываешься, а? – крикнула Алеся, сильно толкнув его в грудь, и быстро побежала по лестнице.
– Смотри, носик не расшиби! – крикнул он, свесившись в лестничный пролет.
Мэникарпов носил настоящий мужской галстук и маленькие усики. Он был на три года старше своих одноклассников, вежливо и почтительно улыбался всем учителям и по ночам в подвале устраивал несанкционированные разборки с нарушителями режима школы. Его не любили и боялись. Алеся его ненавидела – всё в нем ей внушало ужас и отвращение. Его вечно потное лицо, густо покрытое прыщами, эта странная манера раскачиваться во время ходьбы – будто он всё время кому-то кланялся…
Однако после того первого знакомства он к ней больше не цеплялся, но когда по субботам в спортзале начинались танцы, Мэникарпов, стоя в проходе, пристально наблюдал, кто к ней подходит и с кем она разговаривает. Как-то, после очередного субботнего „огонька“, уже после отбоя, лежа в постели, она вдруг вспомнила, что оставила в классе библиотечного Дюма, вскочила, наскоро оделась, незаметно, пока дежурная воспитательница разговаривала по телефону, выскользнула из спальни и побежала в школьный корпус.
В окнах их класса горел свет.
Она взбежала по лестнице, на цыпочках подошла к двери – там, в классе, были люди и о чем-то разговаривали. Она прислушалась. Громкий голос Мэникарпова настойчиво требовал от кого-то какой-то клятвы. Она осторожно приоткрыла дверь и увидела странную картину – на коленях посреди класса стоял мальчик, её сосед по парте, и повторял за Мэникарповым слова: „Клянусь… никогда больше… не смотреть на Алесю… Если я… нарушу эту клятву…“
Алеся ногой толкнула дверь и громко, срывающимся голосом крикнула:
– Болван ты, что ли? А ну, вставай сейчас же!
Она вбежала в класс, наклонилась к стоявшему на коленях мальчику и сильно дернула за лацкан пиджака. Он, отвернувшись от неё и глядя только на своего палача, стал медленно подниматься на ноги.
– Шла бы ты отсюда, – сказал он Алесе грубо, но как-то обреченно и виновато, – ты ж видишь…
– Что? Что я вижу? Что ты – спятил? А ну, быстро плюнь ему в морду! Плюнь, тебе говорю, дурак идиотский, плюнь! Как же я ненавижу дураков! Ты перед кем на коленях стоишь? А? – кричала она, тормоша мальчика.
– Леська… Не надо, слышь, не надо, он малахольный, он же драться будет…
– Он? Драться? Нет, он не будет драться, он драться не умеет, зато он умеет унижать, и больше ничего не умеет. Вставай же и беги отсюда, ну! Или я тебя сейчас убью. Вот этой шваброй. Понял? Ну, быстро! И пошел вон, воспиталка тебя искала, сейчас сюда придет, слышь?
– Ладно, не ори. Я пойду? – сказал он, глядя исподлобья на Мэникарпова.
– Иди, мне-то что, – несколько смущенный, однако, стараясь быть безразличным, ответил тот.
– А теперь с тобой поговорим, – злобно прошипела Алеся, поворачиваясь к рассеянно улыбающемуся непонятно по какому поводу Мэникарпову.
– А ты симпатичная. Особенно, когда злишься, – сказал он, прислоняясь к стенке и напуская на себя томность. – Ну, так что, дружить будем или лаяться?
– Если ты не совсем идиот, смени тон и хорошенько подумай, у кого будешь списывать экзаменационную работу. Тебе же нужен хороший аттестат?
– Я не такой рассчетливый, как это кажется, – внезапно тихо сказал он, однако всё ещё улыбаясь. – А что, ты могла бы мальчишку ударить? Ты такая смелая?
– Мальчишку – не знаю, а вот такого …..ка – только так.
И, не давая опомниться, влепила ему звонкую пощечину.
– Ну, это ты… ну, что ж ты… я же… – неловко потирая горящую щеку тыльной стороной ладони, бормотал выбитый из колеи Мэникарпов.
– Хочешь ещё? – воинственно сказала она.
– Да ни боже мой! Просто амазонка какая-то… Ты меня и вправду разозлить хочешь. Слушай, давай серьезно поговорим, как умные люди – делая шаг к ней, сказал он вдруг странно изменившимся голосом. – какая-то ты странная все-таки, правду говорят… Я что-то не пойму – или ты хочешь, чтоб тебя все любили, или и в самом деле хочешь, чтоб не любил никто?
– Как-то не думала на эту тему. Но честно обещаю – обязательно подумаю на досуге. И ты постарайся обдумать то, что я тебе сказала.
– Ладно, ладно. Подумаю и я.
Он произнес это жестко, с плохо скрываемым раздражением.
На следующий день одноклассницы бурно обсуждали сногсшибательную новость – дисциплинированный Мэникарпов не пришел на уроки – два часа стоял под окнами больницы. Там лежала с аппендицитом дочка учительницы математики.
Алеся с облегчением вздохнула, но тут же, с неприятным удивлением для себя вдруг обнаружила, что новость эта её немало огорчила и даже причинила острую сердечную боль.
В тот же вечер в её личном дневнике появилась первая запись интимного содержания:
„Любовь – это страшный наркотик и смертельный яд, если исходит от человека, которого ты не любишь.
Не позволять себя любить не любимому!“.
Когда-то Сенька пребольно наступил ей на ногу, она, с криком: „Сдурел, бульбяник ненормальный?“ – уже приготовилась дать сдачи, как он обезоружил её неожиданным признанием: „Это же все так делают, когда кто кому нравится…“
Нет, она знала, что нравится Сеньке, и Сенька ей тоже нравился, но такой поворот дел вел их устоявшиеся отношения совсем в другую, пока абсолютно невозможную и нежелательную сторону.
Алеся, поджав ногу, как цапля, стояла у калитки и изо всех сил старалась сдержать слезы и смех одновременно. Положение её было глупым и даже нелепым. Но ведь и Сенька попал в переплет!
„Так ты это… того… завтра выйдешь, а?“ – наконец, выдавил он из своего горла слова примирения.
„Ну что за дубина такая пустомозглая!“ – прохныкала она без всяких признаков любовного томления, и Сенька так и не смог понять – плачет она или притворяется.
„А забыла, как научила меня клямку железную зимой лизнуть? Чуть язык не оторвался тогда! Знаешь, как больно было?“ – парировал он, жестоко мстя за „дубину“.
„А я здесь при чем, если у тебя котелок дырявый? – звонко засмеялась развеселившаяся Алеся и проворно поскакала на одной ноге по двору. – Эй ты, заготовка для Буратино, выходи завтра пораньше!“ – крикнула она уже из сеней и быстро захлопнула за собой дверь.
На другой день они снова играли вместе и про вчерашнее даже не вспоминали…
Мэникарпов, став секретарем комитета комсомола, развил бурную общественную деятельность. Теперь каждую субботу для старших классов проводились диспуты. То про первую любовь дискутировали, то обсуждали стиляг – у них одна девочка в десятом по субботам носила прическу „конский хвост“ и красила губы химической помадой, а однажды вылезла из общежития по пожарной лестнице после отбоя и вернулась в интернат только утром.
Обсуждали её поведение весь субботний вечер. А ночью она выпила уксуса, и её на „скорой“ отвезли в больницу.
Девочка, к счастью, осталась жива. Но голос пропал.
В заключение диспута всем предлагалось ответить на прямо поставленный вопрос: „Что делать, если мальчик и девочка давно дружат, и он её вдруг поцеловал?“
Когда очередь отвечать дошла до Алеси, Мэникарпов, стукнув ладонью по журналу, в котором велся протокол диспута, потребовал полной тишины.
– Ну, говори, что думаешь по этому поводу? – спросил он, глядя на Алесю и привычно покачивая головой, будто кому-то кланяясь.
– Ничего не думаю. Если это случится не во время генеральной уборки, то – ничего и думать.
– Не понял. При чем здесь уборка? – развел руками он.
– А притом что кое-кто может и по балде шваброй огрести. В зале засмеялись. Мэникарпов, однако, не смутился.
– Так я не понял – ты за или против.
– Я не за и не против, я вообще в стороне.
– В стороне – от чего? – ехидно улыбаясь, уточнил председатель.
– От всякого там научного маразма, – сказала она и углубилась в чтение книги, лежавшей у неё на коленях.
4
После окончания школы она решила ехать в Москву. Золотая медаль и десятка три всевозможных пособий для поступающих, которые она усиленно штудировала последние два года, – вот и все „за“ в этом, казавшемся окружающим совершенно фантастическим, плане.
– Съезди, посмотри столицу. Бабку свою двоюродную в Сокольниках навести, – сказала Броня, покупая ей плацкартный билет до Москвы. Дам пока двадцать пять рублей, всё равно после первого экзамена вернешься. Конкурс в прошлом году на Физфак МГУ тринадцать человек на место, в „Учительской газете“ писали.
Однако Алеся, на удивление близким, экзамены сдала, даже набрав два лишних балла сверх проходного. Теперь она могла весело вспоминать, как она, по приезде в Москву, в пять утра, когда ещё не ездили автобусы, и не работало метро, решила, увидав прямо перед собой шпиль, дойти до места пешком. Чемодан, полный книг, оттягивал руку, но она, вся переполненная нетерпением, бодро шла к высокому красивому зданию университа. Но никого, кроме одинокого милиционера, она не увидела у входа в здание. Оставив чемодан на тротуаре, она, в сильном волнении, поскакала через три ступеньки прямиком к стражу порядка, чтобы спросить, где ну где же здесь приемная комиссия.
– А вы, собственно, куда направляетесь? – строго спросил милиционер, вежливо козырнув Алесе, однако, решительно заграждая проход.
– Как это – куда? В МГУ.
– А это не МГУ.
– А что же тогда?
– МИД.
– Что-что?
– Министерство иностранных дел.
– Извините, мне пока сюда не надо, – смущенно сказала она и быстро побежала к своему чемодану, у которого уже остановился одинокий пешеход.
– Вам надо на сто одиннадцатом автобусе ехать, как раз до МГУ довезет, – крикнул ей вслед милиционер.
Вышло и ещё одно небольшое, но очень обидное происшествие. Едва заселившись в общежитие, она попала в нештатную ситуацию. В комнату постучала абитуриентка и сквозь слезы сказала:
– Я провалилась на первом экзамене, поступала на химфак. А денег на обратную дорогу нет, меня обокрали. Домой не звонила. Боюсь маму по телефону испугать, да и пока вышлет, неделя пройдет. Одолжи, если можешь, на билет десять рублей, я тебе сразу же, как только приеду, телеграфом и вышлю.
– Ой, да я тебе могу и на самолет денег дать. Сколько стоит билет смолетом? – спросила Алеся, искренне жалея несчастную девушку.
– Двадцать рублей. Ой, спасибо! И сегодня уже дома буду. И сразу же деньги вышлю, у нас почта рядом. Завтра получишь. Ой, спасибо, спасибо тебе! А как же ты сама?
– Не беспокойся, – сказала Алеся. – У меня ещё пять рублей осталось.
– Сразу же вышлю! И не сомневайся – ещё раз заверила девушка, записав имя и фамилию Алеси в блокнот. – Почта здесь же, в Главном здании, знаешь где?
– Знаю. Да не беспокойся ты! И не расстраивайся – на следующий год обязательно поступишь.
Однако деньги не пришли ни через день, ни через неделю, и Алеся с огорчением подумала, что она просто глупа, глупа, как пробка, раз её так легко удалось обмануть.
На оставшиеся пять рублей она три недели жила так: в день – четверть ржаного хлеба, 4 копейки, сто граммов леденцов, 11 копеек, капустный салат в студенческой столовой – бесплатно на подносе, где ложки-вилки, пачка чая на неделю – 38 копеек.
Когда же вывесили списки зачисленных, и она нашла там свою фамилию, позвонила домой и попросила выслать денег на обратный проезд.
Впереди был ещё свободный месяц – август.
Однако дома не спешили поздравлять, всё ещё не веря её успеху. И только когда пришло по почте официальное извещение о зачислении, Броня без особого восторга сказала:
– Ну, учись там, раз так сама захотела. Можно было бы и поближе.
– Поближе нет такой специальности, какую мне надо, – ответила Алеся и принялась собираться.
Для начала надо было куда-то надежно спрятать дневник со всякими секретными записями, в том числе, и личными. Она его спрятала под подушки складного кресла-кровати, на ктором спала, когда бывала у мамы. Везти дневник в Москву она не хотела, но и уничтожить его тоже было жалко. Она понимала – теперь начнется совсем другая жизнь, в чем-то – с чистого листа.
Из Москвы, сразу после зачисления, она написала письмо Сеньке. Расстались они, всё же слегка повздорив. Он хотел поступать в ленинградскую мореходку, а она – в Москву. И вместе никак не получалось. В Москве не было мореходного училища, а в Ленинграде – ученых-космологов.
– Уедешь в Москву – и с приветом, – понуро говорил Сенька, стараясь не смотреть в Алесины глаза.
– И ты в Москву поступай, ну, в Физтех хотя бы, – уговаривала его Алеся.
– Что ж я, горем шлепнутый, столько всего зубрить, как идиот! В Минске тоже университет есть, поступала бы туда. И незачем в Москву переться.
– Никак ты не поймешь, у меня – проблема! Ясно? И только в Москве, на Физфаке есть такой ученый, который поможет мне её разрешить. Он всё про эти вещи знает.
– А раз он всё про эти вещи знает, так тебе-то чего мозги сушить? Ну, их, этих ученых, у них вечно всё не по-русски.
– Ой, господи, ты то откуда знаешь, бульбяник несчастный, что по-русски, а что нет? – незлбно, но с подковыркой спросила Алеся.
– Кацапка – форсила! – парировал Сенька, на всякий случай, отбегая в сторону.
– Ладно, давай мириться, – всегда первая, в таких случаях, предлагала Алеся.
Так они бесконечно ссорились и мирились, но к единому мнению насчет их общего будущего так и не пришли.
Когда они встретились после выпускного, Сенька сказал:
– Не поступлю, так всё.
– Что – всё? – переспросила Алеся, уже предчувствуя недброе.
– Кранты.
– Не умно, – обиделась Алеся.
– И так все смеются, что я твой подкаблучник.
– А ты для кого живешь на свете? Для тех, кто за тебя думает? Тогда ты просто дурак.
– Ну, да, ты умная, а я – вечно дурак, – задиристо, с какими-то незнакомыми, пугающими интонациями сказал Сенька.
– И то. Дурней тебя ещё поискать надо, раз такое несешь, – сердито ответила Алеся. На том и расстались.
На письмо Алеси Сенька не ответил. Дома она узнала, что он провалился на первом же экзамене, но домой не возвратился – остался работать в Ленинграде.
Потом он ещё два года присылал поздравительные открытки к праздникам, да только без обратного адреса. Однако расспрашивать его родственников она не решалась.
Тогда, в восьмом классе, они отправили в дальневосточную мореходку письмо, но ответа так и не дождались. После школьных экзаменов решили вместе бежать во Владивосток – на электричках и пригорордных поездах, и почти без денег. Но их путешествие было недолгим – на станции Уваровичи их сняли с пригородного поезда.
Так их совместной мечте о профессии штурмана дальнего плавания не суждено было сбыться.
До отхода московского поезда оставалось ещё два часа, и она вспомнила, что очень давно не навещала свой гомельский дом. Времени достаточно, и она, сдав чемодан в камеру хранения, пошла пешком по улицам города, который одиннадцать лет назад казался ей таким огромным и даже страшным в своей ужасающей и неприветной непонятности. Теперь же, по сравнению с огромной грохочущей Москвой, он казался вполне симпатичным и милым, привычно знакомым каждым своим переулком и зеленой, уютной улочкой, где всё ещё тут и там ютились частные домики…
Вот и улица Кирова, бывшая Кладбищенская, и вот уже – дом её родителей, теперь навеки бывший.
И тут ею овладело до странности тревожное чувство. Сердце сжалось незнакомой тоской – первой большой потери.
Только сейчас она поняла с удивительной ясностью, что никогда раньше так не любила этот невзрачный, с почерневшими от времени и непогоды деревянными стенами „жактовский“ дом. С таким отчаяньем, с такой щемящей нежностью, что её, эту странную нежность, правильнее было бы назвать ожесточением любви. С таким томлением и жалостью к безвозвратно ушедшему прошлому, как сейчас, в эти минуты, когда вдруг отяжелевшие ноги сами собою замедлили шаг, а затуманенные близкими слезами глаза ничего вокруг не желали видеть, кроме одних только этих милых черных стен…
Она прислушалась. В их квартире было тихо. Превозмогая скованность и робость, она открыла знакомую до последнего глазка на старых штакетинах протяжно скрипнувшую калитку. Остановилась – никто не идет.
– Эй! Кто-нибудь! – прижав руку к сильно бьющемуся сердцу, негромко крикнула она. – Молчание… – Есть тут люди?
– Сейчас! Сейчас! – послышалось, наконец, из глубины сада.
С большой корзиной в руке по дорожке шла женщина, в которой Алеся с трудом узнала Помпушку.
– Вы? – вскрикнула она, невольно отступая назад.
– Я, детка, я, – ответила бывшая соседка, ставя корзину с яблоками на крыльцо. – Старая и некрасивая тётка. Да, это я. Уехали они, – сказала она, указывая на закрытое газетой окошко некогда Алесиной квартиры. – Сейчас здесь никто не живет, видишь, замок висит.
– А где… где же дядя Фёдор? – спросила Алеся, всё ещё не веря своим глазам – женщина говорила голосом Помпушки, и лицо её было тоже Помпушкино, но что-то совсем иное, незнакомое, пугающее было во всём её облике, и девочка, не понимая сама, почему, горько з а п л а к а л а.
– Ну-ну, будет тебе реветь, – сказала Помпушка и взяла Алесю за руку. – Пойдем ко мне, я тебе кое-что дам.
Алеся утерла слёзы и пошла вслед за старой и небрежно одетой женщиной, некогда ею люто ненавидимой.
В доме было чисто и прибрано. Ни одна вещь не лежала, где попало. Однако в квартире пугающе пахло пустотой.
Посреди большого круглого стола, в стеклянной вазе лежали яблоки „пепенка“, а в конфетнице – горкой конфеты „школьные“. Алеся сглотнула слюну и вспомнила, что с утра ещё ничего не ела.
– Вот, возьми, будет тебе память о нашем доме, – сказала Помпушка и протянула Алесе кружевной воротничок. – И я скоро уеду, к дочери, никого здесь не останется. Да и дом, говорят, снесут, панельную пятиэтажку будут строить. Баню, видела, уже начали отстраивать?
Баня напротив школы была разрушена бомбой – прямое попадание. Разбитки, по весне густо зароставшие яркими, дурманно пахнущими медом одуванчиками, стояли по всему Гомелю, и вот теперь только начали их понемногу разбирать и отстраивать на их месте новые дома.
– Видала, мы там раньше в жмурки играли, – сказала Алеся и снова приготовилась плакать. – А где дядя Федор? На работе?
Женщина вздохнула и вытерла рукавом кофты глаза.
– Нет, девочка. Нет больше нашего Федора. Он погиб. „Кукурузник“ загорелся уже на посадочной полосе, а Федор как раз был на поле, у метеобудки, ближе всех к самолету оказался… Первый подбежал, помог летчику выбраться, хотел ещё что-то там сделать, замешкался, его и придавило горящими обломками. Странная смерть…
– Простите, простите меня! – теперь уже в голос заплакала Алеся, дергая Помпушку за рукав кофты и больше не стесняясь своих слез.
– За что, детка? – удивилась женщина.
– Не знаю, за всё простите…
– А мама твоя как, Броня как?
– Спасибо, хорошо. У неё интересная работа. Их школа заняла первое место в области по воспитательной работе, маму тоже наградили – дали значок „отличник просвещения“, – говорила Алеся, не переставая горько, со всхлипами плакать.
– А что-нибудь об отце знаешь?
– Ничего. С техз пор, как он уехал из Гомеля – ничего. Знаю только, что его родители умерли, а где живет он сам, не знаю.
– Надо искать. Отец все-таки.
– Знаю. Как-нибудь я туда съезжу. У меня ведь уже паспорт есть, – говорила Алеся, по-прежнему всхлипывая и не умея сдержать слез.
– Будет тебе, – тоже заплакала женщина. – Это жизнь, то всё хорошо и весело, то вот так вот повернется. И смотришь на всё уже совсем другими глазами… Я скоро уезжаю, в Минск, там, у дочки свой до – мик… А здесь одной очень тяжело. Подружку свою из третьей квартиры, ну ту, с колченогой мамкой, помнишь? Тоже уехали они… А мне в новую квартиру как-то не хочется, да и к саду привыкла.
5
В ообщежитии, в комнате, куда дали ордер Алесе, на двух кроватях уже лежали матрацы – ура! Подселили!
Горя нетерпением, побежала в комендантскую, посмотреть, кто же они, её соседки? В галдящей толпе вчерашних абитуриентов, а ныне – студентов, она разглядела рыжую, как осенний лист клена, девушку в очках, которая расписывалась за пятьсот пятую комнату. Рыжую звали Надеждой, и была она родом из сибирского поселка. Держалась уверенно, будто и не в университетском общежитии теперь находилась, а в родной сибирской Сосновке. Она всем говорила „вы“ и подробно рассказывала о том, как обстоят её дела.
– Вы знаете, – говорила она громко и чопорно, уморительно смешно поднимая ярко подкрашенные, подковкой, широкие брови, – я всё сдала на „отлы“, кроме химии. И всё из-за чего? Просто не успела по справочнику прошвырнуться. Альдегиды подзабыла. И ещё с оксидами казус вышел – не смогла написать формулу оксида кислорода. Ха, ха и ещё раз – ха.
– Ну, это же просто непруха какая-то, – посочувствовала её Алеся. Эта нарочитая манерность никак не вязалась с её захолустным внешним видом – на голове был белый ситцевый платок, завязанный вокруг шеи, как это обычно делают деревенские бабы, яяяярко-черные карандашные брови и крашеные хной волосы, темные сатиновые шаровары шириной с Черное море, домашней вязки кофта чуть не до колен. А речь? Правильная русская речь, но через слово – заковыристый научный термин.
– А знаете, я до всего сама могу додуматься, – продолжала рассказывть о себе сибирячка. – Вот на производственной практике в школе надо было разобрать мотор трактора и заново собрать. Я собрала, и у меня осталось целое ведро деталей, смое смешное, что трактор прекрасно поехал и без них. Ха, ха и ещё раз – ха.
– Действительно, забавно, – рассмеялась и Алеся. Представляя, как по сибирскому тракту чешет на полной скорости трактор без половины деталей под капотом, – но, может быть, трактор ехал под горку?
Надежда указательным пальцем поправила съехавшие очки, подтолкнув их на переносицу и строго посмотрела на Алесю.
– Не смешно, сказала, наконец. Она и легла на кровать, углубившись в чтение какого-то учебника.
Рациональная Надежда жила очень экономно – масло („топливо для мозга“), черный хлеб („пища здорового человека“), кабачковая икра (витамины) и конфеты „парус“ (для души). Зимой она, единственная в Москве, нисколько не комплексуя, носила валенки, и её по этим валенкам узнавал весь университет. Надежда никогда не унывала, приходя после лекций, „питалась“, сидя на стуле у стенного шкафчика, потом ложилась на кровать и до вечера зубрила лекции и ещё учила французский язык (в школе у неё был немецкий). Надежда была высока и стройна – „хундер зипзих“, то есть – рост сто семьдесят, настоящая „рыжекудрая бестия“. Острая на язык, она не тушевалсь ни перед кем, всегда оставляя за собой право последнего суждения по любому вопросу. Надежда считала своим долгом опекать Алесю – это выражалось в том, что она безжалостно выкидывала из комнаты всех представителей мужского пола, которые имели неосторожность туда забредать – попросить учебник по физпрактикуму, одолжить чаю-сахара, просто ли поболтать.
– Ты ещё не знаешь мужчин, что это за сволочи, – безаппеляционно заявляла она, выкидывая очередного претендента за дверь.
Никто не сомневался, что „девушка-трактор“ успешно пропашет полный курс наук и рано, раньше всех, отмеченных печатью таланта, станет профессором. Так оно и вышло – уже на пятом курсе она получала именную стипендию, а в тридцать пять лет её, перспективного доктора наук, пригласили во Францию на стажировку. Там она и осталась, поселив в свою московскую квартиру мамашу с папашей, коим на старости лет сидеть в одиночестве в будке стрелочника, на разъезде, у родной Сосновки уже порядком осточертело.
Замуж она не выходила и нисколько не жалела об этом.
Другая соседка, Линочка, из города Пущино, была девушкой состоятельной – обедала в столовой, а на ужин жарила на большой сковородке колбасу.
Ну а когда Надежда, умаяшись нестерпимым запахом, говаривала „со смыслом“ – „А не вредно ли зараз столько мяса есть?“, Линочка, нисколько не смутившись, отправляла в хорошенький ротик очередной аппетитный ломтик колбасы и говорила спокойно, будто и вовсе не задетая подковыркой: „Нет, не вредно, если молодым“.
Линочка уже имела солидного жениха, который работал в Пущино и приезжал к ней в общежитие по средам, терпеливо дожидаясь, когда она напоется от души – его невеста по вечерам уходила в холл петь в компании второкурсников „Бабье лето“ Окуджавы. Он же, терпеливо сидя на стуле в одной и той же позе, за весь вечер произносил только одну, и всегда неизменную фразу: „Жарко стало, свитер сниму“. Причем вместо звука „с“ он говорил „ф“, и получалось очень смешно, так смешно, что смешливая Надежда просто с кровати падала от хохота, когда после часового молчания гость вдруг серьезно произносил: „Жарко фтало, фвитер фниму…“
Линочка была изящна, в меру полна, имела хорошенькое личико со слегка отвислыми щечками, делавшими её похожей на симпатичного хомячка. Она же, критически осмотрев Алесю со всех сторон, серьезно сказала, покачав головой: „Боже, как всё запущено!“ – и предложила поработать над её внешним видом. И перемены произошли радикальные. Светлые, слегка пепельные волосы Алеси были безжалостно перекрашены „гаммой“ в черный цвет, глаза помещены в траурную кайму, а тонкая кожа свежих щек мертвенно выбелена пудрой „рошель“.
– Ну вот, Прекрасная дама Блока и Мерилин Монро в одном лице, – констатировала Линочка, весьма довольная произведенными переменами. – А то ходишь – вся в своём, как-то несовременно это…
Когда освобождалась постирочная, Алеся закрывалась там на задвижку и, удобно устроившись на широком подоконнике, с волнением читала толстую книгу о том, как устроена Вселенная и что ждет Мироздание в ближайшие световые лета.
Спецкурсы начинались на третьем игоду обучения, но разрешалось посещать их и вольнослушателям. Воспользовавшись этой неписанной привилегией, она ходила на все занятия старшекурсников, бессовестно прогуливая, кроме курса общей физики, ещё и лекции и семинары по истории КПСС и научному коммунизму.
Аудитории на факультете на ночь не закрывались, и можно было сидеть там, в полной тишине поздно вечером и, к примеру, брать интегралы или доказывать на большой, вертящейся доске теорему Вейерштрасса.
Однажды она купила в киоске у входа на факультет книгу по суперпространству. Вечером, запершись в постирочной, долго не решалась её открыть. А вдруг там она, наконец, обо всем прочтет?
И тайна перестанет существовать…
Суперпространство как область действия геометродинамики? Квантовогеометрические флуктуации и электричество как заключенные в топологии пространства силовые линии? Чему же тогда равна энергия вакуума? И что – электромагнетизм – статический аспект геометрии?
Получалось, что простраство-время, как его обычно понимают, понятие не совсем законное. Что-то вроде матрешки – откроешь одну, а в ней – другая.
Эта мысль её неприятно поразила. Получалось, что, раз нет пространства-времени в о бщепринятом смысле, нет „до“, нет „после“, и вопрос – „что произойдет в следующий момент?“ теряет всякий смысл, само понятие определенной мировой линии тоже исчезает.
Нет ничего определенного, арена действия – вселенский хаос…
От всего этого можно было сойти с ума. И она надолго забрасывала умные книги и просто гуляла по Ленинским горам и думала о том, что само приходило в голову, безо всякого усилия с её стороны. Накипь модных теорий и малых знаний легко осыпалась, и ощущение жгучей тайны бытия покойно и сладко возвращалось к ней.
Так она однажды забрела в „желтый город“. Она не знала тогда, что за высокими желтыми стенами находятся всего лишь правительственные дачи, ей очень хотелось думать, что она по-настоящему открыла посреди Москвы никому доселе не ведомое средневековое поселение, и оно, это поселение, такое безмолвное и таинственное только потому, что кто-то просто заколдовал его жителей. И они крепко спят, как некогда спала вечным сном мертвая царевна…
Но посреди этих покойных волшебных мечтаний она вдруг снова начинала думать о том, как связан тленный с вечностью, и как абсолютное выходит из своей запредельности и становится реальностью. И вновь душа её наполнялась тревожным и сладким волнением.
Как паутиной она была оплетена этой неразберихой мыслей и догадок, и чем глубже пыталась вникнуть в ускользающую их суть, тем сильнее во всём запутывалась.
Однажды она просидела в постирочной до рассвета. Когда же вышла оттуда, в пустом коридоре мирно спящего общежития ей попался незнакомый молодой человек недурной внешности, который нерешительно прохаживался у двери их комнаты и, похоже, намеревался даже постучаться.
– Ну, наконец! – радостно прошептал он, когда Алеся взялась за ручку двери. – Сколько можно ждать?
– А что такое? – спросила она, силясь припомнить, где же она его могла видеть.
– Меня зовут Тарас. Я приехал из Киева и учусь на мехмате, могу тебя пригласить в кафе, если у тебя, конечно, найдется рублей десять, к примеру.
– Прямо сейчас?
– Ну, деньги можно сейчас. А в кафе – завтра.
– Не слабо так. Да? А что так рано?
– Ты хочешь сказать – поздно?
– Как тебе угодно. Мне всё равно.
– Я уже всех обошел, тебя искал.
– Почему – меня?
– Не обидишься?
– Валяй.
– Потому что только у тебя я ещё не брал в долг.
– Орел комнатный, ну-ну. А что, в большой прорыв попал?
– Что-то вроде. Тут одного товарища надо было выручить, он из Таджикистана приехал. Его девушка бросила.
И он кивнул на дверь напротив.
– Какая ещё девушка?
– Танька Садыкова. Они вместе приехали. Но она зазналась и теперь решила петь. С Никитиным. А мне за друга обидно, решил отомстить.
– Интересно, это как?
– Ну, как, просто. Влюбил её в себя, водил по ресторанам, а потом, когда она уже вся тепленькая стала, сказал – адьё! Причем – публично.
– Да врешь ты всё! Нипочем не поверю. Эти девчонки не про тебя, в рестораны они не ходят, а всё время поют. Как придут после занятий, так и начинают петь под гитру. Всё поют, поют, поют… Не знаю даже, спят ли они вообще?
Девочки в комнате напротив были на курс старше, одевались исключительно по журналам мод, в красивые дамские костюмы, носили шляпки и береты, и в теплое время года надевали тонкие перчатки.
Это были очень стильные девочки.
Алеся с брезгливостью, смешанной, однако, с искренней жалостью, посмотрела на впалые щеки Тараса, на нелепо присохший кусочек свеклы у рта. Вид его был смешон и несчастен одновременно.
– Ладно, дам тебе десять рублей. Только вряд ли тебе это поможет. И, пожалуйста! Больше никому эту галиматью не рассказывай, ладно?
– Какую галиматью?
– Про Садыкову.
– Это чистая правда!
– Ага. Чистой-чистой воды. Да она в твою сторону даже не п осмотрит.
Тарас протяжно вздохнул и посмтрел на грязные носы своих ботинок.
– Если честно, я бы мечтал поскорей жениться на какой-нибудь, ну, не очень страшной, желательно, но обязательно – дочке профессора. И жил бы себе спокойно лет до сорока, а там уже всё равно – старость. И наплевать, что старость, если она обеспеченная, правда?
– Пока не думала на эту тему. Как-то вдалеке. Но с возрастом обязательно подумаю.
– Однако на всех профессорских дочек не напасешься. Кстати, у Линочки папа профессор?
– У Линочки есть жених, который со временем обязательно станет профессором. Или хотя бы – замдиром по хозяйственной части в каком-нибудь почтовом ящике.
– Ну вот, и здесь – извини-подвинься, – сказал Тарас, разводя руками. – Вот и крутишься, пока молод, как волчок, чтобы выжить. Ты не можень мне не сочувствовать, правда?
– Ладно, постой здесь, сейчас вынесу деньги.
Она тихо вошла в комнату и вскоре вышла с десяткой в руке.
– Я могу тебя поцеловать за это, хочешь? И сделаю это с удовольствием, – вкрадчиво сказал Тарас. – Ты и вправду хорошая. Глазки – прелесть. И ушки маленькие, но лучше носить шляпку.
– Я лучше пластырем.
– Нет, определенно, мы с тобой в „Лиру“ пойдем. Чесслово! Какие там гирлы! Только вот манюшек побольше сколочу…
– Вали-ка ты отсюда. Да побыстрее!
– Как скажешь. Но в кафе мы обязательно пойдем! Завтра в девять! – крикнул Тарас уже с лестницы.
Это происшествие немного её отвлекло и даже слегка развеселило, и она подумала, каким же идиотом надо быть, чтобы таскаться по общежитию и выманивать деньги у девчонок под обещание как-нибудь развлечь! Ищи дурочек! Да только не здесь!
На следующий день он явился, хотя и с большим опозданием. Алеся, как всегда, сидела в постирочной. Её вызвала Надежда.
– Там этот… альфонс твой пришел. Прогнать?
– Постой, не надо, я счас.
Она вышла, глубоко засунув руки в карманы халата, Тарас стоял у двери.
– Ну вот, ты ещё не одета? Давай поскорее. И, пожалуйста, не шаркай так тапками, ходи как-нибудь посексапильнее.
– А что, у тебя проблемы?
– Кто сказал? Ты о чем? Вот ещё! Так мы идем? Ну, одевайся же! – внезапно раздражаясь, забормотал Тарас.
– Послушай, я вообще не собираюсь с тобой никуда ходить.
– Это что-то.
– Нет, не пойми меня правильно. Ты, конечно, личность ярко окрашенная…
– Я не буду к тебе грязно приставать, чесслово.
– Ага, значит, цитатами обволакивать не будешь? По причине отсутствия наличия. Ясно. Но дело не в этом.
– Но ты же дала деньги? Я что-то не понимаю. Или я не в твоем вкусе? Так и скажи.
Тарас искусно заиграл глазами. На этот раз он был тщательно выбрит и аккуратно причесан.
– Другое. Деньги я тебе дала, чтобы ты от меня отвязался. Это раз. Но и два ещё есть.
– Молчи. Ты лесбиянка, я понял. Тебе нравятся девочки. Эта рыжая… Как я сразу… Но я так и подумал. Настоящая арийская женщина.
Рыжая бестия! Какой рост! Какие ляжки!
– Козел ты, однако, красивенький мальчик Тарас из славного города Киева. Два – это тебе будет творческое задание. Понял? Ты же на мехмате учишься? Справишься, ещё денег дам. На два обеда в профессорской столовой хватит. С девушкой. Понял?
– Какой вопрос? Ну, давай.
– Вот, смотри…
И она написала ему на листке из блокнота два уравнения.
– … решишь, молодцом будешь.
– Ой, ну что же так резко? – заныл Тарас. – Ну, ладно, давай твою бумажку. Может, и вправду в кафе сходим? Ты как?
– Мимо.
– Зря. Ну, как знаешь, я пошел.
Через неделю Тарас появился не один, а вместе с парнем-третьекурсником.
– Вот он всё может решить, товарищ Лев, но не Троцкий, а Тоцкий, – гордо сказал Тарас, указывая на товарища с трубкой в зубах и длинном красном свитере.
– Чья задача?
– Моя. Решил?
– Пока нет. Думаю, что здесь вообще не может быть решения. Похоже, получается дурная бесконечность.
– Это печально. Можешь обосновать?
– Попытаюсь.
– Пока вы тут будете умничать, я схожу к Садыковой, – сказал Тарас.
– Только тебя там и ждут. Смотри, не схлопочи в лобешник от Никитина.
Он вышел, а Лев и Алеся принялись обсуждать приводящее к дурной бесконечности решение. К сожалению, Лев оказался прав.
– Есть один математик… – начал он, с любопытством глядя в Алесины глаза.
– Я знаю, – прервала она его. – Я об этом уже думала. Спасибо. Передай это Тарасу, я ему должна.
И она достала пять рублей из кошелька, с невозможно скучными мыслями о том, что до спипендии ещё целых две недели. Как надоела эта противная тушеная капуста…
6
Опять с приходом темноты её стало посещать мрачное настрение и ощущение бессмыслицы всего сущего. Что может быть нелепее пути без конца? Пути, идущего в никуда, к тому же, ещё и исходящего из ниоткуда? Но зачем-то люди, из поколения в поколение идут по этому пути?
Здесь есть какая-то тайна.
И опять ей снилась Лета, река забвения, и протекала она почему-то в бабушкином огороде, как раз по меже. А она, Алеся, сидела вольно на берегу, и дышалось ей легко и свободно, и ничего больше не хотелось, только бы длить и длить это чудесное состояние.
Он. Да он! Он – последняя надежда. Но если и он не знает…
Надо к нему подойти, но как? От одной только мысли об этом ноги её делались ватными, а язык – деревянным. Конечно, её теперяшняя экстравагантная внешность чего-нибудь да стоит. Может, научиться шпарить на суахили? Подойти к нему и лихо поприветствовать. Это тебе не просто „здасьте“! Тогда заметит, сам обратит внимание. Однако суахили – это неосуществимая экзотика.
И пока он и не думал замечать её.
Значит, чтобы заметил, надо придумать что-нибудь сверхостроумное, просто рассмешить его.
И она решила сесть на его лекциях в первый ряд, с краю, как раз напротив кафедры. Однажды она почувствовала такой прилив смелости, что подумала – сегодня или никогда, и начала потихоньку закатывать глаза. Вот сейчас он заметит, что у неё обморок, прервет лекцию, бросится за водой, а из графина она воду вылила в перерыве, и он, не найдя ни капли влаги, вынужден будет взять её на руки и оттащить в ту самую комнатку за центральной аудиторией, куда он обычно удаляется на перерыв.
Там она, конечно, тут же придет в себя, широко откроет глаза, радостно ахнет, как будто ничего не поймет. А потом начнет горячо благодарить своего спасителя. А он переведет дыхание, – все-таки пятьдесят четыре килограмма! – и скажет: „Ну, слава богу! А то ведь как напугали!“
И тут она как бы невзначай ввернет про Вейля. Он очень удивится. Откуда, мол, такая осведомленность? А она, опять же, невзначай, ввернет про три спецкурса, два из которых он сам читает аспирантам. После чего он ещё больше удивится – надо же, такая хорошенькая молодая особа, и уже про Вейля наслышана! И даже знает его теории!
Тут он извинится как-нибудь по-французски, на минутку покинет её, чтобы объявить аудитории, что лекций сегодня больше не будет по непредвиденным обстоятельствам, при этом загадочно посмотрит на пустое место в первом ряду, а все радостно загалдят и помчатся занимать очередь в буфет. Он же вернется к ней, и тут она ему всё начнет рассказывать – он, конечно, вначале подумает, что она будет говорить про любовь, и для виду заскучает лицом. И даже прервет её какой-нибудь такой фразочкой: „Простите, но я в некотором роде женат. И очень люблю своих женщин – дочурку, жену и свою очень милую тещу. И ещё совсем не дряхлую бабушку по материнской линии. Жива пока. И даже не представляете, насколько!“
После чего он немного помолчит, а потом скажет, стараясь быть безразличным, но все же с обнадеживающей интонацией: „Но и вы мне симпатичны. Очень-очень! Честное слово академика“.
И тут наступит кульминация. Она берет слово – и он сражен! Её благородством.
„Ах! – воскликнет она. – Какие странные слова вы говорите! Ничего похожего я про вас не думаю. И напрасно некоторые думают, что мы, провинциалки, такие дуры. Я просто хотела поговорить с вами про… детерминировнное пространство“.
Он, конечно, смутится, испытает неловкость за свою бестактность, и ей даже станет жаль его, такого умного, взрослого мужчину. Тут она посмотрит на часы, ахнет, извинится, и убежит на практикум. А он останется один, и будет курить до одурения, а потом пойдет к инспектору курса и попросит назначить его к ним в группу прикрепленным преподавателем…
На этот решающем эпизоде её сладкие мечты внезапно закончились. Она открыла глаза и не сразу поняла, что лекция прервана, и в аудитории тихо, как в склепе.
Он стоял перед ней собственной персоной и сурово смотрел на неё!
„Я к вам обращаюсь, уважаемая девица! – строго, неприятным шершавым голосом сказал он. – Если вы ходите на мои лекции, чтобы сидеть в первом ряду и гримасничать, а я за вами уже полчаса наблюдаю, то не лучше ли будет вам отправиться в цирковую школу и там веселить публику, или, на худой конец, упражняйтесь дома, если всерьез решили в клоуны готовиться“.
Такого поворота дел она никак не ожидала. К счастью, прозвенел звонок, и пытка прекратилась. Алеся, под общий смех, опрометью вылетела из аудитории.
Тогда она попросила Надежду выступить посредницей и всё ему объяснить, а то и вправду подумает, что она скоморошничает по глупости, и та неожиданно согласилась, правда, долго хохотала по этому поводу.
– Ой, Леська! Как это глупо! Но всё равно пойду, мне тоже интересно с ним поговорить. Только надо не пропустить его, когда после лекций уходить будет.
Алеся с нетерпением ждала её возвращения со свидания.
– Ну, как? – набросилась она на посланницу, когда та, наконец, заявилась в общежитие.
– Он просто прелесть! Мы всё время говорили. И про Вейерштрасса, и про Вейля, и про Дирака…
– А про меня вы говорили, а?
– Ой. А как же! Он сам начал.
– Постой, помолчи, – схватилась за сердце Алеся. – Я должна приготовиться. Ну? Теперь можно. Говоришь, он сам начал? Так что же он сказал? Что?
– Сказал… сказал, чтобы ты меньше красилась, а то очень на яйцо пасхальное похожа.
– Что? Так и сказал?
– Ну, нет, про яйцо я от себя добавила. Он сказал, что у тебя правильные черты лица … – тут Надежда любовно посмотрела в зеркальце, котрое всегда носила в кармане. – Впрочем, у меня тоже правильное лицо… И на коже нет недостатков… и он не видит ни малейших причин для такой фундаментальной покраски твоей милой личности. Вот что он сказал. Примерно так. Помоему, ничего не перепутала.
– Надежда! Ты просто негодяйка какая-то! Я тебя о чем просила?
– Поговорить с ним о тебе. И я поговорила. По-моему, неплохо справилась. Ещё будут вопросы? Что-то не так? Люди вообще неблагодарные твари. Так иди сама и расставляй все точки над Ё собственноручно.
– А про бесконечность? Про бесконечность ты спросила? Ты сказала ему, что она меня вконец замучила?
– Такие глупости сама ему говори, я не совсем дура.
Перестать думать о бесконечности! Перестать думать о конце пути! – твердо сказала она себе. – Иначе можно сойти с ума. Всё прочь из головы!
Прошел год, прежде чем она снова решилась думать об этом.
Космогония как специальность – вот что поможет ей избавиться от ужасного кошмара и понять, наконец, что же такое бесконечность, и тогда она, эта непостижимая сущность, отпустит её, даст свободу её уму.
Ещё там, в родной Ветке, она часто представляла себе солнце в виде сердца космоса, и эта огненная колесница – солнце вечно бежит и катится по огненному кругу, всегда возвращаясь на прежне место. Умный вечный огонь всегда возвращается к себе. А планеты ведут вечные хороводы вокруг этой огненной колесницы, и эти шествия по кругу, эти волшебные хороводы тоже неутомимы, как и сама колесница.
А вокруг планет водят хороводы богини судьбы…
И вот под этим бесконечным, солнечным миром живут грешные люди и нисколько не мучаются от этой непостижимой бесконечности.
Богини судьбы Мойры разматывают свои веретена, и нити их вращаются среди звезд тоже по бесконечному кругу.
И здесь, во всем этом круговом движении, есть возврат к себе, и это дает надежду на спасение. Потеряв себя, ты снова себя обретаешь…
Здесь, на земле, иссиня-черная тьма, зло болезней и греха. Там, на огненом солнечном круге, свет и радость. И этот возводящий ввысь огонь – пресветлый свет, зажжен над пучиной тьмы человеческой жизни для спасения человека.
Души людские, блуждая в космосе и устав от этих блужданий, падают вниз и попадают к людям, и теперь, связанные с ними, то плывут по жизни, несомые её бурными ветрами, то мечтают о тихой пристани. Но Бог влечет души к себе, пробуждая их и побуждая к очищению, и перед человеком открываются врата божественной мудрости, и душа, как усталый путник, поднимается по крутой тропе все выше и выше, и достигает, наконец, пристани вечного блаженства, как достиг его Одиссей, преодовев непреодолимое на своем пути к вечному дому.
Неясная тоска, вечно живущая в душе космического скитальца, обращается предчувствием счастья.
И вот она, забыв о своем стеснении, пришла на кафедру, рассказала о своих мучениях профессору, статьи которого, ещё учась в школе, с благоговеним и тайной надеждой на скорое познание истины читала в различных научно-популярных журналах.
Он, высоко подняв брови и сняв большие роговые очки, делавшие его похожим на гигантскую реликтовую черепаху, долго и пристально смотрел сквозь неё, потом вдруг сказал, обращаясь к портрету Майкла Фарадея:
– Фантазия, лишенная конкретных знаний, производит чудовищ. Однако, соединенная с ними, она – мать открытий и волшебный источник чудес. Всё остальное – пустота. Согласны? Мд-ааа…
– Согласна, я больше не буду фантазировать просто так, но, простите, пустота – это вакуум, и мне кажется, что нет ничего конкретнее, чем пустота такого рода. И нет на свете ничего конкретного, кроме этой напряженной пустоты.
– А материя? – ещё выше поднял бровь ученый.
– Материя – это всего лишь возбужденное состояние вакуума. Вакуум – всё и ничего одновременно, – кротко сказала Алеся, и он взял её к себе в ученицы и отныне назывался коротко и значительно – шеф.
– Однако поздравляю, вы попали по адресу. У нас уже есть три молодых гения, произрастающих на самой плодотворной ветви науки – имеет место так называемый феномен „три-щук“ – Грищук, Полищук, Черепащук. Есть также один супергений – Кардашев, он не достиг ещё возраста Христа, а уже впереди планеты всей в области радиоастрономии – он доктор наук и неуклонно расширяющаяся надежда вселенной, которую он внимательно прослушивает своим радиотелескопом… Так что есть на кого равняться.
– Вселенную слушает… радиотелескопом? – едва не всплеснула руками Алеся и замерла, как громом сраженая.
– Ну да, а что же здесь удивительного? Современная наука идет вперед семимильными шагами.
– Но это же… Но там же… Ну, нет же… О господи!
– Пардон? Не поминайте имя господа всуе. Вы хотите что-то спросить? Или рассказать?
– Нет, я не смогу это объяснить, простите. Но там …там всё иное! Понимаете? Всё иначе, не так, как здесь! Там всё – живое!
– Точнее?
– Не знаю, можно ли мне это говорить…
В тот вечер, после научного семинара, они шли вместе к метро, и шеф потеплевшим голосом говорил о том, что человеческие фантазии продолжаются ровно столько, сколько живет человек, что без фантазий человек не смог бы скрасить своего одиночества. Но кто не научится сдерживать свои фантазии – тот пустой фантазер, у кого необузданная фантазия соединяется с идями добра – тот энтузиаст, а у кого же просто беспорядочные фантазии в голове – тот пустой мечтатель. И что нет ничего ужаснее силы воображения без вкуса.
7
Она по-прежнему ходила на семинары и спецкурсы для аспирантов, но так ничего и не смогла решить для себя – с детерминированностью мира.
Ей не хватало знний, умения ориентироваться в научной литературе, несущей, как ей казалось, неподдающийся осмыслению поток информации.
А вопросов всё прибавлялось. Зачем, хотя бы, во вселенной двойники? Объекты, в точности повторяющие друг друга? Если бы природа копировала про запас нечто уникальное, но нет же! Зачем существуют двойники рядовых объектов?
И ещё многое другое. И главный из всех – где сейчас Сенька? И почему он шлет только открытки без обратного адреса, и каждый раз из разных городов?
Она была на практикуме в павильоне „зенит-телескоп“, когда её снизу позвали. Подошла к проему раздвинутого купола, встала на стремянку, выглянула наружу. Там стояла Линочка.
– Гони в общагу. К тебе пришли. Симпатичный, ага. В кепочке такой и в плащике. Ну, что ты рот разинула? Я лечу, как олимпийский вестник, а ты и не думашь спешить.
Забыв от неожиданости первую заповедь астронома „не касаться того, что тебя не касается“, стремясь сохранить равновесие, она ухватилась за трубу гида. Махина телескопа качнулась, и с трудом пойманная в крест звезда неторопливо поплыла из поля зрения. Алсин напарник конкретно выругался, а она, не обращая внимания на его возмущние, кубарем скатилась по винтовой лестнице и помчалась, что есть духу, к общежитию.
Сенька! Ну, конечно, это Сенька! Золотце самоварно, прочухался наконец!
Год – как день, как будто и не было тей бесконечной череды унылых суток, из которых он и сложился, наконец! И как будто вчера они прощались, сидя на берегу Сожа до самого рассвета, и прыгали шальные рыбы… А потом она вошла в теплую, как Сенькины ладони, воду и поймала руками черного и скользкого вьюна…
– Сенька! Ну, какой же ты гад! – с порога закричала она, бросаясь к молодому человеку, сидящему на стуле, и… отшатнулась от неожиданности, больно стукнувшись о дверной косяк.
– Простите, не понял, – привстал со стула незнаклмый молодой человек. – Я жду Алесю. Это вы?
– Вы… кто? Вы… зачем? Вы… ко мне?
И она беспомощно заморгала ресницами, готовясь зареветь от всей этой бессмыслицы и жестокости происходящего.
– Я – Юрий. Вы к моей бабушке приезжали осенью в Сокольники. Помните?
– Ну, да, это и моя бабушка. Только двоюродная. И что?
– Меня тогда не было в Москве, а вот сейчас я подумал – дай-ка зайду. Вот и выбрался.
– Это хорошо, что вы думаете. А то ведь знаете, какие бывают молодые люди? Ни за что не заставишь работать головой. Так – трым-трым! И не пашет мозгами.
– Вы смешная.
– Ага. Обхохочетесь, если что.
Алеся дрожала от обиды, от закипавшего в ней раздражения и даже ненависти к этому, так неожиданно возникшему на её горизонте родственнику.
– Да вы не беспокойтесь, я сейчас уйду. Мне просто было интересно увидеть кого-нибудь из родственников папы.
Слово „папа“ он произнес твердо. С нажимом. Он встал, Алеся ахнула – ну и рост!
– Да постойте же, я сейчас чай приготовлю, – засуетилась она, залезая в шкаф со сссъестными припасами. – Как раз чайник горячий и заварка есть. Сколько сахару в стакан? Извините. Он напополам с икр о й.
– Что? – рассмеялся Юрий.
– Кабачковой, не бойтесь. Моя соседка по комнате ест всё время кабачковую икру и запивает её чаем. Вот иногда в банку с сахаром и попадает немного икры. Мы привыкли уже. Не очень противно, если привыкнуть.
– С вами весело.
Юрий засмеялся и стал прощаться. Вошла без стука Надежда.
– Приличные десять минут прошли. Молодой человек, вас не смутит, если я буду терпеть ваше присутствие лежа?
– Простите, я сейчас уйду, – сказал Юрий и поспешно вышел. Когда Алеся, проводив его до лестницы, вернулась в комнату, Надежда, глядя поверх очков, спросила с издевкой:
– Что, очередной Тарас?
– Хуже. Это родственник. Прости, я в твой сахар случайно кабачки опрокинула. Наблорот, в кабачки сахар случайно высыпала. Вобщем, куплю завтра тебе колбасы, будете с Линочкой напару жировать. Кстати, где эта сводница?
– Поет в холле Окуджаву.
– Не общежитие Физфака, а какое-то хоровое училище, ей-богу!
– Музы любят умных людей и с удовольствием их посещают. Так что за хмырь тебя посетил?
– Он не хмырь. Он сын фронтовика. Его отец и мой отец – двоюродные братья.
– Всё равно, ты его не поощряй. А то ведь они такие – решительные! Особенно так нзываемые родственнички. Сначала они – роднее не бывает, а потом, поминай как звали.
В комнату заглянула Линочка.
– Что, уже ушел? Жалко. По-моему, приятный. – Она оценивающе посмотрела Алесю. – А ты бы вместо балахона носила что-нибудь с пояском. С твоей отрицательной массой очень эффектно будет смотреться. Вот если бы к твоей мордашке да мою фигуру…
– Хватит болтать. Я вовсе не собираюсь с ним разводить флирт. И вообще, оставьте меня в покое, если это не очень трудно.
8
Летом, после сессии, она поехала к бабушке, в Ветку. Однако Сеньки там не было, и впервые Алесе здесь, в самом милом её сердцу месте, стало скучно.
Она уже хотела ехать в Москву, не дожидаясь конца каникул, чтобы спокойно посидеть в библиотеке, походить по музеям, как вдруг пришла телеграмма из Минска – от родствеников Ганниного мужа.
Что, к чему – так и не рзобрались, ясно было одно – к ним скоро будут гости из Варшавы, Марк Прушинский и его жена Барбара. Ни Мария, ни Иван с ними знакомы не были.
И Алеся осталась, чтобы помочь Марии все перемыть, перестирать – кто знает, насколько эти люди к ним едут?
– Можа, ад Брони гэтыя люди? А то як зъехала. Так и нямашака. Што ёй там. У Польщы, медам намазана? Госпади, спаси и сахрани! – часто крестилась она, а Иван только подсмеивался:
– Люди в космос спутники и ракеты запускают, а ты всё крестишься.
– А йди ты, – говорила Мария, продолжая молиться, в тайной надежде вымолить весточку от беглой дочки.
С тех пор, как Броня вышла за „полячка“ – а это случилось через пять лет после их встречи в Гомеле, и вскоре после замужества уехала с ним в Польшу, вести от неё поступали редко.
Прушинсткие приехали на горсоветовской машине.
– Праходьте, гости дарагия! – приглашала Мария их в дом, ведя по чистым половикам, расстеленным до самой калитки по мостику от крыльца. – Уладкоувайтеся у зале, А можа. У спальни луччэй буде?
Гости умылись с дороги, переоделись в домашнее и сели к самовару.
– Я преподаю в университете русский язык, а моя жена – актриса, – начал рассказ Марек. – Мы сюда приехали по делам.
– Так мы радыя вас прынять, – сказала Мария, подавая ему парадную чашку на блюдце.
Марек помешал ложечкой чай и, посмотрев на Алесю, сказал, улыбаясь:
– Так это и есть она, паненака наша? Совсем взрослая краля стала.
– Можа, малака вам прынести? – засуетилась Мария.
– Дзенкуе, дзенкуе. Будем чай.
– Вот, возьмитье щипчики для сахара, – вмешалась в разговор Алеся, передавая Мареку прибор.
– Дзенкуе, дзенкуе, – кивал головой он, всё ещё продолжая разглядывать Алесю. – Краля, вылитая краля… Дзенкуе…
– Не ма за цо, – поклонилась Алеся, чувствуя, однако, некоторе смущение.
Иван так и подмывало рсспросить Марека про студенческие волнения, но Мария грозно на него смотрела, и он не осмелился тревожить гостей своим любопытством.
– А як жа наша Броня там? Ти ведаете што? – спрсила, наконец, сама Мария.
– Броня, о! У Брони муж получил увечье. Лечится. Голову повредили.
– Пятра? А хто ж яго так? – заплакала Мария. – И чаго яны туды паехали? Век деуке не вязе… сама яна хоть жывая?
– Молите матку боску, жива осталась.
Иван встал и широкими шагами начал мерить залу. Поскрипывали масницы, и только этот звук нарушал тяжелую тишину, зависшую в комнате.
– Няхай дамоу едуть, – сказала Мария, всё ещё плача. – Чаго там сидеть, у гэтай Польщы?
Снова молчали, молчали долго, пока Марек не нарушил тишину вопросом, обратившись по-польски к молчавшей до сих пор Барбаре. Она встала и, позвав знаками Алесю, вышла с ней из комнаты:
– Як длуго замежа пан и пани позостать у нас? – спросила Алеся, когда они вышли с гостьей во двор.
– На килька тыгодни, – ответила Барбара, улыбнувшись. – Чи зна пани ензык польски?
– Розумем трохэ.
– Якей пани народности? Чы пани ест полякем?
– Естэм росьянко. Ойтец россъянинем, мама бялоросъянко. Пани се помылила – естэм росъянко.
– Але ж! Пробачте. Пшепрашам…
– Як се пане чуе?
– Дзенкуе. Добже. [1]
– Как долго пан и пани смогут у нас остаться?
– Несколько дней. А что, пани знает польский?
– Немного понимаю.
– А какой пани национальности? Пани полька?
– Я русская. Отец русский. А мама белорусска. Пани ошиблась – я русская.
– Простите.
– Как себя пани чувствут!
– Спасибо. Хорошо.
Они посидели на крылечке молча, не зная, о чем ещё разговаривать, но неловкость длилась недолго – вышел Иван и позвал их в дом.
Марек уже рассказывал о театре, а мария, возможно, под впечатлением какого-то известия, встала и стояла в нерешительности, не зная, за какое дело ей сейчас приняться.
– Не клопотитеся, пани, – взял её за локоть Марек и насильно усадил за стол.
Щеки Марии горели румянцем. Глаза лихорадочно блестели. Алеся забеспокоилась – что же такое сказал Марек, когда они с Барбарой вышли во двор?
– Так вот, с вашего дозволения, начну, – сказал Марек, раскуривая папиросу. – Всё пошло с театра. Барбара там работала тогда – „Народовы“ называется. Может, у вас про это писали в газетах.
– Что-то припоминаю, да, писали… – сказал Иван. – Это не про спектакль по пьесе Мицкевича „Дзяды“?
– Именно так. „Дзяды“ в постановке Деймека. Этот спектакль скоро сняли со сцены.
– А не эту ли пьесу привозили в Москву на гастроли? – сказала Алеся. – Конечно, это были „Дзяды“.
– „Дзяды“ шли с пятьдесят пятого года в семнадцати постановках. И Мицкевич выходил после войны общим тиражом девять миллионов экземпляров.
Разговор теперь шел исключительно между Алесей и Мареком. Мария, теперь побледневшая, как побелка на печке, молча шевелила губами и пусто смотрела перед собой. Иван молча курил, Барбара тоже думала о чем-то своем.
– Ну, если вы ходите в театр, – говорил Марек, по-прежнему обращаясь только к Алесе, то знаете, что одну и ту же пьесу можно поставить по-разному. Вот Деймека и проявил своё видение материала.
– Представляю, что он там наворотил.
– А спектакль посвящался пятидесятилетию Октябрьской революции. Текст такой – как повернуть… Так вот, он ввел в сценическое содержание посвящение, поработал с актерами над текстом – и теперь они обращались прямо сцены к зрителям со словами, которые некогда Мицкевич адресовал русскому царю. Ввел акценты, особо драматические, каких даже у Мицкевича не было, и получился не спектакль, а трамплин для политической демонстрации. У Мицкевича были строки: „Я буду свободным – да, я не знаю, откуда пришла эта весть, но я знаю, что значит получить свободу из рук москаля! Подлецы, они мне снимут кандалы с ног и рук, но наденут кандалы на душу“. Так вот, в этом месте зал встает и аплодирует… Дальше. „Не удивляйтесь, что нас проклинают здесь, ведь уже целое столетие, как из Москвы в Польшу шлют одних подлецов“. И это говорит русский офицер декабристу Бестужеву. Здесь тоже режиссерский акцент – и зал снова встает и аплодирует. Так Мицкевича превратили в знамя реакции.
– Так это же самое настоящее политическое мошенническое мошенничество! – вмешался в разговор Иван.
Мария напряженно вслушивалась в слова Марека, на врмя её оставили смутные мысли, потом сказала, протянув руку к гостю:
– Паслухай. Добры чалавек, А чаго ж наша броня у тым тиятры знайшла? И яе чалавекю пятра? За што их били?
И она снова заплакала.
– Так я сказал, она работала в университете. Когда всё началось, и студенты взбунтовались, начались избиения просоветских преподавателей.
Барбара встала и вышла на крыльцо.
– Ти ёй чаго нада? – забеспокоилась Мария.
– Не турбуйтеся, у неё просто кружится голова, она тоже тогда пострадала. Так на свежий воздух и вышла. Потом придет. Ну, вот. После запрещения спектакля начались сильные недовольства. Варшавские писатели собрались на чрезвычайное собрание и приняли резолюцию протеста против вмешательства властей в культуру. Половина была „за“, почти все они сидели на госдотациях.
– И усё няймецца! – вставила реплику Мария. – И чаго тольки яна у гэту Польщу…
– На театры власть каждый год выделяла семьсот миллионов злотых, только на „Народовы“ – четырнадцать. На каждый билет госуарство доплачивало семьдесят злотых. И за это оно хочет, чтобы театр был трибуной по-настоящему народных идей.
Прушинский взял стакан с чаем и сделал несколько глотков.
– Ти гарачага прынести? – спросила Мария.
– Дзенкуе, я пью холодный. Так вот, ппосле этих событий пришло письмо от студентов в Сейм. С тремя тысячами подписей. Тоже против снятия „Дзядов“. И заметьте. Писатели голосовали тайно, а студентам рекомендовали подписываться разборчиво. Замысел простой – поссорить, да посильнее, молодежь с властью. Чтоб обратного пути не было.
– Молодежь любит в стадо кучковаться, – сказал Иван. – Где что дурное замышляют, молодежь тут как тут.
– Усё ён знае, сидючы на печцы, – стала его бранить Мария. – Што за чалавек таки?
– А руководил всем Ясеница, может, знаете? Он и настроил студентку Лясоту доставить письмо в сейм. Ну, как водится, началось расследование. Тут ещё один активист объявился – Яцек Куронь, собрал вокруг себя еврейскую молодежь и учредил комитет по организацими демонстрации 8 марта.
– Што за люди такия! – опять возмутилась Мария, на этот раз – студентами-евреями. – Мала их немец у вайну знищыу?
– Ну вот, собрались на митинг полторы тысячи студентов. Лозунги, транспаранты, как водится. И Лясота читает резолюцию. Все возбудились и двинули на ректорат. Навстречу им вышел рабочий актив. В них полетели каменья. Вызвали дружинников – студенты ещё больше распалились. Тогда вмешалась госбезопасность. Порядок восстановили с помощью гражданской милиции. Причем, всем бросилось в глаза – студент ов толкали их организаторы к обязательному кровопролитию. Несколько студентов ворвались в ректорат и учинили там погром. Пятро был в отряде рабочего актива. Он и пострадал. Всем русским преподавателям досталось больше всех. Пострадала и Броня.
– Пайду сстауни закрыю, – сказала Мария и вышла.
– А девятого марта уже новые демонстрации начались – призывали мстить за покалеченных студентов. На стенах появилтись подстрекательские надписи, в квартиры звонили по телефонам. Призывали мстить. А про Мицкевича уже забыли, забыли и про спектакль. Им просто хотелось вернуть Польшу к старым порядкам. А что поляки могли быть истреблены как нация фашистами, и что русские их спасли, уже никто не вспоминал. Двести лет назад Речь Посполитую погубили эгоизм и смутьянство магнатов, а что ж теперь? Куда идем?
В словах Марека было столько боли, что Алеся тоже не выдержала и сказала, чтобы переменить тему.
– Мама… Как она там?
– У них всё сложно. Среди прихвостней Ясеницы нашлись те, кто знал его отца.
– Акимку? – в один голос спрсили Мария и Иван.
– Да. Эти люди были потом в банде Лупашко.
– Ах, сатано недабитае, – снова, в который раз за вечер, заплакала Мария.
– Эти люди сейчас представляют опасность для Пятра.
– Госпади, прасти! – перекрестилась Мария.
– Эта банда в сорок пятом, в апреле, начисто уничтожила одно поселение в Беловежской пуще, а сам поселок сожгли вщент. Теперь эти подпольщики орудуют в Варшаве. Реставрация буржуазной Польши – вот к чему всё идет.
– Польща „А“ и Польща „Б“… – вспомнила Мария.
– Вот именно, вот именно…
На следующий день гости уехали. Алеся провожала их на пристань. Долго молчали. Но когда звякнули склянки и моторка отошла, Алеся побежала берегом, громко выкрикивая сквозь слезы:
– Жиче пан и пани щесъливой дроги!
– Мам надзее жэ вкрутце зобачымы се знову! – сложив ладони рупором, кричал Марек.
– Вшысткего найлепшего! – донес ветер голос Барбары.
– Жыче рыхлего повроту до здровя! – кричала Алеся, ускоряя бег. [2]
– Желаю папу и пани счастливой дороги!
– Надеюсь на скорую встречу снова!
– Всего наилучшего!
– Желаю скорейшего выздоровления!
Когда вернулась в дом после проводов, Мария позвала Алесю в залу и долго тяжело молчала. Потом, наконец, горько вздохув, сказала:
– Гэтыя люди якуюсь тайну ведають. Усё яны знають. Казау чалавек, штоб тябе берагли. Хтось ад их за табой паглядать буде…»
9
…На встрече в МГУ, на десятилетии выпуска, Алесю встретила Линочка ещё на ступеньках факультата.
– Слушай, мне кое-что надо тебе скзать. Мой папа работает в Пущино, в научном центре. Их лаборатори. Знают во всем мире. Они занимаются проблемами памяти. Я папе про тебя рассказывала, он заинтересовался. Просил тебя пригласить. Поедешь? У нас будешь жить, дома. Ни о чем не беспокойся. Они как раз новую методику отрабатывают.
Побывать в Пущино Алеся давно хотела – русская Швейцария! И вот сейчас, когда счастливый случай сам шел в руки, она и решилась на эту поездку.
– Ты знаешь, я недавно похоронила бабушку.
– Понимаю твоё настроение. Но это обстоятельство как раз работает на ситуацию. У тебя сейчас максимально открыта защитная зона. В другом состоянии к тебе, в твои мозги, трудно было бы пробиться.
– Я сама хотела сразу же после похорон поехать туда. Но мне надо и к родным на север съездить, я была в Вологде…
– Ой, нашла отца?
– Нет, но зато я познакомилась с человеком, который пообещал найти адрес женщины, с которой он тогда уехал… Есть и ещё одно обстоятельство. Я после похорон случайно встретилась с одним человеком, другом детства. Он через неделю приедет ко мне погостить.
– Ой, через неделю ты уже будешь в Москве! – настойчиво уговоривала её Линочка. – Всё надо делать сейчас. Сейчас или никогда! А что за друг? Это тот, который тебе открытки присылал? Как интересно! Покажешь?
– Обязательно.
– Ну, так что?
И она поехала.
Центр Биофизики жил своей обычной напряженной жизнью – с утра густой поток ниишников бодрого вида направлялся к проходным институтов, после чего – на несколько часов – город затихал.
Однако около двух снова становилось людно, шли студенты и школьники, а на аллеях появлялись стайки скейтистов-подростков. В семнадцать-тридцать на улицы выплывала густая толпа нагруженных свертками и пакетами работников научного фронта. В магазины, где было всего полно, спешили немногие – профсоюзы о трудящихся искренне заботились и «опакечивали» без отрыва от производства.
Алеся сидела в проходной и уже второй час ждала, когда ей вынесут заявку на пропуск. Недалеко от вертушки бойко торговали новинками современной поэзии. Алеся, приценившись к двум книгам, разочарованно отошла. С другой стороны от вертушки висел щит, весь в пестрой чешуе объявлений.
«Любопытно, что у них там животрепещет?» – подумала Алеся и, подойдя поближе, стала читать.
«Мясо отд.№ 22 в заказах давать не будут. Местком сказал – итак давали два раза подряд».
«Синаптическим контактам – только рыбу».
«В субботу молекулярные механизмы памяти едут в совхоз. И чтоб без прогулов! У кого уважительная причина – присылайте жену (мужа)».
Снизу приписка – «и не только в совхоз». «К.! между нами, ты – дурак!» «Недоволен женой».
«Твой крик души, страдалец, мне понятен. Поживи с моей». «Мальчики, вы – хамы!» «19! Заходите на чай!»
Тут её позвали – пропуск был подписан. Ей подробно объяснили, как пройти, и Алеся поднялась на лифте на пятый этаж, долго шла по бесконечному коридору, дважды сворачивала, наконец, оказалась перед дверью с табличкой: «Регенерация нервной системы».
Две молоденькие и модно одетые аспирантки проводили опыт под руководством солидного бородача. Алеся подошла к ним и заинтересованно стала смотреть.
– Сейчас мы извлечем фрагмент мозга двадцатидневной крысы и введем его в переднюю камеру глаза другой крысы той же, обратите внимание, линии.
– И что будет? – спросила Алеся, пододвигясь поближе.
– Через месяцев пять-шесть трансплантанты изучат гистологи методом идентификации норареналина.
– Понятно, – сказала Алеся и направилась к другой группе сотрудников, стараясь посмотреть всё, что возможно увидеть.
– А мы, – сказала улыбающаяся девушка с двумя задорными хвостиками над ушами, – изучаем образование наподобие интактной дермы. Ускорить зживление ран – значит, ускорить образование на коже регенерата с отличным от рубца расположением волокон… Вот видите?
– О?!
Далее Алеся направилась в тупичок, где и сидел Линочкин папа, ныне остепененный исследователь генотипических ошибок. Когда-то, на первом курсе, он по субботам приезжал за дочкой. Будучи молодым вдовцом, очень боялся за неё. Как-то, дожидаясь, пока придет Линочка. Он проговорил с Алесей больше часа, рссказывая о своей работе. Ошибка в единственном гене, контролирующем рост аксонов, синхрнизует работу центра. Так могут возникнуть случайные домены. А это может повлечь за собой возникновение особых свойств – так называемые малоизученные психические аномалии…
Она спросила – занимаются ли у них активизацией спящей или генетической памяти. Он сказал – возможно. Тогда она сказала, что хотела бы поучаствовать в опыте – если есть таковые. Он неопределенно пожал плечами.
И вот сейчас он сам её сюда пригласил.
– Мы даже в этом состоянии сможем записать для вас энцефалограмму.
– Вы сможете записать разбуженную память моих предков?
– Попытаемся. Но это очень неприятная процедура. Для начала нам придется подавить долгосрочную и краткосрочную память. Не стереть, а просто нейтрализовать на некоторое время. Вы согласны? Это память вашей собственной жизни.
– Ну и.?
– Вы должны будете пройти через искусственную амнезию. Мы это делаем с помощью электрошока. Можно, конечно, ввести в ткань мозга специальное вещество-передатчик – нейромедиатор… Но это даст побочные эффекты. Может потом непредсказуемо отразиться на поведении…
– Опасно?
– Ммм… Я больше не ищу специфическую молекула памяти. Её нет. Моя задача – создать или использовать определенное эмоциональное состояние у испытуемого, то есть настроить его психику, в данном случае, вашу, в резонанс с тем событием, о котором надо вспомнить. И замкнуть себя на ту же комбинацию. Или – тоже включиться в цепочку. И тогда сеанс воспоминаний будет транслироваться прямо в мой мозг. Но можно и записать прибором, теперь это возможно. Я очень хочу испытать свою методику, но подходящую кандидатуру найти трудно. Уверен, у нас с вами получится. Несколько дней вы будете готовиться к эксперименту. Просто будете приходить на процедуры – час-два каждый день. В остальное время делайте что хотите. У нас здесь чудесная научная библиотека. Я вам выпишу временный пропуск.
– Лады.
Третий день пребывания в Пущино заканчивался полным конфузом – полностью укомплексованное сознание закономерно взбунтовалось. Нет, она не боялась предстоящего эксперимента. Она даже старалась не думать о нем. Мучило её другое – сами люди.
Постоянно о чем-то размышлять было для неё давней, приятной привычкой, но во всем этом процессе все-таки главным была вера.
Она верила в то, о чем размышляла, верила свято, и предмет её веры был также священен…
Но работавшие здесь люди, кстати, очень понравившиеся ей, не верили практически ни во что. Зато они во всем сомневались. И тогда её мысль побежла по старинному, давно всем известному, однако, совершенно новому для неё руслу. Мыслить – значит сомневаться. Мысль одна только отличает человека от животного. Но мыслить – значит хотя бы раз в жизни поставить все под сомнение, даже свое собственное существование. Сомнение – дятельность мысли.
Раскручивая эту мысль, она скоро пришла к выводу, что сомнение – признак несовершенства. Но человек и должен быть несовершенным, совершенен только Бог. А совершенный Бог не может обманывать, значит, мир существует таким, потому что таков замысел Бога? В этом ли состоит задача человека – проникнуть в замысел Бога и всё исправить? И для этого ли человеку дан собственный разум, способный из самого себя извлекать истины? И даже инструмент для этой работы есть – это логика.
Но вера, чувство, душевный опыт – они ведь не нуждаются в размышлениях, логика им вовсе чужда!? Они просто есть – и всё. Но как проверить – насколько истинна твоя вера? На сколько правильно твое чувство?
Взор, обращенный в душу, находит там истины, которые рождены вмсте с человеком – из ничего не призойдт нечто, сделанное не может быть несделанным, если к равным величинам прибавить равные, то величины останутся равными…
И из этих самоочевидных истин можно вывести все необходимые знания. И в них бессмысленно сомневаться.
Кто прав или – кто правее?
Но если жизнью людей и всей вселенной управляет нравственная сила, ведущая всё сущее к состоянию гармонии, то и разум тоже создан этой силой – себе на погибель? Или зачем тогда?
И эта непостижимо могучая сила, скрытая в человеке – воображение, позволяющее увидеть то, что было и уже прошло, и что только когда-нибудь будет, и то, чего не было вообще и, возможно, никогда не случится! Зачем она, эта сила, дана человеку?
Теперь Алеся постоянно думала о том, как устроена память. Что же есть то, во что она собирается заглянуть? И что вообще означают слова – вспомнить, припомнить, узнать…
А когда мы говорим, обучаясь чему-либо – мы узнаем – что мы имеем в виду? Что мы это когда-то знали? А когда кто-то изобретает что-то новое, мы говорим – он открыл! То есть э т о уже когда-то было, но до времени было скрыто от наших глаз? Значит ли это, что все новое уже давно кем-то изобретено? А само слово – изобрести? Означает ли оно – набрести на что-то? Так в русском языке, а в английском – создать (криэйтив). Они – создают с нуля. А мы – лишь вспоминаем забытое?
Язык хранит истинную тайну истории. И хранитель языка – человек, этот забытый клад в степи. В прошлом самого заурядного человека хранится вся наша история. Но он об этом не знает. Он – хранитель великой библиотеки, не умеющий вовсе читать.
Вроде все три слова – вспомнить, припомнить, узнать – употребляют для обозначения одного и того же процесса. Но на самом деле каждое из этих слов означает различные процессы. Вспомнить – значит вернуть запавшие когда-то в память впечатления. И делается это безо всякого усилия воли, лишь по сходству, ассоциации. А вот припоминание часто требует огромных усилий воли для того лишь, чтобы вызвать в памяти былое. Что же тогда – узнать? А это значит, что мы видим уже знакомую нам вещь или слышим слышанные когда-то звуки. И мы её отождествляем, то есть узнаем. Это сознательная ассоциация впечатления, которое мы когда-то получили. Но если мы видим предмет во второй раз или слышим повторно нечто уже слышанное и не «знаем», что это такое и как его зовут, память сохранит два различных впечатления от одного и того же впечатления. Не так ли и в коллективной памяти людей рождаются самые противоречивые версии прошедших событий, истории вообще, когда они, люди, не видят очевидного, не узнают вчерашний день? Значит, у них просто проблемы с памятью.
Интересно, это лечится?
Но если, в конце концов, отождествление, узнавание очевидного произойдет, оба впечатления сольются в одно, и прекратится раздвоение личности.
Обдумав эти соображения. Алеся даже попыталась сформулировать некоторые правила воспоминаний.
Правило первое. Свойство всех впечатлений – оживлять уже бывшие впечатления схожего характера, но оживший призрак не будет введен таким способом в сознание, если бывшее впечатление не было достаточно отчетливо или не усиливалось многократными воспоминаниями.
Тут ей пришла в голову совершенно бредовая идея – а можно ли многократно усиленный воспоминаниями объект, к тому же, некогда детально изученный, сверхусилием воли вывести из поля сознания в материальный мир? Однозначно сказать «нет» не было оснований.
Правило второе. Впечатления, не состоящие в родстве, но полученные одновременно, будут сохраняться как отдельные, каждое в своей ячейке памяти. Но если более раннее впечатление вызвано во время во время получения второго, то они попадут в одну ячейку памяти.
Правило третье. Если усилием воли восстановить одну часть ассоциативной цепочки, то другая часть восстановится как бы сама собой.
Главное, точно вспомнить какую-нибудь яркую деталь. Для этого надо в процессе запоминания её, эту деталь, точнее выделить. И также легко вспомнится всё, что происходило в тот же момент, даже то, что не имело к первому впечатлению непосредственного отношения. Из этого правила следовали очень важные выводы: вспомнив усилием воли нечто, знакомое вам в прошлом, можно вытащить из подсознания много такого, на что вы просто в то время не обращали никакого внимания. Возможно, именно этим и объясняется мудрость старца, предающегося бесконечным воспоминаниям – его прожитый опыт как бы сам собой разрастается вширь и вглубь.
Такого рода памятью обладаю писатели и художники. Их письмо «из головы» именно поэтому так реалистично, так изобилует деталями, давно уже всеми забытыми, что кажутся письмом с натуры.
Воспоминание бессознательно, мы его как бы не осознаем. Мысли несутся сами собой, только поспевай за ними…
Но если поднапрячься как следует, то можно проследить в мельчайших деталях тонкую связь между различными предметами наших мыс – лей. Начнешь думать о крыше дома напротив, а закончишь мыслями о конце света.
Интересное для Алеси во всех этих соображениях было то, что усилием воли вызванное слабое впечатление прошлого можно усиливать до бесконечности, временами отсылая его обратно в память, а потом снова и снова его оттуда вызывая. Это сильнее действует, чем тупо часами разглядывать предмет и силиться его, таким образом, запомнить. Но и созерцание вновь и вновь одного и того же предмета тоже может быть полезно, если при таком созерцании открываются новые детали.
Удивительно, сколько в кладовых нашей памяти неиспользованного материала, без всякого дела лежащего мертвым грузом! А если как-нибудь ассоциировать его – тогда он может выплыть на поверхность? Природа не может не предусмотреть эту неспособность человека – просто и легко пользоваться библиотекой памяти. Она не может, не должна позволять памяти угасать навсегда, с физической смертью её носителя. А что, если память не умирает, а передается в генах потомству – в надежде, что те, его отдаленные внуки и правнуки, когда-нибудь научаться извлекать пользу из уроков прошлого? Этому и помогает припоминание – усилием воли выстраивание цепочки ассоциаций. Это может произойти мгновенно, ведь мозг работает очень скоро. Но могут пройти и целые годы…
Подсознание, получив приказ от её величества воли, неустанно работает и вдруг выплеснет в область сознательного то впечатление, о котором мы уже и думать забыли! Припоминая впечатление, подсознание выбрасывает на осязаемую поверхность нашего разума и то, что было непосредственно в тот момент, и до, и после. Он, разум, инстинктивно напрягает все свои силы, чтобы завершить выполнение задания во всей его полноте.
Это когда мы припоминаем. А вот когда узнаем, то здесь надо различать две фазы – частичного узнавания и полного. Мы можем узнать на улице человека, которого когда-то видели, но не можем вспомнить его имени. И только когда-либо после мы можем вспомнить, как его звали. А можем и вовсе не вспомнить.
Между воспоминанием и узнаванием есть существенная разница. Можно искать затерявшуюся вещицу, сто раз проходя мимо неё и не видя нужного нам предмета. И вдруг он нам буквально бросается в глаза! Мы просто не могли его узнать! Хотя и видели. Такая вот временная шизофрения…
Чтобы узнать знакомый нам предмет, мало на него посмотреть зрячими глазами, надо ещё иметь в голове ясный психический портрет – образ этого предмета, потому что память заключает в себе лишь имя предмета. Беспокойство, стресс или болезнь могут разрушить образную картину мира – и тогда наступает не узнавание знаемого.
– Ты кто? – спросите вы у своего давнего друга, которого, однако, успели уже подзабыть, и который вдруг, встретив вас на улице, бросился вам на шею.
– Конь в пальто, – ответит он, и вы ему поверите. Потому что по какой-то причине его образ выветрился из вашего сознания.
Алеся, строго следуя открытым ею принципам оживления памяти, сидела уже восьмой час в читальном зале, сосредоточившись до полного отключения от внешнего мира, вновь и вновь возвращаясь в мыслях к одному и тому же предмету.
Постепенно очертания его делались все более четкими. Теперь надо было отсечь лишние подробности – слишком много деталей только помешают воспоминаниям. Она вспоминала лицо Василисы.
Оказалось, это не так уж и просто. Где-то на щеке была родинка. Но где точно? А морщинки? А форма губ? А радужка глаз? Всё надо вспомнить правильно и очень точно.
И тут в её памяти внезапно и неожиданно возникло дерево – вот выступающие из земли корни, вот ствол, вот толстые нижние сучья, вот ветви, вот листва. А вот… множество маленьких цветочков среди листвы – желтых, розовых и голубых…
Постепенно воспоминание оживилось – листва задрожала на ветру, ветви закачались…
И теперь уже не надо было тратить усилий, чтобы видеть всё это. Совершенно не обязательно прибегать к самому предмету, чтобы оживить воспоминания о нем.
Куда более эффективно просто вспоминать о нем.
Первое впечатление самое сильное, именно оно и живет в памяти дольше всего. И оживлять надо именно его, а не просто интересующий вас предмет. Разум консервативен, и ему предпочтительно общаться со старыми знакомыми, или с теми, кого знают эти старые знакомые, чем с какими-то совсем новыми лицами.
Этот процесс воскрешения скрытых впечатлений пробудил в ней какое-то новое и тревожное, но бесконечно приятное чувство – исчезало ощущение одиночества и рождалось в её душе нечто далекое, доселе незнаемое, но уже горячо любимое.
Над входом в лабораторию, где должен был проводиться эксперимент, висел лозунг: «Тело бренно, душа – вечна!», лаборатория напротив шокировала вселенную прямо противоположным утверждением, полученным исключительно малой кровью – всего лишь с помощью двойной фонетической инверсии: «Дело бренно, туша – вечна!»
Так простая перестановка звуков при полной сохранности оригинального текста коренным образом меняла идейно-философскую концепцию мира. Что мы можем знать наверняка о прошлом, лишь читая древние манускрипты в поздних списках, написанные, к тому же, с большими пропусками букв и даже слов или без гласных вообще? Ведь в русском языке наличие гласной рядом с согласной часто в корне меняет дело. Глухой звук становится звонким, а это, как видно из ранее сказанного, чревато непредсказуемыми и даже роковыми последствиями вселенского масштаба. А кто писал эти рукописи? Если это был чужеземец, которому язык письма не родной и учил он его не со слуха, а по учебникам? Говорят же ленинградцы «что», а не «што» – как другие русские люди. Потому что иностранцы при Петре не только онемчурили русский язык канцеляризмами, но и научили говорить питерцев по написанному.
Конфликт между трудящимися под одной крышей интеллигентами, судя по всему, вошел в пиковую фазу – сотрудники двух идейно враждующих коллективов даже на картошку вместе не ездили. Но именно эти две лаборатории и должны были осуществить эксперимент. В одной – убивали личную память, в другой – пробуждали память вечную, память предков или – память генетическую.
И вот настал день эксперимента. Ночью она спала крепко, без будильника проснулась на рассвете, бодрая и свежая. Время тянулось бесконечно. Наконец, оператор из стеклянного «стакана» объявил по рации: «Есть контакт!»
На экране осциллографа появились «спайки» – так называли пачки сигналов.
Нейроны заговорили…
– Перстень! Перстень забыла снять! – вскрикнула лаборантка, бросаясь к Алесе и хватая её за руку – на ней уже был надет платиновый браслет-наручник.
Алеся невероятным усилием воли разлепила глаза, подняла руку с перстнем к лицу и вдруг отчетливо увидела, как темная агатовая поверхность его делается матово-черной и на ней ясно проступает вращающееся огненное кольцо…
…Всё отчетливо видно.
Вот внезапная встреча у Гомсельмаша жестко и немилосердно опрокидывает её в прошлое – как странно и жестоко распорядилась жизнь судьбами людей, так надежно и твердно, как когда-то казалось, стоявшими на ногах!
Поликарпов, весь седой и худой, как стирльная доска, подметает корявой метлой тротуары города, отрабатывая «пятнадцать суток», возможно, за пьяный дебош, – того самого города, который намеревался так победительно завоевать. Рассчет, так рано и во всех подробностях произведенный, в каком-то месте дал сбой.
Её поразил его усталый мутный взгляд. Видит ли он её? Узнал ли? И вообще – помнит ли о своих юношеских мечтах и планах? И что с ним будет дальше? Сопьется окончательно, заболеет, умрет в одиночестве? Была ли у него семья? Любит ли его кто-нибудь?
И почему он сломался, этот несгибаемый, очень жесткий и такой целенаправленный человек, с младых ногтей старательно лепивший свою неуязвимую карьеру?
Она не знала ответа на этот вопрос.
– Даем напряжение! Старт! – было последнее, что она ясно услышала извне.
ВАСИЛИСА Часть третья
…Если ты человек, то не называй человеком того, кто не заботится о судьбе своего народа. Зло персонифицируется по-разному, но торжество его всюду одинаково – сомны мерзостей умножаются.
Странствия человека на путях к истине… Страстное искание высшей правды… Поиск священного единого, где и нходится источник истины… Утерянное постижение реальности…
…Вереницы худых, с почернелыми лицами, людей. Тощие котомки, скрипучиее телеги, плач малых детей…
…После Соборного Уложения 1649 года крестьяне, превращенные в быдло, и посадские люди, ставшие теперь тягловым сословием, уходили с насиженных мест.
1654 год.
Моровая язва. Потом голод, страшный голод по всей стране. Люди едят жмых. Трупы гниют в домах – хоронить умерших некому.
Стон стоит над землей, а разгневанное небо шлет новые испытания – вот показалась звезда хвостатая в кровавых столпах оперенья…
Религиозное помешательство – забвение от тягот непереносимых. Власть пытается заместить религию народными преданиями. И пока они ищут панацею для упрочения гражданского порядка, пока спорят и препираются о тонкостях этикета, старый, привычный и обжитой мир рушится на глазах…
Веру! Надо искать новую веру!
Душу спасайте от дьявола! Он, дьявол, уже здесь! Спасение в самосожжении!
Властям российским летит донос: «Раскольники горят самоохотно. Самовольное запалительство остановить невозможно».
Мордвин Никон и его новые священники… Новопечатные богоссловские книги… Раскольки жгут их безжалостно – «не божье это слово, а слово диавола!»
И снова властям послан донос: «Остановить гари невозможно. Огневое крещение приняло девять тысяч тягловцев».
Из Москвы шлют сторожей с приказом: «Если раскольники засядут в скитах и запрутся там, то стража должна стоять денно и нощно, беречь их накрепко и жечься не давать. А буде они свои пристанища зажгут, то со стрельцами и понятыми те пристанища заливать водою и, вырубая двери, выволачивать их, пока живы».
Мир разделился. Антихрист с одной стороны, с другой – врные, которых он гонит…
Так кончался век семнадцатый – героический, и на смену ему шел век эпигонов…
Обоз московских эмигрантов шёл в польско-литовское государство.
Но не успели осесть раскольники, как уже новые гонения. Местечковые державцы опасаются беженцев-московитов. Как бы и здесь смуту не учинили…
И снова потянулась цепочка эмигрантов, всё дальше, в польские земли. Только в Польшу идут не все. А больше – посадская знать, с ними же черный и белый клир. Крестьяне-эмигранты остаются здесь.
И вот уже Ветка, остров на реке Сож, что во владениях воеводы Халецкого, – центр московской раскольничьей эмиграции…
Десять верст, двадцать, тридцать, пятьдесят – всё это старообрядческие слободы…
Опять донос: «И те слободы расселены, как превеликие города, где премногое число из разных городов беглых богатых купцов, что называют себя раскольниками, укрываясь там от податей и рекрутских наборов».
Белая Русь – Беларусь – Беглая Русь…
Сыпучие пески Стародубья. Зерно не растет там, и селятся в нём кустари-ремесленники. И везут те ремесленники – шапошники, шорники, бондари и прочие иные – свой товар в Ветку, местечковым богатым купцам. А те дают им в кредит. Так попадают кустари Стародубские, аки муха в плен к пауку, в долговую кабалу.
А старожилы-ветковцы ещё и пугают старой верой: «Так и придет наше разорение вскорости – больно рьяно старообрядцы за дело взялись».
И вот шлют они жалобу гетману Скоропадскому, жалобу на раскольников, которые «двори и комори (лавки) в Стародубье понаймавши и тем стародубских православных купцов, которые до ратуши подати отбувают и великоросских желнеров (солдат) беспрестанно кормят, весьма утиснуты, через що те до крайнего приходят разорения».
Но уже многие поняли – «пока живет город Ветка, тию гандлию искоренити не удастся».
А потому беспрепятственно едут рскольники по стародубским селам и весям и скупают подчистуювоск, пеньку, мед, кожу. И «робить» стародубским ремесленникам не из чего.
Опять проклятье: «Аки Змий Апокалипсиса, от церковного неба яко звезды души людей православных отторгавший, эта Ветка старообрядческая!»
«Петр-батюшка! – просит епископ Питирим царя всесильного, разори ты их ложную церковь!»
Но царь глух к его мольбам, по рукам и ногам связал его военный договор с Польшей против врага их общего – шведов…
Идут годы. У власти императрица Анна.
«Воззрись, матушка, на Ветку! Зело много беглых тягловцев там!»
1735 год.
Карательная экспедиция полковника Сытина.
Теперь с Польшей не церемонятся! А там – смуты за замещение престола.
Первая выгонка.
Разоряют старообрядческие церкви – всего выгнали населения четырнадцать тысяч человек. Прошла зима, ещё зима…
И снова потянулись на всё свои вольные земли разогнанные по российским монастырям божьи люди.
Идет новый поток беженцев из центра России на белорусскую окраину – бегло-русскую…
И снова местечковая власть шлет доносы и просьбы – разорить непокорную Ветку!
У власти Екатерина Вторая.
Карательная экспедиция потопила в крови все старообрядческие поселения. А кто спрасся от смерти, поспешил в другие воеводства, а тои в Сибирь или на Алтай. В починки беглого люда.
Зима, ещё зима…
И снова возвращаются упорные на обжитые места. Среди густых лесов Стародубья, как грибы после дождя, снова вырастают торговые поселения.
Клинцы и Гомель – уже заметные уездные города. Бойко идет торговля. По реке беспрепятственно прибывают заезжие торговцы, жизнь кипит.
И опять терпит разор никонианский купец.
…Те же, кто некогда в леса ушел д в болота, построили там свои скиты и живут безбедно – держащиеся старой веры богатее держащихся веры новой, значит, бог благославляет веру старую, а не новую.
Однако не только бог помогал старообрядцам. В колониях своих они жили единым миром – своих выручать было первой заповедью.
Отстраивать старообрядческую Ветку всякий раз помогали всем миром – Нижегородские, Московские и прочие иные единоверцы шлют свою помощь разоренным братьям щедро и без сожаления о деньгах.
1762 год.
Екатерина издает манифест: «Селитесь в России люди всех наций, кроме жидов. Все беглецы. И вам будут прощены все ваши преступления. И разрешено будет ношение бороды и какого угодно платья. И право вернуться к помещику своему».
Однако нет желающих идти в кабалу. Укрепляются лесные скиты, множатся их постройки. А как идет экспедиция на выгон, так запираются люди в скитах этих и самозапаляются…
Скит под Халецким селом. Две цепочки войска лежат по кустарнику. А как ым повалит из-под крыши, солаты запалителей выволакива – ют наружу и из кишок пожарных студеной водой крестят.
Потом тела их в телеги кидают и везут упорных на новые, дозволенные царицей, поселения.
Прошла зима, ещё зима…
…На правом берегу Сожа, у крутой излучины, в топком болотистом месте, обосновался небольшой скит – дабы уберечься от кары на страшной суде, блюли они пуританские заповеди.
Тихое, лесное, уединение. Лес – враг, лес – кормилец воспитал людей настойчивых, ко всякому труду охочих и скорых. Но жизнь их шла по кругу, и мир отдельнй от всего света жизни застыл, как пчела, утонувшая в теплом воске.
Но как бы ни была оторвана община от внешнего мира, как бы не отгораживалась от него в гордом самодовольстве святости, но и её не миновали бури мирские. Таинственное веяние, пронесшееся над грешной землёй, всколыхнуло и общину до самых недр.
Внутри скита пошел раскол. Сначала покинули её московские беспоповцы: «Не желаем жить в разврте или воздержании!»
И то. От заповеди безбрачия всё согласие исполнилось блуда и сквернодеяния. Юнцы и девы, порываемые старстью похоти, собирались по ночам на гумнах и, досмотревши юноши дев, а девы – юношей, предавались забавам запретной любовной игры.
А сами же руководители общин брали себе стряпух и жили с ними блудно.
И вот пришло время снова выбирать главу, и решили избрать Симонида, наибольшего по мудрости и опыту. Может, он спасет общину от падения…
Мудр был симонид, мудрее всех мудрых, ясен был его ум, яснее света светлого.
Но ясность эта была – сестра узости. Просто и трезво смотрел он мир, да простота эта была сермяжная – страх прступить крепко сковал его некогда мятежный дух.
Симонид в общине вновь завел строгие порядки. С мирянами не сообщаться – ни в молитве, ни в яствии, ни в любви, ни в войне, ни в мире.
«Терпи, соблюдай веру, и пусть тебя кнутом бьют, огнем жгут, не надломись, не сдавайся! Питайся листом, коренья ешь, живи нагим, зноем опаляйся, хладом омерзай. Кто стерпит, тот и будет верный. И получит он царствие небесное, и ещё на земле обретет он радость духовную.
Мирские терзаются алчностью, завистью, честолюбием. Правители лихие гнетут народ, соперничают друг с другом, грызутся в лютой вражде. Поддднимают ввойска несметные, полонят земли чужие, прославляя себя победами, ит которых плакать надобно. Что значит – радоваться убийству многих людей? Об этом слезы лить надобно, а победу отмечать тризною…
Добро же твори без надрыва, спокойно и сдержанно. А если и быть жестоким, то не в припадке ярости, но оббдумывая всё и теперь уже – не отступая.
Ибо есть бытие, которое пребыло и раньше, нежели небо и земля. Оно недвижно и самобытно. И не знает переворота, свершая и свершая свой бесконечный круг…»
Так открывал Симонид людям тайну вещей. А люди, сидя кругом на траве, внимательно слушали своего пророка и склоняли головы в знак согласия.
Так прошла зима, ещё зима… И ещё – много зим и лет…
Как-то ранним сизым утром нашла стряпуха в кустах, за овином, девочку. Лежала она в траве чахлой и унылой, и была туго спелената хостиной. Отнесла стряпуха дитё Симониду – на показ.
Под грубой тканью уивдели они прекрасное и тонкое шитьё – рубашечка в кружавчиках, платьице и чепец работы тонкой, искусной. В кармашке платья лежал и перстенек, внутри, на металле были начертаны буквы, латинские, всего четыре – ROMA…
Нарекли малютку Василисой.
Девочка росла быстро – и трех лет не прошло, а она уже вопросы умные спрашивает – откуда солнце встает и куда вечером уходит? Что за земля в тех краях, где оно ночью отдыхает? И зачем луна с ясным солнышком не ладит?
Наставник её, сам Симонид, говорил ей голосом тихим и ласковым:
– Всё узнаешь, когда подрастешь. Но главное крепко помни – одна духовная радость доступна человеку на земле. И потому – терпи и терпи ежечасно во всём остальном.
– А как же птицы, звери лесные? – спрашивала Василиса, приглаживая седые волосы старца своими маленькими ручками. – Они так славно щебечут! Им жить в радость! А что же человеку – радость не дозволена?
– Радость и человеку дозволена, – говорил, мрачнея черной тучей, Симонид, – но радость земную человек познает не всякий час. А токмо на радениях. Тогда и предвкушает он блаженство вечное той жизни, что наступит на светлых небесах.
На первое радение Всилису приуготовили, когда минул ей четырнадцатый год, и косы до колен достали.
И сделалось ей люто на сердце. Кровь от лица отлила и губы, как мел, побелели. Ждет вечернего часа, минуты считает, а сама обмирает…
Вот и солнце на закат подалось и потянулись люди к двери главного сходника. На пир собиралась вся взрослая община. Симонид, строгий и торжественный, медленно поднял руку и радение началось.
За общий стол, на длинные лавки сели мужчины и женщины – друг против друга. Симонид – во главе.
Села и Василиса.
К ней доле подсел подружник, присматривать за ней, всё разъяснять и помогать, если надо, чтобы она своих вопросов не ставила и не мешала общему порядку.
– Симонид – наш кормщик, а это всё – корабль, – говорил он ей на ухо. – Смотри, вот и кормщица идет!
Баба, молодая, в белой рубахе с красивым по широкому рукаву, раздавала всем белые, большой длинны, одежды. Все облачились и запели протяжную песню, парами пошли во главу стола, к Симониду, он же благославлял пары, и они пускались в пляс.
Вот уже всех благославили, и хлоровод белых длинных рубах шумно вьюжил в полутемном помещении, кормщица пошла по кругу и раздала жгуты и палки, а иным – и цепи тяжелые…
Уже не кружились хороводом, а прыгали, скакали и выли – всё громче, всё яростней…
Симонид всал, поднял руку – всё стихло в раз.
– Сам святый дух вселяется в тела ваши и походжать там будет. Садитесь к столу, люди добрые.
Все сели и снова начали петь, мерно позвякивая в такт песне цепями:
Катает нас птица в раю,
Она летит, во ту сторону глядит,
Да где трубушка трубит,
Там сам бог нам говорит.
Ой, бог! Ой, бог! Ой, бог!
Ой, дух, Ой, дух! Ой, дух!
Накати! Накати! Накати!
А как дух накатил, навал навалил, все снова повскакивали с мест, положили руки на головы и закружились-завертелись в диком хороводе… Так они плясали и громко кричали:
Дух свят! Дух свят!
Царь дух! Царь дух!
Разблажился! Разблажился!
Дух свят! Дух свят!
Ой, горю! Ой, горю!
Дух горит! Бог горит!
Свят дух! Дух Свят!
– Станем же снова в един круг, – сказал Симонид, выходя из-за стола. – Во един круг Иоанн Предтечь… И восстанет к нам из гроба сам иисус Христос! И пойдет по кругу с нами сам бог Саваоф…
Тут вошел в горницу юноша в белой одежде – он тоже первый раз на радении. Симонид к нему руки протягивт и поет:
– Вот идет к нам сам бог Саваоф…
Ещё один вошел, и накинули ему белое покрывало на голову.
– Я бог, я тебя награжу, хлеба вволю нарожу… Будешь есть, будешь пить, меня, бога, хвалить…. Станешь хлебушек кушать, да Евангелие слушать…. К тебе дух святой станет прилетать, а ты изволь его узнавать… Я твой отец, не дам тебя в иудейския руки, избавлю тебя от вечные муки…. Я вас всех защищу, до острога не допущу…. Всем вам ангелов приставлю, от злодеев лютых всех избавлю… Принимай крещение – от бога самого наущение…
Кормщица стала разносить по кругукуски хлеба и квас.
Это было главное радение, под сам Троицын день.
Когда причастие закончилось, служки кормщика внесли чан с водой, прилепили на края две восковых свечи. Одну юницу нарядили в цветастое платье – она и будет богородица.
Идет богородица с блюдом изюма и приговаривает:
– Дарами земными питайтесь, духом святым наслаждайтесь…
Второе Василисино радение былдо на Ярилину ночь. Тогда никому отступа не было – вем отрокам осквернение, а юницам – растление.
– Ты теперь будешь богородица, – сказал ей Симонид. – А родишь сына, так объявим его Христом, родишь девочку – будет пророчицей. Святые дети родятся от христовой любви.
Ззаныла душа Василисы, тесно в сердце стало, но не посмела ослушаться. А как дух свят накатил, так и кончилась её тихая девичья жизнь.
Под глаза легли синие тени, а щеки тугие, румяные, желтой краской подернулись, и сама вся с лица спала…
Пришел срок, и родила Василиса дочь. Назвали, по уговору, Марией. На просторной поляне, при полной луне собралась вся община, и василиса встала на колени – перед ней лежала девочка на полотняном покрывале. Симонид напутствовал:
– Родила ты дочь святую. Познает она счастье на земле. И будет оно ей великим испытанием. Принесет она через своё мучение великое счастье людям. Обогреет её солнце своим теплом, а луна – осветит своим светом. И будет её душа светла и тепла ко всем людям. И жизни ей будет долгой – до светлого часа…
Люди, утомившись, ложились на землю, и так лежали, поврнув лица к небу, а речи старца нес ветер над лесом и полем, и над сырыми болотами, где глубокая черная вода стоялда грозно и мертво и на берегах не колыхался ни един стебелек.
– Найдут люди счастье и вернут его, счастье, которое дьявол украл у них обманом.
Когда же все разошлись, и на поляне осталась только Всилиса с дитем, он, прижав её к себе, тихо сказал:
– Смотри, вот в эту ямку мы посадили семя этой ночью. Росток появится – холь и лелей его, в растении этом скрыта великая сила. Душа твоя в нем поселитсмя, хранительный ангел твой. Согрешишь, росток захиреет, повянут побеги, а сама ты погибнешь смертью жалкой. Праведно станешь жить, чисто, вырастет древо высокое, сильное. Даст плоды целебные. И жизни этому древу будет сто сорок лет.
– Да, Симонид, исполню всё, – легко и без страха, глядя ему в лицо, сказала Василиса.
– Но смотри, Василиса, не ищи счастья для себя, будет для тебя это – страшный грех. Не будешь ты счастлива этим счастьем. Оно обманчиво и недолго, как туман на рассвете. Гляно окрест, что ты видишь?
– Лес, небо, звезды, росу на траве. Скоро утро.
– Вот это всё – и есть твоё богатство, владей им, смотри и наслаждайся. Вот это и есть твоё настоящее счастье.
Василиса отвела глаза и долго стояла молча. Потом, когда над лесом занялась заря и победно взошло солнце, она, глядя на алый восток, кротко сказала:
– Вон паутинка на травах сверкает, как самоцветы, а птицы поют так счастливо и радостно, что и мне хочется петь и плакать от счастья.
На покрывале завозился ребенок, она взяла дитё на руки. Теплая ручка выбилась из пеленок и коснулась её груди. Голодный ротик нетерпеливо искривился, ища материнскую грудь. Василиса расстегнула высокий ворот, из тугого соска брызнули струйки жирного, желтого молока и упали сливочной россыпью на темную кожу Симонида.
– Это счастье, – сказал он.
– Счастье? – расеянно переспросила она, поправляя сбившиеся пеленки на младенце. – Счастье… Да, это счастье. А ты, Симонид, счастлив ли ты, скажи мне правду? Твоё лицо всегда печально.
– Счастье… – теперь уже старец произнес это слово рассеянно и тревожно. – Знаешь что, дитя пресветлое, не может быть счастлив человек, пока не имеет он славного отечества.
Василиса теснее прижала к сбе младенца.
– О чем ты, святой человек?
Но он молчал, а юная мать всё смотрела и смотрела в его лицо, словно пытаясь разглядеть на нем ответ. Наконец. Симонид поднял на неё глаза. В разлете упрямо скошенных зрачков её был виден жаркий блеск. Но он промолчал и на этот взгляд, потом так же молча они пошли домой, в скит, и уже на самом пороге он протнул ей маленький бисерный кошелек, который был у него на поясе, и протяжно вздохнув, сказал просто:
– Вот, возьми, дитя, это – твоё.
Василиса взяла кошелек и раскрыла его – там лежал маленький агатовый перстенек. Он лежал на её узкой ладони и сверкал тускло и смирно. Однако Василисе почудилось, что будто живое нечто легло на ладонь, от перстенька этого исходило мягкое и нежное, как дыхание ребенка, тепло.
Шло время. Василисино деревце всё росло и росло. Всё выше тянулся к солнцу гибкий и сильный побег, всё краше и краше становилась молодая мать…
Симонид смотрел на неё темными от печали глазами и думал, что никогда ещё тоска по божественному совершенству не облекалась в столь прекрасные формы.
Однако по весне в общине пошла смута. Строптивцы стали покидать скит.
«И что за страсть жить в миру? Как чудесно здесь, в лесу!» – думала Василиса, разглядывая нежные листочки на своем деревце. Однако от мыслей этих ей делалось до страсти боязно, и в душе поселялся скользкий холод, будто чья-то прохладная перепончатая лапка острыми и цепкими коготками скребла её тайно и хищно.
Миряне к ним захаживали, то то, то это им занадобится. Люди живые. Куда денешься, если приспичит? Их не отторгали. Но и не спешили кланяться по самости.
Василису часто в село звали – лечить хворых. И она, молча кивнув, надевала чистое – белую рубаху до земли, подвязывалась травяным поясом и шла к мирским делать своё дело.
Сто пять трав знала Василиса – лесных и луговых. В своей погребке, под навесом, сушила травяные связки, от них и зимой шел терпкий дух.
Мария, дочка Василисы, день целый в травнике – играет вязками, травы в букетики собирает. Мать смотрит и удивляется.
– А как ты, детка, знаешь, какую травушку с какою связать надо?
– А как дух той травы почую, так и знаю – куда её надобно, в какую вязку вязать.
– А вот с этими листочками ты что будешь делать? – смеясь находчивости дочери, говорила Василиса, подавая ей пучок мать-и-мачехи.
– С этими? – сказала Мария, поднося к лицу и принюхиваясь к букетику. – О, это сильные листочки. Очень сильные. Настойкой этих листиков можно раны заживить, нарывы разные, если, к больному месту прикладывать. И если волосы с головы падать начнут, кожа зачешется – тоже эти листики помогут. Только надо голову настоем раза три промыть. А если ещё и это прибавить, сказала она, беря в руку веточку сухой крапивы, то волосы как шелк сделаются… А вот этой травой можно немножко старую сделать юницей, – говорила она, смеясь, и подбирая с подола рубашки несколько листков мяты и цветочков липы.
– Вижу, вижу, – сказала довольная Василиса, – всё правильно делаешь. Скоро будешь мне помогать.
Слава лекарки за ней крепко держалась, а теперь вот и дочь растет толковенькой да в деле ладной.
– А пойдем, мама, по лугу, травы поищем! – радостно звала её девочка, и Василиса брала её за руку и лвела собирать травы.
– Смотри, оин и тот же цвет имеет разное значение – что при болоте растет, что при доброй землице, что величиною вырос с локоть, что – в перст, что – в пядь…. Что корни велики, толсты и глубоко в землю растут, что цветочки на стеблях рудожелты, сини, красны, багряны, червлены или совсем вороны…. Что изнутри корень червлен или бел, что волокно белое что лист сверху зелен и гладок, а снизу – бел и пушон.
– Мама, смотри, а вот трава ребинка!
– Правильно, это она, её ещё пижмою величают. Растет она в стрелку, а листочки сини. Есть вот тут става маточник – видишь, вся синя, найти её можно только в нехоженых местах. Вот одолень растет при реках, тоже собою голуба.
Прошла зима и ещё много зим, выросла Мария, девицей сделалась. Однако от радения оберег её Симонид.
– Будет тебе радение в другой яви. А пока блюди себя, детка. Бог твоего чела перстом коснулся.
Не очень печалится Мария, что на радения её не берут. И ходит девою с мамой по лугам и лесам. Травы целебные собирает. Большего счастья ей и не надо.
– Мама, а почему оолень голуба? Одолень желта!
– А голуба потому, что листья и стебель то голубы, то сини. И совсем не желты. А ещё вот трава богороцкая или – чабрец. Родится как дикая мята. Цвет на ней синь и красен… А это трава перенос, собой мала, цвет ворон….
– А это – ужик!
– Правильно. И многолистый. А листки белы или темны. А вот завилк, цвет крапивный. Есть крапива, что походит на конопрельцо, добра пить в уксусе. В аэто попутник – настет на пути, листочки подле земли, вверх сторожок. Железняк на пригорке, есть здесь и полынь, верес и собачий язык. А ковыль ищи на диких полях, трава эта белая, растет кустом, шелком чистым розмятывается… А вот трава архангел, то же, что и цветок папоротника, видом синя, по сторонам по девяти листов червленых, вверх четыре цветка – красный, зеленый, багровый, синий… Дают её от сглазу отроку или молодице с душой чистой, как криница….
– Как у тебя, мама?
– Да что ты! – смеется Василиса. – Я грешница. Много грешных мыслей имею.
Уже и серебром тронуло волосы Василисиного Христа, того отрок, что вместе с нею в Ярилину ночь осквернился, а Василисе бег времени будто и нипочем.
Мария растет, на Всилису лицом похожая – только у Василисы во – лосы светлые, как лен, а глаза – темнее агата. Мария же светлоглазая – зеленее трав, что в лугах собирает, её глаза. А волосы смоляные. Все в кудрях да кудельках…
В тот год в скиту мор пошел. Что за хвороба людей мучила, ни один старец, ни одна старица не знали, не ведали. Покрывались тела болящих водяными пупырьями, и от этих пупырий шел страшный зуд по всему телу. Как безумные, метались они, и спасу от хвори не было.
Василиса трудилась день и ночь, все сто пять трав перепробовала – и в настоях, и в припарках, только хвороба не уходила, а люди делались как безумные.
Когда сошел последний снег, в ночь под первый дождь было Симониду видение. Дерево Василисино всё цветами усыпано. И цветы на том дереве все разные – розовые, желтые, голубые…
А как прошел первый дождь, разноцветные лепестки на землю все сбило. И появилась завязь – маленькие, как слезки, яблочки. И вроде эти яблочки от пупырий спасают…
Позвал он Василису и говорит ей про своё видение. А Василиса, едва про этот сон заслышала, вся белее полотна сделалась. На колени упала и говорит сквозь слезы:
– Прости меня, Симони, И мне видение было. Про те цветы. Розовые, желтые и голубые… То не прстые цветы – это моя любовь к тебе.
И она заплакала ещё горше. Перекрестился старец, закричал:
– Побойся бога, Василиса! Мы все – братья по вере, и бог – един, кого мы смеем любить!
– Нет, Симонид, нет! Я всю ночь над тем видением думала! Я люблю тебя и хочу жить с тобой, как миряне живут!
Потемнел лицом старец, молчит, не знает, что и говорить ей. Совсем розум потеряла.
– Василиса, – наконец, сказал он, – брак в нашей общине делом греховным объявлен. Я возьму тебя в своё жилище, раз ты хочешь, и ты будешь яко моя прислуга.
– Нет, нет, ты не понял! Я не хочу жить с тобой в блуде! Я хочу жить в браке, как у православных мирян!
– Да что ж ты! – ввзъярился Симонид, отталкивая её руки. – Это тебя поповцы научили предать нашу веру! Страсти плоти – наущение дьявола!
– Нет, мне было знамение… – тихо сказала Всилиса, однако, ничем не показывая страха. – Было! И я его исполню!
– У человека, смутная женщина, есть тайный враг – гордыня. Отрешись от всех своих тайных желаний, и она, твоя врагиня, навеки утишится. Что может быть слаще, чем дума, что ты выше самой гордыни? Это и есть путь к спасению, Василиса.
– А как же народ наш несчастный? Если путь к спасению – умереть для мира? Умереть, живя в нем? Любя его?
– Нет, я вижу, ты никого не любишь, кроме себя, кроме своей гордыни. Не серди меня, Василиса! Разве так я тебя учил?
– Нет, я люблю их, и сердце моё заходится от боли, мудрейший. Так что же лучше – спасти свою душу или – спасти людей?
Теперь голос её был спокоен и тверд, но лицо всё ещё горело алым румянцем…
Но темнее ноччи стали очи Симонида, руки плетьми упали вдоль тела, он не сказал эти слова. Изрек, как если бы стал говорящим изваянием:
– Когда смертный отрешится от всех желаний, он станет вечным. Бессмертие дает бог ему в награду. Тогда разрываются все нити и разрубаются все узлы, что опутывали его сердце в этом грешном мире. И он обретает покой. Я долго шел к этому вожделенному покою. А ты, Василиса, вновь хочешь заковать меня, мою душу в эти страшные кандалы?
– Да нет же, нет, Симонид! Это Бог! Бог так хочет! Бог хочет, чтобы люди любили друг друга!
– Уходи. Уйди, Василиса и не зли меня больше. Видеть тебя не хо – чу. И слышать твои греховные речи. Оставь же меня, несчастного! – вдруг вскричал он и упал на землю.
Никто в общине про Василисину смуту не вспоминал. Что она в брачную ересь ударилась.
А может, не знали люди об этом вовсе.
Но болезнь так и не оставила их жалкий скит. Вот и работать стало некому. Только несколько стариков и старух ещё держались на ногах – они и кормили ледащих.
Василиса же, отчаявшись излечить несчастных, подолгу сидела у своего дерева и разглядывала его чудные листочки. Глянцевый верх был липким, и тоненькие прожилки шли по телу листа от черенка к самым краям, ветвясь и ветвясь тонким рисунком. Рисунок этот ни на одном листке не повторялся. Она старалась запомнить хитрый узор и не могла – что-то смутное рождалось в её душе в эти минуты…
У этого дерева весной не было цвета. Не было и плодов. Пробовала лист сушить, настаивать, но зелье получалось отравное. Злое. Даже со – бака отбегала прочь от его запаха.
– Что-то здесь напутано. Или… знамение соблюсти надо? Ах, Симонид! Мудрости в твоей голове много, а в сердце – трава-пустоцвет.
Как-то опять позвали её в село – хворь лечить. Идет она по лугу, полой линной рубахи свежие травы заметает. Несет в маленьком узелке у пояса семь вязок – для молодицы, что от сглазу занедужила.
– Ай, девка, ай, красуня! – кричат ей хлопцы вслед, что на лугу траву косят. – Что нейдешь до нас?
Молчит Василиса, только шагу прибавляет.
В хате, на краю села, на широкой лаве хворая молодица лежит без памяти. Лицо низко повязано хустой. От щек жаром пышет. У печи хозяйка-старуха стоит…
Поклонилась ей Василиса и попросила котел нагреть да в семи чанах воду развести. Пока старуха котел наладила, Василиса в чаны травы разложила. Потом дали ей семь холство, и она стала окунать их в чаны и по очереди покрывать ими тело молодицы.
– Один холст – хворобу в жменьку собери, – шептала она. – Другой – в комочек закатай. Третий холст – в себя хворобу забирай. Четвертый – остаточки смывай. Пятый – свежей силы дай. Шестой – другй хворобы не замай. Седьмой – красу молодичке вертай….
Так проделала она семь прикладов и потом дала знак старухе надеть на молодицу новую рубаху с расшитым низом – красным крестиком по долу шитый причудливый, цветами, узор.
Управилась Василиса да и села к окошку, подле хворой. А та крепко уснула.
Уже и окна в хате потемнели, и лампадка так тихо мерцает под иконами…
Пора бы Всилисе к себе в скит вертаться, да никак встать не может. Сидит, словно её к месту приковали.
– Ну, что? Как хворая? – спросила её старуха.
– Спит. И от лица жаром не веет. Ушла хвароба, нету порчи больше.
– Так садись вечерять с нами, – похзвала старуха. – Голодная, чай.
– Не хочется что-то есть, – сказала Василиса и встала. – И правда, пойду я уже.
– И неча ведьмаке до свету сидеть, – прокашлявшись, отозвался с печи старухин дед. – Да не вздумай монету давать! – крикнул он хозяйке. – Сала дай аковалок – и буде.
– Ладно, батя, не замай, – осадил его муж молодицы и пошел в сени вслед за Василисой.
– Куды? – встала старуха на пороге. – Дома будь.
– Атхились мать, не замай, – сказал он нетерпеливо и пошел в сени.
– Мне в скит надо, – сказала Василиса и быстро пбежала прочь.
– Как знаешь, а то до лесу тебя отвел бы, – крикнул он, но Василиса уже бежала полем.
У первой копешки её ждали.
– А что? Муж у тебя есть? Или вы там, в скиту, все живете блудно? – говорил один, хватая её за косы.
– А к ним сами черти по ночам в гости летают, – засмеялся другой, бросая пустую фляжку под копну.
– Пусти ты меня, сатано… Да что б вы… – шептала она беззвучно, потому что голос её пропал и свет в глазах померк.
В селе протяжно запели девки, луна выглянула из-за рваного края черной грозной тучи и широко осветила поле, но она уже ничего этого не видела и не слышала – словно внезапный вихрь закружил её над землёй, и только красный сноп света ярко вспыхнул на одно мгновение перед её глазами и тут же всё померкло.
…Малиной залило полнеба, когда Василиса подходила к скиту. Притворив дверь, стоял у погребки сам Симонид и хмуро смотрел на неё.
– Ну что, сняла хворобу с молодицы? – спросил он, беря её за руку.
– Да, ушла хвороба. А тебе что не спится? Не занедужил ли?
– Тебя жду, Василиса, – сказал он просто. – Ты правду сказала тогда – это кара нам за наши прегрешения. Подойди ко мне, добрая.
Она встала на колени и поцеловала землю. А Симонид продолжал говорить, глядя на неё.
– Бог есть любовь, ты правду сказала. Мир сотворен для любви. И только так можно стать свободным.
– Так, так… – говорила Василиса, снова и снова целуя землю. – Я буду твоей верной женой, – шептала она. – Перед богом и людьми. Только прости меня за всё!
– За что же? За что я должен тебя прощать?
– Я грешна. Очень грешна. Но видит бог – я готова умереть за свой грех.
– Буде, Василиса, буде… – ласково говорил он, гладя её по влажным волосам.
Наутро в скит прибежали две перепуганные бабы – беда, пропали мужики, может, кто их случайно видел или, может, в скит от грозы забрели? Найти их нигде не найдут, везде обыскались, а в поле, где днем стоги эти мужики метали, яма большая и земля вся кругом обуглилась – как от страшной маланки след…
Но никто им не смог помочь – люди только руками разводили и сочувственно охали.
…Когда в скиту весь народ проснулся, и грамада на поляне собралась, увидали все диво дивное – на Василисином дереве, что вершиной упиралось в небо, а разгалистые ветви давали тень большой поляне, распустились в это утро цветы – розовые, желтые и голубые…
А если с другой стороны посмотреть, так и заиграют они радостно радугой, как прекрасные камни-самоцветы.
К вечеру снова пошел дождь, мелкий, как сквозь сито сеяный. Когда ж на другое утро глянули люди на дерево, то не увидели там цветов. А были вместо них маленькие, как слезки, яблочки.
– Так это же целебные плоды! – закричали они и побежали за Василисой.
Но Василисы нигде не было. Не нашли в скиту и Симонида.
Сели люди под деревом и стали рядить – если Симонид от управления общиной самовольно уклонился, то надо память его проклясть и, не медля, нового предводителя выбрать. И даже стали называть имена других мужей, что по уму и душе могли стать учителями.
Но вот, на поляну, словно свет упал – вышли из чащи Симонид и Василиса.
– Святы божа! Прости нас, сирых, мы, грешным делом, подумали, что ты нас покинул, Симониде!
Так кричали люди, подбегая к святому старцу и, в сильном испуге, отступали назад.
– Ты ли это, святой симонид? – вопрошали они. – А если ты, то расскажи нам, что стало с тобою? Отчего серебро твоих волос теперь житным колосом золотится? Почему глаза твои, зоркие да мудрые, теперь, как у отрока юного, томной смутой подернулись? Что стало с тобою, не томи, поскорей расскажи нам!
Молчал Симонид на их речи, всё ниже голову склоняя. Тогда Василиса смело вышла вперед и громко сказала:
– Радуйтесь, люди! Будет вам исцеление! Видите плоды? – указала она на дерево. – Они есть! И они исцелят вас от хвори!
Она сорвала несколько яблочек-слезок и протянула их людям.
– А ты сперва плоды эти дочке своей дай. Марии! – снова заволновались-зашумели люди. – Почем знать? Может, они ядовитые? И мы, как вчерась тот пес окоянный, что листья понюхал, умрем от их смертоносного сока.
Так кричали люди, плотным кольцом обступая мятежную пару. А двое отроков уже повсюду рыскали – искали дочку Василисы.
Мария же, на зорьке ещё в лес темновой убежала Завидя Симонида с Василисой, как они меж собою гутарили, поняла без подсказки – знамение сбудется.
В лесу темновом, трущобном и диком, росла тёмная ягода на колючем кустарнике. Сок этой ягоды сильнее яда смертного, а смешай с растертыми в мякоть плодами – даст на третьи сутки отстой. И будет в нем сила целебная.
Так сказала ей бабка-ведуха, что жила в тех трущобах от века.
Поскорей набрала она ягод и несет целый жбан на поляну. На тропинке её поджидают, хватают и волоком тащат. Видит, сидит на земле Василиса, позвала она маму – та вскинула голову и зарыдала.
– Вот видите, люди, пришла к вам Мария, и ягод целебных для зелья достала. Ждите недолго, не боле трех суток, и всех вас тем зельем спасем. Но только не надо кричать, бесноваться…
Но стали кричать ещё громче. И не было ладу в криках болящих – кто тут же хотел учинить им расправу, кто с жалостью срок им на три дня продлил.
Спорили крепко, и даже друг в друга с яростью камни бросали.
И всё же решили, что вредным не будет, коль три дня ещё поживут. А мама и дочка с яблони плод натрусили, в мякоть растерли, с ягодным соком смешали и в жбан поместили – пусть настоится.
Народ поутих, наблюдая за ними. Долго сидели, упорно, но стали с устатку в сон погружаться, а кто про дела свои вспомнил и прочь удалился. Симонида же в погреб закрыли, сказавши под стражей сидеть, пока исцеление выйдет.
Так подло вели себя те, кто утром ещё и в лицо посмотреть не посмел бы без страха.
«Вот людская покорность! – шептал удрученно учитель, ты сегодня – святой, ну а завтра – об тебя вытрут ноги. Только дай слабину… А всё зависть – аки ржа ест она сердце».
«Что ты бормочешь, предатель? – крикнул на ухо охранник. – Не темные ль силы скликаешь? Так знай – мы погребку крестами святыми закрыли. И нечисти к нам не пробиться!»
Прошло три дня, и жбан из прохлады достали. Наклонили над чарой – полилась из него струйкой влага.
Народ замер, готовый ко всякому делу. Василиса царицею смотрит, глазами людей усмиряет.
– А теперь ко мне подходите. Смело идите, без страха, но с верой.
– Марии! Марии сначала испить дай! Ей дай волшебное зелье! А вредно не будет, мы тоже попросим!
Василиса вздохнула и кротко сказала:
– Да что вам Мария? Не верите, ну так – смотрите.
И, наклонившись над чарой, долго пила, без отрыву. После, взявши на пригоршни зелья, стала лицо умывать им и шею.
Люди, назад отступивши, снова поближе прильнули – смотрят и диву даются. Тени и даже морщины с лица Василисы исчезли, а щеки, бледные, как с голодухи, свежею краской зарделись.
– Видите? Так подходите, лиха не будет, – звонко звала Василиса, и каждый, лечение приняв, дышал глубоко и свободно.
Василиса под дерево села, прижалась к неровной коре и уснула, а люди до ночи плясали, про хвори и вовсе забыв. Свстели кровавые прутья и цепи звенели, в священном экстазе радели они до утра…
Так появились в общине супруги – муж Симонид и жена Василиса. Хоть и не нравилось это народу, да только смирились. Уж больно великая радость была в исцеленьи. А Василиса, крепко обняв Симонида, плакала тихо, незлобно, – будто новые беды сердце вещало.
В тот год не уродило жито. Его и немного было – всего два засева на ближних полянах. Но смута пошла – небо злится за наших смутьянов…
И какой он теперь преводитель, коль любовь ему розум смутила? Вот ведь что вздумал – что день, то раденье! Так ли бывает у честных и верных?
И черная, лютая зависть, исподволь в сердце проникнув, горькую кровь кипятила.
Будем ли в царстве небесном?
…Раз, на неделе, за Василисой пришли из села – малые дети при хвори. И чернику, и лист от капусты, и макатерчиком кровь разгоняли – а хворь не проходит! Последнее слово – лекарке. Уж если она не поможет…
– Дам денег, две гривны, паневу расшитую доне, всё дам, что попросишь, пусть только поправятся детки! – так женщина плачет, зовя Василису на хутор.
Пошли они вместе с Марией. Собрали лекарство да пару лепешек на ужин.
Справились быстро, детки спокойно уснули, но женщина их не пускает, боится, что ночью опять худо станет. Про скит и слышать не хочет – куда ж идти в ночь по болотам?
Петухи закричали по третьему разу, тогда только дверь Василисе открыли. Она, от монет отказавшись, подол за пояс заткнула и, за руку с дочкой, в лес устремилась. Быстро бегут её ноги, но сердце трепещет – быстрее! Быстрее!
Тяжелые тучи ползут небосклоном, сквозь мрак на востоке полоска светлеет. Когда до скита уж осталось недолго, упала на травы Мария, без сил и со страхом.
– Мама, мне чуется, гарью запахло.
Мать возразила, с земли поднимая и крепко за руку взявши:
– Откуда быть гари? Всё тихо, гроза не заходит. И снова, летя над травою, в скит поспешила.
Вот и сходник. Все окна глухо закрыты, и дверь заперта. И пусто в погребке.
В страхе животном метались они по поляне, громко кричали и, ногти ломая, в окна стучали и били ногами о дверь. Но им не открыли.
– Где муж мой? – кричала, рассудок теряя, лекарка. – Что делали ироды в нашем жилье?
На светлой холстине, что топчан покрывала, алой ленточкой след – уже запеклось.
– Ах, злобные бесы! Поганые твари! Не ймется вам жить по-людски!
– Мамочка-мама, там дом запалют, и дым повалил из стрехи…
– Что ты, Мария? Дом… запаляют? Идем же туда! Да скорее беги! Топор принесёшь? Или ломом… Надо скорее двери сломать! Видишь, горят!
Огнище голодно небо лизало, круто вздымались во тьме языки.
– Будьте вы прокляты! – губы шептали, а пальцы срывали перстень с руки.
Кольцо обручальное в пламя швырнула и рухнула наземь, теряя со – знание, слушает гул. Но треснуло небо, и ливень холодный вернул её к жизни. Вскочила – к жарко горящему дому спешит.
Пламя утихло, шипят только бревна. Люди наружу бегут, крестятся, что-то кричат…
Только не видит средь них Симонида.
Наконец, всё затихло. Черным боком угрюмо корячится сходник. Идет, видит, на приступке что-то блеснуло. Подняла свой перстенок, обтерла, на палец надела.
Смотрит в дверь – у столба Симонид. Цепью прикован. Рубаха вся в клочьях. Тело в крови…
Вынесла тело она на поляну, взяла лопату, стала копать. Господи! Новое дело! Корни у дерева все подрубили! Ироды трижды! Мало гореть вам в огне!
Схоронив Симонида, ушли из проклятого места. К людям, в село, поселились у детной вдовы. За леченье давали им деньги да сало, и скоро свой домик поставили – ближе к ручью.
Прошло время и раны на сердце утихли. Отправились в лес – на скитное место взглянуть. Дерево высохло, голое, жалкое, только черные птицы кружатся над ним.
– Мама, смотри, это души святые! – шепчет Мария, мамкин рукав теребя.
Глянула – диво! И, правда – повсюду, сколь видимо глазом, цветы.
– Мама, они как живые!
– Ну, ясно, живые, они же – цветы.
– И яркости сколько! Краски какие… как, помнишь, на дереве были тогда лепестки?
– …желтые, розовые и голубые…
Москва
Декабрь 1983 – май 1985 г.г
Примечания
1
польск.
2
польск.



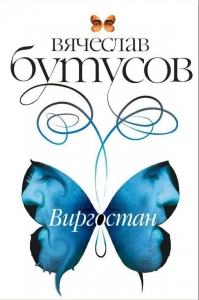








Комментарии к книге «Круговерть», Лариса Владимировна Миронова
Всего 0 комментариев