Нина Горланова,Вячеслав Букур Тургенев, сын Ахматовой
Простые истины Нины Горлановой и Вячеслава Букура
О прозе Нины Горлановой и Вячеслава Букура много написано. Соавторы из Перми широко публикуются, и критики часто и, как правило, благосклонно отзываются о них: Андрей Немзер, Евгений Ермолин, Георгий Гачев, Павел Басинский… Список можно продолжать.
Я слышал выступление Нины на одном из ежегодных вечеров журнала «Знамя» (она получала премию редакции) – там она цитировала слова Натальи Горбаневской: «Горланова не боится выглядеть ни глупой, ни смешной – как Джульетта Мазина». Затем Нина сказала примерно следующее: «Но мы с мужем все же кое-чего боимся – боимся обидеть реальных людей, о которых пишем. Да, мы берем истории из жизни знакомых и друзей, но стараемся всех замаскировать. Блондинок делаем брюнетками, высоких – низкими. Однако сам прототип все равно себя узнает».
Большей частью истории, которые рассказывают Горланова и Букур, пришли из жизни их собственной. Например, прототипами «Романа воспитания» являются авторы, взявшие в свое время в семью беспризорную девочку с улицы. (Этот роман был опубликован в «Новом мире» и сразу попал в финал премии Букера.) «Девочка из лужи» – отмытая и вылеченная – оказалась талантливой художницей. Через шесть лет она ушла к родной тете, которая пообещала ей купить джинсы (в советское время, когда джинсы были, как сейчас – «мерседес»). Героиня доставляет много бед своим опекунам, но ясно, что авторы, то есть прототипы, осознали, что внешнее педагогическое поражение привело их к внутренней победе над хаосом.
В повести «Тургенев, сын Ахматовой» продолжена семейно-бытовая тема. Здесь прототипом главной героини стала одна из дочерей супругов-соавторов, ранее – в других вещах – не заметная. Писано о своем, выстраданном – и читатель верит авторам, пишет им письма, шлет телеграммы. Одна девочка из Питера даже написала продолжение повести, где продлила все судьбы героев до самой старости (об этом папа девочки написал в журнал «Октябрь»).
У прозы Горлановой и Букура вообще счастливая судьба. Рассказ «Девятины» давно инсценирован на малой сцене МХТ им. Чехова. Рассказ «Пока дождик без гвоздей» переведен чехами для сборника современного русского рассказа. Несколько вещей уже есть на китайском. Но многие не верят в подлинность этих историй, не верят, что герои, подобные Льву Львовичу («Пока дождик без гвоздей»), являются из жизни. Скептики говорят, мол, эта проза мимикрирует под документально-магнитофонную. Льва Львовича некоторые критики считают чисто литературным персонажем из разряда идиотов – он ведь спасает проституток, помогает им вернуться к жизни. Я и сам считал этого героя полностью повторяющим чеховского студента из рассказа «Припадок». Но соавторы уверили меня, что это совершенно пермская история, полностью из жизни (только блондин замаскирован под брюнета и т. п.), и герой пермский, реальный… Горлановой и Букуру хватило вкуса не жалеть своего Льва Львовича, его прошлое (красные охоты с обкомовцами) дано вполне безжалостно, вполне правдиво.
Хотя проза Горлановой и Букура должна вроде бы числиться по реалистическому ведомству, на самом деле из сора жизни вырастает литература экзистенциального толка, где волей авторов герои ставятся в ситуацию выбора и двигаются в сторону от обманов и соблазнов. Верно написал Леонид Быков, критик из Екатеринбурга, в предисловии к одной из книг Нины: «Горланова – это Петрушевская, написанная Довлатовым». На этой цитате и закончу.
Александр Кабаков
Нюся и мильтон Артем
Например, сидит Нюся на вокзале. Пока она не вошла в зал, все смотрели мимо друг друга, щадя свои силы для сельскохозяйственных работ. Когда Нюся появилась – причем она до этого видела яблоневые цветы на асфальте и по ним восстановила ход свадьбы, которая здесь текла час назад, – все поняли, для чего они занимаются дачными работами: чтобы не умереть и вечно видеть таких девушек, словно выходящих из сияющих раковин.
В зале примерно сорок человек, из них большинство – женщины. Нежный мужской пол исчезает под радиацией жизни. Нюся спешит пересчитать мужчин, которые в наличии.
Оказывается, здесь их пятнадцать. Из них большинство пожилые, старше тридцати, – они сами собой перестают замечаться, сереют, выцветают и уходят в ненаблюдаемую часть. Осталось четыре молодых. Один сразу скрылся за валом обручального кольца. Другого отметаем за ухабы на лице, хоть он и не виноват.
Оставшиеся два – это просто Буриданов осел. Нюся чуть ли не с болью принимает волевое решение: отбрасывает мужественного красавца почти с печатью мудреца плюс будущего надежного главу многочисленной семьи. Ладно, говорит она мысленно, пусть его возьмет кто-нибудь другой, другая. А того, которого Нюся выбрала, она начала облучать сильным сигналящим взглядом, дающим знать, что она уже здесь, вся жизнь сложилась для того, чтобы вот сейчас…
Но тут к избранному подошла какая-то с челюстью, и он, дрожа, наклонился над ней, будто она – с челюстью – что-то единственное на свете, будто Нюси вообще на свете никогда не будет. Нюся спохватилась искать того домовитого красавца, но он уже протискивался к выходу. Может, тоже поедет в Жабрии вместе с ней? Но он, проходя мимо, слегка споткнулся и матом прокомментировал свою неуклюжесть. Не нужен. Свободен.
В вагоне электрички Нюся опять за свое. Сидит примерно сотня, как всегда – большинство женщины. Сестры по жизни… И так каждый раз, всякую секунду, ежедневно. А Лена еще в девятом классе ей сказала, что у нее этот выбор и поиск совсем по-другому идет. Брожу-брожу, она говорит, по городу, естественно, никого не считаю.
Раз! Вижу лицо! И тут уповаю на судьбу. Если он уплывет за угол, значит, не мой…
А Оле в десятом классе мама внушила: «Если хочешь, чтобы прилетели скворцы, нужно построить скворечник». И Оля каждое утро полчаса строила перед зеркалом свое лицо: закладывала фундамент в виде тонального крема… нет, сначала котлован (шел в дело скраб). Два вида пудры и три вида теней она накладывала по схеме, приведенной в книге «Красивая навсегда».
После окончания школы Нюся пыталась поступить в Институт культуры, чтобы потом быть дизайнером, но в результате в начале сентября уже стояла у ЦУМа и торговала цветами. Через час ей казалось, что прошел день. Оценка всех прохожих (ходячие кошельки) растягивает время неимоверно! Вдруг к обеду она поняла, что уже не ищет никого каждую минуту, как было раньше. Нюся исколола все пальцы розами. А учебник ботаники меланхолически повествовал ей в свое время: «Роза обладает острыми выростами эпидермиса».
Для Нюси каждый учебник был каким-то немощным старичком предельного возраста, и она, бывало, посреди зубрежки говорила ему: «Держись, друг! Мы с тобой вместе доковыляем до конца этого ужасного сказания». А Лена говорила, что учебники разговаривают с нею бодрым голосом Дроздова, ведущего телепередачи «В мире животных». А Оля уверяла, что автор учебника, падла, захлебывается скороговоркой, как будто он работает диджеем на радио «Максимум».
На каждый шип розы Нюся смотрела с тревогой, как однажды – на своего одноклассника Тимку, который кинул в рот лезвие безопасной бритвы и моточек ниток, после этого он с хрустом все жевал, а когда стал доставать, то на нитке оказались кусочки лезвия, как бусы нанизаны.
Подошел молодой милиционер, представился: Артем – и улыбнулся так, что Нюсе показалось – его уголки рта сейчас с треском встретятся на затылке. Так улыбался еще учитель истории, который только недавно окончил университет и на котором старшеклассницы шлифовали свои первые приемы кокетства. Он говорил то, чего нельзя встретить в учебнике истории: «Древние греки были настолько умны, что не изобрели атомную бомбу!»
У Артема, мильтона, по рельефу щеки сбегал шрам, уходил почти внутрь.
– Мне этот шрам один чеченский боевик подарил, – бросил Артем.
– Дружба народов, – печально сказала Нюся.
И в эту секунду их осенило чувство совместимости: как будто не встретились, а никогда и не расставались.
– Я хотела поступить в институт… чувствую, что Бог в меня что-то вложил, но…
– Кстати, о Боге. У нас есть милиционер на работе, кришнаит, он повесил над умывальником мантру, а ниже плакат – вырезал буквы из газеты: «Мойте за собой посуду!»
Слова Нюси и Артема были первыми попавшимися, темы тоже, но оба они считывали с лиц друг друга неслучайность этой встречи. Нюся не поступила в институт и пошатнулась внутри себя, а сейчас вот наконец поняла, что выпрямляется там, внутри, словно мысленно опершись на локоть Артема…
Запищала рация, заскребла по барабанной перепонке:
– Артем, в ЦУМе задержание, зайди к Савченке!
– Нюся, я пошел, а ты смотри – Фамиля не выбери, он скупец, а вот этот, с духами, Муханов, философ, преподает в педе… Я скоро приду!
Фамиль и Муханов – два молодых хозяина двух соседних палаток (фруктовой и парфюмерной). Фамиль был лыс, но глазел на Нюсю так, словно не понимал, что лысые составляют второй эшелон, страховой, – за них выходят тогда, когда разбился первый брак. Философ Муханов пересчитывал коробки с духами и говорил:
– Любовь – это восторги жизни перед бездной… Там, в этой точке, осознаешь, как схлестнулись жизнь и смерть… Да вы, дорогая, – это он своей продавщице, – внимательнее записывайте все, что продали!
Отец Нюси вечером скажет, что он лично встречал в Перми уже трех философов с практической жилкой – все они имеют свои киоски и продавщиц! И все они порядочные люди, а это очень много, это почти все, добавил отец. Но Нюся уже выбрала Артема, хотя в этот же первый вечер Муханов ей звонил, советовал подержать руки в содовом растворе. А утром с ироничной улыбкой якобы рассказывал Артему: «Нюсе звоню – весь трясусь, голос в трубку не заходит…»
На лице Муханова было написано примерно следующее: «Соломон премудрый говорил: бабочка иногда пролетает мимо цветка и садится на дерьмо – утешения нет…» При этом он не забывал делать замечания своей продавщице: «Да вы считайте внимательнее!»
Дня через три Муханов сказал так: «У человека есть выбор, отчего ему надорваться», – и у Нюси завяли самые крупные розы, а может, они завяли часом ранее, просто она заметила сейчас. Хозяин (его звали Наби) задешево брал все цветы и почти не огорчался, когда попадалась партия, почти тут же жухнущая, а Нюся почему-то расстраивалась.
Еще Нюся чуть не поссорилась с Валентиной, торговавшей духами у Муханова. Эта Валентина окончила филфак и говорила: «Я, право, не знаю, может, вы купите эти?» Про Артема она выражалась пренебрежительно:
– Мой брат тоже из Чечни пришел, но ни он сам, ни его товарищи, там воевавшие, ни-ког-да не говорят про бои! Все они молчат. И все раненные тоже! Один даже часть печени потерял… Это очень тяжелое ранение!
Нюся защищала своего мильтона: люди ведь разные, одним легче молчать и забыть, Артему легче выговориться. Он не может в себе консервировать эту бойню.
И Валентина тут же уткнулась в кроссворд, а вскоре спросила:
– Славянский самурай из пяти букв?
– Казак? – предположила Нюся.
– Точно! Второе «а».
И так через день Валентина критиковала Артема – не мог он коньяк из Грозного привезти (они его выпили еще там, коньяк, через месяц после того, как разбомбили завод коньячный). Нюся тут же объявляла Валентине войну: окружала, разбивала и с победой возвращалась за свой прилавок. Коньяк Артем привез, потому что спрятал в одном подвале канистру! Ну, возражала Валентина, его с ранением отправили в Москву, если не врет, как же он мог захватить эту канистру-то? А очень просто: на другой день друг Артема, знающий про подвал, захватил…
В общем, в ноябре Нюся сказала родителям, что вскоре приведет Артема и надо перед сим покрасить заново дверь в кухню.
– Надо Ленина убрать из туалета, – сказал отец.
Огромный Ленин висел там с весны, чтоб холст разгладился (Нюся собиралась на нем писать – поверх, но не поступила). Отец Нюси уверял, что со временем это будет антиквариат, чуть ли не в цене Рафаэля, внукам наследство. Нюся хорошо понимала юмор: «Ты считаешь, надо убрать Ленина, чтобы Артем не женился на мне по расчету?»
Вокруг ЦУМа летал смоговый дракон, но любовь была как фильтр, она прокачивала все, поэтому для Нюси и Артема деревья казались зелеными, как будто только что они вернулись из леса, где гостили у своих родственников, и облака были белыми, чтобы их, влюбленных, не огорчать. На самом же деле в этих облаках были примеси соляной и серной кислот.
– Мы купим этот ЦУМ. – Артем сделал обнимающий жест к витрине, вдаль, – или это был загребающий жест?
– Как купим? – Нюся вздрогнула, и витрину начало затягивать чем-то таким, словно она опустила веки (на самом деле солнце выбежало к окнам и слепо отразилось в стеклах).
– Ну, летом следующего года я поступлю в Высшую школу милиции и через десять лет буду главой МВД области! Генералом.
– Да, мой генерал?
Даже без увлечения, твердо, ясным обеспеченным голосом Артем продолжил:
– Этот пятиэтажный дом мы купим тоже, в нем будем жить. А этот, соседний, купим для детей. И их гувернеров…
«Тяжело», – подумала Нюся.
– А скоро повезу тебя на рыбалку. Место такое знаю, – Артем чувствовал, что почему-то ЦУМ не прошел, – там рыба до того нетерпеливая! Подойдешь с крючком в руках, а она высигивает аж – хочет насадиться! В лодке плывешь, только от берега отчалил – тебя по щуке с каждой стороны конвоируют, высматривают, нет ли крючка, чтоб насадиться…
Нюся покрылась невидимым миру цементом. Он все понял. Значит, рыбы тоже не прошли. Щуки на него грустно посмотрели: «Извини, не удалось тебе помочь» – и уплыли вдаль по Советской улице, пожимая плавниками.
Процесс создания миров завораживал Артема: факты и сведения в виде бревен в голове лежат, грудой, а так – в процессе выдумывания – бревна восстают и складываются в дома, в каждом кто-то живет, и жизнь этого кого-то начинает зависеть от тебя, от того, что ты выдумаешь…
– Боже мой, Нюся, да о какой рыбалке я говорю?! Думаешь, для чего я все это несу? Да чтобы забыть… У меня же все руки в крови! По локоть в крови, да. После Чечни.
– Ты же выполнял приказ…
– Да, конечно, я выполнял приказ. Но почему я не успокаиваюсь?
Тут бы ему замолчать, однако, как у всякого творческого человека, у Артема не было чувства меры. И он сказал блаженно мягким ртом:
– Уеду в Югославию. Там всем по дому дают, кто за них повоевал! А ты меня будешь ждать?
Тут Нюся повернулась и пошла, пытаясь что-то думать, но в голове после слов Артема не осталось ни одного думающего уголка. Такое свойство имеют речи фантазеров: они гипнотизируют слегка. Отец Нюси говорил, что под воздействием ТВ фантазеров больше стало.
Ну что такое, думал Артем, почему они все меня так не любят? Ведь я же лишь одну из ста мечт рассказываю, а то бы вообще меня в милицию не взяли… Эх, перейти бы в частную охрану! Но там памперсы надо на свои деньги покупать, в туалет не отлучишься. И все время нужно тренироваться, Нюся тогда другому достанется, а без нее я не могу жить. Проплыли строки из пособия: «Если по вам открыли стрельбу из автоматического оружия, то не думайте, что вы обречены. Реактивные силы, возникающие в дуле, отклоняют автомат вверх и вправо, значит, вы должны начать кувырок влево и вниз…»
Нюся перешла на Центральный рынок и не вспоминала об Артеме до той минуты, пока снова не увидела его. Это был уже не любящий взгляд, а лишь физический, она его разглядывала, как предмет. Артем пытался сказать ей то и се, но видел, что все бесполезно, она от него отчаливает. Ненадежный причал. А хотел казаться надежным причалом, а может, где-то даже и портом.
После Нюся встретила Валентину, ну, которая говорила: «Я, право, не знаю», и она с усмешкой передавала: мол, Артем говорит, что Нюська, наверное, пожалела о нем, ведь его родичи фирму открыли, ему за руководство охраной платят по три тыщи баксов. Но Нюся поступила в то лето в институт, и случайно имя Артема всплыло в ее жизни лишь через три года, когда она праздновала Новый год в одной компании, где было несколько милиционеров.
Нюся сразу начала прикидывать, делить на неравные части, отсеивать, в конце остался скромный отряд из трех человек. Тут она спохватилась: она же три дня назад вышла замуж! И пора уже отвыкать от постоянного перебора кандидатур, от этой трудной исследовательской работы. Уже ведь не нужно… Тем более что муж – следователь.
И тут вдруг муж посмотрел на нее профессионально, как будто послал ей повестку взглядом:
мол, дорогая жена, завтра утром в девять ноль-ноль приглашаю на беседу в кухню (подпись, печать). Но Нюся тут же так помяла его локоть: я только с тобой, одним тобой, ты мой единственный Эркюль Пуаро! Ну он тогда это… повестку отозвал.
– Артем сказал, что у его невесты платье будет за четыре тысячи баксов, ну и весь ЦУМ высыпал посмотреть, но никакого платья вообще не было – так, костюм из голубой шерсти, что ли… А еще он обещал нам ящик водки из «Перм-алко», неделю напоминали, расщедрился – купил в ларьке одну бутылку на всех. Бодяжки.
Все смеялись. Нюся решила справедливости ради заступиться за Артема:
– Слушайте, все-таки он ранен в Чечне, можно понять!
– В какой Чечне? Он со мной в Бершети служил, тут, близко…
– А шрам откуда? – Нюся растерянно замерла.
– Шрам? С детства у него этот шрам, Чечня тут ни при чем. Я же в параллельном классе учился с Артемом.
Через неделю Нюся стояла на остановке и ждала троллейбус. Мимо прошел Артем с беременной женой, которая еще долго оглядывалась на Нюсю. В ее широко открытых глазах ужас был смешан с любопытством. Что же Артем сказал ей такое замечательное про нее, Нюсю? Скорее всего, история вот такая: я обещала выйти за него замуж, если он даст десять тысяч баксов на открытие своего дела. А потом… и замуж не вышла, и деньги тютю. Не вернула баксы! Да мало этого – еще хотела крышу свою на Артема натравить, но не на того напала!
Нюся увидела облако с человеческим лицом: медленно открылся рот, глаз поплыл на затылок, а клочки седины с головы стали течь в сторону Камы.
Иван, ты не прав!
Стало быть, все посмотрели за окно. Там, на железном карнизе, слегка подрабатывая крыльями, чтоб не упасть, стоял странный голубь. Огромный, и при каждом шевелении по нему вжикали радужные молнии.
– Таких голубей не бывает – белый в яблоках!
– Нина, ты еще не поняла? Это душа Милоша, – затрепетал Оскар Муллаев. – Сегодня ведь сороковой день…
– Да бросьте! Птица – потомок динозавра.
– Букур, ты опять все опошлил!
А Вихорков вообще словно забыл, что мы собрались ради Милоша:
– Слава, вы живете в центре – к вам прилетает голубь, мы живем за Камой – к нам прилетает мухоловка. А наш Мяузер любит на нее охотиться, на мухоловку, у нее гнездо на лоджии. Ну, конечно, за стеклом, снаружи. Она хлопочет, приносит стрекозу величиной почти с самого птенца, а тот разевает рот, который становится больше его! И мать начинает заталкивать стрекозиное тело птенцу в глотку – только крылья отлетают, блестя, как слезы. А кот прыгает – раз, другой, разбивает рыжую морду о стекло, падает, трясет башкой величиной с горшок. Снова мощно прыгает. Остается в изнеможении, но взгляд довольный, как у культуриста, вернувшегося с тренировки. А потом как навернет пол-упаковки «Китикета». Мы с Руфиной любуемся: какой бы орден ему повесить на грудь.
* * *
– Слушайте, пора помянуть любимого поэта! – И Оскар вручил штопор самому молодому из нас, Даниилу Цою. – Бог так любил Милоша, что дал дожить до осыпания коммунизма в Польше.
– А в России сейчас свобода испаряется.
– Нина, так я об этом же говорю. – Вихорков нервно двинул локтем и рассыпал листы, лежащие на прозрачной папке Даниила Цоя. – У меня сын и невестка уехали в Израиль, а неугомонный Кремль – сами видите – куда повернул. Боюсь, что Интернет перекроют.
– Ну а в конце-то концов, мы же знаем, чем все закончится. Перед Страшным судом люди откажутся от свободы и поклонятся антихристу.
– Нина сегодня – катастрофист на пенсии, как Милош прямо! – покачал головой Оскар. – Но рецепт он дал – нужно все равно подвязывать свои помидоры.
– Да, так. Чем больше людей будут сохранять свободу, тем дальше они отодвинут день Страшного суда.
* * *
Голубь – Милош? – продолжал с интересом заглядывать к нам в комнату. Поэты всегда объединяют, даже после смерти.
А когда Чеслав Милош был жив, 1 июля 2001 года мы отпраздновали у нас же его девяностолетие и поздравили его телеграммой. Адреса не знали, поэтому решили: ну, пошлем прямо в Краков – поляки наверняка доставят поздравление нобелевскому лауреату.
Но вот прошло три года, и стоит уже посреди стола поминальная стопка для нобелиата, накрытая черной горбушкой.
А Вихорков между тем продолжал свой рассказ:
– …сын собрался в Израиль и для кошки все документы выправил. Для своей королевы Баси. Вы ведь не видели Басю, у нее лицо – как у умной белки. И вот надо им вылетать, а по РТР передают: забастовка в аэропорту Бен Гурион. Игорь тут начал мучиться, взыграло в нем русское такое разрывание рубахи на груди: «Что будет с Басей? Нас посадят на другом аэродроме, в гостиницу там с кошкой пустят или нет, не известно… Ой ли вэавой ли! (Горе мне!)» Это в конце концов в нем пробудилось материнское начало.
– Вихорков! Ты вообще-то понял, нет, что сейчас не до кошки Баси?
– Да у Милоша вечность в запасе, – с укором посмотрел на всех Вихорков, – дайте же дорассказать!
Гости готовы были дослушать, но при условии, что все будет в железной последовательности: выпить – помянуть – закусить – выслушать.
– Слава, шевели руками – наливай! Нина, мы сардельки принесли – хорошо бы их сварить…
Все приняли, за исключением Цоя, который был за рулем. За то, чтобы земля Европы была Милошу пухом.
После чего Вихорков начал изображать всю историю в лицах:
– Я закричал на детей: если кошка там будет вам помехой… какое начало новой жизни в Израиле! Оставляйте ее в России, мы справимся. Ну и что, что она нас не знает. Немного-то знает. Дело в том, что квартиру дети уже продали и жили перед улетом с нами. И каждый день Мяузер подходил к Басе и замахивался лапой, чтобы она не забывала, чья здесь территория. А когда она попыталась спрятаться на лоджии, он вообще пару раз успел полоснуть ее кинжальными когтями: это мой тренажер – мухоловка и птенцы ее! Не знаю, доберусь я до них или нет в следующем году, сейчас-то они, заразы, улетели, но уж прилетят весной – так не для тебя!
* * *
– Мне кажется, мы опять чуть-чуть забыли про Милоша, – не утерпел Оскар Муллаев. – Европа осиротела без него. И мы. Надо выпить за здоровье переводчиков Милоша: Наталью Горбаневскую и Бориса Дубина!
На этот раз Вихорков не присоединился к всеобщему вскрякиванию, засасыванию воздуха и закусыванию, он продолжал:
– Игорь с Лидой в среду улетели, а Бася весь четверг ела «Китикет», пила молоко, значит, надеялась. Но в пятницу уже она все поняла и легла на Лидину юбку, оставленную на стуле. В общем, закрыла Басенька свои глаза, закаменела и дышала все незаметнее. Видно, юбка хозяйки потеряла запах. Мы Басе говорили: забастовал аэропорт Бен Гурион, они когда-нибудь приедут в гости, звонят каждый день и спрашивают про тебя, а мы врем, что Баська беседер (в порядке), – и не стыдно тебе? У них, репатриантов, и так проблем миллион. Мы Басе и радио включали, уходя на работу, и чуть ли на колени перед ней не становились. На седьмой день кошку била дрожь, и Руфина сказала: все, вызываем ветеринара или мы ее потеряем, а дети нам никогда не простят. Мы в это время уже зауважали кошек…
* * *
– А мы тоже уже себя зауважали, – зашумели люди, то есть гости. – Вон сколько сидим без выпить, слушаем про твоих из ряда вон кошек. Чтобы не загордиться, надо срочно выпить!
И вот некоторые гости пустились в этот процесс, а Вихорков показал свои руки – все в ужасных шрамах:
– Приходит ветеринар, лучащийся, светлый: сразу видно, что человек получает хорошие деньги. И в первую же минуту он заметил наш антикварный подсвечник: три грации. Руфина перехватила жаждущий взгляд и сказала: вылечите Басю – и подсвечник ваш. Не говоря уже о деньгах. За будущий подсвечник наш ветеринар взялся за дело основательно: открыл чемоданчик, достал всю свою аптеку. Он сказал: у кошек не только рефлексы, у них есть высшая психическая деятельность. Мол, Павлов не прав. У Баси суицидальный синдром. И сочинил сложную схему лечения, как для людей. Это двенадцать уколов в сутки: надо было вводить кошку в нирвану и выводить из нирваны. Внутримышечно – в заднюю лапку, подкожно – в загривок. Вот ты, Нина, помнишь, позвонила, а я тебе отвечаю: только что надел кожаные перчатки и куртку, у Руфины шприц наготове. А каковы у Баськи когти! – Тут Вихорков снова показал шрамы. – От перчаток – одни клочья. А сын звонит, и я не выдержал, уже три ночи не сплю, прорвало: так и так, спасем Басю или нет, но делаем все. Игорь сразу: покормите ее рыбой. Про рыбу мы и не подумали, ведь наш Мяузер ее не любит, а ест только свой сухой корм.
– И рыба помогла?
– Да, Нина, да. Рыба победила стремление к саморазрушению. То есть Баська сначала колебалась, запах рыбы тянул ее в жизнь, но что это будет за жизнь – без любимых хозяев! Однако ведь они сами меня бросили, да и Лида уже совсем испарилась из юбки… Бася поела, и снова у нее стало лицо умной белки.
– Ура! – закричал Оскар Муллаев. – Теперь можно наконец о Милоше? Вспомянем еще раз!..
– Нет, это еще не все! – перебил его Вихорков.
– Как – не все? – рассвирепели гости. – Баська жива, полнота жизни, чего тебе еще?!
– Много чего. Ведь Мяузер решил умирать.
Гости застонали.
Но делать нечего: выслушали историю и про Мяузера, который подумал, что Баська захватила его территорию, а хозяева-предатели на ее стороне. Еще и рыбу ей варят… В общем, сразу он выцвел, стал видом, как бледная зимняя морковь. Залез, бедняга, под ванну, тоже отказался от еды-питья, и вот уже его бьет дрожь. Хоть снова вызывай ветеринара, а подсвечник-то уже тю-тю! Там, наверное, квартира у ветеринара – музей антиквариата! К красной мебели – только текин! Да, ковры такие. Ну, Вихорков постелил простой коврик на полу ванной комнаты и лег.
Разговаривал с ним около часа: выходи, пока осень и стекло не замерзло, ты будешь – как всегда – провожать на работу, прыгнув на подоконник! «Я тебе помашу снаружи – ты мне лапой ответишь, а то ведь скоро зима, стекло затянет кружевным инеем, и ты хренушки там че разглядишь, как ни царапай. Ты помнишь, как зимой царапал по инею! А еще ты забыл, что у тебя есть такая радость – птичка-мухоловка, настанет весна, она опять прилетит и будет радовать твой охотничий инстинкт, и снова ты будешь бросаться на нее, тренируя ударами об оконное стекло свою мощную рыжую морду. Что касается кошки Баси, то скажу тебе как мужик мужику: действуй! Рядом с тобой такая модель ходит, и как она течет – на четырех лапах»! Но этот братский тон не прошел, Мяузер еще глубже забился под ванну и закрыл глаза от отвращения, и Вихорков тогда залепетал, как классная дама: «Да у вас с Басей, да потом, да будут дети-рыжики…»
Все мы засмеялись, потому что Вихорков был живой комод, который вдруг заговорил нежным умирающим голосом.
– А что? – поднял брови Вихорков. – В самом деле Иван Петрович Павлов не прав. У животных не только рефлексы. У них есть что-то высшее… Я стал потихоньку Мяузера выколупывать из-под ванны, продолжая сюсюкать, прижал к груди, а Руфина уже поднесла черепушку с молоком. И все наладилось…
* * *
Молодой поэт Даниил Цой то поправлял косынку на волосах, то вынимал из папки листы, то обратно их туда помещал. У его жены, сидящей рядом, блузка с глубоким вырезом на груди, а в упругой ложбинке – серебристый мобильник. Так что Пушкин, увидев ее, мог бы написать: «Ах, почему я не мобильник». И раздался звонок. Она выхватила аппарат из волшебной долины:
– Да, слушаю. Лес? Какой лес? А… поняла, лес на продажу! Передаю трубку мужу.
И тут молодой поэт Даниил Цой из блистательного преподавателя университета, неистового поклонника Милоша (который ему снится), превратился в коммерсанта. Глаза заблистали капитализмом, а на острие голоса появились кубометры, проценты, переводчики с японского. Когда разговор закончился, он обратился к нам:
– Почему здесь не сидит ни одного переводчика с японского? Эх, Слава, зачем ты без фанатизма учил японский!
– А почему роща деревьев сама не решает, кому и на что отдать свою плоть? На бумагу ли, чтобы вышла книга… Кстати, некоторые хитрецы писатели подкрадывались бы к ней, обещая: у нас есть удобрения, на этом месте новая роща вырастет. А роща бы им отвечала: пусть мой совет деревьев скажет. А деревья хвать хитреца за шкирку мощными ветками и как катапультой – за тридевять земель. Он летит и говорит: подумаешь, зачем мне роща, да уже начинают из песка бумагу делать – белую, вечную. Ее хватит на все. Упал он на чистый, желтый песок, зачерпнул его в горсть, любуется, а песок прокашлялся и изрек: хрен я тебе дам себя на твою книгу. А Чеславу Милошу роща махала бы своими кронами: сюда, сюда! Я дам тебе столько бумаги – на все книги, что ты написал!
Зазвенело нетрезвое стекло, Вихорков встал и добавил:
– Чеслав, передай Ивану, что он не прав.
* * *
Да, пришло время сказать, что в прозрачной папке у Даниила. Там у него, во-первых, девять стихотворений, которые он написал в промежутке между рубками двух рощ. Во-вторых, благодарный ответ Милоша на наше поздравление с девяностолетием: «Как я рад, что далекие камни Урала становятся камнями Европы». А в-третьих, в папке оказались наши стишки, но не размышляющие, как у Даниила, а…
Впрочем, смотрите сами.
Индеец трясет томагавком: Привет Милошу! Чукча пишет эссе «Однако, Милош!» Бежит поэт Лаптищев: А ну его, Милоша: Коммунистам не давал, И фашистам не давал! И помчался патриот Просвещать родной народ. Пораженный же Чеслав Зарыдал среди дубрав.В прекрасном количестве
Саше через месяц будет четыре года. Раньше-то он мечтал, чтоб ему подарили самовар.
В детском саду самовар, как гость, живет в отдельной комнате. Еще там есть матрешки и лапти.
Саша любил смотреть на самоварное блестящее пузо, потом подходил в упор и начинал ощупывать свое лицо: я это или не я там отражаюсь такой мультяшный?
– А нянечка говорит, что раньше вместо самовара был какой-то Ленин, и комната называлась ленинская.
– Самовар – это Ленин сегодня, – ответила мама.
Старший брат Леха раньше обещал:
– Я спецвыпуск газеты… я смогу, я успею к твоему дню рождения!
Он был в первом классе и немного важный: выпускал домашнюю газету. Тема первого номера: бессмертие. Тема второго: будущее. Ну а третий номер был про живой уголок.
Спецкор – папа – участвовал лишь в первом номере: «Бессмертие таракана: что делать?»
А в газете про живой уголок было много всего! Очень! Сначала заметка: «Понос черепахи позади». Начиналась так: «Пишет Алексей Чибисов. Вчера черепаха поела творожную запеканку, которую мама дала котенку». Затем Леха переписал в газету объявление, которое сам же развесил по подъездам двух домов: «Потерялся зеленый волнистый попугайчик. Кто нашел, верните. Будет вознаграждение. Пожалуйста! Говорит: Кеша, птичка».
– Наверное, попугай почувствовал все заранее и смылся.
– Он подумал: хозяин проиграет зарплату второй раз, и тут такое начнется!
Братья шептались друг с другом – сверху вниз и снизу вверх, потому что лежали на двухэтажной кровати. Да, да! Отец уже второй раз оставлял в игральных автоматах все до копейки.
А младший брат Ваня за два бесконечных года жизни накопил уже много способов выживать. Он стал увесисто ходить по детской и рычать: «Папа мой! Мама моя!» И косил грозно взглядом: ну-ка выходи, кто хочет разбить наш крепкий живой уголок, а в нем – папа, мама, Леха, Саша, я, рыбки, черепаха, кот, а попугай Кеша тю-тю через форточку.
Саша вдруг зарыдал, но объяснил брату: мол, просто собак жалко, которые на улице – на холоде остались и лают.
Тут Леха вскочил, подбежал к иконе Николая-угодника и чуть ли не требовательно спросил:
– Ну почему ты сделал, что у всех отцы деньги домой приносят, а у нас проиграл?
Саша добавил:
– У меня в группе Герман всех кусает, а у него папа вон какой хороший. А я не кусаюсь, а папа все больше проигрывает: сначала восемь тысяч, потом десять.
Тут мама стала надевать шубу. А за окном так темно! Поэтому Леха начал лихорадочно спрашивать у нее:
– Поможешь мне сочинить задачу? Сначала восемь, потом на два больше – и сколько вместе?
Мама выдала самоварным голосом:
– Черепаха сделала восемь куч под кроватью Вани, а под столом – на две кучи больше…
– Куда пошла? – спросил Саша.
– Искать вам нового папу.
Прошло время.
– Ну что, нашла?
– Нашла.
– А как его зовут?
– Коля.
– А где он?
– Да вон под окном в снегу прикопала, чтоб не испортился.
Саша покачал головой: плохая шутка.
На воскресенье мама повезла братьев в гости к бабушке с дедом. Как всегда. А папу бросила дома и сказала:
– Сиди тут, гений азарта!
– А ты втяни свой живот! – закричал папа.
Саша был поражен. Как это – маме втянуть такой прекрасный, такой теплый… А мама закричала:
– А ты отдери свой живот от позвоночника!
Тут Саша был вообще сражен. Отодрать – такой твердый, в квадратиках! И отчаянно завыл. И в первый раз за всю бесконечную четырехлетнюю жизнь к нему никто не бросился. И только Ваня, пускаясь в дальний путь со своим прозрачным мешком, угрюмо напомнил:
– Мама моя, папа мой.
Он был умнее всех, Ваня-то.
А вот в какой дальний путь Ваня уходил по квартире, это только он знал. Все остальные видели со стороны вот что: он навешивал на себя шарф, складывал в большой пакет книжку, варежку, несколько конфет и динозаврика, махал рукой из стороны в сторону, как член политбюро (пока-пока!), а потом уходил путешествовать к спальне. И так раз двадцать за день.
– Пржевальский! Миклухо-Маклай! – умилялась на Ваню мама, пока папа не проиграл.
* * *
По дороге на автобусную остановку мама молчала. А ведь раньше она всегда учила детей по следам узнавать все: кошек, собак, птиц. Саша решил это молчание залепить:
– Я вчера на прогулке говорю Герману: «Смотри, смотри, деньги!» Герман: «Где?» А я ему: «Проверка жадности!» Он тут полез. А его ка-ак…
Тут они сели в автобус, в котором уже сидел Герман. Он говорил:
– Куплю шоколадку за три рубля, продам за пять рублей.
– Боже мой, да кто же у тебя ее купит! – измученно крикнула его мама.
Герман изумленно посмотрел на нее: мол, как это – кто купит, ведь шоколадка такая вкусная!
Саше хотелось услышать, что там дальше с деньгами от шоколадки случится, но тут, как всегда, остановка неожиданно подскочила, и мама поволокла их к выходу.
Сразу от дверей он заявил бабушке:
– Когда я вырасту и буду стричься не в «Ежике», а вместе с большими, я никогда не буду проигрывать деньги!
– А буду только выигрывать, – едко добавил дед.
Бабушка засмеялась, но как-то не по-настоящему, потому что закрутилась, как глобус, вокруг своей оси. А дедушка подмигнул Саше, но тоже невесело. И тут вопрос: зачем взрослые шутят, когда им невесело? Саша так и спросил деда, а дед честно ответил:
– Понимаешь, старина, Бергсон тоже уперся в тайну смеха, но так ничего толком не мог объяснить. Все только твердил: интуиция, интуиция.
Саша замер, запоминая восхитительные слова, чтобы сказануть их со страшной силой в детсаду и тут же получить в ответ: «Сашка умный – по горшкам дежурный».
После чего он схватил бутылку из-под минералки, пристроил ее себе на колени, как гитару, и объявил:
– Выступает солист живого уголка Саша Чибисов!
Потом он откинулся на спинку дивана, забил ногтями по выпуклому пластику и запел:
Папа, папа, что ты хочешь? Играть-проиграть, Играть-проиграть, Вот и все, вот и все. И больше ни-ни, и больше ни-ни!– Ведь все для чего-то нужного случается, – вдруг успокоилась бабушка. – Отец продулся, а дети никогда не будут играть на деньги.
Тут позвонила какая-то многочисленная подруга. Бабушка ее послушала и говорит:
– У нас тоже проблема!.. Зять вообще играет.
– Играет на сцене театра, – добавил дед, ужасно двигая пальцами, глазами, ушами (он этим говорил: не надо всему миру докладывать).
– Бабушка, что сказала твоя многочисленная подруга? – спросил Саша.
– Оно опять запило.
– Бабушка, что хуже: когда оно пьет или когда оно проигралось?
Тут бабушка опять проделала свой фокус: сразу засмеялась и зарыдала:
– Варя сказала вот что: ведь Анна Григорьевна Достоевская пошла бы гонорар получать вместе с Федором Михайловичем, чтобы он не проиграл все в рулетку.
Леха тут сказал:
– Бабушка, у тебя по экватору пояс халата развязался.
Она сразу воздела руки и закричала:
– Какую силу воли нужно иметь, чтобы сесть на диету! А зятю еще труднее!
Ваня почувствовал, что пора отложить очередной поход вдаль. Он изобразил присядку: пригибался, резко вставал, отрывал от пола то одну ногу, то другую. При этом он пел боевую песнь двухлетнего человека: ха, ха, фа, фа! Мама посмотрела на него и сказала:
– Танцуешь? А потом пойдешь на автоматах играть?
Ваня упал от неожиданности, но упорно гнул свою линию, крича:
– Мама моя! Папа мой!
– Да, – подтвердил Саша, – папа принесет зарплату. Но ты, мама, должна идти с ним, как Анна эта ваша Григорьевна.
Леха тут включил телевизор: свой любимый канал про живую природу. Там показали, как паучиха съедает паука.
– Дед, а разве друзья-пауки не сказали ему, что паучиха может его съесть?
– Ну, если все друзья разводятся, а ты решил жениться, то все равно ведь не посмотришь на разводы друзей, – ответил дед.
– А до того, как мы родились, была зима или осень? – спросил Саша.
– А так все и шло: осень, зима, потом весна и лето.
Саша был поражен: их не было с братьями, а все уже шло и шло.
* * *
Бабушка сказала, что Саша во время дневного сна кричал: «Герман, сейчас я тебя так укушу!»
– Бабушка, а почему папе ангел не прилетел и не сказал: нельзя проигрывать деньги?
– Наверное, ангел прилетал, да твой папа принял его за разряд электричества…
Саша знал: в детском саду Герман дружит с Васей, потому что у них дома компьютеры. Вот если бы папа не проигрывал зарплату, а купил компьютер…
Только вернулись домой, как в дверь к Чибисовым позвонили. Мама открыла. Стоит мальчик, весь сгорбленный, печальные глаза. Рядом с ним старенькая бабушка.
– Алексей здесь живет?
– Здесь. – Мама была в ужасе: – Это он что-то сделал вашему мальчику? О Боже!
– Учительница просила расписаться: двойки у Алеши в тетради.
– Всего-то? А я уж подумала… А почему мальчик ваш такой согбенный?
– Болеет. Мы только что из поликлиники, это к Алеше не относится.
Радости мамы не было предела. Но Алеша-то не знает этого: он испугался, что мама задаст за двойки, побежал к раковине и стал сильно сморкаться, зная, что кровь пойдет. И кровь пошла. Тогда мама врезала ему по заднице. И стыд охватил ее.
– Где нервы взять на все это?! – закричала она.
А еще недавно были совсем другие проблемы. Например, папа мог поинтересоваться, почему Саша пришел понурый из детского сада.
– А кукарекать не умею!
– Да, это серьезно. А что, все уже умеют?
– Все.
– Ну, а есть что-нибудь хорошее-то?
– Есть. Хрюкать научился.
Папа по-свойски облапил его плечо:
– Ну вот, видишь, брат, какая жизнь-то неплохая: хрюкать ты умеешь.
А теперь что? Саша твердо решил, что не будет кричать, как мама. И остались одни шутки:
– Ты, папа, осень без ягод.
– А ты, сынок, уши без мыла.
И во время этих шуток Саша почему-то вспоминал, как стоял в углу и никуда нельзя было пойти. И теперь каждый вечер Саша начинал с двух главных фраз, когда приходил из детсада:
– Папа, ты принес зарплату? Скажи маме, что ты принес зарплату!
Папа не двигался с места. Один раз Саша даже начал ныть без слов, потому что ничего не получалось. Мама тут как тут, ничего не спросила, сразу говорит:
– Чего ты как маленький, ты уже большой.
Но в какой-то вечер папа вдруг разразился:
Среди унылых чибисов, Свихнувшихся с копыт, Один лишь Саша Чибисов Пушистенький сидит.Саша выслушал, сжал все выросшие к этому дню зубы и подумал: ничего, все становится лучше, еще до воскресенья буду каждый день говорить про зарплату. Никакого Колю не надо будет выкапывать из-под снега, потому что папа принесет зарплату в прекрасном количестве.
Дама, мэр и другие
Собака была в последние годы ее единственной настоящей любовью. Дочь с мужем уехали в Америку, а сын вырос, его защищать не надо, а любовь требует, чтобы кого-то защищать можно было! (Примечание авторов: когда мы взяли приемную дочь, то Ирина Владимировна нам говорила: «Накакает она вам, вот увидите – накакает!» Конечно, так и случилось, но потом, через шесть лет, а эти годы счастья стоят того, чтобы рискнуть!.. Собака, безусловно, не предаст, но это облегченный вид любви. С другой стороны, всякая любовь нужна миру!)
В свои семьдесят Ирина Владимировна – темноволосая валькирия, успешно дающая бои своему возрасту, робко наступающему. Красота избрала ее местом своего проживания, поселилась в ней, несмотря на то что лицо ее имело к красоте весьма слабое отношение. Нос был горбатый, цвет кожи очень смуглый, но зато рост, стать, взгляд, блеск ума! И муж звал ее только: «Паничка, паничка!»
Он был полуполяк, муж ее. В Перми работал главным инженером главного завода! Но вот оба вышли на пенсию и вслед за сыном перебрались в Москву, не исключая, однако, что столица у них будет проездом (в Америку).
Собака во дворе появилась грязная, но какая-то требовательная, словно говорила своим взглядом: зачем ты с фашистами воевала, если никакого гуманизма не проявляешь и меня не берешь! Много лет ты билась за здоровье, ездила по курортам, а сейчас ты его получишь даром – будешь со мной гулять рано утром по свежему воздуху. Мне много не надо! Мы, собаки, гораздо прочнее человека. Вон лежит знакомый бомж Афанасий, и лужа вокруг его тела расплывается. А я такой не буду, клянусь! Когда я жила у Единственной, еще до того, как ее, холодную, вынесли в ящике, мне разрезали живот и вынули все, откуда получаются щенки. У Единственной был родственник – ветеринар, тоже не из последних. Я звала его Вторым. Собаки ведь умеют считать до десяти. Потом, когда все зашили, я – в отличие от этого бомжа – подползла к двери и уперлась лбом. А Единственная долго уговаривала меня оправиться дома, журчала водой из чайника, но я твердо проскулила: нет! И Единственная сволокла меня со второго этажа (вместе с соседом). Мне и жаль ее было, но все равно ведь нельзя опускаться.
Изложив все это движениями глаз, ушей, хвоста, носа, собака подошла к Ирине Владимировне и уперлась лбом в ногу. «Машка, пошли!» – ответила дама. «Ладно, я была Сильвой, побуду Машкой, если ты будешь хоть на кончик хвоста так же себя вести, как Единственная…»
Через десять лет Ирина Владимировна стояла у окна и смотрела на свежую могилу Машки. За все эти годы Машка трижды подчистую сгрызала угол стены в прихожей (а квартира Ирины Владимировны – ухоженная, вся в драпировках!), но это была единственная неприятность за десять лет. Правда, Ирина Владимировна и не подвергала свою любовь испытаниям, как соседки. Одни (ну-соседи) заставляли своего пса смотреть сеансы Кашпировского, и на счете десять он раздулся, раскрыл рот, зевнул и умер. Другие (ососеди) накормили свою Нару сладким, и у нее заболели все зубы сразу. Правда, один раз Ирина Владимировна поссорилась с мужем, когда тот сказал, что она тратит на Машку слишком много денег. Ничего не ответила Ирина Владимировна, но взяла в руки телефонную книгу и стала звонить: в прачечную, в химчистку, в Дом быта. Узнала, сколько стоит помыть окна, постирать, почистить. И тогда заявила: «Вот сколько денег я заработала своими руками!» – «Паничка, паничка! Что ты! Я же молчу…»
И вот смотрит Ирина Владимировна на могилу Машки и видит: комбинезоны, комбинезоны! Гордые молодые люди несут деревянный циркуль, разворачивают чертежи с умудренным видом. Они двигаются и смотрят так, словно без них тут все пропадало. И даже горечь какая-то проскальзывала в матюках: не слышно оваций, ничего не подносят, не ценят. И вдруг они остановились над самой могилой Машки и воткнули в нее длинную ногу циркуля.
– Что? Вы!.. Почему? Что здесь будет?
С каждым вопросом она впрыгивала в глаза всем стоящим, не помня, как выбежала в халате. (Нусоседи потом говорили: «Ты так лупанула – только успевала новые ноги подставлять под старую задницу!»)
Таких вечных красавиц, как Ирина Владимировна, мы (соавторы) видели, включая ее, всего три раза. Это одна известная балетмейстер и одна профессор зарубежной литературы. В лицах всех трех дам была та же горечь, как сейчас у молодых комбинезонов, попирающих могилу Машки. Они словно ждали, что их красота весь мир к ногам положит, а вот жизнь постепенно уходит, не прощаясь, а красота, выходит, предатель и не спасла их даже от болезней…
При взгляде на ее вечную красоту комбинезоны прервали свою плодородную лексику и замерли. Свитки чертежей захотели убежать и порезвиться с ветром, а деревянный циркуль потерял свой треугольный боевой вид и прилег набок.
Это кто: Клара Лучко? А где же шляпа? Они толклись вокруг Ирины Владимировны с растерянным видом:
– Вы, женщина, мадам, сударыня, нимфа, идите прямо в мэрию. А нам приказали, мы… здесь пройдет новая газовая трасса вон к тому объекту!
В прихожей Ирина Владимировна увидела кого-то с очень веселым лицом, вдруг вставленным в рамку вместе с малиновым платьем. Так это же я в зеркале! Она позвонила сыну: «Иду в мэрию отстаивать могилу Машки». – «Ты с ума сошла, я потом не наскребу тебе на лечение, это же чиновники, мама, тебе не стыдно… своей маниловщины?!» Муж в это время гостил у брата на Клязьме.
– Я ордена надену, понял! Ордена и медали…
Сын долго молчал, потом вздохнул и сказал:
– Тебя не переубедишь! Ну, с Богом!
Нусоседи удивились: «Зачем тебе этот революционный цвет платья?»
– А я ведь никогда не спрашиваю, почему вы такие серые! (В серых костюмах.)
Впервые она засмотрелась на рекламу Мосчто-тотам-банка: банкир в шлеме, на коне поражает перепончатокрылого конкурента. «Хорошо бы силы появились, хорошо бы, чтоб их кто-то дал!» – пронеслось в голове. Вдруг к ней подошел сумасшедший и стал уверять, что Александр Сергеевич Пушкин, да и Лермонтов тоже… унижают его своим «мы». Кто это «мы»?
– Они и меня включают, а я так не думаю! Скажите: какое они имели право писать стихи от моего имени! Мы!
– Вы совершенно правы, – ответила она и пошла дальше.
Он догнал ее.
– Так, значит, не имели они права писать «мы»?!
– Они имели право так писать, а вы имеете право их критиковать. Все.
Перед выборами фильтр, отцеживающий посетителей, работал в мэрии не так тщательно. Представьте: идет Ирина Владимировна в малиновом платье, с сумкой цвета металлик и с короной из косы. Конечно, ее приняли бы и не только в предвыборное время (если б не по вопросу собачьей могилы). Правда, и сейчас ее принял не сам Лужков, а один из замов, но мы не скажем кто (а то вдруг ему попадет!).
Ирина Владимировна сказала себе: «Если не отстою могилу Машки, уедем жить в Америку!»
В кабинете висели картины: Шагал, Моранди и Филонов… Зять у нее был художник, и кое-что она понимала в этом. Ловко составлено! Такое же впечатление производил и чиновник – ловкости и современности.
– Я никогда не отстаивала родные могилы! – начала она издалека. – Мои родители похоронены в Пермской области. Водохранилище затопило кладбище. Я молчала. Моя лучшая подруга убита на улицах Берлина. Меня ни разу туда не пустили за все годы советской власти. А теперь уже не найти… наверное. И сил нет ехать да искать!
Между тем она почувствовала, что силы появились, хотя позади не было такого опыта – отстаивания.
– Я сама стала понимать, для чего нужны родные могилы, потому что вступила в такой возраст, когда начала уже с ними обмениваться заинтересованными взглядами.
Чиновник слушал эту хрупкую женщину с уверенным взглядом и думал: «Этот уверенный взгляд сразу перебивает всю хрупкость!»
– Я прочитала, что в двадцать первом веке плотины будут разрушать, а пока продержимся… на собачьих могилках! – И она принялась излагать суть.
В глазах чиновника появилась влага. «Мне не нужно твое влажное понимание! Мне помощь нужна!» – думала Ирина Владимировна.
Он пообещал, что поможет, и по привычке хотел забыть об этом, но тут его как громом поразили слова мэра: «Каждую минуту помните, что выборы на носу!»
На другой день Ирине Владимировне позвонил и представился кто-то из начальства стройки, но она от волнения забыла его должность и про себя назвала «начальником прокладки». Они вышли. Он прямо на могиле Машки развернул чертежи, покосившись на даму. Она ничего не сказала, потому что началась работа для Машки. Начальник прокладки увлекательно развернул перед нею всю картину подземных пустот и вод, из чего она поняла, что все еще остается красавицей.
Вывод был счастливый: газовая трасса пройдет на два метра левее места вечного упокоения, а «Газпром» даже и ухом не поведет своим монополистическим.
– Я ведь только хочу, чтоб поменьше над нами разразилось! – ответила Ирина Владимировна. – В Перми все боятся, что прорвет плотину, а эти страхи знаете откуда? От вины за затопление кладбища!
– И что важно! – Начальник прокладки посмотрел на нее золотистым взором кочета. – Не будет излишнего расхода труб, хотя придется снять с другого участка Трушникова, уникального специалиста. Вы Моцарта любите? Так вот Трушников – это Моцарт по плывунам…
Когда газ заструился по новой дороге – на два метра левее могилы Машки, – Ирина Владимировна позвонила сыну:
– Все в порядке, я выстояла.
– Последний раз такая голливудская история с тобой произошла на фронте, – удовлетворенно ответил сын.
На фронте молодая медсестра Ирина увидела, как блеснуло стеклышко снайпера, и всем телом бросилась на хирурга по фамилии Семирас, решив, что хирург важнее и нужнее на войне. Но снайпер промазал!..
Приехавшему мужу Ирина Владимировна заявила:
– Отсюда никуда не поедем! Россия – лучшая в мире страна, Лужков – лучший в мире мэр, а Трушников – лучший по плывунам.
Постсоветский детектив
В мире тишины мы засыпали, и во сне нас настигла антитишина. Проснувшись, мы поняли, что это грохот снизу: что-то большое упало, подскочило и окончательно рухнуло. Мы лежали в поту пробуждения – никаких предчувствий не было, одна досада.
Под нашей комнатой жил в коммуналке Петя, Петр Семиумных. Мы с ним знакомы. Когда Петя не пьет, то очень хорошо всем ремонтирует двери – год назад и нам отремонтировал. Вот, наверное, получив очередные «дверные», он выпил и… Ну так он ведь каждый день выпивает, а грохот мы впервые слышим. Но может, друг у него заночевал и его куда-то понесло: этакий полуночный ходун. Мы и друга этого знали, от него запах, как будто… Вы представляете себе хороший дезодорант – так вот от него несло каким-то «наоборотом».
Когда Петя нам доделывал дверь, уже последние элегичные движения производил рубанком, друг его пришел и с изнеможением стал держаться за ребро двери, символизируя братскую помощь, а потом мягко осел на корточки и закурил с видом: «Ну что ты тут хреновиной занимаешься, когда нужно бежать за напитком…»
– Сколько времени? Включи свет, милый!
– Да ведь у нас, дорогая, плюрализм: одни часы показывают три ночи, другие – без пяти три.
– Смотри: с той стороны стекла – божья коровка! Как ее занесло на четвертый этаж?.. А вряд ли бы Яна пустила ночевать друга Пети! – (Яна Ошева – соседка Пети по коммуналке.) – Она самого-то Петю, если он ключ от общей двери потеряет, оставляет на лестнице. Не раз было, я иду, а он сидит, унылый…
– На лестничной клетке – это хорошо! По сравнению с бабой Лизой, которую Ошевы вообще выжили – сдали в дом престарелых. Баба Лиза мне лично говорила: Ошевы угрожали убить ее, если не согласится в дом престарелых.
У соседей внизу война шла все время, в частности из-за кошек. Баба Лиза говорила: все у них несуразно, у Ошевых, даже кошку у них звали Мышь. Представляете: кошка – и Мышь! А теперь кот у них по кличке Чиж. А Мышь куда дели? Никита ее убил – надоела, мяукала, кота себе просила. И Муську бабы Лизину грозятся убить.
Надобно сказать, что наша старушка – крепкое приземистое существо в бронебойных на вид очках, и глаза такие, как будто через них какой-то осьминог смотрел усталый, а не сама баба Лиза. Ошевы звали ее Уши. Если мы обсуждали что-нибудь на их кухне, а баба Лиза выходила с чайником, Яна сразу нам сообщала: «Уши пришли», а бабе Лизе – со злобой: «Ты чего вышла – подслушивать, мокрица старая!» Хотя было видно, что старушка и в уме не держала ничего, просто ей нужно было сварить что-то свое, старушечье. Потом баба Лиза нам говорила: с ней, с Яной, можно, что ли, разговаривать? И глаза ее – глаза печального осьминога – говорили через очки: «Жизни просто нет никакой из-за Яны».
Тут пора описать Ошевых. Нельзя сказать, что был у них всегда злобный вид, нет, не всегда. Не будем их оговаривать. Просто они для себя решили, что живут среди каких-то обносков жизни. Кругом алкаши, пенсионеры, калеки, которых перехитрило государство, а они, Ошевы, не дадут себя износить. Яна говорила: мол, мешает баба Лиза ужасно, а ведь она, Яна, не виновата, что эта старушка в изношенную деталь превратилась. На самом деле баба Лиза еще без одышки поднималась на третий этаж, заботилась о своем здоровье: полоскала рот подсолнечным маслом и очищала суставы рисом. Яна говорила в компании соседей на скамейке:
– Другие по экстремалке не могут попасть в дом престарелых, а мы ей все пробили! У нее же ни одного родственника, она из детдома! И мы устроили ее – такую здоровую. Все равно ведь она заболеет, это неизбежно.
«Конечно, если вы каждую минуту ждете, так я заболею, кто тут не заболеет», – говорили через очки глаза печального осьминога. И начинала рассказывать про свою бывшую работу в заводской охране, про то, как начальник выговаривал: на стрельбах, мол, в цель попадать надо!
– А я ему: «Если бы ты всего раз в год из своего пистолета стрелял, ты бы жене тоже не попадал, а ты, наверное, каждую ночь прицеливаешься. У меня ж нет такой тренировки».
Утром, во время пробежки, мы Яну встретили: она шла за хлебом, еще не запечатанная на все свои косметические замки.
– Что там, – спрашиваем, – у вас ночью загрохотало, в квартире?
– А, это у Петьки пластмассовая девка упала. Натуральных-то у него нет, кто к нему пойдет!
Петя нам про эту пластмассовую Венеру тоже рассказывал. Строгая дверь, он подробно поведал историю крушения своей работы. Хорошая была сторожевая служба в магазине одежды. Для рекламы там использовали эту пластмассовую Венеру. Были еще в большом количестве ноги пластмассовые, как бы обрубленные по верхушке бедра, они, как кегли, стояли рядами вверх носками – все в разных чулках. Луноликая директриса не раз спрашивала у Пети: «Ночью эти ноги не сводят тебя с ума?» И Петя бодро отвечал: «О, эти задранные ноги! Вы, наверное, это специально наставили, чтобы сторож не спал. Но куда деваться-то? Вы ведь меня на ночь снаружи закрываете!» И он жадно пожирал взглядом плотные телеса директрисы.
Потом магазин лопнул. Вместо выходного пособия Пете дали разную нераскупленную одежду и вдобавок – эту пластмассовую Венеру на петельке да две ноги. «Пользуйся!» К шее Венеры была приделана петелька; она, наверное, и оборвалась. Так подумали мы. И даже сказали об этом Пете. Петя расстроился и крепко выпил. Потом вдруг пропал.
Месяц нет, два. Три, четыре. И вот – минуло полгода. Он не появился.
В общем, Ошевы остались в четырех комнатах. И какую бешеную деятельность развили. До нас все время доносились созидательные звуки: Никита то пилил, то строгал, то что-то долбил. Близнецы Трофим и Эдуард (Трофян и Эдюша) хвастались во дворе, что у них теперь не двухэтажная кровать, а по дивану у каждого, причем в разных комнатах.
– А у меня диван, ц-ц-ц, в отдельной комнате диван, ц-ц-ц, а у Эдюши – ц-ц-ц – через стенку с мамой и папой! – говорил нам Трофим, когда нас пригласили через полгода в понятые.
Позвали, точнее. Петр Семиумных пропал окончательно, и мы могли лишь подтвердить, что вещи его видели и были они такие-то. Акт подписали о наличии имущества. Но какое там имущество – просто пластмассовая расчлененка. Тут-то мы и вспомнили, что эта самая пластмассовая Венера якобы упала полгода назад. А может, не Венера упала? Может, это другое тело упало? И мы вдруг переглянулись за спиной участкового – такого здоровенного, в кожаной куртке. Из всех признаков участковости на нем была только форменная фуражка.
Дома мы все это подробно обсудили.
– Неужели Ошевы куда-то дели Петю? В те же дни, когда бабу Лизу выжили…
Баба Лиза, кстати, регулярно приезжала в гости и ко всем в подъезде заходила, чтобы поговорить, запастись разговорами на месяц вперед. «Все перетерпеть надо, – сказала она нам. – Будем вместе с праведниками». И положила в стакан восемь ложек сахара, при этом покраснев вся.
После ее ухода мы продолжали обсуждать исчезновение Пети.
– Почему же упало что-то и подпрыгнуло? Может, в самом деле это пластмассовая Венера? Она же пустотелая.
– Тогда где сам Петя?
– Но как бы они могли его убить – дети дома!
– Детей димедролом усыпить могли, под видом лечения от аллергии или чего-то еще… По телику-то видят, что убивают направо и налево, и вот результат. Вон Черных пришел в больницу сына навестить, а нашел его под лестницей, всего избитого. Его, десятилетку, в палате четырнадцатилетние подростки учили, как салагу в армии. Разве раньше такое было? А трое друзей на рыбалке изнасиловали четвертого! В Ленинском районе… Всем по двенадцать лет только.
Тем не менее с Ошевыми у нас были самые соседские отношения. Потому что презумпция невиновности в самом деле существует. Не было у нас никаких реальных доказательств. Когда Яна попросила картину «Полет лебедя», мы дали, конечно; Никита приходил спросить, что такое «фероньера, фероньерка», и ему ответили:
– Это украшение женское, на лоб, – из драгоценных камней обычно.
Однажды в святки Никита явился к нам в виде крутого: майку надел черную, на которой белыми буквами было написано «Блэк болз», очки тоже черные – казалось, будто он весь за очками спрятался. Не узнали мы его – даже голос стал хриплым: «Ну, можно тут у вас оттянуться?!» Он слышал, конечно, снизу, что топот, гости у нас.
– Западная цивилизация чем плоха: там уважают, но не любят, – говорил он в этот вечер. – А у нас любят, любя-ат! Но опять же – не уважают. Но ведь что важнее: любят! – И он с пророческим видом почему-то тыкал пальцем в сторону холодильника.
Кто-то из гостей ему сказал, из наших: мол, сейчас заявлю тебе, что люблю тебя, и в морду дам. Понравится?
Никита скривился и ушел.
Ночью мы опять проснулись от грохота. Это, наверное, снова пустотелая девка упала, пустогрудая, подумали мы спокойно. Включили свет и посмотрели на часы. Было полпятого. Уже хорошо виднелся дом, что напротив, – дом, похожий на Россию образца 1998 года: крыша новая, а стены все в красных язвах обнаженного кирпича.
Утром мы узнали, что упал сам Никита. Грохнулся с недоделанных антресолей. И сломал себе все, что можно: руки, ноги, шейку бедра. Он долго лежал в гипсе в больнице, а после того, как вылупился из гипса, еще полгода волочил ногу и опирался на палочку. Сильно растолстел – стал каким-то шарообразным грибом наподобие тех, которые растут, пока не высыхают и не взрываются. В детстве их у нас называли «медвежьи папиросы».
Да, мы забыли упомянуть, что Яна, между прочим, очень яркая особь. Всегда так сильно раскрашена, что словно краска отдельно, а Яна – отдельно. Сначала из-за угла покажется раскраска, а потом – сама Яна. Один раз мы видели ее с каким-то незнакомым мужчиной под ручку, но она сделала вид, что нас не заметила. Вскоре Никита пришел с тарелкой клубники со своей дачи.
– Плохо у нас рекламируют семейную жизнь. Надо так, как это делают японцы! – выговорил он четким голосом.
– А как делают японцы?
– Не знаю.
Яна как-то сказала про мужа: «Он что думал, что я фригидесса какая-то, что ли?.. Не-ет, я – не она». Ей казалось, что эти четыре комнаты нечем заполнить – пустые они какие-то. Если бы было много мебели, ее бы никуда не потянуло. Может быть…
Вскоре Яна оставила семью: к любовнику ушла. А через неделю мы снова услышали грохот. Ну а теперь-то что упало? Уж не вновь ли Никита сломал ногу? Нет, он не сломал ногу, он скулу свернул – Яне, когда ее, пьяную, ударил. Она домой вернулась, а для Никиты это было еще внове, и он неделю бегал по дому в раскаянии; только к нам дважды приходил и стучал себя в грудь, стучал. И еще стучал по разным гвоздям в своей квартире – с еще большей скоростью и силой. Каждый квадратный сантиметр квартиры был им ухожен, это была уже не квартира, а какая-то фероньера. И вдруг Никита ушел из дома!
Ничто не предвещало тех событий, которые произошли в доме князя Н., – так бы написали в XIX веке. Яна ведь была отзывчивая! Ну да, бабу Лизу она выжила, но иногда нам позволяла давать их, Ошевых, номер телефона, чтобы дети наши могли предупреждать, если где-то задержались. И своих детей кормила, обстирывала.
А тут синяки, как заразная болезнь, стали распространяться по телу семьи. Только они сошли у Яны, как проступили у одного сына (мать поддала ему за то, что застала курящим), после мы видели синяки и у другого сына, но уже не выясняли откуда. То ли один брат другому посадил, то ли еще что… В общем, Ошевы расширились, а потом распались (их история похожа на историю России). Дети Ошевы резко изменились. Сплевывать начали, дабы убедить себя, что жизнь – это помойка. И снизу к нам стала ломиться музыка в стиле техно – наркотическая такая. Родители по очереди уходили из дому, а после взяли привычку исчезать на пару.
Один раз Яна прибежала к нам поздно вечером: дайте что-то от живота, от поноса, Эдику. Ну что дать – бесалол, конечно, на его вес нужно по одной таблетке или по полторы, бормотали мы.
– Вы что, не маленькому Эдику, а большому!
Так мы узнали, что в доме появился новый мужчина – какой-то Эдик. Вскоре мы его увидели: он курил на лестничной площадке, широко и криво распахивая рот между затяжками. Никита Ошев по сравнению с ним был принц Уэльский да плюс Ален Делон.
Музыка техно между тем становилась все громче и молотила круглые сутки. Яна, говорили мы на следующее утро, скажи своим домашним, чтобы по вечерам убавляли звук. Ну, тут она нам показала, насколько она от нас социально дальше и выше:
– Да вы сами стучите на своей машинке так, что дом сотрясается! Надоели всем! Ясно? Нет?! Если хотите знать, то у меня дед-кузнец ведра с водой на мизинчиках носил, поняли?! Если я захочу, то вы!.. Узнаете, что я могу!..
И дети выглянули из-за спины Яны с таким счастливым видом, словно поняли: есть что-то незыблемое в этой жизни! Это мать с ее твердым характером! Гранит не плавится.
Все имущество, которое Ошевы накопили за эти годы, стало потихоньку шевелиться и определяться. Дача встала на сторону Яны, а машина увязалась за Никитой.
Как-то так получилось, что дня через три вода у нас перелилась через край раковины и просочилась к соседям. Честно, мы не хотели. То есть подсознательно, может, мы чего-то там затаили, психологические вирусы блуждали, может, по нашим нервам. В общем, пришел Никита и – как это бывает между соседями – замогильными интонациями стал звать:
– Ну пойдемте, посмотрите, что вы у нас наделали!
Мы подумали: он наконец-то вернулся в семью! И техно не будет нас мучить ночами напролет! Взяв банку шпакрила в качестве трубки мира, мы зашли отдать ее как компенсацию и проверить, хватит ли ее одной, не нужно ли еще прикупить.
Никита красил белой эмалью уже и без того белейшую стену кухни. Вытравливает феромоны от предыдущего самца, подумали мы. Как человек основательный, Никита вытравливал все враждебно мужские молекулы. Он выкрасил пол, сменил плитку на кухне, потом посадил еще один синяк Яне и внезапно снова пропал.
Один раз, подвыпивши, Яна рассуждала, сидя на скамейке у подъезда:
– В деревне у нас был гвоздь, вбитый криво, и все налетали на него. Мы воспринимали бабу Лизу как гвоздь, который всем мешает. И казалось, что стоит выдернуть этот гвоздь, и тогда будет хорошо всю оставшуюся жизнь. А потом оказалось: неплохой ведь это был гвоздь-то! Мы на него могли сбрасывать все раздражение. Не друг на друга кричать, а на бабу Лизу…
И Никиту мы встретили на рынке, он сказал: за грехи все, за грехи! «За грехи мои» – вот как он выразился! И после этого покаяния без раскаяния (и в церковь не сходили, и бабу Лизу обратно не взяли, конечно) у Ошевых случился какой-то всплеск попытки наладить все. Никита еще раз вернулся, Яна нашла новую работу. Людмила Болотничева, соседка из квартиры на той же площадке, сказала Яне:
– Жизнь-то налаживается у вас! Ты передок на ключ закрой, не бегай! Бабу Лизу навести.
– Ну, Болото, забулькало, – в ответ закричала Яна. – В шестьдесят-то лет все порядочные в инструктора метят. А у самой сыновья по лагерям раскиданы.
С белыми глазами Яна прибежала к нам занять денег: Болотничева сорвала ей жизнь, нельзя ничего наладить – все лезут, учат! Яна напилась и неделю не ходила на работу. Ушла из дому потом. А когда вернулась – Никиты нет давно, а сыновья пекут что-то на сковородке.
– Работы лишилась, муж сволочь, а дети безрукие – сожгли все!
Яна разжала руки и полетела в пропасть. Но что значит – полетела! По пути она много раз цеплялась за вбитые кем-то костыли. Взяла вот квартиранта. Помните, изнемогающий мужик, друг Пети – Петра Семиумных, пропавшего давно? Друг этот продал свою комнату, заплатил Яне за год вперед, а остатки они вместе стали пропивать.
И тут случилось чудо: вернулся Петр! Пришел такой свежий, словно час назад вышел отдохнуть, покурить на воздухе. Он рассказал такую историю: был гололед, он поскользнулся и прямо под машину – головой боднул бампер, ну, понятно, кто победил в этой корриде. А очнулся аж через три месяца в реанимации как неизвестный, без документов.
– Я вам не какой-нибудь религиозный махер рассказываю – воскрес, мол, неожиданно. На самом деле так случилось! А санитарка, что за нами мыла, все говорила: «Как похож на Васю! На Васю!» А я ни бе ни ме три месяца. Потом встал, быстро поправился и уехал с ней в деревню, потому что им зарплату платить перестали! Ну а там Вася из тюрьмы вернулся: привет! Я понял, что снова реанимация дышит мне в затылок. И вот я здесь…
Вдруг мы поняли, что Яна – просто несчастный человек. И Петю никто не обижал…
Здесь нужно честно сказать о нас самих. Вместо того чтобы помочь Яне или хотя бы не мешать, мы подозревали ее. Она-то нас ни в чем не подозревала, а мы… чуть ли не в убийстве мысленно обвинили! А если наши мысли как-то просачивались в мир? Почему и осуждается в Евангелии помышление злое, что мысли суть та же сила, энергия, и если б Шерлок Холмс расследовал астральный детективный сюжет… столкновение тьмы и света, то нас бы он и обвинил, передал бы в руки правосудия.
Жители фисташкового дома
Все с нее слетело.
Когда-то Аня восклицала:
– Попросите меня выбрать двадцать книг на необитаемый остров, я в эту двадцатку обязательно включу Олейникова!
Наш друг Якимчук (после олигарх и уже на днях умер) делал на это отвлеченное лицо и резал:
Тут бросается букашка С необъятной высоты! Расшибает лоб бедняжка, Расшибешь его и ты.А через несколько лет Аня была на новоселье у нас, и ни о каком Олейникове или других кубистах слова мы от нее уже ничего не слышали. Она пришла тогда с женихом бородато-боярского вида. Вскоре они поженились и переехали в Кунгур.
Снова мы встретились уже через много лет. Аня оказалась с другой стрижкой, почти наголо бритая красавица, после развода – совмещение подростка и взрослой женщины. Такой тип часто встречается среди западных киноактрис. И стройна, так стройна, вроде бы дальше и некуда…
Про своего бородача, с которым развелась, она сказала: он из тех, которые пучок – пятачок. Впрочем, в подробности не особенно вдавалась, а только процитировала одно его высказывание, вылетевшее после свадьбы. И мы приводим слова его дословно. Он ей сказал:
– У тебя ресницы как у поросенка.
Да, ресницы очень светлые. Но эти ресницы окружали бескрайние ореховые глаза. Все же после этого комплимента она прожила с мужем еще какое-то время и даже не прореживала ему бороду за такие перлы. Причина их разбега, значит, была в другом. Похоже, в том, что муж не захотел, чтоб Аня перевезла в Кунгур своего отца.
– Папе моему-то девяносто грянуло, – после первой рюмки сокрушалась Аня. – Недавно вхожу в подъезд, а там дым, черно. Не помню, как взлетела на пятый этаж. А папа уже плохо понимает, я ничего ему не говорю – хватаю чуть не под мышку его, бегом вниз. А соседям по пути позвонить не догадалась.
– Чем все закончилось – никто не угорел?
– Все живы. Но я-то, я-то! Не догадалась предупредить людей!
И тут унесла ее от нас жизнь – сокрушенно горюющую, но с моментом поиска во взгляде и походке.
Потом снова прибило Аню к нам – через год-полтора. За это время возле почты воздвигся дом с легким намеком тут и там на грибы и на раковины – знаете, бывает такой прозрачный светло-зеленый цвет. Стоим мы в очереди за посылкой, обсуждаем в первом чтении новогоднее меню. Аня впархивает. Пальто в дышащих складках до полу, дымчатая шляпка и та же консервированная глазастая красота.
– Привет, а я вышла снова замуж, а мы живем вот в этом фисташковом доме, а мой муж коммерсант.
– Папа как?
– Папы уже нет с нами. Нин, видела твои новые картины по «Ветте», там у тебя ангел парит над уставшей балериной, что ли…
– Заходи, я подарю.
Она зашла. И ангела ей со стены сняли, и льва, исполненного очей. И позвала она нас в свой фисташковый дом на Новый год:
– Охраннику я позвоню, вас пропустят.
И новый дом, и новый муж Иван Константинович (ему под семьдесят) – все было на высоте! Правда, Иван Константинович слегка уродлив, но глаза его властно утверждали: «Я красавец».
И верилось. К тому же иероглифы бровей у него – как у Вертинского.
С ним гармонировала выцветшая красота Ани – ее бы сделать ведущей телеканала «Культура», а то там все яркие слишком лица – отвлекают от репортажей.
В момент московского Нового года заехал сын Ивана Константиновича со своей женой – Иван-младший. Он был в фиолетовом шарфе – видимо, времен своей разрушительной юности. А у кого она другая?
Этот сын – от первого брака Ивана Константиновича – похож, кажется, на покойную мать: в лице ни одной отцовской черты. Ведь у отца все лицо состояло как бы из милых луковиц, а у сына наоборот: тонко обточенное диетой. Про диету выяснилось тут же, когда он выпил рюмку и сказал после неизбежного кряка:
– По диете один соленый огурец мне можно, но они у вас что? – И он изобразил лицом огурец – очень подкисший, – как какого-то старичка с улыбкой набок.
– С Новым годом, с новым счастьем, – начала заклинать его жена Валерия, надеясь выправить закисающее веселье.
Иван-младший сказал ей, не выходя из образа кислого огурца: мол, разве ты не знаешь, что счастье начинается с полутора миллионов.
У Валерии было семейное прозвище: Травка-отравка (увлекалась лечением травами). Была она такая красавица, что вся жизнь у нее переработалась в красоту, и больше ничего не осталось, кукла и кукла. А мы промолчали, хотя привыкли сочувствовать женам, с которыми мужья себя так кисло ведут. Но здесь другое. Аня говорила нам, что Травка-отравка после вуза устроилась в школу для слабовидящих. И вскоре дети стали спрашивать других учителей:
– Правда, что в предыдущих жизнях мы были убийцами и бандитами и за это наказаны?
– Кто вам это сказал?
– Валерия Владимировна.
В общем, Травку уволили, и она долго всем рассказывала, что ее преследуют за взгляды.
* * *
Продолжаем про Новый год. Иван-младший решил развлечь компанию и начал эпос о себе:
– Знаете, у нас в ЖЭКе все с ума посходили. Вчера приходит бумага из мэрии, что будет отлов бродячих собак. И пишут, значит, серьезно: «Обеспечить наличие собак».
Тут Иван Константинович сказал сочувственным голосом, как пятикласснику:
– Что? Да кто это сочиняет – за мои деньги налогоплательщика!
Печальным взглядом сын ему ответил: легко тебе общими фразами отделываться, когда ты рулишь такими бабками!
* * *
Уже через месяц наша Аня приходит к нам домой, лицо – как будто пролежавшее в воде несколько дней. Но еще из последних сил протягивает нам какие-то немецкие чашки чайные, ну просто фарфоровые перепонки!
Села она и молчит. Хотелось ее растолкать: не тормози!
– Ань, как себя чувствуешь?
– Немного пострадала сегодня: чай наливала, а черепаха, поганка, как схватит за пятку – требовала есть. И я кипяток на палец.
Какая черепаха? Ну, допустим, купили подарить внуку. А почему не подарили?
– Ладно, это не соль, – без выражения продолжала Аня. – Помните моего пасынка?
– Угу. Смутно.
– У него еще все начинается с полутора миллионов: и жизнь, и счастье, и любовь. Теперь не знаем, куда от него бежать. Неделю назад под предлогом отксерить зашел в кабинет и взял ключи от нашей квартиры, гаденыш… – Тут она спохватилась: – Да нет, он ничего, неплохой. Это его все бабы подкосили.
– Может, это он баб косил?
– Первая жена до сих пор на нем висит, вторая, молодая, травит, требует, чтоб денег было больше. Да еще Иван-старший видел его с какой-то в ЦУМе – покупал он ей бюстгальтер чуть ли не за пять тысяч…
– Хорошо, что она не Артемида Эфесская с двумя рядами грудей!
– Ты в шестьдесят лет, Букур, кипишь, я вижу. Ну я опять про свое. В общем, мы обнаружили уже в четыре часа дня, что ключи украдены. Я вам не говорила? У Ивана в том числе есть хозяйственный магазин. Он съездил, привез два замка, старые убрал, новые врезал. И тут же у него сердечный приступ! Ведь Иван Константинович сыну построил одну квартиру, потом тот развелся, отец купил ему другую. И эта фисташковая тоже записана на его имя. Но у него – удава – видимо, нет сил ждать, когда отец помрет и освободит площадь!
Мы ей кивали: типа, с ума сойти. Ну а дальше как-то даже удивились, разгорячились и загоревали: в самом деле, видно, богатым тяжелее, чем нам. Подкрепившись чаем и нашим сочувствием, Аня продолжала:
– Через день пасынок ключи вернул – подбросил. Но представляете: приехали в гости. Пасынок в гостиную, а жена его, как ящерица, скользнула на кухню. Я за ней: у меня там суп кипит. А она стоит у плиты, переливается косметикой. Вдруг она в суп что-нибудь как сыпанет? Для чего ей наша кухня? Руки можно и в ванной помыть. Тем более что она увлекается травками…
– Да, мы слышали – лечится.
– В основном все для лица. Мы еще с Иваном смеялись: травки-отравки… теперь не до юмора.
– Может, ей воды стакан…
– Может, стакан. А зачем тогда ключи украли? Я говорю своему: у нее маленький ротик, но видно, что она им может много погрызть. А сегодня Ивана Константиновича вывесили из вертолета вниз головой: «Деньги отдашь?» – «Нет». – «Тогда прощай!» Он полетел, закричал и проснулся. Ну и я проснулась – до сих пор меня колотит.
* * *
Тут пришли чужие люди – смотреть нашу коммуналку (мы размечтались об отдельной квартире). Когда они, не скрывая разочарования, ушли, Аня рассказала:
– Невестка-то, Травка-отравка, ходит вот так – смотрит квартиры. Хобби такое. Ничего не покупает. Для нее смотреть квартиры – развлечение. Ходит с риелторами и людей зря тревожит…
* * *
Теперь, читатель, слушай сюда. Аня с Иваном решили: пусть сынок подавится этой квартирой, а они выпишутся, купят другую. Но тут сразу тормоз мечтам, искры из глаз: ведь Иван-младший, скорее всего, захотел все наследство! И ресторан! И магазин! Аня шептала мужу, и тот начинал с каждым словом седеть.
– Подложит он нам что-нибудь на даче! И тогда сразу получит все наследство.
И после такой голливудщины вызывалась к Ивану Константиновичу сначала простая «скорая» – 03, но она не снимала трубку.
– Потом приезжали внимательные разумные врачи. Угадайте, почему?
– Трудно, но мы попробуем. Наверно, потому что это платная скорая.
Потом Иван Константинович опустошенно начинал высчитывать: на девяносто девять процентов он уверен, что сын замышляет что-то страшное, нечеловеческое. Но один процент – он такой огромный процент, просто сердце истыкал все.
– Ивану-младшему три года было. Играли в чаепитие в детском саду, насыпали песок в игрушечные стаканчики. Воспитательница, практикантка еще, командует: «Горячо, дуйте, ждите! А вот теперь можно пить». Не успели оглянуться, как мой дурак заглотил весь песок и чудом не умер. Ведь в группе тридцать два ребенка, а пил песок он один. Такой был доверчивый.
А дальше повисала тишина, которая говорила: «А сейчас?»
Нам уже рассказывали несколько историй охоты за деньгами родителей, но без смертельного налета. Например, наш однокурсник работает на Карибах и написал доверенность сыну, чтобы он получил контейнер с запчастями в порту Петербурга. Сын все запчасти реализовал, деньги прокутил, а отцу плакался, что контейнер потерялся. Возмущенный однокурсник позвонил с бурных Карибов, диспетчер ему ответил в том смысле, что у них все ходы записаны. Получили контейнер тогда-то, вручили по доверенности через трое суток. Хотел горячий отец посадить отпрыска, но тот рыдал, ветхозаветно обнимал отцовские колени и обещал закончить универ с отличием. И студент был определен на хлеб и воду до конца обучения.
* * *
Аня горюет, мы горюем и говорим:
– Неужели вам придется уезжать из Перми?
– Хренушки – уезжать куда-то! Не дождутся, чтобы бросили племянника в Гордуме. А в других местах кто нас прикроет?
Мы здесь впервые слышим про думского племянника. Но, с другой стороны, можно было предполагать кого-то в этом роде, видя их удачливость.
– Закажу молебен, закажу сорокоуст за наше с Иваном здравие, но из Перми ни ногой! Ведь вообще-то некуда, некуда ехать!
И Аня плачевно развела руками. Мы увидели, что вокруг Перми раскинулась пустыня, в которой нет ни одного думского племянника.
Племянник, впервые возникнув в этом разговоре, продолжал реять через час, во время звонка Ани:
– Послушайте, тут такое творится, то есть происходит, то есть такие повороты! Дед Ивана Константиновича – священник расстрелянный – никого на допросе не назвал!
– Подожди, Аня. Сколько лет твоему Ивану?
– Шестьдесят девять. Он внук священника. На синодальной комиссии дали нимб местночтимого святого-мученика. Вот племянник сейчас приезжал из Думы, просит фотографию, чтобы икону написать. Кажется, где-то была, но не можем найти.
И последовал получасовой телефонный рассказ, что дедушка Степан, то есть мученик Стефаний, начал являться в Верещагинском районе и чудеса творить.
– Бум канонизации сейчас. Около двух тысяч причислили к мученикам.
– Букур, слово «бум» не сюда. Тогда были не только расстрелы – после революции. Священников пытали! И вот синодальная комиссия запрашивает каждый раз в архивах ФСБ протоколы: не сотрудничал ли батюшка, не назвал ли кого под пытками? Дед Степан никого не назвал. Получил пулю в затылок, а потом побежал за девушкой – она хотела утопиться.
– Аня, стой – как это побежал за девушкой?
– Явился. Она хотела утопиться из-за жениха, который подлец оказался – страшно запил, не мог остановиться. А отец Стефаний ее догоняет и за рукав держит. А потом пошел с ней к этому запойному жениху, как цыкнет на него, как топнет, и у того сразу горбик стал расти…
– Перестал пить?
– Да. Но там все круче. Во время перестройки батюшка им обоим явился: «Почему не рассказываете о чуде?» Ну, они пришли в воскресенье в церковь и рассказали настоятелю. Настоятель ответил: «Давно про Стефана говорили: это человек, ходящий верою». А потом еще одно чудо: во время расчистки оврага экскаватор подцепил гроб, сквозь щели было видно нетленное тело в священническом облачении. Благоухания не было, но не было и запаха тления. Под волосами нашли отверстие от пули. Переоблачили, перезахоронили. Попросили фотографию у нашего племянника – он тоже правнук Степана, как и мой пасынок. Будут писать икону.
* * *
Иван-младший нашел фотографию прадеда и отдал, не думая: какое-то чувство восторга завалило все мысли. А потом задумался, да и жена подсказала:
– Мог бы на этом срубить что-то более увесистое, чем восторги.
– Что бы я без тебя делал! Веду себя как штымп! – Он вдруг с ласковой строгостью накинулся на сына Мишу: – Что это за игры у тебя в компе, сплошные вопли и моря крови! У тебя предок – отец Стефаний!
Кстати, насчет отцов и сыновей. Он хотел снять трубку, чтобы раскрутить своего отца на пару тысяч долларов, нет, столько не даст, ну хотя бы на тысячу, мол, хранил я фотографию прадеда бережно много лет. Тут он закашлялся и не останавливался до утра понедельника. И травяные сборы жены не помогали. Он изнемог, уже рвота подступала, редкие слезы покапывали, и он наконец прохрипел наверх:
– Прадедушка ты Степан! Да это я так подумал, в шутку! А батяню уважаю, уважаю! – И вдруг сам себе сказал: – Если уважаю, то зачем тогда ключи украл? Так еще за это, что ли, врезали? Ой, как вы там все помните!
Тут судорога рвоты его скрутила и стала выжимать из него все планы, наметки, разводки…
– Ладно-ладно! Все понял, кругом виноват!
Травка словно почувствовала, что здесь есть враг, которого не видно. Она сказала:
– Будь мужчиной! Не сдавайся! Я заварю сейчас новый грудной сбор, против астмы. Против всего!
– Так плохо, ничего не понимаю…
– Мучеников щас, как грязи, в наших родных ебенях.
– Уйди, дура! Из-за тебя погибаю!
Мучительно кашляя, он одновременно трезво прикидывал: взять из заначки пять тысяч и отнести куда-то там в часовню или какую еще контору, пусть эти бородатые возьмут да помолятся, а то ведь совсем помираю… Нет, пять – жирно будет, отломлю от них две и отдам Лучку моему, Лукерьюшке, ей надо, она молодая, жадная, я обещал оплачивать комнату… Лучок до последнего изгиба отчетливо встала перед ним, и еще сильнее разросся кашель. Он посинел, дыхание почти совсем отлетело, и он прошелестел черными губами:
– Нет, я сдуру ошибся, все пять тысяч вам отнесу!
* * *
Теперь Аня спрашивала то по телефону, то по электронке: как одеться на торжественный обед, посвященный канонизации отца Стефана; можно ли в золотых кольцах прийти или лучше поскромнее; или все-таки можно? Ведь золото – символ вечности. Недаром нимбы у всех святых золотые. В общем, тема смертоносного пасынка испарилась, и Аня говорила, что это тоже какое-то чудо. Тут подвернулся день рождения Ани, и они повезли нас в свой ресторан «Авось». Ну, вы знаете, там еще живой петух в стеклянной клетке над входом (не подумайте, что за рекламу нам заплачено). Иван Константинович только пригублял и вдруг спросил:
– А как же быть мне с теми грехами, который я сам себе не могу простить?
Но мы-то пригубляли чаще и поэтому сказали воодушевленно:
– Не прощается только хула на Святого Духа. Вы-то уж, наверно, ничего подобного не говорили!
– Нет, другое, но такое страшное, что сказать нельзя. Это я когда локтями в перестройку пробивался.
Мы пустились в вязкие объяснения:
– Конечно, батюшка на исповеди может епитимию наложить, первоначально к причастию не допустить. Но вы же человек активный, вам же должно быть по нраву, что Царство Божие силой берется, то есть штурмом…
Иван Константинович, конечно, любил бороться. Поэтому, вздернув иероглифы бровей, долго боролся с нами:
– Как-то это очень просто получается: сходил, всю грязь смыл. Как под душем. А я сам себе не могу простить.
А Иван-младший опоздал и был к тому же без Травки. Часто выбегал на улицу, потому что перестал выносить табачный дым. Наконец рассказал:
– Сегодня она свалила от меня. Решила больно мне сделать: Мишку схватила под мышку и к маме.
Иван Константинович сказал озабоченно:
– Надо пригласить специалиста из церкви. Он подымит кадилом – и все темные энергии после нее рассеются.
В это время появился племянник, помните, из Думы? Впрочем, на пять минут, чтобы поздравить Аню и умчаться по делам вертикали. Но мы его и так лет двадцать знаем, через телевизор. Он, видимо, нас тоже смутно знал, потому что сказал:
– Вы обо мне напишете? Но чтобы я был главный герой, который победил всех!
И тут вокруг его головы в дымчато-стальных тонах мгновенно разыгрались кадры: типа, он терминатор русской государственности, направо-налево взрывает врагов нашего президента, а потом он и сам внезапно гарант конституции…
* * *
На торжественном обеде в честь канонизации отца Стефания певчие исполняли… Аня не знала что (да и у нас здесь огромный пробел в знаниях).
Друзья! Теперь кратко перескажем, потому что к концу идет все дело: там была одна певчая: фигуры у нее никакой, да и лицо непонятное, шея очень полная, но вместе с ее райским голосом во все стороны лилось обещание мужского счастья. Так что Иван-молодой ждал ее, ждал за квартал от подворья, сжимая в руках сноп разнообразных цветов, заказанных по мобильнику (не знал, какие ей нравятся). О том, что она как-то все время была незамужем, Иван-молодой ненароком расспросил за обедом соседа слева.
А еще Аня удивлялась, что владыка говорил как чиновник: «Вот мы проведем это мероприятие…»
– А тридцатилетний попишко, сидевший справа от меня, все время какие-то невероятные истории запускал. Лежу, говорит, на пляжу. Вдруг капнуло что-то, а это икра из щуки. Мужик поймал щуку икряную и несет мимо. Пятнадцать килограммов щука – и это на Урале! Чудо!
Тут Аня мучительно заламывала руки:
– Какая-то у меня антирелигиозная пропаганда получается! На самом деле было очень хорошо, только слов не найти! Никогда в жизни такого не было! И почему бы людям не повеселиться? Ведь новый святой появился! Кстати, иерей московский – соколиная такая посадка головы – говорил, что он не ко всякому бы поехал на вручение нимба…
– Икону-то вам подарили святого мученика? – полюбопытствовали мы.
– Приходите, покажем. Там Стефаний очень на моего Ивана похож. Но племянник говорит, что на него.
Жизнь Макса
Вы когда-нибудь пробовали его баклажаны? В теплице Макса вырастают не баклажаны, а аэростаты! Бывало, придешь к нему, чтобы помочь картошку копать… Да впрочем, один раз только пришли, потому что у его Глафиры ноги разболелись. Так вот, пес Новобранец сначала приглядывается ко всем, а потом как начнет лапами землю рыть, только клубни летят.
А после этого Макс и выставляет синенькие в своем особенном маринаде. То есть сначала он каждый баклажан разрезает вдоль, начиняет луком, чесноком, морковью и перцем, потом зашивает и заливает чем-то, что держит в тайне. Самогон он тоже наливает щедро, при этом предупреждает:
– Шестнадцатый стакан не пей!
И только портит разнеженный вечер что? Голодный вой соседской овчарки. Макс участкового уже вызывал, а тот посоветовал, страшно сопя после самогона и фирменных баклажанов:
– Вы ее отравите, эту овчарку!
– Пробовали, – жаловалась Глафира. – Подсунули миску с кашей и ядом, так неопохмеленная соседка подхватила ее и понесла к себе в дом – с трудом вырвали. А если б мы не успели?
Тон сопения лейтенанта изменился в том смысле, что плохо, конечно, вас жалко, а ведь пришлось бы засадить хороших людей, у которых такой атомный самогон, и отлично, что успели вырвать у соседей отравленную пищу, за это надо бы и тост.
В день рождения Макса, 29 июня 2003 года, Глафира вернулась поздно, с легким сизым налетом лица. Отдышалась.
– Собрание было долгое, – по губам бегал трепет оправдания, – парторг задержал еще, все про митинг протеста напоминал, не успела тебе подарок купить.
– Коммунизм тебе дороже мужа? – закатил глаза Макс.
– Что ты, что ты! Завтра обязательно сделаю подарок.
– Сделай мне подарок – не делай революцию!
– А вот этого я тебе обещать не могу. Посмотри, как власть унизила народ.
– Власть унизила народ – зае…ла прямо в рот. – Часто ему было нестерпимо наблюдать мертвые призраки слов, поэтому так беспощадно он свернул шею разговору.
И пошел кормить собаку. Молодой Новобранец весь засветился навстречу ему глазами (с коричневыми шерстяными очками вокруг), но не бросился с заискивающей любовью – дай, мол, покушать, а весь вытянулся в струнку и только что честь не отдал. Макс ухватил его за ухо и сказал:
– Вольно!
Поставил перед ним бадейку.
Полтора года назад Макс вернулся пьяный, ночью. И вдруг остановился, и перед ним появилась дверь в виде проблемы: запертая изнутри на защелку. Ну, он находился в это время в другом мире, где проблемы решаются легким движением пальца и где снег не холодит, а греет. Поэтому Макс решил: под яблонькой в снегу так тепло, полежу немного, а потом на остроумии попрошусь домой.
Очнулся в пять утра. Оказывается, огромный лохматый Новобранец распластался сверху и грел командира всем телом. Макс только одну почку отморозил, а так все в порядке.
Да какое там в порядке! Сильно горевал: пришлось совсем бросить пить. Только гостям наливал, вот и вся радость.
Сестра ему все браслеты совала гематитовые:
– Носи на той руке, где почка. – И двигала милосердными морщинами во все лицо. – Гематит – это такой минерал, от всего исцеляет. Понимаешь, там создаются суперслабые биополя, они взаимодействуют…
Старость подсушивала ее бережно, в щадящем режиме. Яркие глаза пульсировали в такт убеждающим словам, поэтому чудесные браслеты имели необыкновенный успех.
Гематит, конечно, его почкам не помог, но зато помог Глафире – сестра дала двенадцать тысяч, заработанных на браслетах, на суперновое лекарство. И оно сохранило жене ногу. Так что спасибо всем, кто покупал у сестры!
Горыновна вдруг сказала:
– Поживу немного у вас. Скучно мне одной.
Тогда он звал ее просто тещей. Макс ответил ей:
– А хрен ли тут, тещечка, думать. Конечно, переезжай.
А она как переехала, так сразу стала каждый день пол мыть. Грибок вот-вот от сырости заведется. А из этого дома – уже никуда. Его и еще два деревянных дома не снесли, они, как в клетке, в окружении многоэтажек. Музейный хуторок такой: с печами, с огородами.
Вот так входит Макс из гаража – ковырялся под «Москвичом», – а теща снова возит шваброй. Он говорит ей:
– Опять ты тут сырость разводишь.
И хотел пройти руки помыть. Да получил мокрой шваброй по затылку. Тут телохранитель бывший как взыграл в нем! Фуяк ей по челюсти! Он еще успел руку перенаправить, и удар получился по касательной, так только – вся голова заплыла, потому что теща – с этого момента уже Горыновна – улетела и об стену затылком. Он подумал, что это все – десять там или двадцать лет тюрьмы… Свобода, где ты?
Сейчас поднимут всю биографию, и прокурор, м…звон, скажет: «Подсудимый применил профессиональные навыки и искалечил…»
Эх, Вадька, покойник дорогой! Ты один бы меня понял и сказал за полбанкой: проклятье тем инструкторам, которые вбивают такие рефлексы!
А Горыновна вдруг как вскочит! У Макса в груди сбавило, и он закурил: живем, больше пятерки не дадут! Теща же к телефону, как к другому, любимому зятю, бросилась:
– Убивают! Приезжайте по адресу…
Макс собрал маленькую торбочку (сигареты, хлеб, сало-мыло, зубная паста), деньги, пятьсот рублей, засунул под стельку. Мельком он, конечно, пожалел Горыновну и ругал себя, но не долго: впереди лагерь маячил, но все-таки, наверное, года три всего, поскольку Горыновна «скорую» не вызвала. Но менты ей посоветуют снять побои, а вот и они, борзые гонцы судьбы.
В отделении Макс себя уговаривал: спасибо отделу «Гамма», многому меня научили, даже лягушек и змей поел в свое время, в лагере на девяносто процентов выживу! Считалось: если самолет, который перевозит председателя правительства, разобьется, и вдруг они окажутся в лесу или пустыне, так начальник должен все это время получать пищу.
Дознаватель посадил его на шаткий стул, чтобы седой плотный дознаваемый чувствовал себя неуверенно. Макс подумал: я вас умоляю, не надо больше фокусов, все это детский сад. Но ничего этого он не озвучил, потому что чувствовал: хрупкость жизни сильно возросла.
– Рассказывайте, – вдруг хитро сказал капитан, который на самом деле обязан был задавать конкретные вопросы: что, где, когда.
– Она первая начала, меня грязной шваброй по голове, и я сам не знаю, как я ее…
– Кого – ее?
– Тещу.
– Тещу? – Капитан переглянулся с другим дознавателем. – Нехорошо.
Но тон уже не был осуждающим. В глазах обоих дознавателей читалась зависть: у нас есть тещи, но мы их дрессировать не смеем…
Капитан скороговоркой прочитал лекцию об отношении к женщинам…
– Сеструхам, мамухам и марухам!
Это выкрикнул еще один дознаваемый, которого, оказывается, уже давно ввели, и он смиренно ждал, когда освободится давно известный ему расшатанный стул. По бокам могучего тела его трепыхались полуоторванные рукава, и он напоминал подбитого Змея Горыныча.
– Я по нужде хочу! – вдруг закричал подбитый Змей Горыныч.
– Не выйдет! Ты убегал уже по березе из туалета со второго этажа!
– Но мы же сейчас на третьем!
– Да ты нас за дураков считаешь!
– Нет, нет! (Да, считаю – звучало в пышущем взгляде.)
– Береза за это время подросла! – чуть ли не хором выкрикнули дознаватели.
Но Змей Горыныч не унывал. Во всем его облике, могуче-молодцеватом, читалось: ничего, береза еще подрастет – сбегу с четвертого!
– Можете идти, – сказал капитан Максу, пряча во взоре вот такое высказывание: «У всех в наличии тещи, и часто так хочется… Ох, так вмазать! Но поскольку… то делегируем тебе хотя бы свою благодарность».
Макса понесло по коридору, по лестнице, мимо дежурного на входе, мимо своего дома и лохматого Новобранца. Пес, недоумевая, бухнул вслед: непорядок! Хозяин должен приходить домой!
А он бежал на автобазу, мотор радости работал и нес, успевай только ноги переставлять! Это ведь счастье – внизу земля, вверху белая ночь, а он в этом промежутке летит! Раз в жизни подвезло! Слышишь, тюрьмища? Хрен тебе с бугра!
Никогда Максу не везло. Так любил в детстве футбол – себя не помнил! А попал после армии в министерскую охрану. Особенно тяжело, когда встреча с трудящимися. Ведь для тебя каждый из них – это не трудящийся, а возможный сумасшедший или маньяк.
Два года он поработал в этой системе, пять лет. И понял, что может остаться и без ума, и без здоровья. Договорился с Вадькой Пахомычевым: давай начнем пить и будем пить до победного конца, пока не уволят. И пили, и выпрыгивали с воплями то с третьего, то с пятого этажа (чтобы прослыть хулиганами). Наконец их уволили. Правда, Вадька вскоре умер с перепою. А Макс тоже не мог выйти из пике сам – каждый день меньше стакана не выпивал. Но его остановил инфаркт – через двадцать лет. После этого он пил строго только раз в неделю (и то лишь до отмороженной почки).
За эти двадцать лет успел пожить на Кубани, попасть там под чернобыльский черный дождь, который сжег всю растительность, да это бы ладно – но вот первая жена сразу заболела и умерла. Тогда Макс думал: зачем я такой здоровый, что переломил атом, а не умер вместе с ней? Хотел горевать до конца жизни, но не получалось: здоровье не давало, тянуло в разные стороны.
Да и женщины ни за что не давали горевать. При взгляде на седовласого громилистого мужика, похожего на какого-то хмурого актера, они сразу прикипали к месту и мечтали: так бы и слушала до конца жизни этот пробирающий бас.
В 1996 году поехал в гости к сестре в Пермь. И моментально женился на ее соседке Глафире. Жена была не особенно здоровая, и очень хотелось хоть ее спасти. Такую глупую, еще и коммунистку железобетонную. В общем, все у него собралось в одни руки для счастья. Плюс ее высшее образование. Макс никогда ей это не говорил, но думал: «Мне бы твое образование, я бы давно замминистра был».
И тут такое невезение: теща – кержачка твердокаменная.
На автобазе Валя, сияя глазами и ногами, сказала:
– Ты что – с такой торбочкой малюсенькой в рейс? Я сбегаю в киоск, что-то куплю.
– Я сам по дороге куплю.
Охранник по-мужски значительно кашлянул в кулак и осенил его одобрительным взглядом. Макс потянулся за журналом техухода – посмотреть, что там слесаря начудесили, а Валя зашептала: бывший муж позавчера приходил, принес сыну мороженку, а Васька и так лежит с ангиной – перекупался в Каме. Макс поделился своим:
– А я, представляешь, сам не знаю как вышло, теще навесил справа, полночи в ментовке пробыл.
Обоим стало легче, но не до конца. Валя, по молодости лет, думала, что нужно что-то еще, чтобы стало до конца легче, и поэтому тихо спрашивала:
– Ну когда же ты придешь?
– После рейса отосплюсь и приду. Коль, – попросил он охранника, – часов в девять позвони ко мне домой и скажи, что я в рейсе.
– Догадываюсь, – сказал Коля. – Я тоже недавно с тещей поругался.
На лице у Коли мелькнуло выражение неоцененного Шерлока Холмса: прозябаю здесь, а мог бы такие дела раскрывать!
Эта автобаза – давно уже «ООО „Аретуза“» (шоферы тут же переделали в «Рейтузы»), но Макс по привычке про себя числил ее автобазой.
К вечеру он уже мчался среди тайги, с опасением его со всех сторон разглядывающей: что ты везешь в своей большой прямоугольной коробке? Не вредное ли для моих елей и тварей? На всякий случай приму меры.
Забарахлил мотор. Макс остановился. Развел дымный костерок, чтобы отгонять гнус. Два часа ремонтировал, устал, решил ночевать.
Хотел еще порыбачить, копнул, чтобы червей добыть, а снизу женское золотое лицо уставилось на него, словно вопрошая: «Ну что, зятек, думал удрать от меня, отдохнуть?» Он отпрыгнул, всего обметало потом: так вот кто у меня мотор-то сломал! Покурил. Никотиновое блаженство догнало и вернуло здравый смысл: это же та самая золотая баба, о которой кричат в пермских газетах и на экранах! Ищут они ее, видите ли, тысячу лет, а она тут под руку лезет, зараза!
Прикинул: сколько можно жить на эти деньги, если бы он эту золотую куклу реализовал и его бы не грохнули? Получилось много жизней. Все равно столько не проживу! Может, голову золотую ножовкой того? Но все больше и больше становится на тещу похожа, вот что жутко.
– Гнус, хоть ты не пой своих страшных песен! – закричал он взвешенному в воздухе киселю насекомых.
А она смотрела на него желтыми навыпучку глазами, похожими на блестящие спины жуков, и беззвучно говорила: отрой меня всю, вырой, зря меня, что ли, тащили финно-угорские предки твои от самого древнего Рима.
Нет, хрен тебе, тещечка, глумливо подумал Макс и быстро-быстро зарыл ее в перегнивший торф. Долго топтался сверху, сразу улетела мечта порыбачить с дремотой. Погнал машину, умоляя неведомые силы, чтобы не оживляли золотую бабу, а то как погонится, как даст золотой шваброй – и башка пополам!
Макс вернулся из рейса, а жена оказалась в больнице. Правая нога еще у нее держалась, а левая опять отказывалась ступать по этой жизни. Поэтому Макс даже не прилег, а стал выгонять «Москвича» из гаража, шепча: ни церковь, ни коммунизм что-то не помогают моей Глафире.
Новобранец почему-то хватал его за штанину, неразборчиво что-то ворча. Макс подумал: наскучался, я был в рейсе, хозяйка в больнице, а тещу, слава Богу, в уме за свою не держит. «Четыреста двенадцатый» упрямился, фыркал, пока Макс на него не прикрикнул:
– Совесть у тебя есть? В рейсе у меня было приключение, да еще ты тут! Ну-ка живо заводись, ведро с болтами!
Тот обиделся, но поехал, а пес басовито ругался Максу вслед: вернись, земля сырая, я тут такое чувствую, что словами сказать не могу!
«Четыреста двенадцатый» злорадно заглох на подъеме от дома к дороге. Макс пошел за инструментом к багажнику, только хотел его открыть – и машина вкрадчиво скользнула по мокрой земле. Фуяк – прижат к дереву! Потихоньку попытался вытащить себя, но эта железная тварь подалась еще на сантиметр. Ну, конечно, тут сразу захотелось кашлянуть! Сдержался, вспотел – от любого движения может раздавить.
Он спросил про себя кого-то: можно? И осторожно подвигал глазами. Оказалось – можно. С дикой завистью посмотрел на дождевого червяка, который свободно и даже размашисто полз по своим важнющим делам.
Свист!
Человек с прекрасным пузом идет, родной! И с каким-то тоже словно пузцом на лице! Принц!
– Мужик! – прошептал Макс. – Мужик!
Свист замер.
– Подложи кирпич под заднее колесо.
Максу показалось, что от его шепота полдерева глубоко отпечаталось на спине.
Пока мужик летал на бреющем над землей – искал кирпичи и вбивал под задние колеса, Макс старался не дышать. Потом по сантиметру стал сдвигать онемевшее тело влево. Трещала одежда, трубило сердце, вдруг могучий спаситель исчез. Напоследок что-то лопнуло, полилось по спине, и Макс вывалился и упал.
Оказывается, мужик никуда не исчезал: наклонился громадным ангелом, насколько позволял живот, и вопросительно смотрел.
– Только не трогай меня! – умолял Макс.
Он ждал прихода боли. Их учили: если появилась боль, значит, все в порядке, не парализован. И вот боль пришла доброй вестью. Макс издал один крик и пошевелил конечностями. Можно вставать, принял он решение.
Перевернулся на живот, встал на четвереньки.
– Посмотри, что у меня на спине, – попросил он.
– Наверное, сильно за тебя молятся, – сказал Матвей (оказывается, Макс успел спросить, как его зовут). – Простая царапина. Глубокая, но кровь уже свернулась. Ну что, я пошел?
– Постой! – Макс встал, оперся о дерево. – Матвей, ты понял, что без тебя мне был бы звездец?
– Понял, – сказал ангел, колыхнул вторым подбородком и пошел по своим делам.
За тещу меня придавило или за табельщицу Валю, злодейку, которая смотрит так, что не обойдешь? Наверно, не за кержачку: за нее меня золотой бабой жахнули. Надо делать выводы.
Да, крепко за меня взялись.
Мальчик из тумбочки
– Ну, поступай же к Глубокову, – посоветовали мы Филарету.
Он подхватил свои картонки и побежал, шепча:
– Пещрить надо, пещрить!
Три дня потом сидел на полу, вызывая уважение соседки, которое переросло дальше во что-то большее, так что пришлось отчаянно отбиваться, отнимая драгоценное время у картин.
А соседка коммунальная сначала думала: что-то тихо опять у него, вот-вот запьет. Потом: вторые сутки не готовит Филаретка-дурак, заболеет еще, дай-ка чаю занесу. Лучше бы не заносила! Как увидела эти мелкие, с мизинец, снующие фигурки на картонках, так взвизгнула, как от щекотки. А он поднял на нее глаза, которые не успели потухнуть. Он сначала прикинул, как можно втиснуть ее фигуру, вот тут, слева, еще есть место. Эти два бешеных выступа спереди! Эти два крутых спуска с Гималаев, Боже ты мой, это ведь бедра! Раньше-то он был бы не прочь, но теперь прочь, прочь от этих бедер! Истекали третьи сутки отдыха от хладокомбината, завтра на работу, а еще так мало намалевано.
* * *
Раньше Филарет работал не сутками, а всегда во вторую смену. И один раз зазевался: вырезал кусок баранины получше для жаркого, и его закрыли в холодильнике величиной с ангар.
Там была двойная теплоизолирующая дверь, которую можно было вышибить только взрывом. Первые пять секунд Филарет материл себя за жадность. Дальше минуту в ужасе искал телогрейку, которую сбросил, разгорячась, во время работы. Когда нашел, туго подпоясался и расслабился: можно не торопясь подумать, не замерзнешь за полчаса при минус пяти.
Значит, так: надо продержаться до восьми утра. Плюсов много: свет есть, часы при мне (полпервого ночи). Крыс он тоже занес в плюс: живые такие, бодрые существа. Кстати, на хладокомбинате крысы были особенные, с густой красивой шерстью, как у болонки.
Костер? Да, развести бы костерок. Что будет гореть? Жир срежу с бараньих туш. Да что-то туши больно изможденные, ни жиринки.
И тут его осенило: буду туши потихоньку перетаскивать из одного угла в другой. Смешно тут думать, что смену отработал, устал. Жить-то хочется!
Но сначала перекушу. Тонко настрогал с мороженой бараньей ноги и немного пожевал, на пять минут став первобытным. Мысли были громкие, даже, казалось, отдавались эхом от покрытых инеем стенок холодильника: «Как в царстве Снежной Королевы… Я же, как все, уносил по кило-полтора мяса, по литру сгущенки. А начальство вон вообще тушами вывозит».
Равномерно ступая с тушей на плече, глубоко через нос дыша, он обещал: «Не буду копаться, выбирать, а буду вырезать что попало и поменьше».
Это шел 91-й год, и Филарет не знал, что скоро жизнь ему поможет – все будет частное, и ни отрезать, ни вынести не сможет уже никто.
Щелчок замка раздался, когда руки-ноги Филарета било крупной дрожью, и он сам не понимал, что в его теле есть такого, что оно еще ходит. Он вывалился в теплый тамбур, и двадцатиградусный воздух сразу его разморил и выключил. И понесли Филаретку отсыпаться в раздевалку.
* * *
Он нам все это рассказал после получки, придя с бутылкой кагора «Мысхако». Потом, как всегда, стал неуправляемым, но продвинулся на этот раз гораздо дальше. Прямо стал рвать свои заработанные деньги, а мы пытались спасти их из его железных пальцев.
До сих пор нам казалось, что деньги – это не главное в жизни. Но когда Филарет на наших глазах измельчил купюры почти в пыль, показалось: это кощунство, покушение на основы существования, ведь на рубли покупались еда и питье, лекарства и тепло.
Потом миг затмения миновал. Мы посоветовали ему:
– Филарет, ты уволься, а то холодильная камера все время будет напоминать о той ночи.
– Да, есть возможность перейти… Не могу каждый день смотреть на этот склеп.
И он стал работать сутки через трое. Тогда уже начали возить австралийскую баранину, и ее нужно было разгружать в любое время дня и ночи. Филарет ее не крал! Так только, отрезал на суп. А другие-то по пять кило выносили на рынок.
* * *
Глубоков был такой художник, что вдруг иногда как очнется и как подумает: «А что это у меня школы-то нет?» Заскребет свою величественную лысину, как у апостола Павла. И долго, вдумчиво вглядывается в свой перстень с печаткой. А на печатке сложный герб, типа того, что у него дворянские предки. И вдруг как позвонит наш Глубоков в департамент культуры:
– Уленька, не пора ли нам открыть академию там или факультет живописи?
– Хорошо, Олежек, – проворкует в ответ глава культурнейшего в области ведомства.
Одновременно она глядит на закаты, восходы, бедра, груди, обильно развешанные по стенам. Все время она разрешала художникам делать выставки прямо у себя под носом, в ее обширном кабинете. В то же время думала: «Обнаглели. Эта красная серия художника Хорошко скоро выживет меня отсюда».
* * *
И тут же все газеты напечатали, что народный художник лично набирает учеников.
– Да, подарок, да, тебе, – говорили мы Филарету. – Вот еще рубашка, нам Гендлеры послали. Американская, не хуже, чем по ТВ мы на Глубокове видели.
И рассказали ему историю, которую все знали.
В юности Глубоков выпивал раз в компании Вознесенского и таких же. Он же в Москве учился! И там оказался один фарцовщик, который сказал, что рубашку Глубокова надо снять и ногами топтать, а обувь его ископаемую сейчас же утопить в Москве-реке.
– Выпивки-то много там было? – перебил нас Филарет. – Тогда не жалко: я бы бутылку красного вина на его модную рубашку вылил.
Поверишь тут, глядя на его телосложение валуна!
А ведь когда-то Филарет помещался в тумбочке! В обыкновенной советской тумбочке, которая стояла в детском доме. А на ней рос фикус.
Сидит Филаретка внутри. Хорошо ему. Представляет, как над ним фикус растет – шевелит корешками. И доносится голос мамы:
– Петя купил пять яблок, одно уронил в пропасть, а одно съел. Сколько у него осталось?
Филаретка принялся мечтать: сейчас никто не сосчитает, а он как выскочит из тумбочки к доске, как все решит! И все подумают: да, он умный, у него мама есть. Да еще отец иногда появляется. А тут не до задач. Только и думаешь: как это случилось по-гадски, что родителей нет? Если бы знать, в какую пропасть, как это яблоко, они свалились, так полезли бы за ними все, начали бы вытаскивать их охапками.
Мама говорила:
– Молодец, Филарет. Правильно решил. А теперь обратно в тумбочку полезай.
Мать с отцом были родом из этого же детдома, поэтому не имели никаких семейных воспоминаний. И обращались с сыном как с куклой.
Они очень рано начали болеть, сразу после того, как Филарет пришел из армии, и сразу, как говорят в народе, друг за другом убрались.
Как взял в руки Глубоков картонку «Мой мясокомбинат», как вскрикнул, увидев рабочих, лезущих в снегу с тушами бараньими через забор! Наш народный художник одной рукой ухватил себя за лысину, другой – за мясистые плечи Филарета. На все это из рамы, одобрительно покуривая, смотрел Виктор Астафьев. Он был написан двадцать лет назад в таком сиреневом кристалле, который словно вспучивается и разрывается изнутри усилиями писателя.
Когда мы видели этот портрет на выставке, то там ходил часами под Астафьевым поэт Оленев и уже усталым, хриплым голосом объяснял:
– Видите решительность Виктора Петровича? Это наш земляк, пермяк, заединщик! Он говорит всем своим видом: «Замуровали меня масоны, но я вырвусь!»
Тут журналист В. не выдержал, подмигнул нам и пошел на Оленева, раскинув толстые руки:
– Ну иди сюда, былинный поэт земли русской! Обнимемся так по-богатырски, по-медвежьи!
И как жамкнет его! Оленев закричал:
– Ты че, охренел, что ли? У меня остеохондроз!
И с той поры Оленев бледный куда б стопы ни направлял, за ним повсюду В. наш вредный с тяжелым топотом скакал.
– Вот что, – сказал Глубоков Филарету, – эти мужики, ворующие на мясокомбинате, – это просто Гомер. Но как же быть, что у тебя нет аттестата? Возьми-ка эти деньги, ты его купи, и я тебя зачислю.
Филарет кивнул колченогим лицом с честностью в каждой черте и пошел покупать аттестат зрелости. Потом зашел к нам и долго показывал его со всех сторон.
– Наверное, ты очень нужен мастеру, – радовались мы за него.
– Видели бы вы, какие у Глубокова девки учатся!
– Что, одаренные? – обрадовались мы за Филарета, которому будет нескучно.
Он умудрился тонко улыбнуться своими толстыми губами:
– Да нет, бездари. Зато их много. Это вишневый сад! Я один в нем. – И взглядом удалился на ту поляну посреди весны.
Но все-таки он не обирал потом вишенье полными горстями, ударился в работу. По-прежнему продолжал все пещрить, но вроде бы уже погрубее. Это дал ему Глубоков, появилась у Филарета сила: деревья налились мышцами и сухожилиями, а закаты и рассветы стали улыбаться свежими лицами.
Знатоки заволновались:
– Надо покупать его «Прогулки» задешево, пока не прославился.
Когда в первый раз был продан его холст в художественном салоне и он плыл к нам под гипнозом этой суммы, на ходу закупая все дорогое, вкусное и пьяное, мы и в ус не дули, чем там все это кончится. Проходи, садись, рады, поздравляем. Филарет одобрительно кивал: правильно себя ведете, молодцы. После третьей рюмки, правда, выложил сокровенное:
– Вы хоть и посоветовали мне поступить к Глубокову, но где теперь я и где вы? Чей вы пьете коньяк?
– Иди вон, Пикассо хвастливое!
– Я-то пойду, но уже меня никто! никогда! не засунет в тумбочку!
* * *
Два года мы не виделись, хотя жили в соседних домах. Телевидение, правда, не скрывало от нас цепь растущих успехов Филарета.
Вдруг он появляется не с экрана, а в дверь. Глаза как-то прислушивающе косят к левому уху, а в руках – половинки разных купюр. Он попросил:
– Помогите, я порвал миллион. Помогите склеить.
Мы внимательно рассмотрели эти куски. Выяснилось, что остались только левые половинки. Склеивать было нечего.
– А где остальные?
Он скосил глаза налево, выслушал подсказку и ответил:
– Выбросил в форточку.
* * *
Потом мы узнали, что соседка приложила огромные усилия, но все же сдала Филарета в больницу.
– На глазах моих детей он рвет деньги, – напирала она по телефону.
– Ну и что? Он не представляет угрозы для окружающих, – изо всех сил отбивался диспетчер психиатрической скорой.
– Я дам телеграмму президенту Путину! Ведь сосед рвет купюры Российской Федерации!
С тех пор Филарет живет в больнице – под присмотром нашего друга психиатра Д. Иногда Д. нам говорит:
– У меня сильное подозрение, что наш Филарет уже в основном выздоровел. Правда, деньги рвет, но в основном мелкие. Я думаю, что он притворяется, но кому от этого плохо?
– А как его картины расходятся? – волнуемся мы.
– Да неплохо. Мы ему отдельную палату выделили, отремонтировали, телевизор там, мольберты… Тут, кстати, я списал вам одно объявление, там учат на менеджеров по продаже живописи. Давайте подучитесь и займитесь Филаретом. Вам будет хорошо и ему.
– Сейчас мы, два пенсионера, бросимся, осчастливим курсы менеджеров.
Автопортрет Филарета сказал нам сбоку выступающими янтарными глазами: «Ну и хрен с вами, раз отказываетесь от своего счастья».
Эта работа – давний подарок Филарета, еще на взлете дружбы. Он здесь держит бутылку двумя руками – обе левые. На плече сидит, вся в драгоценном толстом мехе, крыса с хладокомбината. Гости, которые к нам заглядывает, спрашивают про портрет:
– Он, случайно, не сидел?
– Сидел. Только не в тюрьме, а в тумбочке.
Помолвка
Могуч, хоть и не молод наш Изя Стародворский – сторож синагоги. И добрый до ужаса! Он говорил:
– Мне нах не нужен такой раввин, если он скажет, что я должен свою русскую жену бросить.
У Изи была сложная жизнь, то есть больная русская жена и молодая еврейская любовница. И это в шестьдесят пять лет! А у раввина и в мыслях не было, чтобы запрещать Изе русскую жену. Более того, ребе, например, настоял:
– Выдавать продуктовые наборы русским вдовам – они ведь жили с нашими евреями столько лет, поддерживали их!
Часто бедный ребе горько вздыхал и говорил украинцу Косте, повару:
– Неплохо бы все технические должности в синагоге отдать русским или украинцам. Им скажешь – они исполняют. А наших о чем-нибудь попроси! Начинают меня учить, как лучше сделать. Ведь каждый еврей в душе раввин. Особенно часто спорят со мной сторожа.
Но вот в этой истории, с Яковом и Эвелиной, сторож Изя Стародворский был солидарен с молодым раввином.
Все началось легко. Сначала их видели вместе беседующими то возле окна в столовой, то в библиотеке (где она вела вокальный кружок). Потом они стали закрываться в компьютерном зале (там Яков работал) – видимо, очень были сложные проблемы с программами. Наконец Яков подходит к раввину и говорит: мы хотим пожениться.
Раввин стал их уговаривать: сначала нужна помолвка, а потом уже под хупу. Яков смотрел на него печальными глазами: отсрочка, помолвка, ребе, где ваш светлый ум? У Эвелины сережки в алебастровых ушах – в виде трапеций, качаются, дух захватывает, кажется – вот-вот сорвешься. Если бы у вас была такая Эвелина: как ее увидишь – бьет током триста вольт от улыбки, пятьсот от походки и тысяча – от каждого слова, но не умираешь от этих разрядов, а становишься еще блаженнее. Хорошо, что есть тело, которое все чувствует, а то бы мы жили, как облака…
У раввина был свой источник высокого напряжения – жена. Поэтому он деликатно встряхнул Якова за плечо и сказал:
– Я понимаю: состояние счастливой невесомости. Но очнитесь, все вокруг против вас. Я это понял на Хануке.
Ребе как член межконфессионального комитета пригласил представителей всех конфессий на этот великий праздник свободы еврейского народа. Изя потом завистливо рассказывал (ему самому пришлось бросить пить из-за микроинфаркта):
– Зашли они в синагогу такие важные. А потом, смотрю, через три часа выходят уже шатаясь, добрые – друг друга поддерживают. Если бы не их шапки, я бы не знал, кто у них там мусульманин, а кто католик.
На Хануке мать Якова и заметила, что ее сын все время кипит возле Эвелины. И ужаснулась, и забросила свои курсы еврейских социальных работников, на которых пропадала в Москве. Здесь вон какие бесконтрольные события пошли! Она понимала, что не будет навсегда для сына всей вселенной. Но хотя бы половиной! А тут что? Клан Ольховичей, процветающий, ветвящийся на полмира, не пустит ее дальше коврика в прихожей. Кто они и кто она? Беженка из Таджикистана, без родни, без связей, все потеряла, кроме сына (квартиру трехкомнатную, друзей огромную массу, климат роскошный).
Когда приехали в Пермь, Илья Михайлович Ольхович предложил ей быть координатором в группах общения пенсионеров, «Теплый дом» это называлось. А теперь он же – отец Эвелины – так ясно говорит ей взглядом: откуда вы взялись?
Вдруг ее осенило так, что обнесло голову. Так вот почему исполнительный директор опоздал к началу Хануки! Первый раз в жизни! Он отчаянно сигнализировал общине: вы что, не видите, что творится прямо у меня под носом? У вас что, женихов нет достойных для моей дочери? Шлите их срочно ко мне!
Но раввин сказал:
– Илья, ты кто такой? Синагога – это ведь не твой особняк и не мой, чтобы мы здесь распоряжались.
Иногда Илью Михайловича Ольховича охватывала чисто русская мечтательность: вдруг откуда-то в Перми образуется еврейский олигарх, который тотчас начнет сватать своего сына за его Эвелиночку. И что у зятя (вот он, уже тут стоит!) барственность, как у молодого Ширвиндта, а капиталы – как у пожилого Ротшильда. Или хотя бы наоборот.
И вдруг – вместо намечтанного зятя ходит оживший землемерный инструмент, худой, нескладный, нищета, без отца.
Хитрая безотцовщина! Эвелине уже прочно голову задурил: будто бы в общежитии у него гантели, турник, пятьдесят раз подтягивается. Да знаем мы эти общежития, сами всю молодость в них провели: друзья, приключения, пьянки, тогда казалось все так уникально!
У тех, кто полсотни раз подтягивается, грудь-бочка, а у этого грудь-фанера, внушал Илья Михайлович дочери. Эвелина возражала:
– Ты, папа, не понимаешь, что бывает два типа телосложения: медведь и леопард.
Тут-то и подумал наш Илья Михайлович, что его красавица, его виноградинка Эвелина уже успела воспринять этого придурка полностью, до конца.
– Закогтил тебя, значит, котяра! – закричал он.
А Эвелина таинственно улыбнулась и поведала, бедная, как Яков преступника убил:
– За бандитом он гнался, в войсках МВД служил. А тот спрятался в арке. Но Яша гений – как даст очередь из автомата по загнутой стене арки, которая видна. И рикошетом этого бандита убило.
Илья Михайлович сам оттрубил два года во внутренних войсках, но уж не стал говорить ей, дурочке, что там в ленинской комнате лежали брошюрки «Солдатская смекалка», в одной из которых и тиснута эта поучительная история. Получается, что до сих пор те же вечно засаленные брошюрки где-то разложены, хотя ленинские комнаты давно исчезли.
Но хватило ума не сказать ей про это! А то как бы поднялась дочь на родного отца: ах, захотел исказить светлый облик этого драного кота!
Поскольку лосось признан повсеместно кошерным, на ужин в синагоге подавали именно его. На этот раз рыба была в кляре, и раввин попросил повара Костю, чтобы приготовил еще две порции. Он пригласил Якова и Эвелину отужинать с ним.
А Илья Михайлович все выглядывал из своего кабинета. Если бы не ребе, он бы крикнул: «Эвелина, марш домой!», а потом бы поговорил круто с этим человеком-фанерой: бандита, он, видите ли, поймал! Хочет с вранья начать жизнь с его дочерью! Совсем не понимает, что семейная жизнь – это не то же самое, что любоваться неглубокой прозрачной рекой.
Он забыл, Илья Михайлович, что четверть века назад сам рассказывал невесте (улыбка у нее – тыща вольт):
– Я был в отряде аквалангистов. Мы подплыли ночью к захваченному рецидивистами катеру, открыли под водой два баллона с особым секретным газом. Он буль-буль-буль вокруг катерка, через пять минут все заснули. И мы тут как тут! Сковали всех четверых и потом всю дорогу до лагеря держали выродков в закрытой в каюте, защищали их от экипажа – люди рвались сделать самосуд.
Он убедительно размахивал руками, задевая то прекрасную грудь, то прекрасное бедро невесты, и в этот момент он был героем, морским могучим человекольвом. Так охотники в рассказах всегда умножают свои трофеи, чтобы их слова чудесно увеличили будущую добычу.
И ведь сработало! Чудесная добыча – дева Рая – досталась Илье! Эх, Илья, почему же ты забыл, что мужественная история освобождения катера взята из той же замусоленной брошюрки «Солдатская смекалка»? Потом этот событие перенесли даже на экран в виде учебного фильма, и роль главаря банды с наклеенными вдоль и поперек лица шрамами играл известный киноактер.
На самом деле Илья Михайлович думал, конечно, не об одной только судьбе своей Эвелины.
Стали поступать сигналы, что иные богатые евреи не выполняют своего сыновнего долга! Невиданное дело! Не далее как сегодня утром пришла Аида Иосифовна, мама владельца рыбокоптильной фабрики (от него всегда пахло копченой рыбой), и давай плакаться в кабинете: запишите меня в благотворительную столовую, пенсия такая мизерная. Он сразу вспыхнул возмущением к рыбокоптильщику, но через это тонкое пламя видел: откуда у Аиды Иосифовны дорогая сумка? Да и обувь не из дешевых. Пообещал, что позвонит завтра-послезавтра.
Этот богатый жертвует изрядные суммы на ремонт синагоги и в то же время не кормит мать, что ли? Илья Михайлович хотел посоветоваться с ребе, выглядывал, ждал, когда закончится болтовня нищего Яшки, наконец закипел, забурлил и сам позвонил нарушителю сыновнего долга: представитель избранного народа, как не стыдно, должен показывать пример. Представитель избранного народа был поражен:
– Раз в неделю я набиваю мамин холодильник… Может, ей поговорить просто хочется? Тогда давайте я буду оплачивать эти обеды. Или вот что… Грибы кошерные? Можете забирать прямо из теплицы вешенки раз в неделю – я сейчас грибами еще начал заниматься. Мама такая светская, очень любит общество.
Илья Михайлович спросил проницательно:
– Аида Иосифовна стихи, наверное, пишет?
– Да всю жизнь, как только она начинает читать, мы разбегаемся кто куда.
Илье Михайловичу все стало понятно. Потому что, бывало, он сам выбегал в зал, где проходила трапеза, и читал старикам свои юморески, пользуясь, что они не могут разбежаться. Да и они на каждом обеде встают, требуя внимания.
– Сейчас я прочту отрывок из поэмы «Моя жизнь»: «Расчески тают вдали – словно на картине Дали, они только шлют нам привет – но волос у меня больше нет…»
– А я предлагаю вашему вниманию рассказ о том, как человек позеленел и покрылся сквозными отверстиями диаметром семь целых и четыре десятых миллиметра.
И все перестают есть и уважительно слушают: ведь у каждого под пластами лет таится свой дар, который ждет, когда его выпустят на волю.
У сторожа Изи Стародворского вообще тяги к сочинительству не было, но зато какая память! Какой трубный, зовущий голос! И позвякивали в этом голосе разноцветные леденцы – они привлекали женщин лет на двадцать его моложе. Изя встал и аккуратно положил вилку на край тарелки:
– Лучше послушайте, графоманы старые, рассказ Бабеля. «Конец богадельни. В пору голода не было в Одессе людей, которым жилось бы лучше, чем богадельщикам на втором еврейском кладбище…»
– Что за намеки! – вскрикивали шепотом две тщательно одетые и причесанные дамы, похожие на Агату Кристи.
Но наш Изя Стародворский знаете кто? Это носорог, это фаланга Александра Македонского. Его не своротишь с выбранного пути. Своим голосом, который моложе его на сорок лет, он продолжал наизусть шпарить великого еврейского классика русской литературы.
Но и наших энглизированных дам сильно не смутишь. Формально похлопав Изе и Бабелю, они обратились к своему, насущному:
– Я представляю творчество Набокова как шар, покрытый серебристой чешуей.
– А для меня Набоков – это дерево-великан, и ствол усеян бабочками-данаидами.
Мать Якова слушала это все без сил. Раньше она тоже врезалась бы в словесную сечу, раздавая направо-налево увесистые доводы. Но не сегодня, после симфонии бессонницы. Гудели возле общежития провода, холодильник урчал в головах, счетчик сверчал, мышь грызла, в ушах звенело, стекло дребезжало, мысль шевелилась: если бы Яков выбрал не Эвелину, а умницу дочь библиотекарши Эстер…
Разговаривал раввин с Яковом и Эвелиной вот о чем.
– Помните у Кушнера? «Я отвечаю: МИР, когда пароль – ВОЙНА». Яков, вы отца должны пригласить на обручение!
– Не могу. Мы с мамой потеряли его после развода.
– Как – потеряли?
– У них вскоре в цехе был взрыв – его бросило на дюралевую дверь! И его лицо отпечаталось на двери со всеми подробностями. Я видел сам: вместе с мамой пришел в кабинет техники безопасности, там эта дверь стояла как главное пособие. Отца направили в Душанбе на лечение, в это время гражданская война, мы все бросили и бежали.
Раввин сильно глубоко нырнул в эту историю и, слегка покачиваясь, бессознательно шарил пальцами по столу. Тень от его шляпы ритмично наплывала на лицо Якова.
– В Торе говорится, – задумчиво промолвил ребе, – бэцэлэм Элохим бара ото, по образу Божию сотворил его, то есть человека. Господь найдет способ напомнить, хотя бы этим отпечатком на алюминии, чей образ и подобие мы несем на себе. Бросил жену и сына – и получил вот такое милосердное напоминание.
Тут Илья Михайлович закипел так, что не выдержал, выскочил в молельный зал и закричал по-простому, как хотелось:
– Эвелина, тебе пора домой!
– Сейчас я расскажу ребе историю и пойду.
– Историю Геродота в семнадцати томах?
– Да томики у Геродота маленькие, – ввернул раввин.
– Я кому сказал, марш домой!
Дочь зло посмотрела на отца и вдруг перенесла этот же взгляд на Якова (видимо, автоматически), и его шарахнуло под тыщу вольт, но только сейчас со знаком минус.
Эвелина накинула шубу и пролетела вниз по лестнице мимо Изи, который сказал Якову:
– Что это она пронеслась, как п… на помеле – ни шалом, ни пока?
Яков выбежал на крыльцо синагоги, увидел шубку Эвелины в десяти метрах и… раздумал догонять. Лицо горело как ошпаренное от ее мощного взгляда. Он наклонился и погрузил голову в сугроб. Потом стал рассматривать получившийся отпечаток своего лица в снегу. Вот так, Яша, по образу и подобию, значит, надо идти догонять. Она шаги замедлила, ждет.
Он догнал Эвелину в три прыжка, обнял, а она ответила приготовленными словами:
– Помнишь, ты четвертого сентября подарил мне белые гладиолусы. Они цвели до конца, пока на верхушке бутоны не раскрылись. Это нам пример. Будем стоять до конца.
– Выстоим! – кивнул Яков. – Это хорошее слово для эпитафии. На нашей общей могильной плите будет написано: «Мы выстояли!»
– Катарсис, или тащусь, – простонала Эвелина.
Она пришла домой, а отец тут как тут, ждет, как лев в засаде. Примчался вихрем на «шевроле-ниве». Опять будет это ненужное перешвыривание словами, когда уже все решено. Мама, конечно, промолчит, но молчание ее заряжено ясно как – в поддержку отца, а маме, бедной, кажется, что для пользы семьи.
– Мать мне сказала, что видела у тебя экспресс-тесты, листочки эти… Скажи честно: ты в положении?
– Папа, давай не будем разыгрывать мелодраму.
– Ат-лично! Значит, нет. – Илья Михайлович почувствовал, как ему жарко – так я еще в шапке (он снял ее и взял в руки кипу). – С этого мига ты с ним больше не встречаешься! Какую свекровь ты можешь сдуру заполучить! Она все твердила мне: ах, повар Костя неэкономно срезает попки огурцов.
– Она не Плюшкин, а просто от тяжелой жизни! А тебе бы только деньги, деньги! – Эвелина прокричала это, как сирена, мощным певческим голосом, и скрылась в ванной.
– А по-твоему, все только любовь-любовь! – рявкнул Илья Михайлович и потряс гудящей головой. – Да у Якова, наверно, плавки и те из секонд-хенда!
Жена тут вышла из кухни:
– Что там в мидраше написано? Высокий должен брать в жены низкую, а богатый – бедную, чтобы не было расслоения.
Ледяное стекло давно манило его огненный лоб. Илья Михайлович подошел к окну. Во дворе мигала елка, и Илья Михайлович вдруг беспричинно подумал: будут новые радости, например внуки… Да что за радость, если родная дочь не понимает, что евреев всегда преследуют.
Когда дочь вышла из ванной, нисколько не благодарная, что они ее родили такой роскошной, он сказал:
– Наш народ всегда в опасности! А что дает хотя бы относительную безопасность? Деньги. Вчера в магазине слышал: «А ты знаешь, какие чеченцы? Они хуже евреев!»
– И инвалид мне сказал на приеме, что евреи выдумали эту монетизацию льгот, – добавила мать.
– А ты много безопасности принес в свою семью, когда женился на маме? – Дочь отца вопросом ударила прямо в пылающий лоб.
– Тогда было другое время, при советской власти ни у кого денег не было… – влезла мать перечислять доводы в защиту мужа.
– Рая, ты, как всегда, не в фокусе, – мягко сказал ей Илья Михайлович. – Теперь-то уж можно сказать, что я играл не последнюю скрипку в теневой экономике, был буревестником капитализма…
Дочь гнула свое:
– Наш ребе сказал, что первая заповедь, провозглашенная в Торе, это «плодитесь и размножайтесь» – «пру урву». Пора тебе, папа, другую Тору писать, где первая заповедь – «обогащайтесь и страхуйтесь».
– Дума, Дума, – бормотал Илья Михайлович, – зачем ты придумала этот январский отдых? Я пропал на две недели в Бермудском треугольнике – холодильник, диван, телевизор, – я упустил развитие событий, упустил безопасность и благополучие Эвелиночки!
Тут захотелось ему, подобно предкам, посыпать главу пеплом. Но на дворе 5765 год от сотворения мира, то есть двадцать первый век.
В этот день тихое кипение в синагоге началось с утра. Изю попросили остаться после суточного дежурства и подвезти все, что нужно для помолвки (сладости, фрукты, вино, шарики, надутые гелием).
На фоне бодрых движений всей синагоги выделялось бессильное лицо библиотекарши Эстер Соломоновны Айгулиной. Ее дочь была назначена инспектором по кошерности, то есть проверяла, чтобы в крупе и овощах не было жучков, червячков, камешков. И был такой красавец иудей Петров, электрик на полставки. Работа у обоих была не сказать чтобы обременительна, и сэкономленные силы зародили бурное притяжение. Все с одобрением посматривали на эту пару: вот начало новой еврейской семьи, если дети пойдут в отца, то красота мира увеличится, а если в мать пойдут, то будут гении.
Петрову дали грант на обучение в Иерусалиме. Так этот подлец Петров вдруг женился на американке и растворился в бескрайних просторах США, то есть в Нью-Йорке. Тогда Эстер Соломоновна сделала гибкий разворот и увидела Якова, и с каждой секундой он все больше ей нравился, и она убеждала дочь так напряженно, что ей тоже понравился этот сын беженки.
Но они обе, мать и дочь, забыли про вокальный кружок. А ведь он базировался тут же, в читальном зале, и в своих недрах скрывал это прожженное существо Эвелину, вот так. Ловко она притворялась, что ставит голоса всем желающим петь. А на самом деле… И вот результат – сегодняшняя помолвка. И бедная доченька Эстер опять одна и уже поневоле дрейфует в сторону соседа по площадке, грузина Бадри. И этот дрейф взаимный.
– Воздух не озонируешь своим видом, – озабоченно заметил сторож Изя. – Сделай хоть рекламную паузу на лице.
А ведь есть чем утешиться: внуки все равно родятся евреями, хоть фамилию будут иметь Паолашвили. На такой мысли Эстер вскинула губы к ушам и с этой улыбкой стала растягивать гирлянду. Изя подвалил с ящиком кока-колы и одобрительно сказал:
– Так-то лучше! Не горюй! Нас гребут, а мы крепчаем. Вот позавчера вечером: только я начал вслух Тору читать, а у котика просто судороги! Жена говорит: вези к ветеринару – друга-то надо спасать. А уже полночь! Ну, поехали, и сказал айболит: во время бурного роста у самцов бывает – резко повышается уровень гормонов, поэтому судороги. Пришлось заплатить триста рублей. Такая дыра в бюджете! И вот – сутки сторожил, без передышки остался подработать.
– Да, котик – это роскошь, – сочувственно сказала Эстер. – Но ты железный, тебе ничего не делается… А что там за крики?
Да, крики были – из глубины синагоги. Часто звучало слово «вентилятор». И высыпала толпа, состоящая из общественного совета, участкового, завхоза, а также электрика и слесаря в одном лице. Курсировал в массе людской и Илья Михайлович. Он надеялся: история с вентиляторами раздуется до таких пределов, что помолвка сорвется. Следователь будет полдня ходить, собакой всех нюхать, допрашивать… Хорошо бы.
Но увидев величественного Изю Стародворского, директор несколько пошатнулся в храбрости и даже отступил назад. Он начал так: пропали вентиляторы из гаража, помните, купили, закопченные такие, после пожара?
– Помню, дешево вы их купили, – парировал Изя, не двинув бронзой лица.
Но все равно последовали робкие попытки повесить на него ответственность за то, что плохо сторожит. Изя еще более выпрямился, оперся рукой о невидимую кафедру и возгремел:
– Во-первых, я не принимал эти сифилисные вентиляторы под свою ответственность, а только слышал о них. Где я и где гараж, который ленивый может открыть ногтем? Во-вторых, третий год вы обещаете поставить сигнализацию и даже проголосовали там себе. Где деньги, отпущенные на сигнализацию? А в-третьих, даже если бы я услышал ночью, как там ломятся, я бы, может, не смог позвонить. Телефон у вас то оживает, то снова мертвый. У меня хер чувствительнее, чем ваш телефон!
Изе чуть ли не аплодировали. Фронт против него распадался на глазах.
* * *
Дальше началась чинная суета помолвки. Мужчины и женщины как бы представляли два вида кино: черно-белое и цветное. Раввин, лицо которого было всегда здоровым и розовым, словно у молотобойца, вдруг побледнел и с блистающими глазами стал провозглашать благословения на языке пророков. Якову показалось, что одежды ребе вздыбились и поплыли, как у Моисея под напором святого ветра Синая. А у Эвелины сквозь слезы все было усеяно бриллиантами…
Отдышавшись (это же потрясение каждый раз – общение с ангелами), ребе сообщил:
– Идя навстречу пожеланиям трудящихся (он посмотрел на мать Якова и отца Эвелины), мы сокращаем срок между помолвкой и хупой. Свадьба будет в апреле.
Через час, когда все разошлись, Яков подошел к Изе и стал переминаться с ноги на ногу.
– Ну, говори, жених.
– Израиль Маркович, мы поздно вечером вам позвоним, вы нас пустите с Эвелиной?
– Ни за что, – просто, без всяких церемоний ответил сторож, но, взглянув на лицо Якова, вдруг потерявшее всяческий тонус, добавил: – Ты слышал, что ребе сказал? В апреле он вернется из Москвы, гостей назовут! – И он принялся расписывать все так, будто придет пол-Перми, и стены синагоги волшебным образом раздвинутся, чтобы вместить всех.
Тут подошла Эвелина, прислонилась к Якову плечом пловчихи-певицы, с силой вздохнула. И они, молодые, посмотрели на Изю четырьмя древними глазами, которые внятно говорили: старик, старик, ты не понимаешь, время идет, жизнь проходит.
– Жизнь – цейтнот, сказал енот. – И далее Изя подробно расписал, что может быть. – Я же не вижу в дверной глазок всего, сами вы говорите или под ножом или пистолетом. А зайдут с вами незваные гости, шарахнут мне по голове – тут даже не поможет бросок через бедро с захватом волос из носа…
День как год
Джек приехал в Пермь волонтером – помогать ремонтировать Музей политических репрессий. Но ни до какого музея не доехал, потому что у него наступило свое.
Коридорная гостиницы уже знала эту западную важность, особую. У русских важность сердитая, кажется, что у несчастного проблемы с кишечником. А у Джека важность летучая, с улыбкой и с вопросом в глазах: ну как вы, как вы тут без меня обходились?
Через час он подхватился, нахлобучил на голову свою берсальеру и спросил с приятным акцентом:
– Могу я поужинать где-нибудь тут?
– Да лучше дальше гостиницы никуда не ходите, – устало сказала дежурная. – Буфеты работают.
Но разве потомок ковбоев стерпит такое топтание на одном месте? Он подумал: центр, он и в Перми центр, не может быть, чтобы рядом с четырехзвездным отелем кишели приключения. Ведь не Гарлем здесь какой-нибудь.
Через час он резко изменил свое мнение, но до этого…
В общем, сначала Джек побродил по Компросу, полюбовался подсветкой ЦУМа, зашел в пару забегаловок. Все это время за ним следила пара здоровяков. Они ждали, когда Джек забредет в достаточно темное место, потому что они думали: это лох. А есть такой закон, что лох в конце концов всегда забредает в темное место.
– Он, сука, может в эту гребучую зеркалку зайти! – тревожно говорил один.
– Да, – вторил другой.
Он не любил работать возле зеркального киоска. И не только потому, что там было светло, как днем. Тягостное чувство происходило из-за того, что все удваивается. Зеркальные стены показывали, что они делали с людьми, и говорили: это разбой.
Эти два парня, крепких, были режиссеры, сценаристы, актеры, оформители и продюсеры своих ночных работ. Часто кайфовали от своих рассуждений: от их сценариев потом жертвы становятся умнее, зорче, осторожнее, ну, конечно, жизнь идет, подрастают новые лохи, работы впереди – не продохнуть! А то, что от их действий солнце каждый раз чуть-чуть тусклее светит, и атомы всех вещей слабеют и меньше тянутся друг к другу, и в разных участках мира уже кисель… Эти два тела вообще все по-другому чувствуют: мол, с каждым днем все труднее воплощать свои сценарии (ведь все больше лохов покупают машины, и их уже не догнать).
И вот эта тройка – Джек и два здоровяка – дошла до Куйбышевского рынка, где щупальца теней протянулись с подспудными намеками. Джек почему-то остановился посреди одного такого щупальца. Потом он говорил следователю, что раздумывал, в каком киоске купить какой-нибудь сувенир для родителей. Следователь в палате спрашивал измученно:
– Какой может быть сувенир в двенадцать ночи?
Джек неуверенно сверкал рубиновым, залитым кровью глазом:
– Было одиннадцать еще вроде.
Подошли к нему два крепыша и показали два ножа. А во рту у Джека – такой вкус, будто он лизнул эти лезвия. И в то же время эти лезвия блестели сонно, говоря: никуда не денешься, все отдашь.
У Джека руки сразу стали холодными и легкими, он быстро снял с головы драгоценную берсальеру, выбежал из пиджака. Тот, кто главнее, показал ему скупым жестом, чтобы не суетился, а его подручный быстро обследовал карманы брюк.
Джек увидел у него ухо Будды с огромной мочкой. Помощник достал банковские карточки. И Джек только краем сознания сказал карточкам: «Прощайте». Дальше из кармана выплыл паспорт. И нашего американца вдруг понесло:
– Я приехал помогать. Музей политических репрессий. Чтобы не было политическое насилие.
Это возмутило двух атлетов. Как это так? Выламывается из роли жертвы. Разговаривает! И они применили простое насилие: по-продюсерски быстро стали ударами вгонять Джека в русло роли жертвы. Ожог, тупой звук, онемение, металлический вкус во рту…
Джек увидел две луны, и в тот же миг его треснул по затылку тротуар. Внутри он был по-прежнему бойкий, но тело плачевно не соответствовало: расплющенные губы не двигались, и звук получился только: бэ-э-э. Но уши еще исполняли свой долг. Какая-то женщина кричала в сотовый телефон:
– Весь в крови! Без сознания!
О радость! О прекрасный визгливый крик!
О русские женщины! О Россия!
Сколько он ждал амбуланс – не знает, может, даже терял сознание.
Когда он в очередной раз выгреб оттуда, куда упорно уплывал, Джек обнаружил, что лежит на каталке в каком-то сарае, который, как он потом выяснил, русские зовут «приемный покой». К нему подошел измученный человек в халате и закричал:
– Срочно на рентген, а то пиздец!
Джек понял, что это он не в сериале «Скорая помощь», где цветущий красавец Клуни целомудренно торопит медсестру: «Скорее, мы его теряем!»
Тут же прилетел на колесиках рентген. И Джек заговорил:
– Пятнадцать тысяч долларов – моя страховка туриста. Дайте спутниковый телефон, я буду говорить с Америкой. Мои родители будут все платить.
– Сейчас, – кивнул усталый врач и, не говоря худого слова, что-то с хрустом повернул в грудной клетке Джека.
Джек слабо взвыл несколько раз – он не знал, что хирург пользуется его шоковым состоянием, чтобы вправить два его бедных ребра.
Прибежала медсестра:
– Да-да, это иностранец, в милиции говорят – паспорт Джека Брайена подбросили к их дверям.
– Это я, да! – восторженно застонал наш волонтер.
– Бандюки-то испугались, что иностранец, – злорадно сказала красотка медсестра. – Сразу подкинули документ. Вот что значит – Америка!
– В отдельную палату, – приказал врач.
Джека повезли. Привезли его в другой сарай, и он был счастлив.
А в это время его родители покупали билет в Россию, а из госпиталя Бурденко, из Москвы, выехала «скорая помощь». Именно с этой больницей у Джека был заключен договор. И вот наступил страховой случай.
Эта оранжевая машина, почти двухэтажная, рванула из Москвы прямо в наш центр мира – в Пермь. Инопланетным апельсином она летела по разбитым дорогам России спасать американца. Кто там вздумал обидеть представителя свободного мира?
За эти двадцать часов, пока спасительная машина летела, вспыхивая по очереди синими глазами мигалок, Джеку влили через разноцветные трубочки много чего очень дорогого и очень целебного. Именно поэтому Джек уже с утра бодро ковылял по корпусу и направо-налево предлагал свою помощь. Он хватался за каталки, блестя баклажанными синяками и желая быть полезным. Этим он всех достал, всех: они пугались, что вот с таким распухшим ушитым лицом, с рубиновым глазом американец упадет – и потом поднимай его, такого бычка! Джек удивлялся, но не мог угомониться.
Вот Джек бросился к каталке, чтобы помочь трепетной медсестре дорулить больного в палату из операционной. Но, пошатнувшись от внезапного головокружения, он схватился за ветхую простыню. Она полусползает, обнажая мускулистую грудь и забинтованный живот. И владелец всего этого лежит с сияющими глазами – оттого что живой. И уши Будды, с длинными мочками, тоже топорщились от счастья. Тут глаза грабителя споткнулись, и он зажмурился, услышав знакомую фразу:
– Я приехал волонтером – помогать в Россию.
Прооперированный бросил землистую руку на глаза. «Мамочка! – думал он пополам с матом. – Зачем мы после этого американа полезли еще на одного. Кто бы знал, что этот падла со стволом. А может, американец меня пожалеет? Да, дождешься от них, они без жалости Ирак вон разбомбили».
И откуда тут взялся этот оперативник еще! Он подскочил и сразу понял все. «Ну, сейчас поработаем!» Пузырящаяся бодрость его так приподняла, словно не было бессонной ночи. Он мягко оттеснил Джека к стенке и напористо начал:
– Вы узнали его? Вижу, что вы его узнали!
У Джека уже утвердительно синяки задвигались на лице. Но в это время оперативник, по-братски подвинувшись к нему, добавил:
– Ох, долго мы за ним охотились! Теперь я на нем отосплюсь!
Джек не знал, какой смысл у этого выражения – «отоспаться на ком-то». Он заподозрил что-то насильственно-гомосексуальное, поэтому привел синяки в прежнее, нейтральное положение. Но оперативник (недаром его называют в отделе Пиявкой) уже знал, что никогда не отстанет от того, кто лежит сейчас на каталке.
Недавно этот оперативник нашел убийцу, который был во всероссийском розыске девять лет. Информатор намекнул: на одной блатхате появился этот выродок. Наш Пиявка приехал с командой, все осмотрели – на месте только хозяева, а на полу лежат какие-то бомжоиды. Он от отчаянья антресоль выпотрошил, но только стаю моли спугнул. Уже вышли и сели в машину, и тут Пиявка вспомнил ориентировку, что невысокого роста этот преступник и за годы скитаний уже усох… Точно, он лежит там, в одной из вонючих куч тряпья! Он вернулся и стал разрывать ту, которая была на самом видном месте. И дорылся до маленькой скорченной фигурки Карельца (он же Карельшиков Вэ И, он же Верещагин Пэ Дэ)…
Но вернемся к Джеку. Скорая помощь прилетела очень скоро из Москвы – точно через двадцать часов. «Мои деньги! – ужаснулся пермский спаситель Джека, завтравмой. – Они сейчас увезут мои деньги!» И как начал хамить своим столичным коллегам! Но это уже не имело никакого значения, хотя, впрочем, послужило завязкой длинного разговора.
– Какой хам этот заведующий отделением, – говорил врач «скорой», мотая длинными львиными складками лица. – Можно здесь покурить?
– Давайте выйдем в предбанник, – сказал секьюрити, пока Джек собирал свои вещи в номере гостиницы, то и дело выскакивая в коридор, чтобы обнять кого попало (ему казалось, что не все еще понимают: как это хорошо – он остался живой).
– Как же этот заведующий с беззащитными больными разговаривает? – продолжал московский врач.
– Да-да, мне стыдно за нашу Пермь, – продолжил формально охранник, в обязанности которого входило быть приятным для постояльцев.
У врача постепенно в лице стало проступать благородство, как у человека, который долго скрывал свое дворянство, и вот его уже не нужно скрывать.
– Мне уже под пятьдесят, и вроде ни к чему эти броски: тысяча километров туда, тысяча обратно. Мне сколько раз предлагали пойти на повышение.
Охранник вопросительно посмотрел.
– А зачем мне это? Здесь я сам за себя отвечаю. Людей вытаскиваю с того света – словно протяну руку и вытащу.
– Ого! – сказал охранник.
– А у нас в родне, я подсчитал, сейчас двадцать шесть врачей, и один даже академик. Угадайте с трех раз – к кому я никогда не поведу своего внука?
Наш охранник сделал вид, что закашлялся.
– Да к этому академику! – торжествующе выкрикнул врач. – К своему двоюродному братцу! Никакой у него практики: все конгрессы да разъезды по разным странам.
Наш охранник и сам не понял, что случилось. Вроде ни одного красивого женского тела не промелькнуло поблизости, а он почувствовал бодрость и что-то вроде счастья. Он тоже захотел рассказать интересную историю, чтобы развлечь хорошего человека с львиными складками лица. Как в армии офицер сошел с ума и выстрелил в него из гранатомета, а он в это время нагнулся СПРОСИТЬ У МИШИ, и выстрел ушел в лес, и потом узнали, что там никого тоже не убил. Первые пять минут я любил всех, даже этого идиота, хотел начать почему-то с конца наш работник охранной фирмы «Омега», но выскочил Джек с уложенной дорожной сумкой и забинтованной головой. Казалось, что за те десять минут, пока он отсутствовал, синяки на лице уже слегка выцвели, побеждаемые непрестанной радостью.
– Поперли, брателлы! – громко и весело употребил Джек новые для него слова.
Оранжевая «скорая помощь», похожая на раскормленный утюг инопланетный, взревела ему навстречу. Шофер убрал руку с клаксона и по-холостому перегазовал.
И покатили в столицу, распирая скорую каждый своей радостью: этим прилично заплатят, а Джек жив и весел.
Вдруг что-то кольнуло Джека, и он подумал, что это от тряской дороги. Но это он вспомнил, как познакомился в больничном коридоре с одной пациенткой – предложил ей сумку с минералкой поднести от киоска до палаты. Она по акценту поняла, что он иностранец:
– Вы из Америки? А меня в Америке негр-наркоман бейсбольной битой приложил. Он хотел мой кошелек, а я не отдавала. Там было триста долларов.
– Надо было отдавать! – закричал Джек. – Такой в Нью-Йорке как бы уговор: ты отдаешь, что у тебя в карманах, и тебя не бьют.
– Как же отдать! Тогда я думала: как я отдам мои единственные триста долларов? До сих пор помню широкую улыбку этого негра и его великолепные белые зубы. Он еще захохотал от удивления, что я не отдаю, перед тем как ударить.
– А я все отдал здесь, в Пермь, – сказал Джек. – Но меня все равно били.
Дама вздернула вверх короткие пружинистые ручки:
– Если б я знала, что полиция все вернет мне! Если б я знала, я бы без возражений эти доллары отдала. В полиции мне вернули всю сумму. Там офицер – выходец из России Вася – расспросил о моей пенсии, поразился, когда я перевела ее в доллары (он все забыл о своей бывшей родине!). И поверили мне на слово, и выплатили из каких-то специальных фондов, только попросили, чтобы я им из России – потом – прислала справку о доходах.
Тут спутниковый телефон резко оборвал его воспоминания. Это звонили уже из Москвы родители Джека.
Пока дождик без гвоздей
Цесарки были взяты на перевоспитание, говорил Лев Львович. Их привезла мамина подруга Маша (Мария Аверьяновна), которая на две недели сбежала от своих крылатых питомцев и укрылась на курорте Усть-Качка. Три цесарки носились по квартире, кричали, делали свои дела где попало. В общем, курицы, но не простые, а аристократки.
И вот летают эти потомки гадов теплокровных, а в дверь звонок: приехал из Подмосковья Сарынин, он же Вован, единоутробный младший брат. С семьей!
– Вот и хорошо, сынок, что приехал к своему дню рождения! – радостно повторяла Валерия Валерьевна. – Завтра все вместе отпразднуем.
Целый день готовились, и в пять часов сели за стол. Час справляли, два. Пили водку «Русский размер», которую тут же стали называть «Русским безразмером». На третьем часу пылающий от выпитого Вован признался:
– А нам тут надо на дно лечь… Мафия здесь, мафия там.
Не успели как следует все расспросить – раздался длинный, гэпэушного оттенка, звонок в дверь.
– Это за мной, – сказал Вован, сел на пол и шумно завозился в поисках оружия.
Но вбежала всего лишь соседка снизу. А соседка, она как река: хорошо, если вода чистая, ну а если она несет шумно мусор и муть, все равно ведь ее нужно терпеть.
– Валерия Валерьевна! Кто у вас барабанит по полу не первый день! Вы думаете, если я одна, то меня некому защитить? – И она могуче зарыдала.
Цесарки в это время светски выбрели в коридор.
– Эти они стучат носами, когда едят!
Да, это мы, гордо кивали мудрые птицы.
– Их скоро увезут, – частила Валерия Валерьевна.
От соседки избавились, смыв ее парой-тройкой рюмок (а может, и пятью).
А жена Вована Женя после третьей рюмки превратилась в какое-то притягательное тесто и повторяла:
– Я просто не понимаю нашей круглой земли. Эти разборки, войны…
Лев уже вторую ночь мостился на диванчике в кухне. Длинное его тело недоумевало: для кого построены такие кухни? Лев пытался сократиться, под разными углами укладывая больную ногу. А когда-то – после удачной охоты – на сутки отключался, и теща каждый раз говорила: «Спит крепко – хоть яйца ему мой».
Жене Люсе (Пупику) он месяц тому назад оставил квартиру. Точнее, жене и своему приятелю Саше, который в общем-то спас Леву.
– Александр-освободитель ты мой! – выдохнул тогда Лева.
А когда-то жена… а тогда-то Лев – журналист обкомовской газеты и участник краснобоярских охот. Люся любила дичь, которую он приносил. Но однажды его судьба решила измениться. На охоте медведя подняли из берлоги, а он, как какой-то диссидент, возмутился: «Ни за что не сдамся коммунистам!» – и заломал Льва.
Порой Лев тосковал по ушедшему здоровью, но если бы вместе с могучим телом вернулась его прежняя жизнь, то, пожалуй, лучше так, как случилось.
Люся (Пупик) и такого его приняла – инвалида, только иногда говорила, когда был совсем край терпению:
– Жаль, что мишка перепутал тебя с первым секретарем обкома!
– Я ему не успел документы показать, – стойко отшучивался Лев.
Все бы можно было стерпеть, если бы он не стал мешать проституткам заниматься своим делом. Люся (Пупик) начинала каждый скандал со страшного далека. Например:
– Гумилев говорил Ахматовой: «Аня, если я когда-нибудь начну пасти народы – отрави меня». А ты паси народы, но без меня.
– Ну, Пупик, Пупичек, остановись.
– Дон Кихот нашелся, МЧС! Библиотека по закону – наша общая. Зачем ты продал альбом Дали? О ребенке вообще не думаешь.
Их ребенок – замужем в Питере, поэтому не участвовал в беспощадной семейной разборке. А Лев с каждым словом жены удалялся навсегда от когтей Люси (Пупика), но они вытягивались хитрым образом до горизонта.
– Ну и иди к своим злоебучим магдалинам! – закруглила семейную схватку Люся (Пупик).
И он пошел. На улице Ленина стояла Валентина, которая появилась совсем недавно. Она делала первые шаги в древнем занятии и голосовала. Машина затормозила резко и всю ее окатила из лужи. Валентина отбросила пропитанную грязью сигарету, заплакала и начала оттирать первым снегом пальто. Мужик вышел из машины и стал ей помогать. Тощими руками Валентина толкнула его изо всех сил, но он в общем даже и не пошатнулся. Она сама отскочила рикошетом и пошла искать место, где нет луж, где ее опять подберет первый попавшийся.
Лева решил: вот сейчас и время, и место подойти, она будет слушать, есть у нее, остались крошки гордости, чувство непотери себя. Он подошел и только открыл рот, как она ему прямо обратно в рот вогнала его слова (струей терпкого мата). Ну, пока с ней все, заход сделаем еще через неделю.
Но вряд ли будет удачным и следующий разговор. Валентина сама рассказывала, как в их деревне учительница говорила в духе крепостного права: «Тургенев были хороший писатель».
И в очередной раз Лев встретил качка ростом ему по желудок, с буквально квадратными скулами. Он вздувал дополнительные углы под глазами и говорил:
– Если тебе женщину хочется, мы тебе по доброй душе ее и так дадим! Скучняк-то сгоним с лица! Зачем притворяться и уговаривать их идти в хорошую голодную жизнь? Отстань от наших девочек!
А девочки горько усмехались:
– Ромыч нас никому не отдаст – стена!
С лица дядьки Левки (так его здесь называли) они снимали такую информацию: этот крышелет-крышеход – единственный, кто хочет их передвинуть на более безопасное место. Но мало ли кто и чего хочет! Где эти безопасные места-то? А ведь он трех уже уговорил! Аня с легкого ума пошла работать в кафе, Фая и Лада, тоже с большого ума, – на рынок, где получают всего пять уев в день. Лев платит за комнату, в которой все трое живут.
Ну и что вышло? Анька без сапог, хотя уже конец сентября, а Файка так занята занятухой, что нет времени вылечить зуб, глотает анальгин и ходит с флюсом… Того не понимают, три каскадные дуры, что нужно здесь лет десять пахать, подкопить денег, а потом – иди себе в большую жизнь!
Все Нели-Насти-Наташи стали ему сочувствовать две недели тому назад: известные ребята, видимо посланные квадратным качком, побили Льва, и с тех пор он не только приволакивает ногу, но и ходит с палочкой. Но все равно ходит и разговаривает с ними. Уговаривает. Сутенеры больше пока не бьют, и не потому, что убедились в его несгибаемости, а просто подсчитали: коэффициент этой болтовни мал, пусть его. У них в очереди стоит полно девок из деревень.
Но тут милиционеры ему сказали: у нас здесь все схвачено, не лезь не в свое дело. И девушки начали ему говорить, а сквозь накрашенную красоту их просвечивал натуральный ужас: да не связывайся с ментами, они еще хуже наших пастухов, мы милицию тоже обслуживаем, черные субботы это называется.
Да, некоторые милиционеры стали здорово походить на преступников, с кем поведешься… Но фагоциты тоже иногда начинают пожирать здоровые клетки организма, а не больные. Менты не хуже и не лучше других. Мент – он и есть мент обыкновенный, ментос вульгарис…
Лев увидел: две дворничихи закидывают лопатами мусор в машину с высокими бортами. Как же у них вечером будут болеть руки! Как же это у нас получается: равенство выражается таким образом, что у женщин отваливаются руки.
Когда Наташу он позвал на работу в соцзащиту, она громко захохотала: «Счас! Побежали босиком, пока дождик без гвоздей?»
А Настя таинственно затянулась сигаретой и рассказала:
– В Древней Греции гетеры носили сандалии, на подошвах которых зеркально было вытиснено: «Иди за мной». Представляете? Идет, а на пыли оттиски: «Иди за мной». Красота!
– Это были не гетеры, – объяснял Лев. – Настоящие гетеры никого не искали, к ним сами приходили: философы, поэты, атлеты…
– А у нас тоже попадаются всякие интересные люди! К одному села в машину, а он привез меня знаешь куда? На ракетную шахту! – В голосе Насти были словно подснежники, но уже современные подснежники, которых все боятся, потому что там – клещи кровопийные. – А другой кормил окрошкой, которая была сделана… на шампанском! Вот.
– Ты бы лучше нам помог, – трезво обратилась ко Льву Оля, юная щучка такая, – профсоюз организовать. Пора отчислять на пенсию. Тогда бы эти коты только полетели у нас! Они ведь с нами как разговаривают: «Ты слушай меня, курица потная!»
– Наши сестры… на Западе… имеют… права, – неуверенно сказала Неля, у которой была особая органика: она говорила по четыре слова в час.
В общем, только журналисты поддерживали Леву, может, по старой дружбе. Но статьи – это хорошо, а деньги за них они получали сами. А Лев Львович во бы то ни стало решил купить Ане сапоги! Что из маминой квартиры еще можно нечувствительно продать? Валерия Валерьевна с утра, не предчувствуя убытка, в своей комнате вела телефонную беседу с подругой из Усть-Качки:
– Маша! Витамины им сама будешь давать, как приедешь. Я при встрече тебе расскажу, сколько тут проблем навалилось. Кыш с колен! Это цесарки с тобой хотят поговорить… Маша, ну что тут сделаешь: он не понимает, что древнейшая профессия потому и называется так, что она – навсегда! Левушка весь в отца. Романтик, мягко говоря.
– Мама, прошу тебя: не надо! – вошел и сказал Лев Львович.
– Если бы твой отец был умным, он никогда бы не застрелился из-за того, что его исключили из партии!
– Ну верил человек в рай на земле… Как папа мне говорил: «Когда я вижу красные руки женщины, такую нежность чувствую к ним ко всем». А еще он говорил, что, работая в облисполкоме, дает и дает квартиры матерям-одиночкам, но не может всем женщинам вернуть белые руки. Но в будущем-то, восклицал он, при коммунизме, красных рук не будет!
– Вот тебе и руки женские! Если бы он не раздавал квартиры, оставлял часть для своих комуняк, его бы не выгнали из КПСС, он бы не застрелился, а мне бы не пришлось выйти замуж за другого такого же умника, этого Сарынина, который спился буквально за десять лет!
Тут за Сарынина вступился его сын Вован, и спор стал разрастаться во все стороны. Только цесарки сохраняли оптимизм в любой ситуации: много ели, кокетливо вскрикивали и абсолютно никого не осуждали. Мама, Валерия Валерьевна, не то чтобы осуждала сыновей, она просто недоумевала: как же так случилось, что дети были такими, а стали вдруг другими. Ей уже за семьдесят, поэтому привыкать нелегко.
Хотя была у Валерии Валерьевны и университетская широта взглядов (проработала всю жизнь преподавателем английского), и врожденная доброта. Лев бы вообще ничего не имел против цесарок, если б они так не загадили альбом с открытками о войне 1812 года. С помощью «Фэйри» придется оттирать.
– Слушай, ты что, хочешь продать альбом? И так уже все размаркеданил.
– Могу продать пианино, если ты не против, мама.
– Ты что! Это же пианино! Я в нем – внизу – храню обувь. Привычка. Ты знаешь, что такое старость? Старость – это привычка к привычкам.
– Тогда альбом…
– Левушка, по этим открыткам снимали «Войну и мир», посмотри: вот мизансцена с Кутузовым!
– Ну и чудно: все есть в фильме.
– А что у тебя останется на память об отце?
– Память и останется.
– Говорила тебе: баллотируйся в мэры! Тогда бы ты был на виду, денег бы сейчас у тебя хватало, чтоб спасать эти падшие создания…
Цесарки начали взлетывать, как бы показывая: вот так бы взлетели твои девки, если бы ты стал городским головой. Однако курицы они и есть курицы: стремление ввысь изнемогает, тут же они падают с шумом, сшибая вихрем от крыльев газеты и фарфоровую статуэтку Достоевского, словно испуганного, что роман его вот-вот пустят на рекламу топоров. Но не разбился Федор Михайлыч! Косит под нервного, а крепок!
Да, лет десять тому назад многие советовали Льву баллотироваться в мэры, он тогда был видным деятелем демократического движения. Только ведь даже Гавриил Попов ушел из мэров Москвы. Демократам не дают ходу, но мама этого не понимает.
– Отлично я все понимаю, Лева! Ты хочешь изменить мир, но я прожила жизнь и думаю, что жрицы панели не променяют тысячу долларов на три тысячи рублей зарплаты. Да и никого изменить невозможно.
– А Астафьев? Был антисемитом, хамил Эйдельману, но нашел в себе силы преодолеть это…
– Сравнил кого и кого! Лева, подумай: тысяча долларов или три тысячи рублей!
– Мама, нет у них тысячи зеленых: большая часть денег уходит сутенерам, на взятки, на лечение. Россия не устоит, если превратится в бордель. А за ней и весь мир… Мы же не можем существовать по пословице: «Провались земля и небо, мы на кочках проживем».
– Февралик ты мой, крыша в пути! Бандиты избили, милиция угрожает, а ты свое…
Цесарки налетели на сидящего в кресле Льва и закрыли живым шевелящимся ковром, чтобы никто из преследователей не смог найти его.
Вован вышел из ванной и вставил свое веское слово:
– Брат, а ведь ты случайно стал таким святошей, мишка помог – свернул тебе кости-то. Если бы не он, ты бы сейчас был мэром и принимал подношения от капитанов секс-индустрии (чувствовалось, что Вован подумал про себя: и мне бы помог в разборках).
– Ни один миг не случаен в жизни. Даже то, что я был как будто под наркозом, когда медведь встряхивал и мял меня… Но понимал каким-то сотым чувством, что зверь – это и есть то мохнатое, что во мне раньше было.
– Дальше знаю: злодея пристрелили. – И тут Сарынин подумал про брата: «А все-таки ты, Левка, лейтенант, вообразивший себя генералом».
– Вова-то у нас! Мне уже никогда таким не быть. – Лев вчера буквально принял три глотка, а сегодня уже хватался за все наполовину отказавшие органы.
– А он с утра уже соку выпил, – похвастался о себе Сарынин.
– Пошла, пошла со стола! – закричала Валерия Валерьевна на цесарку.
Птица степенно спрыгнула и зацокала роговыми ногами, оглядываясь: «Я, что ли, виновата, что твой второй муж, отец вот этого громилы, тоже с похмелья всегда говорил о себе в третьем лице».
Васька, сын Вована, включил телевизор.
– Астрологи советуют: сегодня полезно для здоровья начать день с прогулки по росе…
– Двадцать третьего октября по росе, а в ноябре будут загорать призывать, – дала бой телевизору Валерия Валерьевна, так что звездный маг в ящике затуманился, затрещал и спрятался за мелкими волнами.
Васька надавил на пульт, прекратив мучения звездочета, и забасил:
– У вас тут компьютерные клубы наклевываются или только все птичек разводят?
– Сейчас нам не до стрелялок-ходилок, надо глубоко на дне лежать, – еще на полтона ниже забасил Сарынин-старший.
– Что вы травмируете ребенка! – Валерия Валерьевна мелко заходила, как ее три голенастые подопечные, вокруг бедного, почти ростом с нее, внука.
– Такого травмируешь! – Сарынин был уверен, что Васька будет непременно генералом (а кому еще генералом-то быть?).
А у Льва в это время подергивались синеватые губы, и он сказал заковыристо:
– Сейчас я идти в центр. Создать прецедент. Нужен прецедент. На днях пойти в администрацию, а они не слушают: «Разговор окончен, господин Преклоненский». С господами так не разговаривают. Я идти!
– Лев, ты сегодня принимал свое лекарство? – встревожилась Валерия Валерьевна, положила в сумочку английский любовный роман и ушла в парикмахерскую. (При этом у нее появилось воздушно-лисье выражение лица: вы как хотите, а я на некоторое время ускользну от цесарок и прочих проблем.)
Одной из прочих проблем была жена Вована Женя, которую Валерия Валерьевна называла не иначе как Некоторые. «Некоторые меня доводят! Лева, как могут Некоторые готовить салат из редьки? Редька пахнет потными носками».
Когда Вован метался в Подмосковье между Перстищами и Волобуем, жена его Женя не позволяла пыли долетать до стола, а тем более до пола: она еще на лету ее подхватывала. А здесь! Если бы всех трех цесарок построить в шеренгу да заставить хором испражняться, она бы приспособилась на лету подхватывать их гуано, не дав долететь до пола. Но живые твари разрушают любые мечты. Так всегда было в жизни Жени, и ей хотелось, чтобы изредка все вокруг были менее живые: чистоты бы больше стало…
Когда Валерия Валерьевна улетела, Женя стала бороться с результатами кишечной деятельности цесарок, шепча: «Бесполезно все это, бесполезно». А эти самодовольные птицы посматривали на нее круглыми свекровьими глазами, словно вот-вот начнут недоумевать: «Почему это в английских любовных романах постельная сцена всегда на сотой странице?» Женя уже знала, что свекровь покупает любовные романы на английском языке в секонд-хенде по пятерке штука. Она стесняется обсуждать их серьезно и поэтому пересказывает по телефону с иронией то одной, то другой приятельнице. Но так долго и подробно, что Женя понимает: это для нее не шутки и навсегда.
– Вова, без мамы ты можешь рассказать мне все? – спросил Лев у брата.
У Сарынина в груди что-то дрожало, когда оно слышало, как его называют Вовой. В прошедшее десятилетие вокруг него только и звучало: «Вован! Вован!» И вроде бы даже приятно слышать «Вова», но ведь нельзя расслабляться (чувствуешь себя маленьким и голым, когда ты Вова, а Вован – это крепкий панцирь, и его еще надо наращивать и наращивать). Время – непонятный партнер, с ним не договоришься, оно как Бэтмен – скользит. Позавчера только получил паспорт, а вчера уже отпраздновали тридцать четыре годика. В голове с утра была перестрелка, но выпил соку ледяного и залетал увесисто: фыр! фыр!
Да, Вован был когда-то Вовой. Признаки Вовы: он выпускник среднего авиационного училища, где его научили лепить квадратные сугробы из снега. Дежурный офицер всегда проверял, одинаковой ли высоты и ширины эти белые монолиты. Но Вова сумел сохранить в себе кое-что человеческое, потому что был раздолбай. Жена появилась внезапно (приехала заведовать клубом). До этого она год работала завклубом в Частинском районе, и Валерия Валерьевна за глаза называла ее: «Заслуженная артистка Частинского района».
Не успел Вова прослужить в Восточной Германии и полгода, как спешно началось выведение (оно же разворовывание) советских войск. Мыкались по стране, пока не осели в Перстищах под Москвой. Вова, в глазах которого еще можно было разглядеть квадратные сугробы, в конце концов устроился на частную фабрику воздушной кукурузы. Это бывший гараж, который раньше не мог и подумать, что в нем развернется такое производство – выработка денег из сладкого воздуха. Теперь уже Вова резко переменился в Вована. И месяц так на пятый, обоняя слащавую кукурузную пыль, просчитал: произвести пакетик воздушной кукурузы обходится в рубль, а выручаешь за него четыре. И какая песня: для этого нужны всего лишь крупа да сахар!
Тут Вован вспомнил про свое образование. Он разобрался в станках, сделал их чертежи и заказал в Питере. Деньги-то еще были. При расформировании войск в Германии отцы-командиры не скупились: гони вот машину к договорному немцу за сто километров, а в трехосном грузовике – тонны пайков НЗ, обмундирование, медикаменты. И платили наличными.
Станки и семью Вован перевез в Волобуй, за триста километров от Перстищ. Так пошли дела, что он каждый день взлетал с кровати как бы в сладком испуге. Через полгода в руках уже было пять миллионов, все же рублей, но все же миллионов! В последнюю неделю уже полсотни продавцов, как пчелы, приносили каждый день ему с подмосковных дорог сладкий денежный навар. Воздушная кукуруза – это ведь расслабление, отдых для водителя… И как же возмутился Вован, когда через дорогу в Волобуе открылась фирма «Кукурузина».
Оказывается, Балашут, один из самых бойких и дельных помощников, три месяца уже бывший его компаньоном, срисовал, егерь кошачий, чертежи станков!
– Я, – кричал Вован, – за триста километров отъехал от Перстищ, чтоб не мешать бывшему хозяину. А этот вор укоренился нагло через дорогу! Где у него была совесть, там хрен вырос! Доход упал вдвое… Он мне раньше говорил, что их род – из тех пугачевских отморозков, а я не насторожился…
– Их же Екатерина развесила по ветвям еще густых тогда уральских лесов, – заметил Лев.
– Молодец, матушка, молодец! Но не всех, видать, развесила…
Скрываясь у матери, Вован думал: дурак же я! И эти – упавшие вдвое – доходы были хороши. Нет, зачем-то взбесился, не выплатил уже независимому Балашуту его долю за три месяца, а он и нанял бригаду! Включили счетчик, и там почему-то быстро набежала сумма гораздо большая, чем стоит вся фирмушка Вована.
– Фабрику отняли, но жизнь-то… ты спохватился – унес! – утешал брата Лев. – Конкуренты рано или поздно появляются.
– Конкуренты – да, но нужны какие-то правила игры. А тут пошел такой головняк!
– Может, вам на север уехать. Там вряд ли вас найдут – север большой.
– Лучше маленький юг, чем большой север, – сказала Женя.
Валерия Валерьевна вышла из своего подъезда и увидела объявление на двери. Хотела достать очки и прочитать: наверное, воду отключат – надо запасти. Но очков не было, они в другой сумке. Старость – это когда одни очки дома на столе, другие – в сумке, а хочется на запас еще пару очков в дупла деревьев спрятать – на случай, когда не ту сумку взяла. Подниматься на пятый этаж? Если в парикмахерской очередь, как она будет читать английский роман? Но нет. Сегодня так мало сил…
Парикмахерша Алевтина Сергеевна работала с ее волосами, как скульптор, отсекая от серебристого монолита все лишнее.
– Какие у вас густые кудри, Валерия Валерьевна, придется от корней еще проредить, а то во все стороны они будут дыбиться. А ходок-то наш разыскал нас. Узнал, что мой Коля выучился на зубного техника, и: «Сынок, сынок». А сам все годы прятался от алиментов. И вдруг любовь такая, почему? Оказывается, ему зубы надо вставлять. Зубы ему Коля восполнил, а он не заплатил ни копейки: снова исчез…
Валерия Валерьевна взмахами ресниц (отнюдь не кивками) устанавливала ежесекундную обратную связь с парикмахершей – надо ее выслушивать! Но в узкую паузу втиснула свое озабоченное: «Сколько седых волос!» Алевтина Сергеевна смотрела на нее несколько секунд с таким текстом во взгляде: «Посмотрите налево и направо – там у них на головах сплошные сугробы!» Затем вздохнула и сказала:
– Мы, парикмахеры, называем это: серебряная молодость!
Валерия Валерьевна за то и любила Алевтину Сергеевну, что та источала целебные слова. А то иные брякают пластмассовыми словами…
– А про вашего сына, Валерия Валерьевна, мы читали в газете «Планета Урал». На фотографии он копия вы, только с бородой.
– Я вам все объясню: у него жизнь перепуталась. Юноши бывают романтичны, а Лева сначала был отличник, с ясным умом, деловой. А теперь стал романтиком.
– Он в самом деле верит, что из курвы можно сделать… нормальную женщину?
– Ходит по такой слякоти, ноги каждый день мокрые. Беспрерывно кашляет. Уговаривает их часами, а отдача за год какая? Три девушки согласились бросить это дело. Лева устроил их работать – и считает, что хороший результат.
Тут все волосяные дизайнерши стали с жаром подсчитывать, сколько женщин он сможет спасти за десять лет, за двадцать.
– Ему сейчас сорок пять? Эх, поздно он начал, но вполне может прожить еще лет тридцать. Значит, получается девяносто да еще эти три – в сумме девяносто три девушки.
– А может, еще КПД будет каждый год нарастать на одного человека? Опыт-то с годами приходит в любой работе!
Они заполнили шумом обсуждения весь тесный салон красоты. Одна парикмахерша села в освободившееся кресло и стала на обратной стороне квитанции подсчитывать прогрессивный рост спасенных: три плюс четыре, плюс пять… Зазвучали астрономические цифры, и под эту победную арифметику Валерия Валерьевна тихо расплатилась и простилась.
У подъезда своего дома она увидела «Скорую», на носилках спускали ее Леву с задранной бородой, которому через час уже не будут страшны ни сутенеры, ни промокшие ноги.
Коля
Шмякну шапкою о сцену, Бровь соболью заломлю: Дайте лексику обсценну — Я про Гоголя спою.Мы начали сочинять частушки с того апрельского дня, когда дочь спросила:
– К нам кошка зашла, да? Похожая на ту, что Гоголь утопил?
Тема диплома у Агнии: «Мотив страха в творчестве Н. В. Гоголя». Она ночи не спит – анализирует эти четырнадцать томов. И с марта начались у нее свои страхи: сначала казалось, что кто-то незнакомый ходит у нас по коридору. А теперь вот уже и кошка!
– Агния, никакой кошки нет, а вот паук есть – смотри – на потолке, откуда он выполз огромный, красавец…
Паук долго осматривал комнату всеми восемью глазами, не нашел никакой пищи и уполз на восьми своих ногах за картину «Ахматова, гладящая индюка».
– Мне бы восемь глаз и ног! Ничего не успеваю! Диплом, да еще сутки через сутки работаю в кафе!
Агния взрыднула и вдруг замерла, как природа у Гоголя, которая словно спит с открытыми глазами (есть ли более гениальные слова в мировой литературе?).
Тут-то мы и поняли: не отсидеться! Если уж наших гонораров не хватает, чтоб доучить младшую дочь, то надо помочь ей диплом написать.
И полетели имейлы. В Москву – Софье Мининой, в Париж – Наталии Горбаневской, в Израиль – Аркадию Бурштейну: для диплома по Гоголю отсканируйте нам «Семиотику страха», умоляем!
В ответ обрушились Гималаи электронных импульсов, несущих нам страницы Зощенко о страхах Гоголя, стихи Кальпиди – для эпиграфа. И конечно, эссе Набокова.
– Мама, Набоков сравнил Гоголя с мотыльком!
– Не обращай внимания, Набоков в каждом писателе видел такого же Набокова.
А Наташа прислала из Сети интервью Гуревича, который по Средним векам! И спасибо!
* * *
Нужно добавить, что наши друзья обратились к своим друзьям, а те – к своим, так что только папуасы Новой Гвинеи не участвовали в дипломе нашей дочуры. Зазевались.
Как у Гоголя в штанах Поселился сильный страх. Ростом выше он горы, Это все метафоры.Мария Ивановна Гоголь-Яновская! Спасибо вам, что родили нам Колю. Но зачем вы ему, пятилетнему, сказали с такой фамильной яркостью неумолимые слова о Страшном суде? Бедный гений представлял всю жизнь адские сковородки, чертей, а мы теперь расхлебывай!
Дочь сказала:
– Каждую ночь вижу во сне Гоголя. Какая ты бледная, мама, сегодня.
– Да я тоже всю ночь Николая Васильевича искала. Якобы я хотела узнать, чего он больше всего боялся. Тайну личности… Куда ни приду, везде говорят: сегодня изволили съехать. А на последней квартире говорят: вчера он скончался. И все служанки, которые мне отвечали, развешивали сушиться нижнее белье. Словно говоря: тебя нижнее белье интересует – вот тебе нижнее белье!
– Гоголь, Гоголь, ты могуч, только все же нас не мучь! Ну чего ты вдруг пристал к двум женщинам: моей жене и моей дочери! В жизни вроде ты к женщинам не приставал.
– Папа! Да, его эволюция: от страхов мифологических перед нечистью до страха Божия… через страх женитьбы! – закричала дочь и опять взрыднула. – В конце жизни он так боялся Страшного суда, что заморил себя голодом! Но у меня просто времени нет это все напечатать! Сменщица заболела, я каждый день в кафе, каждый день!
– Агния, все наоборот! Он от страха Божия шел к гордыне – в «Выбранных местах переписки с врагами»…
– Дайте подумать! В «Вечерах на хуторе», да, черт всегда побежден то молитвой, то чудом, а потом Гоголь впал в прелесть, просил слушать его как самого Господа. Вот смотрите: я подчеркнула в текстах все о страхах, но… но! Зашиваюсь я! Время, где тебя брать?!
Мы сразу кинулись к двум компьютерам – набирать пятьдесят страниц цитат, при этом перебрасывались мечтами: у нас скоро, скоро наступит безоблачное послегоголевское время! Можно будет открыть кафе, назвать его «Об Гоголя!». А на стены кафе – эти цитаты все…
Но про то, что известный парижский гоголевед Шварцбайн запил после усердного изучения нашего Николая Васильевича, мы не сказали дочери ни слова.
Нас уже, кстати, тоже подмывало чего-нибудь дерябнуть. Потому что Гоголь все время мелькал в глазах и в ушах. Идем по проспекту: ель похожа на Поприщина – так же безумно скорчилась. А ясень, кажется, сейчас свои пропеллерные семена включит и умчится от всего женского пола, как Подколесин.
Спасались частушками.
Как по речке, по широкой, На моторке без руля Выплывает Коля Гоголь — Вместо носа – два х…я.– Слушай, Агния, а есть, наверное, параллельный мир, где Гоголь не родился?
– Ну, папа, зачем ты? Я люблю Гоголя. К тому же ты сам говорил, что все другие варианты истории – хуже…
* * *
К тому же иногда мы находили и утешение:
– Такие вчера огурцы плохие купила.
– А Гоголь бы еще хуже купил.
Как на речке на Днепру Возле тихой рощи Коля Гоголь поутру Огурец полощет.Агния в это время ставила на полку том Мережковского: мол, полночи его перечитывала – у оппонента диссертация по Мережковскому, – ой, задаст много вопросов, сил нет…
И мы запели на два голоса:
Коля Гоголь – что такое? Мережковский вопросил. Неужели что-то злое? На диплом уж нету сил…* * *
И ведь знали же, что если запоем дуэтом, с другого конца города сразу же прибегает Камилла! Но не удержались.
Камилла Красношлыкова – это ее псевдоним, а настоящие имя и фамилию мы вам не скажем. И не надо нас подпаивать. Бесполезно!
Появляется она так: скользнет умной тенью за соседом нашим по кухне, прошелестит по диагонали комнаты, несмотря на свои каблучища, и сразу:
– Всегда у вас в каждом углу то внук, то щенок шевелится!
К счастью, внуки (сыновья старшей дочери) еще так малы, что не обижаются на такие слова. Да и мы тоже не обижаемся, потому что в руках у гостьи – как обычно – благоуханный узелок, а там… о-о-о! что-то новое – сморчки, томленные в сметане!
Но с другой стороны, сморчки – это русская рулетка, ведь на миллион один встречается ядовитый…
– А… будем самураями. Самураям не страшна смерть! – браво воскликнула Камилла.
И погрузились мы в этот смак волшебный. Ну, знаете: стоны, вздохи, причмокивания. Разложив всем еще по одной порции, Камилла и говорит светски так:
– Кстати, я наконец-то развелась с мужем.
Вы когда-нибудь слышали, чтобы сообщение о разводе начиналось со слова «кстати»? Вот и мы тоже.
– Со своим мужем? Как? Ты еще недавно твердила: без мужа – как без помойного ведра!
– Он женился на мне по заданию КГБ.
Мы тут сразу бросили переглядываться, а то она подумает, что мы тоже из КГБ.
– Да зачем ты нужна им? Слушай, Мила, ты же была нормальной журналисткой, писала о передовиках.
Она снисходительно закурила и сказала:
– От ваших слов сердце забилось как-то по диагонали. А вы знаете, что все повести Юрия Полякова написала я?
– Ты? Да как же это?
– Так. Я посылала рукописи в журнал «Юность», а он…
– Ну… где бы ты взяла материал для армейской повести «Сто дней до приказа»?
– Так я ведь в газете работала – с людьми встречалась.
Тут какая-то штора отдернулась, и нас понесло в другой мир, где Гоголь крадет рукописи у Платонова, а тот – у Чаковского. Мы стали отчаянно выгребать против течения: Камилла, ты нам НИЧЕГО не приносила, мы ни одной рукописи у тебя не украли…
– Ну, кроме двух-трех гениальных идей, брошенных у вас вот так же, в застольной беседе.
Мы немного ошалели: Мила-Милочка, назови хотя бы одну гениальную идею – захотелось побыть гениями.
Она посмотрела строго, покачала головой:
– Вы все, все исказили в своем «Романе воспитания». Вздумали написать, будто с Настей вы не справились, а на самом деле я ее вам перевоспитала. Пару раз побеседовала, и девку как подменили!
«Узнаешь Гоголя!» – просигналили мы очками друг другу (как он просил Аксакова: «Обращайтесь со мною так, будто я драгоценная ваза»).
– Все-таки зря ты развелась с Дмитрием – керамисты сейчас хорошо зарабатывают.
– Керамист! Да вот увидите: похоронят его в форме полковника ФСБ, и целая колонна будет нести за ним ордена на подушечках…
– Мила, зачем ты так? Пусть человек живет до ста лет.
И тут нас спасли родные и друзья. Сначала Лена шла мимо и свернула к нам, потом Лана с мужем. Затем средняя дочь вошла с сыном, мужем и свекровью, то есть нашей любимой сватьей.
Лана тотчас принялась резать овощи на салат, поводя знатными плечами.
– Такой приступ астмы вчера у сына был, – начала она рассказывать.
– Ой, я знаю новое средство от астмы! – вскричала Лена. – Берешь килограмм цветков белой сирени…
– Ну уж нет, – взмахом ножа остановила ее Лана. – Нам сейчас нужны приступы астмы. Чтобы от армии откосить.
В это время как раз и вернулась из университета наша Агния.
– Почему мне так мало задавали вопросов? – спросила она.
Повисла тишина. Мы со страхом спросили:
– Ты защитилась по Николаю Васильевичу?
– Да, четверка. Но почему они не задавали вопросов? Я всю ночь не спала, приготовила сорок ответов.
В это время под симфонию мобильных телефонов поднялась наша валюта – настроение.
Когда эсэмэски были прочитаны, все, кто накопился к этому моменту в квартире – мы, дети, внуки, зятья, одна сватья и друзья, – заплясали и запели:
Танго и вино Любви недаром нам дано!В самозабвенном семейном танце мы с треском сошлись лбами!
Посыпались разноцветные искры, и в их свете стали видны:
Софья Минина, волшебно скачущая в юбке с зебрами одновременно и здесь, и в Москве, Наталья Горбаневская в фартуке, выплясывающая одной ногой в Перми, другой в Париже возле плиты, Аркадий Бурштейн выглянул из города Цорана, что в земле Израильской, посмотреть, что за шум с Урала, и не удержался – тоже оглушительно свистнул и заплясал.
Не вставая с дивана, плавно покачивались на пышных ягодицах две подруги, Лана и Лена, каждая со своим счастьем: одна беззубая, но с мужем, другая без мужа, но с зубами.
И даже коммунальный сосед выпал из своей комнаты, гремя квадратными плечами и подхватил хмельным голосом:
– Аааааааааааа! Никто меня не любит! Водка с неба не падает!
Примерно мы знаем, кого надо жалеть. Всех.
Ай-яй, в глазах туман
– Что вы здесь такие сидите? – закричала Лена. – Сами хотели сосватать меня с букинистом!
– Он теперь бывший букинист: уволен после запоя. Заходил к нам. И знаешь, уже пахнет.
– Русью? – запечалилась Лена. – Русью пахнет? А может, я бы его переделала… – В ее голосе появились золотисто-теплые тона, как в хорошем вине.
Нет, говорили хозяева, у него раньше нос был идеологического цвета, теперь цвет государственного флага сменился, и у него нос опять совпадает – там явно проглядывает триколор… Но Лена запустила в них убийственным аргументом:
– Мне опять, что ли, на батуте в новогоднюю ночь прыгать? В обществе таких же пятидесятилетних дур, как я…
Она работала администратором в театре, куда к новогодним каникулам всегда привозили батут для кипучих детей.
– А по статистике, одинокие женщины живут дольше, чем замужние.
– Не нужна мне такая долгая жизнь. Зачем она?
– Возможно, мы тебя познакомим! Но с другим – с Михалычем. Если он придет.
Хозяева стали нахваливать нового соседа по подъезду, которого все зовут Михалычем, а на самом деле он Вадим Бориславович (овдовел, с детьми поменялся, сам в однокомнатную сюда).
– Первый тост: чтобы гости не переводились!
Лена слушала, становясь все более губастой. Она сделала себе к вечеру прическу в виде двух рек волос, протекающих по обе стороны лица.
– Кем же работает Михалыч? – поинтересовалась она.
– Есть такая профессия – хижины украшать.
– Дизайнер, что ли? Ну что ж, я тоже из интеллигентной семьи. Моя бабушка в тридцатые годы играла в казино.
– Главное, не пьет наш Михалыч, – отчаянно твердили как заклинание хозяева. – Выпивает, но не пьет.
Этими заклятьями они боролись с образом пьющего сына, который то отдалялся, то назойливой мухой зависал над каждым.
– Ну что вы забуксовали: сын, сын. Сделайте же что-нибудь: почешите себя под правой коленкой… Думаете, трезвенники всегда лучше? Вспомните, как подсунули мне непьющего. И что же? Он предложил покурить анаши.
Тут пришли Хромовы, и Лена кинулась к ним: у вас-то с сыном все в порядке, Гоша ведь не пьет, не курит, в школе – золотая медаль, а в вузе – красный диплом.
– И сам он у нас красный. – Гости выглядели еще более загнанными, чем хозяева.
Они рассказали, разбивая подступающие слезы мелкими стопками, что их Гоша вляпался в троцкизм, ходит в их кружок.
– Вчера снова Гоша был на троцкистском кружке, – в отравленном оцепенении продолжала Инна Хромова. – Ходили они по стеклу.
– По стеклу! Тогда это кружок имени Рахметова какого-то.
– Платят за это стекло психологу… чтобы научиться впадать в транс. Гоша говорит: нужно быть особым человеком для будущей борьбы с глобализмом. – Тут стопка вовремя не подоспела, и мать троцкиста зарыдала. – Я ему одно – миллионы погибли из-за таких идей! А он, как робот: «Потому и погибли, что не понимали своего счастья». Я ему: «Да Троцкий не лучше Сталина был бы».
Родители пьющего вынесли приговор: все коммунисты – шизофреники.
– Значит, наш Гоша болен? – спросил Игорь Хромов. – Но нет, если бы шизофреники, то были бы не виноваты.
Лена смотрела на друзей как на капризных богачей: у них есть сыновья! А у нее уже не предвидится. Тут между всеми обнаружился кандидат в ее кавалеры, украшатель хижин.
И в самом деле оказался – ну один к одному Михалыч!
Он и до этого подозревал, что его приглашают не просто так, а знакомиться. Ну а что, дома лучше, что ли, – сжимающие тоскливые силы трамбуют тебя почти до точки.
– Глядя на все эти достойные лица, я хочу сказать тост. – Михалыч поднял крохотную черненую стопку. – Вот я ходил в гости к внуку и читал ему «Сказку о рыбаке и рыбке». Знаете, это же притча о человечестве, которое хочет все больше потреблять, а может оказаться у разбитого корыта…
– Так где же тост-то? – застонала Лена (те, которые говорят о человечестве, ни фига не разбираются в женской красоте!).
– Э… мысль прячется за холестериновой бляшкой, застревает. – Михалыч потряс гофрированной жиром головой.
Вот так-то лучше: о холестерине. Ближе к жизни. Поэтому Лена весело воскликнула:
– Выпьем за то, чтобы мысль пробивала все преграды!
В нижней квартире женский пронзающий голос вывел:
– Однажды морем я плыла на пароходе том…
С невозмутимым видом Михалыч подтянул:
– Ай-яй, туман в глазах, кружится голова. – Голос его переливался, как Северное сияние.
Хромовы подхватили вразвал:
– Едва стою я на ногах, но я ведь не пьяна.
Эта песня – не их песня, но случай ее послал, а случай надо уважить. И вот они скользят от одного слова к другому, ожидая, ну когда же будет встреча мужского и женского начал. Кит-капитан уносит по морю любви в сладкое!
Тут и Лена подхватила – по-своему: руки раскинула по-кавказски, подпрыгнула с вывертом и вошла в волны песни. Показав, как сопротивлялась злодейскому обаянию капитана, покорно склонилась влево, как двурукая ива. А потом вообще поникла на диван, как бы под порывом горячего ветра. Но песня не дала ей лежать: она сорвала ее, подбросила, начала вскидывать руки, ноги, показывая узорные черные колготки. А кто же в этом виноват – конечно, капитан.
Михалыч поддался этому миру, который сотворил танец Лены. Но тут же спохватился: зазвали! Эта Лена – вулкан в юбке, ей не хватает устройства под названием мужик. Да, она красивее моей жены. Но я потерплю немного – десять лет, двадцать – и ТАМ с женой встречусь.
Конечно, Лена танцует… Но какие салаты готовила моя голубка – ни с каким танцем не сравнить! Салаты она любила ставить стоймя: хоть один лист – да стоймя стоит. Одним словом: жена дизайнера.
А переспать с плясуньей? – шепнули ему гормоны. По-современному, в любовницы если. Но это будет уже не жена, которой можно все объяснить: устал, там, я сегодня или не в настроении.
И зачем ему Лена, если в запасе памяти – цветущая яблоня на даче: вся белая и гудит! Это пчелы: в каждом цветке по пчеле, и идет работа. А ведь у них нет никакой личной жизни, но работают, и еще как! Равняйся на пчел, и так можно терпеть.
– Только раз бывает в жизни встреча, – затянул он.
– Эх раз, еще раз! – пыталась перебить его Лена.
Но все-таки она поняла, что ей не втиснуться в душу Михалыча, и мстительно заявила:
– Вчера слышала по телевидению: от икоты поцелуй помогает!
Вдруг Михалыч икнул. А Лена почувствовала, что не хочет ему помогать. Одно дело – мужик в телевизоре, ему чем угодно хочется помочь, а другое – сидит по эту сторону экрана, подвыпил и мучается. А вдруг он это делает, чтобы…
Дальше все произошло мгновенно: звонок, сквозняк, и человек в коридоре с сумкой на плече: «Вам привет от доктора Бранда!» Потом вспомнились только ярко-красные губы и какая-то подземная бледность. Этот длинный человек заструился, приподнялся над полом, снова вскричал:
– Системный массажер! Лечит – ну все! В расцвете лет – проблемы вдруг, но тут как тут Академия наук…
– А дорого?
– Всего тысяча двести рублей. Вот смотрите: я вставляю батарейки, их ресурс – на весь курс. Теперь подставьте руку! – послал он властный пасс и волшебной клешней массажера прикоснулся сначала к женскому, а затем к мужскому запястью.
И чудо-клешня стала посылать щекочущую дрожь. Они захохотали враз от этой техногенной ворожбы – и муж, и жена. Очнулись только тогда, когда массажер не работал, а торговец окончательно развеялся, предварительно побряцав ему одному видимыми орденами – «За поучение лохов».
О, тысяча двести! На них сколько же можно было купить! И заусенцы по одной стороне клешни простодушно говорили, что прибор даже не китайский, а изготовлен в подвале соседнего дома.
– Он с сумкой? – спросила Лена, хватая пальто.
Михалыч выскочил вместе с ней. Разговоры – это вдох! А дальше нужен выдох – задвигаться, воспылать, полететь, восстановить справедливость!
Они помчались вниз по раздолбанной лестнице, которая пыталась образумить бегущих и старалась подвихнуть их лодыжки. Надписи проносились снизу вверх: «Петька – лох, объелся блох, подавился и подох».
– Выбегаем из подъезда: вы направо, я налево!
– Лена, одна вы с ним не справитесь!
Выскочив из подъезда, с его творческими миазмами, сразу увидели зыбкую фигуру в перспективе сходящихся домов. Молча, по-волчьи, они бросились вдогонку. А он, сделав вид, что это не он, быстро спросил: «Где здесь пятый подъезд?»
– Возле четвертого, – тяжело дыша, ответил Михалыч.
Молодой дистрибутор увидел, что этот мужик похож на мафиози средней руки, и никуда не побежал, а только заблеял: «У меня мама больна!»
– Но ты-то сам пока еще здоров, – со значением сказал ему Михалыч. – Давай деньги! А твой чудо-массажер мы тебе вернем.
Отдав деньги, офеня двадцать первого века пошел за Леной и Михалычем как на веревочке.
Дальше наступил торжественный момент, похожий на картину Веласкеса «Сдача Бреды»: Михалыч величественно вручил хозяевам тысячу двести, они по-королевски брезгливо возвратили флибустьеру уральских просторов безжизненную черную клешню.
Огрызки эстетического чувства подсказали «истребутеру», как завершить ситуацию. Неизвестно откуда налившись силою, он промолвил сочными губами с видом богатого, щедрого родственника:
– Я к вам еще зайду. Попозже. – И исчез в теле Руси.
А Лена! Она стояла перед всеми, благоухая своими усилиями, и реки волос – что с ними сталось! Словно они пережили поворот рек.
После этого, само собой, выпили-крякнули.
– Есаул, саблю! – Михалыч боднул воздух лысой гофрированной головой.
Лена посмотрела на него с напряжением.
– Мы не алкоголики, хоть и выпиваем, – объяснил ей Михалыч.
– И не троцкисты, хоть и за справедливость, – подхватили хозяева.
Гоша, тогда еще не троцкист, защищал диплом о нашем всем. И сказал вместо «Александр Сергеевич Пушкин» – «Александр Петрович». Все! Оппонент кулем брякнулся на стол в судорогах смеха. Зал ученых людей начинал смеяться каждый раз, когда звучало «Александр»…
После этого Гоша твердо решил: он не будет Епиходовым, за счет которого все чувствуют себя полноценными.
Он почти незаметно отчалил от литературоведения: поступил в аспирантуру по педагогике, съездил в Бостонский университет по обмену, написал повесть об этом и опубликовал ее в журнале «Парма». Никто не отреагировал.
Тогда Гоша организовал свое издательство, и даже в мэрии кое-кто с заведомым теплом отнесся к новой фирме. Но надо было пару раз ритуально ударить челом то ли в направлении Госимущества, то ли… В общем, издательства у него уже нет, а есть работа в типографии, и платят неплохо.
И чего Гоше не хватает?
А Троцкому чего не хватало? Отец его был одним из немногих еврейских помещиков, детство Левы прошло в роскоши.
– Гоше не хватило терпения, – вещал отец алкоголика. – Уже все знают, что революционерам не хватало этой драгоценности – терпения.
– Слишком медленное развитие – тоже плохо, активным людям некуда сбрасывать свою силу. Царизм ну очень медленно эволюционировал… вот и получилась революция.
– Ну почему же история никого не учит?
– Учит, но только тех, кто хочет учиться.
Но вдруг все склубились в одно веселое тело. А-а-дин са-алдат на свете жил: красивый и а-атваж-ный…
Однако уже через пять минут мать алкоголика тихим голосом вдруг начала: куда что девается-то! Сын в детстве такой был… видел, что в слове «война» есть «вой», а какие вопросы задавал: «Почему жареное вкуснее вареного?» А теперь на его лице один-единственный вопрос: «Чего бы еще выпить?»
– Он прошел трудный путь от начальника партии до лаборанта. – Это было начало речи, так и не законченной его отцом.
– Видела в бухгалтерии цветок: внутрь себя цветет! Надо же, среди растений есть тоже… а когда отцветет, коробочка открывается, и семена высыпаются наружу все-таки.
– Так у нашего тоже семена наружу! Внука-то он нам родил. Ты видела, как чеснок пророс у нас в холодильнике – при пяти градусах! И не просто пророс, а заветвился обильно! Тогда обещала мне пример брать с чеснока – учиться стойкости, а сама…
Вдруг все бросились рассказывать друг другу о чудесах. Даже окно разинуло рот-форточку, впустив ворох веселого снега.
Хромовы поведали историю о ведре снега.
– Только что слышали на остановке. Одна женщина – другой, про брата. Брат ее алкоголик, приносит домой ведро снега, садится, берет ложку и начинает есть. Она в ужасе вызывает псих-бригаду. Не едут, говорят, не агрессивный. – Неожиданно Инна резко перешла на точку зрения женщины с остановки (тут не точка зрения, целая площадка!). – И хорошо, что психбригада не приехала! Доедает братик ведро снега и бросает пить. На работу устроился…
– Женщины вокруг зашевелились! – подсказал Михалыч.
– Не исключено.
– Ведро снега съел! – вскрикнула мать алкоголика. – Обет дал или что?
– Никто на остановке так этого и не понял.
Наступила очередь матери алкоголика.
– А у нас на работе вообще вот какая история. К одному солдату в Чечне приехала мать. И попросила командира отпустить ее с сыном погулять вокруг части. Тот почему-то согласился. Походили, поговорили. Вдруг услышали разрывы. «Мама, это минометы по нам работают, я должен бежать». Прибежал, а из части никого в живых не осталось. Пишет он матери: «Мама, меня спас твой приезд. Спасибо тебе за это». Она ему отвечает: «Сынок, я никуда не ездила, мне некогда, я весь отпуск на огороде и молюсь Богородице о тебе…»
– И все, что ли? – спросил отец троцкиста (он с женой ждал, когда же будет чудесное исцеление от троцкизма).
Это был День конституции, и конституция ждала, когда же о ней заговорят. Потом она дождалась: Михалыч вспомнил предлог, из-за которого состоялся весь их сбор:
– Выпьем, наконец, за конституцию! Она у нас, кстати, хорошая.
– Плохих конституций не бывает, – заметил отец алкоголика.
В ответ отец троцкиста плотоядно улыбнулся, как бы говоря: эх, будь у этой конституции широкие бедра да грудь, я бы знал, что с ней делать! После этого он напел:
– Ай-яй, троцкизм в глазах. – И вдруг жадно стал доедать салат из морской капусты, принесенный Леной.
– Игорь, хватит жрать, – сурово останавливала его жена.
Но он не успокоился, пока все не съел, сгоряча заодно прикончив кальмаров, тоже Леной приготовленных. Чем бы еще победить троцкизм, думал он, оглядывая стол.
Утром хозяева, то есть родители алкоголика, говорили, наводя порядок:
– Если бы нам сказали: «Выбирайте! Ваш сын будет троцкистом или пьяницей?»
– Так мы бы ответили: пусть лучше пьет.
– Да, алкоголик лучше троцкиста.
Тут сразу же позвонила невестка. И она еще говорила: «Здравствуйте, это Галя», а у них уже тревожная сигнализация включилась: задергались мышцы, запрыгали веки. И не зря: через уши – двери мозга – вломились грабители. Хотя с виду это были тихие слова Гали:
– Я хочу с вами посоветоваться. Что делать? Он вчера опять напился, пришел в четыре часа утра с шабашки, не помнит, где потерял дрель за шестнадцать тысяч…
– За шестнадцать тысяч… – вторили родители.
– Приходили, взяли расписку, что вернет в течение месяца…
– В течение месяца… Галя, вот что, слушай: мы все обсудим, потом тебе позвоним.
Взяв таким образом передышку, мать алкоголика схватила сумки и побежала на рынок. Муж встрепенулся и стал размышлять, как ослабить давление жизни. То ли поправиться рюмкой, то ли супчиком горячим.
Жена в это время брела, отплевывалась от метели и бормотала:
– Алкоголик не лучше троцкиста! Оба хуже! Вместе записались в интернационал зла. – Она взмахивала двумя сумками, как курица крыльями. – У одного гордыня через алкоголизм выходит, а у другого – через троцкизм. Ах, вы меня не признали, так я вам всем покажу…
Не помня, как наполнились сумки, вся в поту, в снегу, с перекошенным от ледяного ветра лицом, она ввалилась в детскую поликлинику, с мерзлым грохотом пробежала в холл, за шторку.
Дело в том, что за несколько лет до этого жена главного врача опасно заболела и дала обет открыть часовню, если выздоровеет. Вот и открыла.
Напротив часовни дверь была распахнута – там дежурил врач неотложки. Он посмотрел на эту разваленную на полкоридора женщину, которая с набитыми сумками сразу лезет к иконам.
Снег могла бы отряхнуть! Где же уважение к святыням! Но уже привык, что так и лезут, без конца молятся за своих детей. Ошибок наделают, не закаляют, а потом осложнения!
Когда она оказалась дома и услышала, как сумки со стуком брякнулись на пол, муж приканчивал тарелку густого горячего супа.
– Как рано темнеет: включи свет! Знаешь, я тут насчитал, – говорил он в промежутках между ложками, – что закодировалось уже восемнадцать знакомых.
– Нашему заразе тоже давно уже пора. Я даже молиться за него не могу, так, деревянно как-то перед иконами отчиталась. – Но перекосы каким-то образом испарялись с ее лица.
А муж свое:
– Недопекин закодировался, Юрий закодировался, Перепонченко тоже, когда руки в сугробе чуть не отморозил.
– А букинист? Кодировался, но запил.
– Это один, а восемнадцать уже навсегда не пьют!
Завязался спор: навсегда или не навсегда? В результате через полчаса:
а) селедка протекла на хлеб;
б) слиплись вареники с капустой;
в) муж долго и безуспешно гонялся по квартире за женой, которая убегала с криком «Пост! Пост!»;
г) робко посеялся росток надежды высшего качества, то есть совершенно беспочвенной, на то, что сын излечится от алкоголизма.
А в это время Лена и Михалыч вошли в спальню, начали раздеваться, погасили свет… А что же дальше? Опять та самая проклятая неизвестность!
Тут еще не хватает костюмов и носов для родителей троцкиста и алкоголика, но так за них болит все, что если будем лишние три дня их проявлять, то вообще занеможем. А кому это нужно?
Три продюсера на сюжет мертвеца
Вдруг увидел ее, и подбежал, и говорит:
– Я написал о вас сценарий. Вы и Модильяни!
– Кто вы такой?
– Владимир Крыль.
Тут она как размахнется, как даст ему по щеке!
– Анна Андреевна, за что?!
Склонился хирург:
– Просыпайтесь! Владимир Васильевич, просыпайтесь!
* * *
В груди кто-то проскакал по диагонали. Потом такой монтаж: коридор – палата – медсестра.
– Поблевушеньки – это нормально, – говорила она, убирая полотенцем что он нафонтанировал.
В ее глазах он явственно читал: «Все еще живой? Вот это да… Расскажу всем».
– Ничего не помню – даже день рождения Ахматовой!
Теперь взглянем на местность.
Больничная палата на двоих. Платная, но бачок в санузле неисправен и вплетает в разговор свое струение.
За окном прилив черемухи – безбрежным цветением хочет помочь.
На потолке театр солнца – играют, плещутся тени от листвы.
– Анализы не пришли. – Станислав Драгомирский зябко подвигался внутри парчового халата.
Вчера ему разрешили вставать. И он в коридоре столкнулся лицом к лицу с Владимиром Крылем – узнал его с трудом. Тот был так худ, словно автоотсосом отсосали.
Драгомирский предложил (практически распорядился) переехать в его палату. Смесь обаяния, воли, ума и денег делали «пана Станислава» нестерпимо харизматичным.
А сегодня на рассвете Крыль вдруг захрипел и потерял сознание. Прободение! Сразу был увезен в операционную.
И вот они снова вдвоем. Крыль говорит:
– Юноша, вам всего сорок лет! И сказано же: состояние стабильное.
– Полный стабилизец…
– А мне, увы, шестьдесят.
– И вы, Крыль, расправите свои крылья!
Еще Драгомирский называл его: Вольдемар.
* * *
Анализы не пришли. Пришли родители Станислава Драгомирского – лица у них были словно сплошь в ноздрях.
Крыль не знал, почему не бывает жена соседа по палате, он только слышал одну жалобу на родителей за то, что еще до свадьбы звали его Светлану – Темняна.
Вот они вплывают в палату с прямыми спинами, гордые, как подбитые крейсеры. Но производят впечатление пустых остовов. Кажется, вот-вот эти оболочки рухнут внутрь себя.
Сошлись еще в выпускном классе. Он – красавец поляк, до сих пор, когда говорит, красиво держит рукой свой подбородок… И тут отца взяли в кремлевскую роту, каменел у мавзолея. А когда вернулся – поженились и стали бурно спиваться. Из двухкомнатной перебрались в однокомнатную, а теперь уже год живут в коммуналке. Стас с племянником недавно побывал там – в восьмиметровой клетке с руинированным пейзажем. На мусорной вершине стола запомнился проросший зубчик чеснока.
Струя апельсиновые выхлопы жвачки, старшие Драгомирские начали подвывать:
– Ой, сынок, прочли мы в газете: ты в больнице. Горе-то какое. Плакали, плакали! – А сами сканируют палату: нет ли чего на предмет того.
– От Юдашкина-то пиджачишко твой…ой-ой! Как на вешалке на тебе будет! Отдай отцу.
Пойти по самому простому пути – дать несколько листиков денег? Но если не печенкой, то пупком и даже пяткой он чувствовал, что это неправильно – родичи могут склеить ласты раньше, чем он выпишется из больницы.
Сгреб им с тумбочки в разинутый пакет яблоки, бананы и кисть винограда. Сутулясь на манер «заброшены мы родимой кровиночкой», они удалились.
– Позорят польскую фамилию! – прошипел Драгомирский и перешел к национальным корням, которые пустил здесь ссыльный поляк-повстанец.
Эти разговоры ему шли: он сам состоял из крепких каких-то корней: жилы, мышцы, вены – все сплелось и наружу торчит на его шее и руках. Корни виднелись даже между кочками лица.
* * *
И тут, как воск, влилась в палату Милица с ее тонким лицом музыкального критика (на самом деле она учительница биологии).
– Володя, мне сейчас показали фильм! Золотой скальпель есть золотой скальпель – он свое дело знает. Прободение – как и предполагал он утром…
– И что там с главным героем фильма, с кишечником? – спросил Крыль, слабо обозначив дурашливое – по-пермски – выражение лица.
– Был серый, а стал розовым! Антиспаечный гель помог. И снова залили его.
– Правда?
Крыль смотрел, мерцая глазами, как в детстве, когда обещали купить ему велик. А сейчас должны купить отрезок жизни.
– Отдала последние пять тысяч. Но о деньгах не думай – буду весь отпуск работать в у Альбины, в саду…
Пять тысяч за антиспаечный гель – это цена за сколько будущих месяцев, лет? Да хоть за сколько! Спасибо! Купленная жизнь словно висела в воздухе, и в ней солнце одновременно всходило на востоке и заходило на западе, гуси летят клином, не мешая дельтапланеристам, шампиньоны реяли по всему воздуху, деловито рассаживаясь тут и там.
* * *
– Во время операции мне казалось, что на площади стоит мраморная чаша, в ней – мои кишки, опускается рука с неба и перемешивает их… Но что с памятью? Ничего не помню, даже дня рождения Ахматовой.
– Это пройдет. Наркоз есть наркоз.
Владимир вдруг замер и закрыл глаза. Милица потрогала его руку – теплый.
«Сейчас про перепелиные яйца будет», – подумал он.
– Альбина пьет перепелиные яйца. Перепелки у нее – бархатно-коричневые. Одна из них петушок, токует всю ночь: фить-пирють, тра-ра…
– И как там у них все?
– Одно яйцо натощак утром и запить теплой водой. Энергия жизни прибывает.
Куда ей еще энергию, Альбине? И так во время так называемой улыбки она обнажает совершенный аппарат для расчленения и стоя всегда покачивается, как змея перед укусом.
Он попросил жену принести ему «Третью охоту» Солоухина.
Драгомирский смотрел в окно. Посмотрел и Крыль. Отцветающая черемуха, как Бетховен, яростно вертела космами под напором ветра, говоря: переходим к следующим задачам.
– Хорошо черемуха устроилась: отцвела – ждет плоды. А у меня сын – от него Милице никакой поддержки. Инфантил, на лекции ходит с игрушечным автоматом за спиной. Все потому, что я поздно женился – долго пробивался в столице…
– Ничего не значит. Сейчас все носят какие-то фенечки и прибамбасы. Мой племянник вообще двух крокодильчиков на ремень прицепил, а просмотрел я его сайт, там все про поляков да как нас ссылали. Один наш прапрадед где-то на Урале первый книжный магазин открыл.
– Да, – вспомнил Крыль, – вы навещали Инночку в коридоре?
– Совсем плоха… сказала, что хочет под дождем постоять, по траве походить босиком.
– Ей двадцать?
– Да нет, говорят, двадцать пять.
Помолчали. Вдруг, не поворачиваясь от окна, Драгомирский спросил:
– Вам ангелы являлись перед операцией?
– И вам тоже?! – Помолчав с минуту, Крыль сказал черными губами: – А в творческом кружке я писал, что в родительскую субботу атомы, которыми дышали мои родители, прилетают! Атомы, а не ангелы.
– Это в каком вузе?
– В Пермском, я из поселка Чад. Прошлым летом съездил… как предчувствовал… И там каждый день к гастроному приходит директриса нашей школы – Вера Петровна. Все лицо ее сбежало куда-то в рот, а рот еще провалился внутрь головы – осталась узкая щель. Но дворянское нечто сохранилось! Не увяло в девяносто с лишним. И спина прямая.
– Полька? – спросил Драгомирский.
– Девичья фамилия ее – Бармина-Кочева. А другой фамилии нет – старая дева. Стоит Вера Петровна, стоит у гастронома, всех спрашивая: «Вы – мой ученик? Изучали мою биографию?
Здесь на странице сорок, внизу, – обо мне». И протягивает брошюру «Наши люди» – издала местная власть.
* * *
Драгомирский заметил, что на футболке, принесенной Крылю женой, сзади бельевая прищепка. Мелькнуло: можно поторговаться и взять сценарий подешевле.
– У правительства Москвы есть программа поддержки художественных телефильмов. А у вас есть сценарий про Ахматову и Модильяни. Хотите, чтоб играла Пивнева?
– Нет! У нее же лицо резиновое!
– Такое и нужно настоящей актрисе.
– Но у Ахматовой не резиновое лицо!
Через час Крыль продремался, и Драгомирский вернулся к торгу:
– Надсадова будет играть Анну Андреевну.
– Надсадова? Эта медведица, раскрашенная под петуха! Голос ее весь стерся об роли. А представляешь, какой у Ахматовой был голос? Космато-властный голос…
Драгомирский отчаянно заблестел гранями черепа:
– Зато Надсадова не жадничает, а фильм низкобюджетный.
Продолжился дерганый, задыхающийся, пунктирный разговор: мейнстрим, рейтинги, этот режиссер бережно относится к сценарию, а тот – поубивал бы… Но главное: чтоб все чего-то заработали! – повторял Драгомирский.
«Тяжело, – думал Крыль. – В советское время был диктат партии – сейчас диктат продюсеров. Голливуду голливудово, а в России нужно так снимать, чтобы в каждом отрывке было невидимое чудо. И оно должно определять настроение фильма. Так молекула ДНК не видна, но все определяет».
* * *
– Пан Драгомирский, к вам можно?
Пришел Веслов (Весло).
У него не лицо, а булыжник пролетариата. Поставил на тумбочку глобус и крутанул:
– Всегда приношу вместо цветов глобусы. Не забывайте: вы не только в палате, но и на планете.
– В детстве я мечтал такой глобус купить, чтоб две каски сделать для войнушки, – простонал Крыль, чувствуя, что от усталости говорит нехорошо – слова наскакивают друг на друга.
Драгомирский их познакомил. Весло деловито записал номера телефонов Крыля. Оставил в ответ свою визитку.
– У моего профессора часто в кабинете лежал журнал «Театральная жизнь» – по образованию я медик. Профессор был театрал. Однажды его вызвали, и я прочел рецензию на вашу пьесу… Да он заснул!
Крыль на самом деле заскользил куда-то в Париж пополам с поселком Чад. Он еще слышал голос Веслова:
– Прочел первую фразу сценария… а давайте его поставим силами больных и персонала здесь. Все будут кататься под столом! И эту девушку в коридоре вылечим смехом!
Ну Весло, широко загребает! И какие ловкие тут больные и врачи! Набежали, сколотили сцену, натянули занавес. Золотой скальпель Пермышев чуть не плачет: «Кто же у нас будет главный комик. Эх, жалко, Немова нету!» – «А где он?» – «В морге». – «Не вопрос, позовем. Что ему там зря лежать?»
И дергают Крыля за руку! Он открыл глаза.
– Мама твоя пришла, – сказал Драгомирский.
Мама в восемьдесят лет подошла бодро, лицо как бы стекает к земле – бесконечно родное лицо трудоголика с вечной экономией на себе… вот и сейчас ни за что не потратилась на такси!
– Как же быть, Володенька, где занять денег?
– Мама, Милица будет у Альбины ухаживать за садом.
– У Альбины есть сад? Наверно, трудилась всю жизнь, экономила.
Альбина вышла замуж за успешного гомеопата, никогда не работала, тем более не экономила, но мама не знает этого – она из Перми переехала всего три года назад, когда вышел фильм «Вечеринка» по сценарию Крыля.
* * *
Все началось с фотографий в Интернете: однокурсники сына выложили несколько снимков с вечеринки – все там в зэковских полосатых одеждах. Заранее ведь сшили их! Сын еще пытался защищать друзей: как бы, типа, это просто такой юмор там.
– Юмор висельника иногда встречается. Но тут другой случай. Так выглядит наша антропологическая катастрофа. И не надо ничего говорить про бахтинский карнавал, умоляю!
Так закричал в конце Крыль.
– Мой дед в лагере пропал, – плакала Милица. – Это же твой прадед!
– Крыли, вы че?! – Филя даже выронил деревянный автоматик, который собирался захватить на консультацию (мол, намек по приколу, только так можно разговаривать с некоторыми препами). – Я же не пошел на эту вечеринку.
Крыль написал о своей тревоге в собственном блоге. Получил такой комментарий: «А в чем катастрофа-то?» Он оцепенело смотрел на этот ответ, который сам был результатом этой катастрофы.
В общем, сценарий вылетел со свистом. Этих участников вечеринки вежливо погрузили в вагон для скота, они острили при этом, хохотали. Потом их везли месяц по стране, кормили только воблой, а воды давали по капле…. Когда их наконец выпустили, то прикладами погнали на вечеринку в тайгу, под лай собак. Главный герой спотыкается, еще раз спотыкается, не может подняться, к нему бежит охранник. Затемнение, вместе с буквами «Конец фильма» раздается выстрел.
Фильм получился – типичная малобюджетка, кое-что вообще с руки снято, с дрожью. Главный герой похож на суперагента высшего ранга, то есть на маленького подслеповатого бухгалтера.
За сценарий дали премию «Черемуха в овраге» – один граф-эмигрант учредил. На эти деньги удалось перевезти маму в столицу.
* * *
Тут санитарка пришла, устроила сёрфинг швабры. Увидев флаг США на косынке матери, она начала бурную речь:
– А я не буду американские товары покупать! Пусть за мой счет не богатеют!
Мама сочувственно кивала:
– Понятно, вы трудились всю жизнь, экономили…
Еще сидела в палате мама, а уже пришел Смуров (Смур Смурыч) – с навсегда опущенными глазами, словно видел в детстве страшную, кощунственную сцену, и с тех пор его взгляд не может подняться. Крыль уже три месяца вел с ним непростые переговоры о сценарии про Ахматову и Моди.
В это время купленная жизнь еще висела в воздухе, и переговоры решили отложить. Мол, куда спешить – время есть.
* * *
Но изрезанный кишечник не работал, стула не было день, два, три, и Крыль стал прикидывать, как загнать сценарий сразу в три места. А то ведь можно не успеть и превратиться в содружество червей.
Стыдно-то было, конечно, перед сценарием – это значило, что по нему не снимут никогда, да еще проклинать его будут долго в разных интервью. Но как же иначе денег жене и матери на похороны оставить? Кругом кипит дарвинизм. Пусть ругают, из-под крышки гроба его уже не выколупаешь.
Все приглядывался к объему жизни вокруг: прозрачность стала мутиться на глазах, птицы исчезли, а дельтапланщики стали насмехаться над теми, кто внизу…
На третий день стали делать ему белковые капельницы, чтобы подкормить. Отказалась работать «грешная дыра», как выражался Пушкин, и на капельницы была последняя надежда.
Он вспомнил, как писал сценарий про Анну Ахматову и Модильяни в Чаду, на малой родине («в чаду творчества!»).
Остановился у своей молодой (сорокалетней) кузины Зины, которую недавно бросил муж, и она с горя запила, вдруг впала в кому, никто уже не надеялся ни на что, но в одну июльскую ночь Зина открыла глаза, встала – оказалась на улице и постучалась в ближайший дом. Вышел мужчина, который приехал к родителям – после смерти жены. Она попросила закурить. Мужчина ушел за сигаретами, а когда снова вышел, за ним бежал мальчик трех лет и, назвав Зину мамой, спросил:
– Ты от нас не уйдешь?
Теперь живут хорошо, только Зина сильно устает от четверых детей и на своих дочек иногда как закричит:
– Ну вы, бездельницы, надо было где вас рожать, тут же топтать!
Младшая дочь:
– Так чего ж ты не топтала?
– Ложись!
Та легла: топчи, мать.
– Да ты большая, у меня ноги не хватит…
Когда Крыль рассказал про это жене, она стала звать кузину Зину-ноги не хватит:
– Звонила Зина-ноги-не-хватит – приедут все на неделю столицу посмотреть.
Так вот один приемный Зинин сын, третьеклассник, по вечерам забирался на кривую яблоню и тонко свистел. Буквально по часу насвистывал. Он был как бы гений творчества. Под его свист у Крыля писалось бешено…
* * *
Пан Драгомирский еще пытался отвлекать:
– Надо такого режиссера найти, чтоб космонавты хотели фильм смотреть – спасаться от космоса. Как они любят «Белое солнце пустыни»! Давай добавим средневековья. В прошлом месяце я по дешевке закупил бутафорское снаряжение средневекового воина – тридцать комплектов.
– Ахматова в Средние века? Ты, пан, совсем с глузду слетел.
– Купил, тебе говорю, уже, тебе говорю. Это будут… это будут, ну, средневековые сны Гумилева-сына.
Тут пан Драгомирский рефлекторно перешел почти на шепот:
– Я лет в двадцать стихи такие сочинил – про Льва:
Уже об стенку головой Не бьют, как Гумилева. Спасибо партии родной, Что всем не так х…ево.– Имел большой успех у девушек? – проницательно посмотрел на него Крыль.
* * *
И снова вспомнил Асю с биофака. Когда на занятии говорили о размножении жуков, он спросил Асю: «Когда же мы начнем размножаться?» Ничего он не имел в виду, но за базар пришлось ответить.
Биологички были не сказать чтоб красавицы (ему нравились филологини из творческого кружка), но Ася по-особенному дурнушкой казалась: лоб такой узкий, что один палец соскальзывал, сама очень худая, но в жаркую погоду пошло хорошо. Да еще на даче ее бабушки – среди белых бутонов пионов. Именно с Асей у него случилось то, что случилось в первый раз. Она забеременела, ушла в академ, ничего не требовала с него, а он думал: до чего умна, понимает, как мне дорога свобода. Потом говорили, что родилась девочка.
А теперь в коридоре умирает Инночка – копия той молодой Аси.
Всегда ему хотелось забыть эту историю. И сейчас хочется, но не получается. Вот недавно вспомнилось, как он самодовольно говорил на семинаре:
– Ничто так хорошо не растет, как живучка ползучая.
А она ответила:
– Не стать бы нам никогда ползучками живучими.
* * *
Драгомирский включил телевизор, и оттуда посыпалась грязь звуков и цветных пятен. Но вдруг встрепенуло:
– В США онкобольной ставит в букмекерской конторе один к полусотне, что проживет год, хотя врачи говорили: полгода. Игра поддерживает его волю к жизни. Увеличивая ставки, он прожил уже два года. И представьте, он на днях снова пришел к букмекерам с предложением поставить один к ста, что проживет еще шесть месяцев.
Крыль отвернулся от экрана. И телевизор умолк, не зная, что дальше сказать.
* * *
Теперь опять взглянем на местность.
Это наша пермская коммуналка. На двери написано: «Не беспокойте до 17.00! Умоляем! А не то…»
Володя Крыль позвонил пять дней тому назад:
– Вы помните Асю?
Мы помнили Асю. Недавно встретили ее со взрослой дочерью в сбербанке: брала она кредит на образование внука, жаловалась на грабительский процент.
– Попросите Асю позвонить мне. Я должен с ней поговорить. – И дальше добавил комментаторским голосом: – Лежу в палате. Лицом к стене. Таковы правила игры.
Асю мы нашли. А она говорит:
– Один-то раз я ему позвоню по мобильнику, а вообще-то у меня денег нет.
Только перевели немного дух – звонок от Милицы:
– Володя вам говорил, что у него непроходимость – после третьей операции? Стула нет.
* * *
С того дня Милица каждый день звонит нам:
– Молитесь за Володю. Непроходимость продолжается… Стула нет четыре дня… пять… шесть дней. Дед Володи примерно в этом же возрасте ушел.
Мы робко говорили:
– Вот адрес монастыря Святого Александра Свирского. Пошли туда сто рублей и закажи молебен.
Из последних сил спокойным голосом она спросила:
– Это поможет?
Мы ответили арифметически:
– Два молебна больше, чем один. Мы тоже пошлем.
* * *
И тут окружили нас воспоминания: ходили в один творческий кружок.
– И он тебе нравился – ты ему свитер связала!
– Слава, просто я всем вязала свитера.
– Птичка моя, в этом и была твоя хитрость. И еще – в том, чтобы всех мужиков гениями называть!
– Непризнанными гениями!
– А у нас темечко слабое, много ли нам надо. Вот ты мне свитер связала, а у меня-то все в голове помутилось. Особенно запомнилась примерка: там поправишь, тут коснешься… Ты думаешь, мужик железный, да?! Да еще лепечешь: «Цвет эпохи, цвет эпохи…»
Когда наш руководитель творческого кружка, бывший фронтовик, спросил, готовы ли мы писать стихи даже в окопах, Володя стал в перерыве у нас спрашивать: «Готовы ли вы писать стихи, идя в атаку? А бросаясь под танк? Хотя бы одностишье, а?»
* * *
Уехав в столицу, он какое-то время нам много помогал. Когда пошла его первая пьеса – купил мне путевку в Железноводск. Потом пару раз давал то на пальто, то на виолончель детям. А потом забыл про нас под видом бодрой жизни в Москве – очень бодрой, очень в Москве…
Мы старались не вспоминать, как год тому назад поссорились. Крыль был в гостях – проездом в Чад. А мы перед этим видели по ТВ его пьесу в исполнении театра из города Н. Актеры зажаты, голоса сдавленные. Станиславский учил-учил их расковываться, а только умер – они опять за свое. Но мы ни слова не сказали, что исполнение не показалось. Но Крыль вдруг ни с того ни с сего стал нас поучать:
– Арамис говорил: «Надо опираться не на достоинства, а на недостатки – послать того слугу, который больше любит деньги!» Вы должны посылать рукописи в те издательства, которые больше платят.
– А то издательство, которое больше платит, оно не очень любит деньги. И наоборот.
Но сейчас, когда Крылю так плохо, не нужно думать об этом разговоре, а нужно молиться, помнить все, что спасало нас…
Мы три ночи плохо спали, беспрерывно зажигали свечу и молились. Заказали молебен, затем дочь тоже заказала молебен о здравии. Говорила: хотела просить о другом, но рука сама написала имя: Владимир.
И вдруг – через три дня – в трубке зарыдал Крыль:
– Вы не будете смеяться? У меня сейчас был стул.
И мы зарыдали, засморкались – у двух телефонных аппаратов.
– Вся больница приходила смотреть на это чудо. Ведь никто уже не верил… Хирургическая команда, как на букет цветов, смотрела на мое судно! Вы не смеетесь?
Мы засморкались сильнее.
* * *
Потом мы оказались в Москве по издательским делам, позвонили Крылю, не надеясь его застать – думали, что в бронежилете скрывается от трех продюсеров где-то на даче.
Но оказалось, что дело уладилось: пан Драгомирский ставит фильм про Ахматову и Моди, а Веслу и Смур Смурычу Володя пишет новые сценарии.
Нас пригласили на ужин с ночевой, и Милица рассказала, как работала у Альбины, где ей подчинялся младший садовник Равиль. Он был маленький кактусовидный мужчина, почти без шеи. И вдруг он запил, ничего не делает день-другой, а на третий объясняется Милице в любви. Оказывается, никто с ним в жизни не разговаривал ласково. Он думал, что она его полюбила… А это был просто учительский голос, просто вежливость. Но Равиль не встречал этого раньше.
У Милицы муж больной, сын-инфантил, она худеет, боится, что у нее самое плохое. Так у Равиля у самого семья – полно детей, да он и неухоженный, замызганный. Милица все время говорила с ним про почки, почву, семядоли, влажность воздуха, ранние восходы. Откуда выросла эта его любовь, такая сильная, что у Равиля все части лица поехали и встали на новые места?
– Не откуда, а для чего! – говорил Крыль. – Для меня, для нового сценария, вы еще не поняли, что ли?
Бог его любит, и идеи сценариев сыплются с севера, юга, запада и востока.
Нас положили спать в гостиной. Вдруг вошел Володя и поманил нас тихо в кабинет, где вытряхнул из корзины целый ворох мягких игрушек. Там были Кенга, Тигра, Сова из «Винни-Пуха», добродушно-свирепая горилла, разные рыбы, мишки в дурацких колпаках, птицы в викторианских бантиках и добрый пес-швабра.
– Я у сына забрал это. И сначала делал вид, что ищу героя для детского сценария. Но потом честно признался себе, что по-детски любуюсь, перебирая и играя.
– А мы до сих пор жалеем, что ты уехал из Перми.
– Как вы жалеете – сколько раз в день?
– Ну, с утра молимся, работаем, обед, стирка, чтение, новости…
– А потом жалеете обо мне!
Небо заходит в грудь
– Ракета летела-летела и села, – бормотал Горка, – ушла глубоко в планету. Спасатели начали откапывать. И там же была звездоокая Лианея, дочь Трех Солнц…
Рядом дышит инопланетянин, рогатый и на четырех ногах. И как наступит каменным копытом на ногу!
– Лыска! – завизжал Горка.
Корова в знак извинения прошлась языком по его щеке – теперь до вечера половина лица будет гореть. А тут отец заходит:
– Ты что, п…да рогатая, моего Георгия обижаешь? А мы все для тебя, надо тебе витамины – вот я купил тебе витамины, надо тебе ветеринара – и вот ему я мотор перебрал.
Все понятно: воскресная стопка имела место. Отец взял вилы, и комки навоза только полетели со свистом в окошко.
Прихрамывая, Горка вышел из сарая. Так, прикинул он, ракету я практически спас, от нападения инопланетного туземца я пострадал, пойду отлежусь в межзвездном модуле, почитаю, что там дальше с Гарри Поттером.
А Аполлон-то Засушенный еще ничего не сделал, только выбрел из дома, хрустит ногами по снегу к своему сараю. А вдруг он новость сообщит! От новости ведь себя не помнишь, так что приходится все силы бросать на то, чтобы сохранить на лице взрослое мужское выражение.
Увидев Горку, Аполлон Засушенный свернул к забору. Привет – привет.
– Идешь в шахту?
– Сейчас по-легкому разбросаю завалы угля и всех спасу (что значит: быстро выкидаю весь навоз).
У Аполлона Засушенного отец работал шахтером, и поэтому Павел беспрерывно играл в спасение из-под земли.
А Витька Попеляев представлял все время, что он разминирует поле, как его старший брат – сапер в Чечне. И надо очень осторожно выкидывать мины – куски навоза (больше всего взрывчатого вещества скопилось возле задних ног коровы).
А вот он и бежит, Витька, и кричит:
– Горка! Пашка! – Потом спохватился и сказал солидно: – Ребя, там интернатскую привезли, мертвую. Поканали, посмотрим!
– Я хромаю…
– Ну и что! Шофер-то поседел весь! Пошли!
Предчувствуемая жуть уже летала между ними и звала повзрослеть еще сильнее. Они побежали по припорошенной, с блестками, дороге. Как всегда, навстречу им попалась Изюмская, которая подчеркнуто рассеянно посмотрела на Горку и сказала:
– А я уже все видела, ничего интересного (между мертвой Поздеевой и живой мной кого надо выбирать, непонятно, что ли?). – Вдруг она клоунски повела глазами в сторону: – По химии не могу разобраться, завтра понедельник, и всегда химик по понедельникам меня спрашивает.
Горка на миг задумался, и его осенило:
– Потому что Сей Сеич по понедельникам с похмелья. У тебя фамилия Изюмская, а из изюма знаешь какая бражка получается.
– Да ты просто Каменская в штанах! Так я приду?
– Я не знаю… Наверно, сегодня никак.
Вот если бы тебя звали не Олька, а Лианея, дочь Трех Солнц, подумал Горка, вот тогда была бы встреча в параллельном мире!
Он догнал ребят. Они сначала обгоняли одинокие фигуры, потом эти шагающие фигуры кучковались по двойкам, по тройкам и в конце, перед домом Поздеевых, сбились в пестрый ковер лиц, ждущих подробностей. Розовел над ними пласт дыхательного пара.
Первым делом Горка сразу выделил лицо свирепой красоты, слегка постаревшее. Это был учитель химии, который думал: «Прекрасны жемчужные завитки пара и этот брейгелевский пронзительный снег. И никому про это не скажешь. Не поймут».
Тут Горка догадался, почему Сей Сеич не просыхает. Ведь он знает, что за глаза его зовут «Химия – залупа синяя».
Ладно, сейчас не до этого, надо прокручивать в голове слова собравшихся людей:
– Неужели сама выпала под колеса?
– Да приставал он к ней!
– Мирошникову пора прятаться, а то…
– А то что? У нас тут не Кавказ, не кровная месть. Наелись вы телевизора и ничего не понимаете.
– Кто не понимает – я не понимаю? Как вы можете так говорить, если я всю жизнь проработала главным бухгалтером!
Кто же не знает, что деревня это беспрерывный мозговой штурм.
Приехал следователь, выдернутый из-за праздничного стола. Поэтому он говорил мрачно: «Щас всех опросим», – и было видно, как внутри него чувство долга жестоко борется с алкоголем. Качнувшись, шепнул что-то участковому милиционеру, и тот стал обходить толпу – просил всех не расходиться. Тотчас все начали расходиться.
Нашли фургон, чтобы перевезти тело в фельдшерский пункт для вскрытия. Вынесли человеческую фигуру, завернутую в одеяло. Мать шла рядом и с жуткой разумностью спрашивала у тех, кто еще не разбежался:
– Она меня сейчас видит, нет?
Кто-то сказал, что видит, а кто-то проявил принципиальность, которую огласил Сей Сеич:
– Молекулы перестали двигаться, и драгоценное сознание распалось.
Твоя принципиальность, Как плохое вино, Напоило нас Горькой чернотой.Горка привычно запоминал слова, которые мерцали в голове друг за другом.
Ветер снег уносит Не знаю куда. Но осторожной кошкой Вернулось желание жить.Вечером Горка присоединился к разговору родителей, когда за ужином они скупо обсуждали горе Поздеевых:
– Мам, почему все шумят, что шофер приставал к ней? – Он выпрямился, мысленно поместил во рту трубку и стал говорить прекрасным квакающим голосом артиста Ливанова (Холмса): – Во-первых, Мирошников только и ходил из дому на работу и с работы домой.
– Запруду сделал у ручья, карпов туда запустил, – добавила мать Горки.
Сын посмотрел на нее с выражением, как иногда смотрел отец – мол, женщина, что такое? – и продолжал:
– Во-вторых, он же поседел от потрясения. А если бы он был гад… Гады не седеют. В-третьих же – все происходило в глухом лесу, и он мог бы ее закопать в снегу, и до лета бы тела никто не увидел. Это же элементарно!
Отец сказал:
– Ну, Горка, ты казак: туда побежал, здесь сшурупил.
– Просто адвокат какой-то! – добавила мать.
А лучше бы сказали: мол, сэр Джордж, вы блестяще проанализировали эту комбинацию.
В это время пришла соседка Маруся Семиколенных. Она попросила листочек алоэ:
– Еще и палец нарывает! И так вечером упаду перед иконами, реву-реву, кричу-кричу!
– Вся Васильевка знает: Маруся молится, – вставил отец с непроницаемым лицом.
– Ну ничего: утром выпью водочки, запляшу, запою! Уныние ведь смертный грех.
– И вся Васильевка слышит: Маруся борется с унынием.
– У нас алой засох, пока к дочке ездила. Мой бегемот пьяный не поливал…
– Ну, какой же он бегемот, если в декабре заработал пять тысяч.
Маруся от возмущения казнила алоэ, только сок брызнул.
– Заработал, да все в горло пошло. Когда прихожу на исповедь, так и говорю: отец Сергий, надо что-то со мной делать. Мой так пьет, терпение ведь кончается, так и хочется топором его тюкнуть. А батюшка мне: тише, тише.
– Нет, зачем же, – невозмутимо заметил отец. – Пусть вся Васильевка знает: наша Маруся кается.
Маруся слегка смолкла, показывая своим видом: вы думаете, я за алоем пришла? Понюхала табаку, мелко потряслась, как трясогузка, взлетела с табуретки и сказала:
– Надо бежать. Сегодня к Поздеевым ходила, два часа как не бывало, а самогонки еще не нагнано к моему дню рождения. Да, хорошо, что у них еще дети есть.
Мать щедро отрезала Марусе еще пару целебных шипастых листьев алоэ (вместо прежних) и как бы невзначай обронила:
– А Горка сказал, что Мирошников не мог ничего такого над ней сотворить. Ведь гляди, какой у него сад! Какие арбузы в теплице!
– И кролики как из воздуха плодятся, – добавил отец и закурил.
– Все завидуют, ведь в чужих руках все толще, вот и говорят о нем что попало, – сказала Маруся.
Две струи дыма из отцовских ноздрей свивались и иллюстрировали перепутанность этого дела.
– А вы… возьмите поллитру и идите к Яковлевичу, там следователь остался ночевать. – Маруся подумала и добавила ради истины: – Хоть к рукам нашего участкового что-то прилипает, но он еще неплохой.
Горка тут сразу воткнулся в очередное размышление: как это – взятки берет, но вот прошлым летом обкуренная молодежь из района на «газели» сбила старика и помчалась дальше. Так Иван Яковлевич пустился за ними на старом «уазике»! Неизвестно, что там произошло в лесу, но участковый привез их обратно на «газели» всех семерых – связанных, избитых, а у одного было прострелено плечо.
У Ивана Яковлевича было еще много талантов, например, он хорошо пел. Как из него могуче изливалась «Многая лета» на юбилее Васильевки!
Пока родители отсутствовали, Горка боролся со страхом, бормотал: такой он сообразительный, этот Георгий, все его любят, Изюмская сказала: ты Каменская с яйцами… то есть не так сказала, но с таким смыслом. И вдруг – раз, и в яму под деревянный крест?! Горка словно весь налился безнадежной жидкостью, но избавился от нее с помощью привычного хода мысли: наука что-нибудь придумает, молекулярное омоложение там.
* * *
У участкового было простое лицо лесника. Отец Горки помаячил перед этим лицом склянкой и сказал:
– Что ты тут думаешь? Давай зови следователя.
– Он спит.
– Да, слабые эти городские… Знаешь, если Мирошников хотел бы все скрыть, он бы ее в снегу закопал, звери кости растащат – и все.
– По делу говоришь, – одобрил участковый. – Да я и сам Мирошникова в обиду не дам. Он же наш, васильевский.
Склянка звенела о края стопок до тех пор, пока отец Горки не сказал, глядя на плакат с губернатором:
– Пора кончать, а то у двуглавого орла уже три головы появилось.
* * *
А Петр Мирошников в это время говорил жене:
– Не могу спать.
Уж дальше он не продолжал, что видит задавленную у комода. Но жена догадывалась: у него все время было разговаривающее лицо, то темнеет, то светлеет.
Вышел Петр в сад, однако и туда она успела: стоит возле занесенного снегом пруда в какой-то рубашке белой и нисколько не мерзнет. Тут Петр не выдержал, и прорвался у него разговор наружу:
– Конечно, я виноват, что не проверил дверку…
– Петя, – позвал сзади голос жены, – пойдем домой, не мерзни, здесь никого нет.
В самом деле, подумал Петр, зачем я буду за этой белой рубашкой по огородам бегать. Дома он сел и включил телевизор, и ему под ноги высыпались слова диктора:
– И только таким образом призрак стал понятнее и человечнее…
Жена – домашнее МЧС – выхватила у него пульт и погасила экран. Петр стал ее успокаивать: сейчас я засну, засну. Лег и вдруг на самом деле заснул.
* * *
В холодном белом свете кладбищенская ворона сидела на ветке и смотрела на всех. Пар поднимался из ее ноздрей двумя клубами. Лицо Сей Сеича и здесь выделялось из всех лиц свирепой красотой. Он взял Горку за локоть и изрек:
– Когда и я умру, найдите и поставьте мне реквием Моцарта.
Аполлон Засушенный услужливо закивал:
– Да, да. А если не найдем, поставим Киркорова.
* * *
Горка занес в стайку на подстилку солому, и она засияла как солнце. Лыска тяжело задышала и просяще посмотрела на него, то есть в его лице – на всех людей. Горка вспомнил, как по телевизору антилопа на бегу родила, детеныш шлепнулся, и мать недоуменно стала оглядываться: что-то легко стало, кажется, надо уже о ком-то заботиться.
Горка вприпрыжку бежал домой и думал: домашние животные тяжело рожают, потому что зимой мало двигаются. Вот бы их прогуливать как-то по графику…
– Мама, мама, Лыска рожает!
Мама засияла слезами, улыбкой, боком глянула в сторону божницы, и они втроем изо всех сил побежали в сарай. У отца было ведро с теплой водой, а Горка нес хлеб с солью. Радуемся тут, думал он, а чего радоваться? Вырастет бычок, зарежем его осенью и будем есть. Как сейчас доедаем его брата Мартика.
Но возбужденный шепот родителей и первое короткое мычание теленка, похожее на нежный рожок, – все слиплось в какое-то нелепое, но сокрушительное доказательство жизни, и оно отменило Горкины печальные мысли.
* * *
Посреди леса лежало продолговатое небо с облаками. Жара жгла, как крапива. Горка помчался, на ходу раздеваясь, и залетел с размаху в голубую прохладу озера, дробя все вокруг себя в жидкие алмазы. И снова пошли, постукивая, звуки:
Небо словно заходит в грудь И создает душу…Устройство под названием «стрекоза» испугалось, стартовало с камыша и понеслось над живым зеркалом, переливаясь и треща.
Горка любил купаться без всего, первозданно, обнимаемый извивами умной влаги со всех сторон. Он нырял и выныривал с ожиданием, что миг – и он родится в какую-то новую, очень всем нужную жизнь.
А Сей Сеич тоже думал в моем возрасте, наверно, замирая в мечтах гладиаторским лицом, что вырвется… а кончил ежедневной спиртовой пропиткой.
Горка вышел на берег – из драгоценности воды, сияя, как жемчужина.
Вот бы сейчас меня увидела Лианея, дочь Трех Солнц, которая в последнее время все чаще представляется с лицом Изюмской.
Вдруг он заметил, что пиявка присосалась к левому колену. Сейчас я избавлюсь от тебя, чудовище, достану свой бластер, сказал Горка. И прицельно помочился.
Пиявка отпала – он не стал ее давить. Ползи к своей судьбе.
Липы цветут, у них сегодня большой прием пчел. Вот бы сейчас пчелой вжикнуть домой. После купания сил не осталось, ноги – ленивый студень без мышц. А до дому еще пилить пять километров!
И тут весь накопившийся зной раскололся в неожиданном звуке. Горка прыгнул в сторону. Дядя Коля снял руку с сигнала и захохотал:
– Садись, прокачу!
Но вместо радости, что час по жаре превращается в десять минут езды с ветерком, забоялся Горка, если честно. Сейчас засну, выпаду, и под колесо! Поседевший дядя Коля, причитания матери… А ведь с этой осени буду учиться в интернате, надо ездить на попутках, пора привыкать.
– Что, сцышь? – проницательно спросил дядя Коля. – Не надо, бесполезно. Я в твои годы от мачехи ушел, волков видел стаи! Садись.
Потом он закурил и приказал:
– Рассказывай что-нибудь, а то я за сутки тут к баранке прирос, как бы не заснуть.
– Дядь Коль, Мирошников вчера привез новую породу карпов, говорят – генная инженерия.
– Ну и правильно, это лучше, чем ночами гоняться за мертвой Поздеевой. Видел я в одном фильме: по ночам рыбы-мутанты выползали из воды, залезали на березу и пели – как соловьи.
Охотник Витя
Пили ли вы, читатель, в небольшой компании нановодку? Наш гость – охотник Витя – поставил бутылку на стол и вслух проскандировал надпись на этикетке:
– «Выпущено с использованием новейших нанотехнологий».
Мы с ним познакомились на нашей свадьбе – бардесса Полюдова пришла с Витей как с женихом, чем удивила всех.
Сейчас у него по-прежнему припухшие веки, которые сильно молодят, но уже добавились седоватые имперские усы. Роскошные! Странное, рвущее взгляд зрелище – пейзаж его большого лица. Но это не главное. Главное: уже нет на нем того вдохновения, которое обещало нам… нет, не писателя, а кого-то вроде великого Торо, наблюдателя леса или другого сэнсэя природы живой.
Галстук-бабочка на шее старого кувшина пытается унести нас куда-то в сторону торжественности.
Выпив, Витя говорит по-английски две фразы: «ес, май диэ», «лэтс гоу».
Видно, что внутри он уже денди, сэр, сенкъю-веримач.
Мы знаем и его сестру. Он – Витя Стоножко, а она – Вика Стоножко. Так вот Вика тогда, как бы невзначай, вспыхивала анекдотами по поводу бардессы нашей:
– Мужик рассказывает о своей жене: «Такая она у меня хрупкая, ручки, как хворостиночки, ножки – крошки… Как е-у, так и плачу!»
Полюдова, да, была и есть такая хворостинка, но объем какой в голосе. Как говорил один физик-пятикурсник:
– Этот голос внутри больше, чем снаружи. Разворачивается, как вселенная.
Она все какие-то балахоны носила, будто занавески ухватила и завернулась. Они ее увеличивали внешне.
* * *
После анекдота про ножки-крошки Витя брал минутную паузу и все равно уплывал к бардессе. А сестре приходилось бессильно смотреть ему вслед: как они несовместимы! Тот обглодыш и этот молодой тополь, гитара и ружье! А столько лет строили клан, поднимались по лестнице, облагораживали административное пространство – расставляли по нужным местам породистых дядьев-теток!
– Мой невинный, нецелованный Витька, он же никогда не разведется, он будет везти на себе все, – так говорила она нам. И добавляла: – Он ее не любит, а просто хочет ее талант опекать: мол, она так сломается – ее должна подпереть семья!
* * *
Они поехали на свадьбу в город К., где тогда учился Витя. Он еще Виолу вез щедро – новую соседку родителей по площадке, – познакомить с другом. Эта Виола – платье в цветочек, глазки в листочек – с сосудистым пятном на шее, но платиновая блондинка. Витя предупредил свою бардессу про родимое пятно Виолы: мол, в дороге нужно поосторожнее, если стресс – пятно у Виолы вспыхивает ярко-красным светофором, и начинается истерика…
Еще в поезде все и кончилось. Он говорил только с Виолой, Полюдова молчала вместе со своей гитарой. Потом он позвал их в ресторан, а Полюдова завернулась еще в шаль, вдобавок к балахону. Он радостно показал всем видом: чур, я не виноват! И с Виолой ушел. Когда они вернулись, начался скандал, мучительное битье гитары. Он пытался спасти нежный инструмент, а потом сказал:
– Я думал: ты человек, хотел служить твоему таланту. Чуть меня не обманула! Еще ревновать! А ведь мы не поженились даже!
Ну, в общем, приехали. Полюдова в общежитии принялась выбрасываться с третьего этажа, Витька попросил ребят сделать все, чтобы она уехала, и ушел в тайгу. В одной рубашке. Никто не встревожился – конец августа был в том году жарким.
Когда Полюдова вернулась в Пермь, сразу позвонила родителям Вити – в два часа ночи. Отец закричал: щенок у меня сын, сволочь! Он послал Вику сначала к нам. Потом по всей Перми. На такси она исколесила весь город, и уже под утро ее навели на аспирантское общежитие. Так и есть, сидит Полюдова, обложенная аспирантками и аспирантами разных наук. Увидела Вику, добила одним вздохом сигарету, замахнула полстакана, упала на колени:
– Прости! Я же над тобой столько издевалась – хамила, могла прийти – и как заору: заткнись!
Тут она принялась за старое, но с вариантами: то сама с четвертого этажа хотела прыгать, то Вику в окно пихала…
Еще к обеду позвонили из города К.:
– Витька ушел в тайгу и пропал, его весь институт ищет.
Вика помчалась опять к бардессе: там верные аспиранки две облеванные подушки замывают, а Полюдова говорит не своим голосом:
– Он волк, он зверь, он там подохнет, пусть он подохнет.
И тут Виола приходит. Полюдова взяла хлебный нож, ее, конечно, скрутили.
Еще и мы в этот миг заходим – разбежались тоже спасать талант. Нам кричат:
– Уходите, Нинка, Славка! Ой, уходите, не до вас.
Потом, лет через десять, мы с сестрой Вити встретились в одной компании. Она говорила:
– Правда, я после Полюдовой никого слушать не могу, потому что не сравнить же. Вот у мамы в редакции есть такая Вера, поет, все ее слушают, а я не могу, ухожу, это просто никак… И брат уже чужой – он на Виоле женат. Как пришел из тайги с воспалением легких, как отлежался, так со мной и не разговаривает по душам.
* * *
Удивительно, но, кроме Вити, у Полюдовой никого не было.
Каждый раз молодые мужские толпы, с наслаждением послушав ее концерт в универе, разбегались по быстрым радиусам, шепча: это же буря, а не стоит знакомиться с бурей – голову оторвет.
Кажется, терпеть ее могли только рыболовы и охотники, поклонники Торо, им природные стихии только подавай. После Вити она нашла другого промысловика, родила ему пятерых детей, а тот даже не дрогнул, бегает с ружьем уж не знаем по каким оставшимся чащобам, кормит семью. А она отбросила псевдоним, стала Покедовой – по мужу, 9 мая звонила нам из своих глухих чащоб:
– Мне нужен адрес «Нового мира». Я написала поэму про всех репрессированных поэтов. А теперь расскажите мне подробно, как вы провели День Победы.
– А ты как? – отпарировали мы.
– Я записывала застолье на видео, чтоб послать невестке – она поволжская немка, и уже два года в Германии. Как звонит, всегда просит: пришлите песни, которые мы все пели в застольях.
– И что вы записали?
– Все. «Вот кто-то с горочки спустился», «Каким ты был, таким остался», «А я люблю женатого»…
* * *
На занятиях по освежеванию и выделке шкур Витю в институте охотоведческом всегда хвалили: казалось, все делал одним непрерывным движением.
Он тогда любил рассказывать дзенскую притчу о мяснике, пережившем просветление. Этот мясник делал один сложный разрез-удар, и со стороны казалось, что шкура сама падает с туши, а туша под счет раз-два распадается на куски.
В общем, институт был вскоре брошен, и компания-коммуна друзей уехала в тайгу добывать зверя. Лютые морозы, личные олени, лайки, которые спали в сугробах при минус пятидесяти, и, как ни странно, бомжи, невесть откуда выходящие к их зимовью из тайги. Там какое-то время все было хорошо, он даже у жены роды принял, дочь назвали Искра.
Но потом что-то не поделили, чудом друг друга не поубивали из карабинов и разъехались в разные стороны.
Помню, что Витя звонил нам и выговаривал:
– Вы же были старше меня – почему не предупредили, что жизнь такая тяжелая…
– Не стони, Стоножко, – вяло отбивались мы, сами выпитые жизнью.
У нас была своя тайга – дремучий город, хоть и центр; и свои бессмертные бомжи – соседи по коммуналке.
* * *
Затем Витя с женой развелся.
С новой занялся новым делом – мебелью.
Уже была рыночная эпоха, и опять у Вити оказался необыкновенный талант, хороший доход. Долетали до нас слухи, что его фирма делает персиковую мебель, что такое – до сих пор не знаем; и нам обещал недорого сделать гарнитурчик ради старого знакомства, но мы не врубились.
* * *
В пятьдесят лет он бросил вторую семью и сел писать рассказы.
Принес нам сразу целую папку! Выпив третью рюмку нановодки, застучал по столу отнюдь не нанокулаком:
– Через девять лет и восемь месяцев у меня будет мировая слава!
А через сколько часов и минут – не сказал.
* * *
Давно мы уже дали зарок не браться за чтение никаких рассказов у знакомых.
Однажды произошла история. Разбогатевший знакомец (пиар-технологии) пригласил нас к себе в загородный дом на выходные. Мы, конечно, всячески отбояривались, но он больно напирал на общую дружбу в юности и еще сказал, что написал рассказ и мы должны его оценить.
В общем, в субботу утром он за нами заехал на «лексусе». Отдал рассказ у входа в бассейн, который, как шторы, окружала матовая пленка:
– Ребята, читайте, а я поплаваю, чтобы скоротать время. Что-то я волнуюсь. Потом вы тоже – у меня там для гостей полно купальников.
Мы пошли к журнальному столику, плюхнулись на диван в форме огромной капли и начали читать каждый свой экземпляр.
– А знаешь, что-то есть… Тянет читать дальше.
– Но основного нет – любви к героям.
– А еще нет новизны, подтекста, юмора.
– Нужно ему сказать, что тяга дорогого стоит, что это почти готовый киносценарий…
– Но ничего отрицательного не скажем. Любой пишущий, тем более олигарх, не выносит указаний.
Мы отправились к бассейну – хвалить. Но опоздали навсегда: наш автор валялся на кромке – синий – и в руке сжимал край матовой шторы. Мы кричать – прибежали слуги, охрана. Как мы боялись, что нас обвинят! – все окружили, волками смотрят…
Вскрытие показало: ишемическая болезнь сердца.
* * *
Теперь о сестре Вити. Мы заговорили о ней, в отчаянии стараясь уклониться от Витиной папки. Мол, виделись с Викой на днях – на приеме у мэра, там были еще знаменитые многодетные семьи Перми. И одна выступила, детей вывела… Ну, тут Вика нам комментировала:
– Да, да, семья – это все, еще скажите, что Пушкин был однолюб и оплот семейственности…
– Да, да, – кивал Витя в ответ на наш рассказ, – это для нас, в общем, больная тема…
* * *
С женихом Вика познакомилась на четвертом курсе.
Он тогда еще не подозревал, что она назначила его женихом, и невинно преподавал политэкономию. Рикардо, Адам Смит – и вот уже в койке лежит, ошеломленный такой. А все дело в том, что она сидела на первом ряду и щеголяла своими красивыми руками, вся в черном, как Гамлет, и рассыпала по столу угли маникюра. Он заметался: приносил студентам показать свою коллекцию трубок, демонстрировал им кошелек в виде бульдога: «Здесь вся моя движимость и недвижимость» – ничего не помогало. Свадьба приближалась неумолимо, подобно астероиду.
Политэконом сдался. Решил пошутить перед загсом: залез под ватное одеяло и не заметил, как уснул. Его все обыскались.
Мать невесты все твердила:
– Я тебе говорила, он на тебе не женится. – И заглянула зачем-то на антресоли. – Он же без пяти минут доктор наук. Я же говорила, он не женится.
И так было сто раз. И крах уже начал прописываться отдельной строкой в паспорте Вики.
Брат вдруг заметил:
– Смотрите: кошка спит и двигается вверх-вниз.
Вика бросила в него букетом:
– Замолчи! Какая кошка – от меня жених сбежал!
Витя все-таки заглянул под одеяло – а там жених! Схватила невеста кошку, стала ее тискать:
– Муся, Муся, мы навсегда твои!
И любили, баловали эту Мусю много лет, но не помогло: муж сбежал.
Витя хотел сестру утешать, а она прихохатывает:
– Насилу дождалась, когда этот дундук исчезнет:
А из соседней комнаты как завизжит племянница:
– Не дундук! Сами вы!
И прилетел в проем двери изжеванный, истрепанный лев, в незапамятные веки сделанный из крепкого коричневого велюра. Он приземлился на левую разбухшую щеку, выражаясь всем видом малоцензурно: ни хрена себе… я вас так безоглядно… а вы… но если вы… такие убогие, то посмотрим…
* * *
Первый муж ушел, а власть советская вот она: переминается с копыта на копыто, хотя уже озадаченно, фыркает прямо в лицо… А что фыркать, когда полки в магазинах пустые? Пора уходить!
Но и в эти пустынные времена – холодильник полон у Вики, все время полон, бразильский растворимый кофе на столе каждый день. Мужик товарного вида из другой семьи почуял запах уюта, запрядал ушами и прибежал: напои меня. Оставил жену, сына.
Мы хорошо его тоже знали еще по общежитской поре и звали «скульптурный Валера».
Потом мы идем с внуками на карусель обозрения, с трудом узнали Валеру: товарный вид в кубе, мышцы уже вообще от макушки идут, лежит на руле «Геца» и громко шепчет: «Я больше не могу, не могу».
Вдруг сорвался молодец в командировку в Москву и сообщает: встретил свою одноклассницу, она вдова, я не вернусь.
Тут Вика, как всегда в опасный момент, стала резко хорошеть: вставила две счастливые подковы зубов, вколола ботокс и бросилась в столицу. Но когда вернулась – все лицо было в мелких мешочках. Жизнь победила ботокс.
Быстро вернулась, значит, и рассказывает:
– Открывает мне какая-то старушка с букольками. Это его Лаура, Беатриче, как там еще… Увидел меня – достал гармошку и заиграл.
– Гармонисту за игру нужно премировочку, – рассудительно сказал брат, – коечку, периночку да лет под сотню девочку.
– По гармошке я поняла, что Валера никогда не вернется в мой салон, где разговоры о Леже, романсы, весь свет и цвет города…
Витя затрубил:
– Но-но! Горевать некогда, дел полно. Выставка твоя в Америке – столько нужно сил, еще не вся херамика запакована.
Приглашение в США у нее было уже полгода как. Почти живая у Вики керамика: все эти коты-рыбы-облака сейчас, кажется, запоют, но не хватает до гениальности последней безоглядности.
* * *
Нановодка закончила нежное течение свое.
Не говоря худого слова, Витя раскрыл папку и начал читать.
Один человек потерял трудовую книжку. Ездит по старым работам, восстанавливает. На одной работе – старая любовь, которая его бросила. На другой – друг, который его уволил, когда стал успешным. Все клонилось к тому, что главный герой один хороший.
И стиль был яркий, но страшно было заглубляться в этот текст: ослепительно, холодно и в конце ничего в сердце не остается.
* * *
Тут помогла нам жизнь в виде Витиного мобильника с крепкозадыми вагнеровскими валькириями.
– Да, Искорка, три жены. Это нормально. У Булгакова было три… Слушай, давай судить о людях не по падениям, а по взлетам. Кто плохой? Я плохой? Я их заработал, чтобы писать…
Видимо, дочь крепко наседала, потому что он срочно вызвал на подмогу из прошлого то прежнее лицо свое и то прежнее обаяние:
– Искорка! Сияние мое! Вот посыплются на меня премии, я самое малое – половину буду отдавать тебе. Нет, на пленер я вас всех не могу. И почему ваш Камышовский не имеет машины?
Ничего не добился. Зачем такой руководитель? Подумаешь, каждый год восемь человек в «Муху»… За десять лет – уже восемьдесят, а никто ведь не купил ему машину… Кстати, я тебе сам хотел звонить: Арик просит кофейню оформить, и там ты что-нибудь срубишь.
* * *
– У тебя что, уже третья жена? – спросили мы, когда он отключился от дочери.
– Развод – это очень просто, – махнул он рукой пресыщенно. – Это все равно что вынести из квартиры все лишнее.
Мы смотрели сочувственно: вряд ли тебе, Витя, эти разводы просто дались…
Иначе ты не начал бы пещрить бумагу бесконечными буквами занозистого, волшебного, душевынимающего, невозможного русского языка.
Моя тихая радость
Вошла, широко размахивает закуклившимся зонтом, слишком широко.
Ермолай – повезло или не повезло? – вчера только устроился в отдел и впервые увидел начальницу. Она вернулась из отпуска. Он стал наблюдать за ней, чуть ли не ворожа (начальника, начальника, не трогай меня). Ведь карьера, судьба!
– На трех каналах сразу, – бурлила Стелла Васильевна, – мародеры тащат вещи из домов в Багдаде, а один с веселым видом несет букет искусственных цветов! Все хватают дорогие вазы, мебель, ковры, а он – цветы! Нужна людям красота! Этого мародера я почти полюбила – за то, что цветы…
На первый взгляд – не железная леди, решил Ермолай.
А на второй взгляд что будет? На третий?
А дальше было то, что в тот же вечер он случайно встретил Стеллу – выходила из музыкальной школы с дочкой лет семи. У той была кошка – белая, с огромным пышным хвостом. Приглядевшись, он понял, что это мягкая игрушка, точь-в-точь размером с живую.
– Ты из-за тройки расстроилась? Три балла из пяти набрать – это надо уметь. Не расстраивайся.
Дочь ответила:
– А у некоторых дома братьев до потолка. У них весело.
Вдруг сентябрь взял свою рыжую гитару и стал вызванивать Ермолаю: все, все сбудется.
* * *
Когда через день Стелла вскрикнула на планерке, признавая свою ошибку: «Каюсь! Забросайте меня помидорами!», – он на своем внутреннем дисплее сразу увидел, как под душем истомно отмывает ее от яркого помидорного сока.
Ермолай потому так смело производил подобные клипы, что уже знал: с мужем-алкоголиком Стелла была в разводе, и где он сейчас затерялся в бескрайних просторах белой горячки, никто не ведал. Причем он исчез не один, а вместе с двумя собутыльниками. Они однажды сбились в одну сущность из трех людей, когда их личности почти до нуля сузились. Поэтому их притягивало друг к другу. Может, поэтому русские так часто пьют на троих.
В обступившем их со всех сторон сентябре Стелла впервые водила машину и приезжала на работу вся порозовевшая от адреналина, хлопала себя по щекам:
– Видите, какая я. Оказывается, они все мешают мне, виртуозу вождения. (Смеется.)
В отделе работала такая Крылышкина – ей было за полсотню лет, из диссидентов. Точнее, жена диссидента, который отсидел в застой за распространение «Архипелага Гулаг».
Она, Крылышкина, осталась тогда с грудной дочкой. Еще в ту зиму, рассказывала, в лютые морозы, лаяли городские собаки каждую ночь до самого утра.
Вдруг Ермолай мимоходом видит: изображает в лицах Крылышкина свой вещий сон: дочь привела в дом медвежонка, а он стал всех кусать.
Разумеется, через день дочка заявила, что выходит замуж за майора ФСБ!
– Сон в руку! Медвежонок стал кусать! Медведь. Они опять к нам подбираются!
Муж, который недавно перенес шунтирование сердца, отмахивался:
– Я уже не пью, не курю, мне нечем успокоиться… – Подумал и добавил: – Дорогая.
Он лег и отгородился книгой «Менструация родины». В общем, перекрыл он этот канал аутотренинга, змей.
Пришлось успокаиваться, напрягая коллег:
– Когда Крылышкина посадили, меня сразу с кафедры вышибли, друзья на другую сторону улицы переходят! И только соседка Октябрина поздно вечером появляется, сигареты сует, продукты ставит в холодильник и несет какую-то ерунду про своих любовников, у нее для них было свое клише: «одни деятели»: «Одни деятели тут приезжали, я им сказала про тебя – обещали найти деятеля и для тебя». Я так смеялась, что лопнул сосуд в глазу… И как пережить, что вдруг это чудо-юдо, дочь моя – я ее пять лет одна поднимала, клубки вен вздулись на ногах, хирурги потом их выдирали… а как я бешено курила – все платья, все кофты были прожжены…
Тут Крылышкина мгновенно умерла: посинела, веки почернели и запали. Через секунду она отмерла и выкрикнула:
– И вот она выходит за опричника!
Выйдя со всеми из кафе, Крылышкина бешено закурила.
Тогда Стелла произнесла целую ответную речь, там было и про немецких оккупантов, в которых влюблялись, и про дочь Цветаевой, полюбившую своего стукача, то есть когда узнала – почти совсем разлюбила, но принимала от него посылки с теплыми вещами, потому что в лагере надо было выживать. Видно, и он ее любил, да быстро же его расстреляли.
Речь не помогла.
Тогда Стелла достала из души рассказ о своей матери:
– Дед-украинец ушел на фронт, а бабушку и маму угнали в Германию на работы. Повезло: никто из соседей не донес об их еврействе! По дороге состав разбомбили, и бабушка погибла… Маму отправили на ванадиевый завод, ей было семнадцать, и в разговоре с начальником-немцем выяснилось, что она знает наизусть со школы всю таблицу Менделеева. Перевели работать лаборантом, там тепло и чисто. Начался ее роман с французом-лаборантом. Морис умолял после окончания войны остаться с ним, ведь она от него родила дочь. Эта девочка, когда выходили из бомбоубежища, спросила о лежащих в разных позах телах: «Мама, почему столько поломанных кукол разбросали?» Ну, недавно эта моя единоутробная сестра уехала жить во Францию – присылает вот парижские костюмы…
* * *
Ермолай видел: лицо Стелы трепетало, как свеча на ветру… и взгляд его стал самостоятельным и пустился путешествовать вниз от этого трепета – по гитарным изгибам. Последняя трезвость его покидала.
Тут прилетела оса (откуда она в сентябре?), пробралась под брюки, ужалила и вернула человека в рабочее состояние. Он раздавил осу и слушал дальше:
– В общем, закругляюсь. В ссылке мама вышла замуж, в шестидесятом родила меня. И постоянно ее вызывали. Сначала с ней беседовали сержанты, потом лейтенанты, а в конце – полковник. Он ее не допрашивал, а только беседовал на разные темы. Когда уходил в отставку, сказал: «Никто уже вас не будет беспокоить, я уничтожил всю документацию». Так что всюду встречаются люди.
Крылышкина кричала:
– Люди! О чем ты?! – Ее лицо зачугунело на миг надбровными валиками. – Вспомни хотя бы, как КГБ создал двойника Солженицына, который распутничал в Москве и всем говорил, что он и есть тот самый Солж…
* * *
А у Ермолая отец прожил жизнь в музыке, как на острове, ничего советского не замечал. Разве только баб. Но их тоже нельзя отнести к чему-то советскому. Маму он рано бросил, ушел к барабанщице из джаза…
Ермолай думал: если б отец, допустим, сел за распространение «Архипелага»… да, возможно, это было бы матери легче перенести… и не исключено, что тогда не ушел бы родитель так рано из жизни.
Он вышел в коридор и позвонил матери, а она говорит:
– Хористка приходила.
– Какая хористка?
– Что, не помнишь? К которой он ушел от барабанщицы. «Дайте, – говорит, – фотографию молодого Вани. Я оцифрую и вам верну».
– Ну, а ты?
– Что-то не нашла, некогда искать.
* * *
А через день УЗИ показало, а врачи сказали: у Крылышкиной подозрение на самое худшее. И вдруг она стала говорить: все теперь не так важно – пусть «эти деятели» женятся как хотят!
Пошла потом на томографию. Там ей похожий на престарелого лорда врач сказал:
– Мадам, успокойтесь. Ничего страшного у вас нет. Это ультразвук отражается от газовых пузырей.
Крылышкина закатила такой юбилей! Пригласила весь отдел и дочь – уже с мужем из невидимого фронта. Он купил в подарок гармошку собраний сочинений Солженицына и вошел, неся ее в широко расставленных руках.
У наших зятей много затей, подумал Ермолай.
Была на юбилее и соседка Октябрина. Она с годами перестала пылать, одевается в черное, всем говорит, что у нее – родство с самим Пушкиным.
Или с Пущиным. Недавно ей перепал даже шкафчик… В общем, один из потомков то ли того, то ли другого упомянул ее в своем завещании. Октябрина уверяла, что, судя по ароматам, хранили в этом шкафчике (!) штоф с чем-то крепким. Но не предполагали предки-дворяне, даже хватив изрядно крепкого, что в их роду будет такое имя – Октябрина, то есть по имени Октябрьского переворота.
* * *
Ермолай пришел с гитарой: пусть Стелла услышит, пусть поймет хоть что-то. Он мечтал исполнить свою композицию, в которой соединились романс, фолк и рок-н-ролл.
Выбрал момент и начал разудало:
– Я словом разрушу полсвета…
– Еще чего! – затормозила его юбилярша. – Послушайте!(Он стоял с гитарой на одной ноге, как цапля, вторая – на стуле.) Ума не нужно – разрушить полмира. Про себя-то вы уверены, что останетесь живы в другой половине мира.
– Да это не мои совсем стихи… – попытался он уйти от выволочки.
– А не лучше ли восстановить полсвета словом? Хватит, наразрушались! Разрушают те, кто не в силах созидать!
Чья-то вилка упала на пол. Крылышкина замолчала и всхлипнула. Ее муж вытер рот салфеткой электрического фиолетового цвета, переглянулся со Стелой, и они грянули:
Если радость на всех одна, На всех и беда одна…Ермолай поневоле подтренькивал.
Крылышкина продышалась и влилась в пение:
Уйду с дороги, таков закон — Третий должен уйти.Ермолай думал: да, я не подумал, начал петь совсем не то. Но сама-то что поешь, Крылышкина! Кто уйдет с дороги, кто уступит любимую? Никто, никогда.
В лагерь за друга пойти или за великого писателя – это бывает. А любимую если закогтил, то уже никогда, никому.
Вот Машу он разве мог кому-то отдать? Все в школе звали ее: Марихен Чепухен, а он – никогда! Только – Маша, Маша Черепанова. Когда она узнала, что зачислена в университет, от чувств залезла на дерево и как закричит: «Спасите!» Не могла слезть. А он тогда не поступил и не поспешил ее снимать. Конечно бы, снял через минуту, но тут столько быстрых коротышек развелось – выхватывают девушку из-под носа. Так быстро и аккуратно, падла, с дерева снял Машу! Ну, она не простила миг задержки – понеслась к этому коротышке, а Ермолай в армии, не мог ничего.
Сейчас она с двумя детьми, а коротышка баблом в нее швыряет и требует, чтобы в рот смотрела. Сволочь ты, тебе кто Маша – стоматолог, что ли, в рот смотреть?!
Вот про него, подлеца, и была однажды брошена пословица про зятей, у которых много затей (матерью Маши)…
* * *
Ермолай вздрогнул, открыл глаза, отлепил щеку от полированного бока гитары. Все уже расходились.
– Это просто какой-то уход в астрал, а не юбилей! – восклицала Стелла и осмотрела всех на предмет: на кого бы вытряхнуть последние крошки сегодняшнего оптимизма.
И она выбрала Ермолая:
– Ты как – не обиделся на юбиляршу? Я вот что подумала: эти слова, которые ты взял для песни, – они от страха перед жизнью… закрыться стебом… со временем это пройдет…
Он сжал ее локоть, словно право имеющий, словно между ними это было возможно. А они уже вышли на улицу, и Стелла утешающее поцеловала его в щеку. Ермолай не успел еще обрадоваться, как она стала усаживаться в такси. Последней втянулась в салон невообразимо длинная желанная нога.
И тут подошла Октябрина, утопающая в своем дворянстве:
– Бабушка перед смертью обращалась ко мне так: «Простите великодушно, который день хочу спросить, но не осмелюсь – как вас зовут?» А время-то было хамское, красное, родители не говорили, что бабушка – герцогиня, и я над нею еще посмеивалась…
Ермолай вспомнил: герцогинь в России никогда не было. Но если эта сочинительница в седых буклях так устроилась в уютном дворянском мире, то… Никогда, никогда я ее не выбью из седла грубой правдой, что не бывало герцогинь, подумал он, клянусь!
Октябрина величаво посмотрела на него, тем более что это ей было легко: она походила на породистую лошадь, вставшую на задние ноги. Вдруг она вздохнула, сжалась всей благородной костью и ловко нырнула в заказанное такси.
* * *
Недавно он слышит – случайно и не случайно, – Стелла утешает по мобильнику какую-то бывшую коллегу:
– Ну и что загулял муж! Ты ведь женщина – должна быть выше этого! Чем раньше ты с таким столкнулась, тем скорее найдешь укрытие в другом: в дружбе, в детях… В чем хочешь, даже, может, в работе.
Какие есть уроды, думал Ермолай, как это так, чтобы отпустить жену искать счастья в чем-то другом, у меня бы не искала.
На другой день Стелла вышла в обед на мини-рынок – купить горшок для «тещиного языка», который зеленел у них в отделе и символизировал крепость и стойкость их пестрой команды. Ермолай, как всегда в последнее время, бесшумно возник рядом и спросил:
– Носильщик нужен?
Начался задыхающийся, сбивчивый разговор, который, впрочем, сама Стелла и сбивала, чтобы Ермолай никуда не вырулил.
– Стелла Васильевна, смотрите, какой рисунок на простыне! В разрезанных яблоках… что, если я куплю?
– Это без меня! – умоляюще попросила она.
– А почему?
– Отойдите, отойдите! Вы загораживаете наш товар от посетителей! – раздался голос судьбы.
И так все время – где бы они ни встали, их отгоняют:
– Загораживаете товар.
Тогда мелкими быстрыми пассами он направил ее к палатке электротоваров:
– А этот торшер в римском стиле… видите, какая колонна с меандром… он подошел бы?
Радио в это время громко сообщило: в можжевеловой роще столько бактерицидных веществ, что там можно делать хирургическую операцию. А Ермолаю никакой рощи и не надо было – он стоял рядом со Стелой, с кипарисом своим.
* * *
Никогда у него такого электричества не было! А все какие-то ледяные блондинки за ним гонялись, одна даже догнала. Встреча с этой писательницей-фантасткой произошла в доме Смышляева, знаете, где библиотека, среди фанов. Ермолай задал ей вопрос о различении души и интеллекта в рассказе «Прогулка по кротовой норе».
– Я как раз об этом много думаю, – ответила она.
– Читала пейджер, много думала, – не замедлил кто-то из зала источить яду.
И ему стало ее жаль.
На выходе, когда она подошла и предложила продолжить разговор, он не мог ей отказать. Но этот разговор был не очень информативным – на диване, горизонтально, его участники обменялись всего лишь несколькими громкими междометиями.
И дважды кончалась ясная ночь, и трижды миновал белый день, а он все еще был с ней.
…Его потом вот что охладило: человек пишет странные, завораживающие рассказы, а шутки сыплет младенческие:
– Ох, одеяло – какой-то негуманоид, в пятку впилось!
А в повести у нее пыль залетает в окно, повисает буквами, и оказывается, что это не пыль, а нанореклама.
Вдруг выяснилось, что – хотя ей всего тридцать пять – митральный клапан почти полностью забит и требует замены. После коронографии она позвонила и захлебнулась рыданиями:
– Ермолай, не бросай меня… везут в операционную!
Он целый месяц проводил у нее вечера – даже не ходил к ученику, которого учил игре на гитаре (а ведь тот хорошо платил), только иногда по телефону проверял настройку инструмента:
– Ну-ка, поднеси трубку… четвертую струну подтяни, ставь ля-минор…
Кстати, Павел Балатов, который всех потом так подвел, кружился вместе с ним вокруг прооперированной фантастки. Так хорошо они выхаживали нашу ледяную блондинку, что она почувствовала в себе много сил и в благодарность захотела сделать из Ермолая знаменитого барда, причем немедленно.
– Сольник! Пора! Сольный концерт – это другой статус, понимаешь. Пусть твоя родня возьмет кредит, а мы снимем зал!
Но пришла сессия, он провалил вышку (высшую математику), и все рассосалось. Какой кредит, какой зал, когда стипа горит синим пламенем!
* * *
Ермолай слышал, что бывают дирижеры, у которых словно нет никакой техники, но они умеют передать оркестру все, что хотят. Тут мистика, тайна, тут что хотите.
Так вот что-то похожее происходило в отделе. Стелла не говорила начальственным тоном, никого не распекала никогда, но работа шла, и экологию отстаивали. Когда эксперт Верочка заявила, что у нового моста сливы сделаны не на современном уровне – со старыми фильтрами, Стелла два дня ходила бледная, звонила беспрерывно разным «деятелям» и наконец любимицу-реку отстояла (фильтры поставили новейшие).
Как раз в это время Ермолай пригласил в отдел своего друга и однокурсника Павла Балатова. Его посадили «на родники».
И все оглянуться не успели, как что-то сделалось со вчерашним студентом и он стал сатанеть на взятках. Так он себя поставил, что другим приносили иногда конфеты к Новому году, а ему – всегда коньяк, и в большом количестве.
Старушка к нему пришла:
– Я после реанимации, руки дрожат.
У нее был мичуринский участок, она хотела его подарить, и вдруг оказалось, что там бьет источник и нужен акт экспертизы.
Павел все равно из нее выжал хоть печенье – послал в магазин. Пил с печеньем чай, всем видом показывая: а что, у нас эпоха частной собственности.
Пару раз был вообще рекорд: собралось у него этих подношений два тюка. Он даже просил Ермолая:
– Помоги мне донести до такси.
Надоело это Ермолаю, и он стал делать вид, что у него проблемы со слухом. Балатов придумал зай ти с другого боку:
– Ты вот не остался с нашей блондиночкой, фантасточкой, талантищем нашим. А мне нужно теперь каждый год ее в Усть-Качку возить. Знаешь, какой это сейчас дорогой курорт?
– Курорт – это благое дело, – ответил Ермолай, чувствуя, что вывязывает что-то не то и не тому…
И тогда Балатов решил не длить эти сложности со своим тихим, странным другом, а брать только деньгами, которые значат много, весят мало, греют сильно.
Однажды он сам купил землю с целебным источником – туда ходил целый поселок! А Павел огородил свой участок вместе с родником бетонной стеной.
Целебный источник подумал-подумал – и закрыл свое водяное око, не в силах взирать на лицо нового хозяина, которое – как у динозавра, надувающего мешочки на шее, чтобы обозначить свой статус в стаде.
А хотел источник смотреть на родные лица из поселка: трезвые и с запахом, здоровые и надорванные… И вот – мгновенно в отдел явились все жители в лице пяти ходоков. Впереди маячил суд.
Стелла сказала:
– Павел, как хотите – разруливайте ситуацию и сносите забор. Кстати, еще одна взятка – и мы расстаемся.
* * *
В этот день Ермолай остался после работы на три часа – делал шабашку. Попросила, кстати, сама Стелла. А ее – сам директор. Ермолаю вручили «кусок дерева» (тысячу рублей), и он на следующий день сводил весь отдел в кафе.
Там вдруг промелькнуло два-три флюида между Ермолаем и одной стальной скромницей – официанткой, промелькнуло, и все. Так у любого при встрече с любой слегка что-то мелькает. А дальше должны пойти усилия, чтобы эту любую сделать единственной. Но на эти усилия у Ермолая сил не было запланировано.
И тут Стела и Крылышкина завели разговор словно бы совсем из другого измерения:
– Вчера в перерыве вышли купить новый мобильник.
– Моя дочь такая углубленная в музыку – второй мобильник уже посеяла…
– А там продавщица – просто ирис, глаз не оторвать!
– Мы уж любовались-любовались! Любовались-любовались!
– Почти наша Верочка!
– Что ты говоришь! По сравнению с Верочкой та – просто ромашка чахлая.
Это ведь вам не такие свахи, которые мужику сразу обухом в лоб: остановись, посмотри на эту красу, век нас будешь благодарить и медом-пивом поить! А добрый молодец сразу прыг в кусты, и только шевеление веток далеко впереди отмечает его путь к свободе.
Ермолай мысленно называл Верочку: «Пухляндия», в общем, была она не в его вкусе, поэтому он и ускользнул в глухие леса холостяцкой жизни, лишь робким партизаном выходя иногда на Стеллу. То покупал ей билет в командировку, то провожал-встречал ее в аэропорту.
– Моя тихая радость, – однажды сказала она ему, но дальше шел сплошной тормоз жизни.
* * *
– Ты, идиотка, послушай, – говорила ей Крылышкина, бешено куря. – Пугачева – с Киркоровым, это раз. Сейчас вообще модно: вышла замуж за… он вообще моложе на двадцать пять лет.
И дальше давила – в своей элегантно-бульдозерной манере:
– Что я: сейчас да сейчас! Всегда так было. Анна Керн – помнишь? – старше мужа на двадцать лет, а жили счастливо и даже умерли чуть ли не в один день.
– Еще скажи про гормоны для здоровья…
– Скажу, – безнадежно вздохнула Крылышкина.
– И получается, Ермолай должен самое малое на пятнадцать лет меньше прожить, чтобы иметь сомнительное счастье в один день со мной ласты склеить…
* * *
Прошло пять лет.
– Есть хорошая новость!
– Какая?
– Через три дня весна!
– Зачем спешить? Эти три дня что – мало значат, что ли?
Разговоры в отделе о как нужны были Ермолаю! Его недавно приняли в ансамбль «Нанотехно», и он поплыл по реке созвучий, жестко потряхиваясь на порогах смысла. Он уже давно знал, что музыка дает самым затертым словам значительность и трепет. Бросил петь Губанова и прочих СМОГовцев и ОДЕКАЛовцев, а просто – подслушает какой-нибудь разговор, чуть сдвинет ритм, обопрется на диафрагму и начнет:
Есть хорошая Новость! Скажи скорее! Скажи – о чем? Через неделю весна! Своим плечом Подвинет зиму! Но зачем спешить? Разве эти дни не причем…Ему ставили целых два микрофона: для голоса и – ниже – для гитары.
«Нанотехники» выходили на сцену с полотенцами на шеях, ими вытирали трудовой пот. За это их полюбили невообразимо на дискотеках и даже в ночном клубе «Коллайдер». Особенно трепетный пол! Даже одна бросила в них своим лифчиком, его косточка попала Ермолаю в глаз, долго болела роговица.
Но все эти дела вечером и пока бесплатно, поэтому служба остается службой. Ермолай сдал на новую категорию, ему повысили зарплату, и Стелла пустила в ход этот новый предлог:
– Ну теперь уже никаких отговорок! Высокий шатен, зарплата, отъявленный гитарист, и вот тебе наша Надия!
Надия пришла на место Павла Балатова, волшебным образом взмывшего в администрацию города Х.
Палец о палец не ударив, она стала любимицей одного олигарха!
Но предупреждаем: тут все вне эротики – не бурный роман, а ровный пожар воспоминаний.
Олигарх зашел поспорить насчет водоохраной зоны в своих землях и увидел Надию, похожую, как две капли воды, на его первую любовь, с которой глупо, непоправимо поссорился тридцать лет назад. Тогда он был не олигархом, а кем-то вроде Ермолая… С тех пор ни разу с ней не виделся, а когда очнулся однажды среди плюшевых подушек на диване – уже женат, притом удачно, дети тут, затем внуки.
И вдруг смотрит: послана она – его первая любовь – высшей силою… в виде Надии. Сходство – сто процентов. Те же смоляные косы, та же оливковая кожа. И никакая это не дочка, не внучка той. Просто игра природы.
На самом деле она в любую минуту может уехать в Германию: у нее мать – приволжская немка, хоть и отец татарин.
Олигарх теперь приезжает в их отдел за двадцать минут до начала работы, заваривает Надие чай и приглашает еще широким жестом всех сотрудников:
– Сегодня с печеньем.
Или:
– Сегодня с вафлями.
– Спасибо, Владимир Иванович!
Вообще, Владимир Иванович – вылитый папа Бенедикт XVI! Как эти продленные кости лица и радостно-прохладные глаза занесло в коми-пермяцкие просторы?
Надия, которая защитила диплом по палеоклиматологии, во время чаепитий размышляла:
– Наверно, угро-финские черты достались всей Европе. Ведь венгры отсюда вышли.
– А Сигизмунд Герберштейн писал, что не отсюда, – возражал Ермолай.
Стелла и Крылышкина переглядывались: Ермолай-то штурмует нашу Надию, скоро свадьбу сыграем.
А на самом деле Ермолай, плавая в Интернете, любил выдергивать вот такие цитаты: вдруг да прорастут в каких-нибудь песнях.
* * *
Все смотрели на олигарха как на странный цветок, произросший на уральских просторах, говорили: это что-то единственное в мире, нам повезло, давайте-ка поудобнее усядемся с чашкой чая, попялимся, посозерцаем.
Когда Надия заговаривала о том, что пора уехать на родину одного из предков, то есть в Германию, и В. И. сразу давал ей шабашку на сто тысяч или путевку в Анталию.
И эта сказка течет дальше.
В. И. рассказывает им свои бесконечные истории про поэта Алексея Решетова – своего бывшего соседа по дому.
Когда-то поэт-сосед сказал к слову, что женщины в тридцать раз лучше мужчин. Потом он переехал в Екатеринбург, но недавно В. И. увидел его случайно на перроне – тот приехал в гости.
– А я встречаю двух женщин… это сестры жены. Помните, вы говорили, что женщины в тридцать раз лучше мужчин…
– Какую глупость я сморозил! – воскликнул поэт. – На самом деле они в сто раз лучше нас.
* * *
Сама Надия уже смотрела на Ермолая таким взглядом: если что, так я могу и не уезжать в Германию…
Скажем сразу: Надия отпала, потому что было затем общее собрание с эмчеэсниками.
Прогнозировали мощный паводок, вертолеты все время патрулировали.
– А гидрологов то не хватает, то тошнит в воздухе, как Машу.
При этом имени Ермолай вздрогнул. В самом деле, Маша сидела в средних рядах с блокнотом.
А в среде географов-гидрологов уже разбежалась волна: Марихен-Чепухен развелась…
* * *
Поскольку был очередной кризис, зарплаты срезали, свирепствовали слухи о сокращении, Ермолай и Маша никакой свадьбы не устраивали, а скромно в ЗАГСе подмахнули документ о новом своем семейном статусе.
Регистраторша на фоне триколора и с кислотным разочарованием в лице одно мгновение молча смотрела на Ермолая: навидались мы вас, разводим тут же, в этих стенах. Она почти зарычала:
– Жених, вы желаете вступить в брак?!
От отдела ему был вручен керамический горшок. В нем теснились два попугайчика из шелка, ракушка, похожая на яркий нос неведомого алкоголика, какие-то серебристые завитые спицы, но само собой, что в середине трубили белые каллы, которые до этого были в бутонах и никак не хотели расцветать.
– Вы наши коллективные каллы! Вы обязаны расцвести! – выговаривала им Крылышкина.
Склонилась она над цветами, что-то пошептала им. На следующий день – расцвели. Точно к часу регистрации.
– Как же ты их уговорила? – спросила Стелла.
– Я им нежно сказала: «Если вы, на хрен, не расцветете, я вас выброшу на мусорку».
– Внимание! – попросил Ермолай. – Открываю шампанское!
Девятины
Мы ведь тоже не какие-то особо любвеспособные. Незнакомый человек к нам рванулся, а мы стали сопротивляться: к зубному некогда, пол хотим покрасить. Но Галина от нашего сопротивления еще более соблазнилась на яростный порыв. Это похоже на то, как если б хулиган напал, а уговоры его только раззадоривают (надо бежать или дать сдачи).
Дело было на вечере нашего уральского Гомера. Он читал о своих странствиях – громко так – по внутренним ландшафтам. А этим – в отличие от настоящего Гомера – можно заниматься долго, поэтому его поэмы назывались «Одиссея-2», «Одиссея-3».
Все долго не расходились, кучкуясь. Гул стоял, а Гомер с видом служения засевал все вокруг себя автографами. Галина была с детьми (Сократ, Будимир и Любим). Она могла быть в двух состояниях: или властителя, или раба. Переключалась мгновенно, без перехода через нуль. Только что нам говорила: ну, пожалуйста, можно у вас побывать (жалобно, искренне, без фальши без всякой). И тут же сыну:
– Будка! Скотина! Ну скотина! – тихо рычала Галина. – Не подходи близко к своему физическому отцу! Он нас знать не хочет.
А дети ухом не вели, продолжая шустро искать крошки внимания, а потом несли их к матери:
– На морского окуня вон тот похож писатель! С глазами надутыми. Морда красная, страшная! Он мне сказал: «Пузырь!»
– Мама, а Сорос – это что? Смотри: сорос – туда и обратно одинаково читается. – И Сократ вывел в воздухе буквы. – Все вон там говорят: сорос-сорос.
Еще была долгая словесная возня между нами и Галиной: мы не давали согласия на ее визит к нам, она отнимала, мы все вспотели. Она наконец вырвала наше согласие. Насчет детей-то мы забыли ее предупредить, предполагая, что она сама понимает (таких буйных надо оставлять дома). Но она их с собой прихватила. Тут у них программа слегка изменилась (сбора впечатлений). Они работали в более активном режиме.
– Вагины барражировали в выси, Копченый член дымился на столе, —начал читать Любим, добросовестно подчеркивая ритм и показывая свою вообще-то очень сильную память.
Она с довольным видом слушала свои стихи в исполнении сына, а потом с оттенком выстраданности сказала:
– Дети должны расти, как трава.
Несчастье наше было не в том, что Галина к нам пришла. Многие приходили и уходили навсегда. Несчастье оказалось в том, что выяснилось: мы живем в соседних домах! От нее уже невозможно было уклониться.
– У вас чай без варенья, что ли, насухо? Я не привыкла так, без варенья! Один песок, что ли!
– Не хочешь – не пей, – уговаривали мы ее.
– Надо же, чай без варенья, вы что!
– Ты успокоишься, нет? Галя, успокойся.
А ей только этого и надо: взглянула на нашего кота и ужаснулась:
– Ой, страшный он у вас какой, боже мой!
– Ты что – красавец наш Кузя, умный!
– Морда у него страшная! Вот у меня кошечка – какая у нее мордочка маленькая, красивая. А у вашего – ужас!
– Так кошечки они всегда ведь женственнее, изящнее.
– Нет, страшный, страшный. – Галина не сдавалась, криками освежая наше одряблевшее внимание.
– Кузя просто мужественный… сильный.
И мы посмотрели на Галину: у нее широкое уральское лицо, красивое, но не очень-то нежное. Примерно как у Кузи у нашего. И вся она состояла из какого-то плотного вещества, которое торчало во все стороны.
Тут Сократ, добрый мальчик, чтобы развеять тяжесть этого судорожного общения, принялся рассказывать:
– Сон видел я. Он называется: «Превращение в динозавра». Кто-то дал мне жвачку. Я превратился в динозавра: выше домов, голодный. Разламываю стены и в магазин захожу. Ем шоколадки, обжираюсь. Но потом мне стало скучно, я начал искать этого, который дал мне увеличительную жвачку. Только он мог меня превратить обратно в человека. И тут я проснулся, не нашел его.
– Страшная морда у вашего кота!
– Ты хочешь в дверь выйти или сразу через окно? – задали мы назревший вопрос.
– В школе меня все щипали, – сказала тихо Галина сквозь бегущую из глаз воду. – Ненавидели, я не могла сдержаться – всех-всех обзывала. «Любка-Любка, а что под юбкой?», «Лешка-Лешка, хер гармошкой». А дети ведь такие безжалостные, этот Лешка меня укусил в плечо. Хотите, покажу: шрам – как от пилы.
На следующий день она принесла нам банку облепихового варенья. Совесть начала нас подгрызать: она добрая, Галина, а мы чего захотели, чтобы все вели себя как светские львы.
– Бабушка родила без мужа, мама, теперь я, – добродушно Галина перекладывала все на родовую склонность, в глубине ее мерцал трепет перед могучей силой рода: ишь, куда, мол, заворачивает, никаких сил нет бороться.
Еще через день она принесла пирог с черемухой, который все у нас очень одобрили путем уничтожения.
– Хорошо бы всех обосрать, – начала она издалека. – Чтобы они поняли, что я тоже что-то значу!
Когда Галя ушла, мы свирепо сцепились:
– Наверно, это в природе человека – показать себя любой ценой?
– Еще чего! Возьмем ангелов: они ведь не были сразу созданы падшими. Некоторые сами отпали – сами себя изобрели в этом виде…
После Галя хищно выклюнула из нашего окружения одного йога, голодаря и сторонника цигуна. Это был год самой жестокой безработицы в Перми. Галя как-то поспособствовала его устройству сторожем в ту же библиотеку, где сама работала. Он выдерживал все ее требования: был худ, смазлив и говорил заумные вещи, от которых она аж вся пылала.
– Понятно, что все мы смертны, – говорил он. – Но в одном-то случае природа могла бы сделать исключение? Я мало ем – мало природу обираю, не загрязняю эмоциями отрицательными. А потом бы прекратил. Когда бы понял, что насыщен днями.
Когда он это Гале все говорил, сам так замирал в каком-то отлете ума в бесконечную даль, казалось, что он вот-вот прекратится. Вместе с ним замирала и Галя, а потом начинала судорожно тереть свои сильные руки:
– Я тебе сейчас массаж сделаю! И по точкам.
А он забыл, что в огромном здании библиотеки, поздним вечером, когда кругом так пусто, женщина зря не предложит такие манипуляции. Он вообще забыл, что у них, у Евиного племени, есть другое употребление, кроме служения и слушания. Он польщенно растянулся на диване…
– …А я по точкам верхней половины прошлась, – простодушно излагала нам Галина на другой день. – Каналы очистила, ну, он это принял хорошо. А сунулась ниже, он говорит: не надо! «У меня там проблемы». У нас в библиографии диван стоит кожаный, я простыню из дома принесла, дура, заранее, а он мне сурово, как сестре милосердия пациент… в общем, стало… Ну, ладно, устрою день рождения, вы всех своих знакомых приводите! Кого попало.
С ее дня рождения запомнилось: подруга Гали, читавшая замогильные стихи про кладбища и сумерки, капитан-пехотинец, хороший малый, привыкший быть душою общества.
– Посмотри кругом, – говорил он тихонько Гале. – Ты ничего не замечаешь?
– Нет, – рыкающим испуганным голосом отвечала Галя.
– А ты здесь лучше всех! Все окружающие менее красивые.
Потом он подсел к подруге Гали, что-то тихо тоже шептал. На следующий день, сверяя впечатления, обнаружили, что говорил он одно и то же, наизусть («Посмотри вокруг… ты лучше всех»).
Дети снова развлекали всех мамиными виршами о копченых гениталиях, к матери обращались по-дружески: «Ты, корова, не перебивай!» В общем, царило непринужденное веселье. А мы ушли оттуда рано.
На следующий день мы шли мимо ее окон (она жила на первом этаже). Тут распахивается рама с кряком, и вываливается под ноги нам Сократ. Ему уже было тогда лет четырнадцать. Он вскочил и побежал. А мать вынырнула и закричала вслед:
– Сифилитик!
Две недели сын не приходил, и она обратилась к нам за советом.
– Я ведь почему его сифилитиком обозвала – «скорую» хотела вызвать, – она разворачивала в обратную сторону цепь событий, – скорую венерическую бригаду. В баню не могла неделю заставить пойти!
Мы спросили: почему же именно венерической бригадой она пугала?
– А я Сократу говорила: наверно, ты боишься в баню идти, потому что у тебя язвы, какую-то мочалку затащил в свою кинобудку, наверно!
(Сократ был в училище, где выпускали киномехаников.)
Ну, все понятно: дети растут, как трава, можно и выкосить ее, сорняки, они цепкие, ничего с ними не сделается. Но на самом деле Сократ далее до конца жизни Гали не сказал с нею ни слова. Общение происходило через бабушку.
Однажды пришел к нам наш голодарь, совсем ослабевший, тихий.
– Двадцатые сутки пошли, – скромно говорил он. – Кстати, я видел Галину. Слава богу, у нее какой-то молодой человек, нежно поцеловал, подсадил на автобус…
А мы про Валеру уже знали, потому что все друг про друга знают, Пермь – город маленький.
– Значит, она нашла такого, на которого массаж действует, – ляпнули мы.
– Что ж вы, дорогие, так болтаете-то? – растерянно спросил он. – Это уж чересчур.
У нас было ошеломление от того, что мы сделали: да, ни хрена себе сказанули! Но, впрочем, подобное у нас повторялось несколько раз.
Жизнь в своей необычности все-таки чрезмерно щедра, с запасом. Весь Валера – это особая история, а мы возьмем здесь только край этой истории, к нам обращенный. Краешек даже.
У Гали и Валеры наступила та светлая тяга друг к другу, которая между людьми зовется любовью. Она не зависит ни от хорошей жизни, ни от тяжелых условий, ни от ума, ни от характера, и слава богу, что не зависит. Мы, предвкушая, ждали, что светлая эта сила сделает Галину приемлемой для людей. Но на самом деле любовь дала ей еще большее ясновидение, и она видела еще яснее все темное. Галя стремилась еще больше отметиться: здесь, мол, была я (взболтав с мертвым илом прозрачные струи духа).
Она написала про книгу нашего уральского Гомера «Одиссея-4», что великий древнегреческий рапсод на последний глаз бы ослеп от потрясения, прочитав книгу. А наш пермский Улисс вытаращил, читая статью, глаза, очень здоровые, несмотря на большое количество выпитой плохой водки. И он замыслил подать на Галину в суд. А нам прямо заявил:
– Пока эта стерва к вам ходит в дом, я здесь больше не покажусь!
Мы бормотали: завистники всегда были и будут, начиная с той же Древней Греции, вспомни Зоила, который составил список всех несуразностей Гомера. И таким образом обессмертил свое имя.
Мы вынуждены были хоть что-то предпринять. Галине сказали так:
– Зачем ты пишешь все это? – Мы робели, отвратительно чувствуя себя в роли поучателей. – Тридцать два раза упомянуты в статье органы выделения и гениталии! «Коитус в тонком плане», «творческий мастурбант». Зачем ты это делаешь, Галина?
– А хочу!
Лаская гитару, вышел Валера из дальней комнаты, запел, ласково сияя глазами: «Я на солнышке лежу».
– Дурак! – счастливо захохотала Галя. – Это он меня солнышком называет.
И взрывы ее хохота, несмотря на тяжелый разговор, освежающе нас встряхнули, изгоняя всю тяжесть разговора.
Дальше излагаем простые факты. Галя сказала в 1995 году, что у нее рак по женской части. Ей гарантируют полное выздоровление после операции. Но она отказалась. Цитата: «Я этим местом еще поживу!»
Мы можем сказать: долго думали. Наконец мы пришли к Гале:
– У тебя дети, их нужно вырастить. Если мы встанем на колени, ты пойдешь на операцию?
– Нет, не уговаривайте, не вставайте на колени! Я без этого места не женщина.
29 декабря 1996 года мы видели Валеру, который выходил от Гали, вытирая мокрые глаза. Он тоже не смог ее уговорить ни на химию, ни на облучение.
Галя сначала употребляла чистотел, потом водку с подсолнечным маслом, еще – тигровый коготь и акулий хрящ. Она всех уверяла: отлично это помогает! Она развернула еще более бурную деятельность: победила в конкурсе на лучший рассказ о Каме, написала юбилейные частушки о губернии, устроила свой творческий вечер, где передразнивала апостола Павла, наклеив бороду из бумаги и натянув фальшивую лысину. Наши дети, услышав это, ужаснулись. Факты таковы: быстро, как на счетчике, выскакивали номера стадий новообразований: первая, вторая, третья, четвертая-а, четвертая-б…
И тут она узнала про очередное абсолютное лекарство: витурид.
– Мне из Петрозаводска с поездом пришлют в Москву. Пусть ваши друзья возьмут витурид на одном вокзале, перевезут на другой. Там всего шесть килограммов.
Мы собрали деньги и вручили Валере. Он привез витурид – чудодейственный.
Еще 31 декабря 1997 года она прислала с Валерой нам стихи:
Хоть нет меня, но я сегодня здесь. Плесните мне в ментал бокал шартреза. Ваш тесен круг, Но я в него пролезу…Валера сказал, что у Галины сильные боли и нужно наркотики через час колоть.
Мы ее навещали.
– Юбку я вам возвращаю. Еще бы года три назад я ее наполнила, а сейчас велика. Да, завещание я написала.
Мы поразились: у Гали, как у большинства знакомых, нечего завещать. Мы даже испугались: мол, детей ее не можем взять – на своих все силы истрачены. Один из нас пролил слезы, а другой скрипнул зубами от потрясения. А Галя продолжала:
– На похороны свои я вас не приглашаю. Пусть будут лишь мама и Валера. Дети мне не нужны. Сократа вызвали из армии, он по-прежнему со мной молчит. Будка меня обзывает каждый час «вонючкой» – из-за него я завтра в хоспис уеду. Запахи им сейчас не нравятся, умирания… А на девять дней вы приходите! Там будет много народу. Я всех известила: приходить!
Мы говорили об этом, не переставая. Настолько было все тяжело. С того берега она еще будет команды нам передавать…
Через день пришла мама Гали, вздернув в негодовании свое лицо жестяной красоты:
– Еще б пожила моя Галя, но эти святоши в хосписе всю ее иконами обставили, вы бы только посмотрели! Уговорили ее умереть вместо того, чтобы бороться за жизнь! – И она со значением на нас посмотрела, зная, что у нас тоже дома есть иконы.
Мы каждый день друг другу твердили: не пойдем на девять дней! И то, что мы сейчас все время о ней говорим, – это управление нами! А мы же все-таки свободные люди.
– Не о детях думала в последние минуты, а о том, чтобы нас за ниточки дергать, какое высокомерие!
И тем не менее в день девятин нам пришлось оказаться у Гали. Дело было так. Пришло нам извещение на посылку. Мы пошли получать, обрадовались. Оказалось, что это витурид для Гали. Почему послали на наше имя: потому что уже знали про хоспис? Непонятного тут много. Почему ранее через Москву присылали? А сейчас по почте… Как ни вертелись мы, а на девятины попали. Это факт. Никого в обед еще не было, но нам мама Гали дала по ложке кутьи. Дети плакали, включая Сократа. И видно было, что от слез у них уже выстраивалась другая прошлая жизнь: там они все время любили мать и получали в ответ огромную любовь.
Соседи
Книга «Происхождение духовности» вольно плыла по глади вод. Из туалета ее вынесло в коридор на глазах кузнеца Валеева Ивана Алексеевича. Спросите вы: откуда в наше время взялся кузнец? Да оттуда же, откуда взялись особняки с перилами в виде железных волн и очумелых чаек.
А ведь был же кузнецу знак: в этот день плохо ковалось, он запорол ажурный извив для камина – передержал. И даже не помогло то, что, как обычно, мысленно сводил с неба весь солнечный жар себе на наковальню. Но он нисколько не насторожился и спокойно расположился вечером со своей артелью вокруг бутылки, как всегда в конце недели. К тому же жена чеканщика Сергея вчера получила диплом общественного признания (дали борцы за женское достоинство).
– Серега, ну как она после феминистской премии – пол не перестала мести, нет? – спросил сварщик Генаша.
– Куда там! Еще сильнее подметает: доказывает, что достойна премии.
– А ты?
– А мне не легче. Ведь на ее фоне тоже нужно что-то подметать.
Генаша сегодня поймал «зайца», поэтому вел себя беспокойно – в глазах пекло. Серега сказал:
– Ты, лядь, что делаешь – маску снял! Кто нам будет сращивать все эти висюльки?
То есть за пять лет работы бывало – что-нибудь роняли, но никак не спиртное. А тут: дзиньк, «Панты на меду» вдребезги, ну ты и звономуд, Генаша. Пришлось бежать за второй.
Бежал бы ты лучше, кузнец, домой, после второго-то ЗНАКА! Так нет, он снова расселся у родного горна – корявый, бесконечно выносливый, с длинными музыкальными пальцами. Валеев, слышишь?
Какое там! Сначала наш кузнец произносил тост за то, чтоб горло заклинило у воров (там, наверху) и все инвестиции шли стране, а потом еще – по пути домой – он остановился возле нищенки лет восьмидесяти, которая всегда стояла на углу с отвлеченным видом, как будто случайно остановилась и задумалась на много лет. Валеев метнул ей увесистый комок мелочи, а она с ним вдруг заговорила:
– С праздником!
– А какой сегодня праздник?
– Бабье лето.
Надо же, она хочет не только брать, но и что-то давать: два слова и пол-улыбки влево.
Потом Валеев подумал: мои – жена и дочь (Люда-большая и Люда-маленькая) – сегодня уехали на дачу, дай-ка сяду возле подъезда. Рядом со скамейкой цветет шиповник – не наглядеться. Кто-то ведь вывел такой сорт, что беспрерывно цветет до первого снега и тут же плодоносит.
Скамейка же была не только возле шиповника, но и рядом с мусоропроводом, который докладывал через каждые тридцать секунд: «Трах-тах-тах! Служу народу России!» Тут еще старушечья разведка подоспела:
– Тебя ищет Семеныч! Что ли, туалет ты у него затопил или коридор. – Они были рады, что пригодились, и лица такие довольные, будто внуки их поступили в институт.
Валеев взвихрился на свой третий этаж мимо корявых букв «Здесь живет черный пионер», отключил воду, все отчерпал-вытер, протрезвел от промоченных ног и побрел к Семенычу. А тот кричит, открывая дверь:
– Не волнуйтесь! Мы все равно хотели завтра ремонт начать!
Вот в это время и выплыло из туалета раскисшее «Происхождение духовности», а за нею – разбухший том о разведении фиалок.
А сами фиалки смотрели то сборчатыми, то мохнатыми глазами. Они думали свои травяные мысли, ожидая, что вошедший захочет забрести головой, с одной стороны, с другой – спросить, как удалось вывести, например, вот этот фиолетово-распальцованный вид…
Кузнец – однако – не подошел к бесконечной россыпи цветов, потому что на всякий случай он еще долго оправдывался:
– Переехали сюда – жена настояла: поближе к теще. А предыдущий хозяин трубы запустил, но! У нас отложено на ремонт – с понедельника начнем, потом ни одной капли не пробежит, будет, как в Сахаре! А у меня такая художница есть – вся из ног состоит, делает нам эскизы решеток. Хочешь, я познакомлю?
Фиалки отнеслись к такой идее добродушно: ну, пусть эти ноги приходят, посмотрим.
Семеныч ответил:
– В судьбе мужчин любовь не основное, как писал Байрон. – И добавил: – Какие художницы, когда у меня давление под триста!
А с виду и не подумаешь, что давление под триста, совсем простой мужик.
В дверь позвонили.
– Сейчас я ему устрою! – закричал Семеныч.
Вошел с добропорядочным лицом подросток. Это был Семеныч лет так в четырнадцать. Он по-голливудски распахнул толстые губы и, весь лучась, поздоровался.
А Семеныч зашипел: опять взял двести рублей из ремонтного фонда – отвратительно это терпеть!
Сиреневые, розовые, голубые, белые головы фиалок повернулись в сторону блудного сына: что молчишь – отвечай отцу! И сын светски ответил:
– Я в компьютерный клуб ходил. А там знаешь как расценки задрали.
– Все, хватит! Отправляйся к матери. Помог с ремонтом, называется!
Нисколько не потеряв голливудскости в лице, мини-Семеныч снова раздвинул обаятельные губы и сказал:
– До свидания.
Мягко стукнула дверь, они помолчали немного. Семеныч хотел надеть часы, снятые перед уборкой, но вместо этого держал их перед собой, щелкая пряжкой, и рассказывал, что – вот видишь эту щель под дверью? Когда сын был маленький, Семеныч курил в туалете, а малыш толкал ему под дверь свои рисунки. Ну, Семеныч в ответ просовывал зажигалку: мол, он здесь, внимательно рассматривает рисунки. Началась эпоха рынка, жена, приватизировав сына, ушла к рыночнику. А тот потом, приватизировав там еще другую дуру, уехал в Англию.
– И что ты думаешь – моя сейчас запила. – Семеныч наконец-то защелкнул на запястье часы и посмотрел на них. – Тебе пора знаешь куда? На первый этаж. Если до Клавдии Игнатьевны протекло, то какой тебе ремонт! Придется на эту беду все до копейки отдать. Ей ведь нанимать нужно, сам увидишь, какая она.
Клавдия Игнатьевна имела когда-то восьмой размер груди. Семеныч ей однажды сказал, что сейчас это немодно. «А что же теперь делать, если уже есть?» – растерялась она. «Донашивать», – кратко рекомендовал любитель фиалок. Клавдия Игнатьевна думала, что это поползновения или юмор. А ее восьмой размер останется навсегда восьмым. Но за последние три года она так изболелась, что буквально все телесное испарилось куда-то. И она баловала себя через день пирожками, всякой другой выпечкой, чтобы немного поправиться.
Вот и теперь она бодро догромыхала с костылем до газовой плиты и выключила духовку: пусть милые пирожки доходят. В это время позвонили.
Кузнец слушал, как за дверью приближается грохот, и думал: вот она, судьба идет. А где-то там, в ящике с ненужными игрушками, уже встрепенулись восемьсот долларов, отложенных на ремонт, готовясь к быстрому перелету в чужой карман.
– Кто там?
– Это я, ваш сосед с третьего этажа. У меня прорвало трубу.
Клавдия Игнатьевна открыла ему с лицом беды. А он начал заклинать: «Я все оплачу! Всех найму! Там, в туалете!» Она мгновенно развернулась вокруг костыля и распахнула дверь, ведущую в опасное место. О радость! О сухость!
Валеев сразу расслабился и почуял тонкий запах дрожжевой выпечки. Как хорошо было в детстве! Просыпаешься, вот так же пахнет по всей квартире, так ведь нет, я не наслаждался этим запахом, он должен быть, само собой, а я что – сразу бежать с пацанами на косогор, там все по очереди испытывали храбрость – втискивались внутрь автомобильной покрышки и катились до самого низу, разгоняясь, как космонавты на центрифуге!
А Клавдия Игнатьевна, раскачиваясь напротив него на костыле, переживала свой удар счастья. Сухо, тепло, а могло быть мерзкое гноище по стенам!
– Пирожки! – закричала она. – С яблоками еще там и корицей – накладывайте в тарелку!
От того, что опять просвистело мимо и денег платить не нужно, Валеев вообще одурел. Он поднимался по лестнице с тарелкой и уминал хрустящие пирожки один за другим. Пруста наш кузнец не читал, поэтому кратко подумал: «Словно сейчас здесь соберутся мама, бабушка и безопасность из детства». Прошел сразу на кухню, чтобы вымыть тарелку и вернуть ее этой исключительной соседке на живом костыле.
И вдруг увидел: по стенам кухни течет какая-то жидкая каракатица. Нет, Валеев, не просвистело мимо.
– Я крупье, я мало зарабатываю. – Это прибежал сосед сверху и говорил таким тихим голосом, что хотелось его потрясти, чтобы внутри что-то щелкнуло и дало дорогу голосу.
Валеев даже отступил на два шага – ведь он был такой силач, что для развлечения друзей рвал пополам колоду карт, правда, не новую. Он и руки заложил за спину, слушая этого крупье.
А тот засеменил ногами и осел на ящик с нераспакованной зимней обувью. На правом локте у него цвел псориаз в виде мелких нежных розочек.
– Мне в апреле удалось отложить сто долларов, – продолжал юноша (ибо это был по возрасту юноша). – Я положил их куда-то аккуратно и потерял навсегда.
– Но аккуратно. – Валеев повел соседа на кухню, чтобы показать длинные жидкие щупальца по стенам.
– Сейчас остановится, сейчас! Я все перекрыл, – продолжал юноша-крупье, потрогав влажные стены, и бессильно опустился на стул.
Тут-то наш кузнец и узнал все про казино. Чаевые хозяин забирает себе, все себе, себе, а у юноши и мама, и младшая сестра, и Чип и Дейл, которые смотрят из клетки острыми глазками: хоть мы и хомячки, у нас есть тоже немалые потребности, работай, Николаз! Да еще кот приходит играть, но, к счастью, ничего не ест.
– Меня даже в милицию вызывали, беседовали, давали закурить «Петра» с легким дымом: вы сотрудничайте с нами, у вас там по ночам клубится цвет криминала.
Валеев хотел сказать, что никакой компенсации не нужно, но не мог втиснуться в тихое бульканье жалоб: положение Николаза слабиссимо. Когда клиенты проигрываются в пух и прах, то угрожают: «Ты нас не уважаешь!» А если у них большой выигрыш, хозяин грозится уволить: «Ты, Николаз, лучше сознайся, что у вас был сговор».
В конце концов кузнец разорвал эту цепь и сказал: денег не нужно, все равно с понедельника запланирован ремонт, спокойствие, вот кофе, я же сказал – спокойствие!!!
Тут во все вплелся еще звонок телефона. Это был сварщик Генаша:
– Иван Алексеевич, включай одиннадцатую кнопку! Там японский робот. Журавлиная шея с головой, танцует изящно – это она сваривает шов. Скорее! Включил?
Валеев включил, но там уже билась в завлекающих конвульсиях ведущая, раскрашенная под куклу Барби.
– Япона мать. – Валеев поспешно выключил ТВ. – Мне вообще-то не до этого. Прорвало трубу. Надо начинать все делать.
– Я завтра приеду в районе десяти!
– Что-то я не догоняю, Генаша…
– Ну, приеду, помогу.
– Давай!
Валеев проводил сияющего белесым светом крупье и рухнул в кровать.
И тут он увидел: все небо в баллистических ракетах! Штук, наверное, двадцать. Значит, началось. Но Валеев знал, что может предотвратить катастрофу, потому что его горн стоял на горе, раскаленный немыслимо. Важно было этот жар направить точно на ракету, и она испарялась. И вот он расплавил одну, третью, пятую, тут же, на склоне, была их – Валеевых – дача, седьмую, одиннадцатую, тринадцатую, и оттуда бежали к нему Люда-большая и Люда-маленькая, пятнадцатую, семнадцатую, они несли ему пирожки и «Панты на меду», восемнадцатую, двадцать первую.
Игорюнчик
В имперском июле он познакомился с балериной.
Тут, конечно, начинают вокруг виться обертоны Серебряного века. Прочь, прочь! Все было не так. Даже наоборот.
Театр оперы и балета располагается позади Ленина, который и сейчас своей чугунной кепкой продолжает темные пассы над городом. Игорь стоял в сквере перед оперным театром, располагая перед собой букет и так и сяк, чтобы увеличить его боеспособность. И вдруг видит: Анюта уже приближается к служебному входу. Бросился, поскользнулся, сломал ногу. На крик она обернулась.
Златокудрый Амур тут стал показывать свою аэродинамику над ней. Потом в палате она ему:
– Игорюнчик!
А он ей:
– Анютик!
Так все завибрировало, что больные, которые только что с наслаждением от выздоровления матерились и курили, поспешно захромали к выходу.
* * *
– Пятка затекла невыносимо, – сказал он счастливым голосом. – Вон подушечка в мелкий василечек, мама мне принесла.
Осветив его смарагдовыми глазами (опять! чур тебя, Серебряный век!), Анюта ловко управилась с его бледной, желтой пяткой. Тут ей захотелось стать этим самым кальцием, который откладывался в сложно сломанной кости и – скорей, скорей! – срастить ее, косточку.
Ему с больничной кровати она казалась такой маленькой! И эти бархатные круги вокруг очей – как у северного оленя! Но на сцене она была сразу в нескольких местах, прямо электрон! И батманом перенеслась к нему в середину сердца.
* * *
На костылях он примчался в общежитие театра – через месяц. На входе прыщавый красавец пытал вахтершу, можно ли увидеть ту балерину, другую… Она отбивалась от озабоченного балетомана: на гастролях, на гастролях.
– Что же делать? – вырвалось растерянно у него.
– Е-ите хор, – увесисто прозвучало из ее многоопытных уст.
Игорюнчик вошел в комнату, грохоча – Анютик сидит, красится в позе лотоса. Взвилась, заметалась, чайка моя. Чай заварила, за «Птичье молоко» благодарила, про «Лебединое» говорила:
– Руки устают больше ног. В антракте массажист подбежал: «Какая нога?» – «Руки! Руки!»
– Так вчера же еще магнитная буря была. От Солнца оторвался кусок плазмы. И все магнитное поле Земли вот такое, вот такое стало!
И он – сминая футболку на своей груди – с жаром показал, как сейчас скомкано бедное поле Земли.
* * *
Они гуляют в сквере, зима. Сели.
– Давай поженимся.
– Ты мне делаешь предложение?
– Да.
Анюта сорвала сухую былинку, торчащую из-под снега, подала ему:
– Дари.
Он встает на колени, торжественно протягивает травинку-былинку.
Свадьба – через три месяца.
А в путешествие отправились в августе, на пароходе. В Астрахани купили лунный арбуз и в каюте немедленно насладились его желтой дынной сутью. Все равно домой везти нельзя: лунный арбуз мимолетен, как нейтрино.
* * *
Когда он защитил докторскую, жена уже преподавала в хоряге. Любили ее ученики за пылкость. Если класс начинался неудачно, она кричала: «О, где мой пистолет „Макаров“! Я должна застрелиться!» Или: «После вашего краба ногами я выбрасываюсь в окно!» Обо всем таком Игорюнчик рассказывал кафедралам за совместным чаем, улыбаясь в дворянские усы.
Впрочем, только для Анютика он оставался Игорюнчик. Для всех – Игорь Николаевич Васильев-Дрозд, доктор наук, профессор, заведующий кафедрой.
* * *
А в постимперском августе, вдруг, к нему в аспирантки поступила Маргошик, затянутая в серый шелк, вся такая блоковская – «Соловьиный сад».
Она была и в разводе, и с ребенком, но голос как шампанское – золотистый, играющий.
Игорюнчик прожил с Анютой почти тридцать лет и только сейчас увидел, как плохо она ведет дом! Замелькали иные рассказы за кафедральным чаем:
– Бросила утюг где попало… собака с ним играла – запуталась в проводе, в общем, ползет собачий Лаокоон, визжит от ужаса, за ней утюг тащится! Зрелище не для слабонервных.
А сережки под Миро – слишком экстравагантные!
К тому же жена очень любит маму, а мама, то есть теща, гладит стиральную машину, как корову, приговаривает: «Матушка ты наша, труженица, не подведи!» Ну куда это годится.
Однажды он шел вечером мимо ОБНОНа, и его остановил сотрудник с просьбой: будьте понятым. Нужно подписать бумагу: в кабинете сидит задержанный, а при нем сумма денег такая-то.
– А еще заверьте ксерокс с изображением этих купюр… была контрольная закупка наркотиков…
Жизнь подбросила ему хороший ход, и он все чаще дома рассказывал, как опять был понятым. Однажды он зашел тихонько в полночь, думал – спят все, а жена на кухне говорит подруге по телефону:
– Правый глаз, как у боевого кочета стал. Он его приоткрывает завораживающе, ты знаешь на кого. Ты меня поняла.
Сразу стало легко: больше не надо притворяться.
* * *
Читатель, если ты еще с нами, то, конечно, видишь это отчетливо: мы сидим с Анютиком в одном купе. Она едет в столицу к дочери – после развода развеяться, а мы – в Ростов к родным.
Анютик та же: смарагдовые глаза, алебастровое вырезное лицо и бархатные круги вокруг глаз. (Серебряный век, опять ты?! Понятно, вылез из своего темного угла. Прочь обратно, знай свое место!)
Четвертое место в купе пустовало, поэтому все проговаривалось вполне откровенно. Аня, с тайной печалью:
– Когда нашей дочери Валечке был годик, двухлетний мальчик дал ей конфету. В песочнице. То есть он сначала дал фантик, но она сразу его отвергла. Тогда он залез в заветный карман на колене и вытащил конфету. Вот такой песочный роман случился, и Игорь сказал: «Да он ее вдвое старше! Как ему не стыдно, старому хрычу!» А теперь она ровно вдвое моложе его…
– Вас оставить одну – это ж кем нужно быть?
– Слушайте, ребята! Я поняла многое, сама тоже не без вины. Эти толпы друзей и учеников в доме! Муж приезжает из командировки, с конференции, хочет тишины, а у нас до двух ночи тридцать человек сидят на полу, водку пьют, слушают Зиновия Гердта, он читает стихи после концерта. Потом началось: галстуки рвали друг на друге, споря о теории искусства как табу…
– Такая широкая теория, что совсем ничего не значит. А вот гостелюбие – тоже чрезвычайно широко, но это любовь, за любовь же много прощается.
* * *
Игорь гулял с Маргошиком по парку, опять была зима, у нее раскраснелось от мороза лицо, он взял ее щеки в пригоршни и приговаривал: «Красавица». Она улыбалась в ответ постсоветской улыбкой. Он вспомнил улыбку жены, когда она была юна. Советские улыбки какие-то робкие, а постсоветские – упругие, на грани человечности.
Потом он взял Маргошика за руку, плотную и гладкую, как блюдце:
– Единственная! – И он чувствовал, что она взаправду единственная, а вот с женой была осечка: все преподает, пишет рецензии, слишком любит свою маму, друзей, распыляется, в общем. Цветы в вазах засохнут, пустят запах мышиных подмышек, она не удосужится их выбросить, какой пример для дочери…
– И у меня будет фамилия Васильева-Дрозд? – Маргошик перевела разговор в дворянское русло.
* * *
А со студентами Маргошик совсем иначе себя вела, не так, как бывшая жена его. Если задумается студент на зачете, она говорит:
– Сейчас, как лебедушка, соберусь и красивой походкой уйду.
И один раз даже ушла, покачивая достойными бедрами. Правда, вернулась через пять минут.
Через год Игорь случайно встретился, на подходе к пляжу, со своей прошлой женой и ее новым мужем Петром Веди (именно под таким псевдонимом публиковал свои статьи этот журналист). На черной майке Петра было начертано будто бы дрожащей рукой: «Хорошо вчера посидели».
Игорь Николаевич окинул его взглядом: у Петра телосложение скальпеля, да и статьи такие же – режет беспощадно. Ох, и залетит когда-нибудь!
– Игорь? – рассеянно улыбнулась бывшая жена.
Он в ответ:
– Прекрасный день, не правда ли? Представьте себе, я тот, кому вы обязаны своим счастьем.
Последние слова проговорил, глядя в глаза Петру Веди.
– У меня через час прессуха, – ответил тот. – Надо Ане успеть искупаться.
Первая жена Петра утонула несколько лет тому назад, и он пытался много раз и Аню отговорить от воды, но не такова Аня.
– А где же твоя, Игорь, половина? – спросила Аня.
– В Словении, на семинаре по псевдочастицам.
– Понятно. – Аня щелкнула по рисунку на его футболке, где совокуплялись ежики, а под ними был огромный знак вопроса.
* * *
Судя по ежикам, он сейчас в поисках очередной единственной, подумала она.
Но ошиблась.
Игорюнчик написал кандидатскую для Маргошика и сразу приступил к работе над докторской – для нее же. Представлял, что, когда умрет, она долго будет горевать, в широком черном шелке.
Мечты – это духовное вино жизни. Но не всегда оно пьется долго, можно и поперхнуться.
После защиты докторской Маргошик, но нет, Маргарита Павловна, выбросила его карту мира (по ней шли флажки – они указывали, где он рыбачил).
Игорь понял, что он превращается в отработанный продукт.
И что же, пятнадцать лет блаженства – все это время в дураках ходил? Не может жизнь быть устроена так тупо!
А вдруг может? Неужели эта жена оказалась псевдочастицей?
Маргошик сказала таким же, как прежде, пьянящим голосом, но содержание было чудовищное:
– Я консультировалась с риелтором. Нам с сыном получается двухкомнатная, а тебе – однокомнатная на Пашне.
Пасынок невольно показывал свою порядочность. Ведь отчим только что на восемнадцатилетие подарил ему маленькую «дэу». Поэтому он не издал ни звука, а только крутил во время всего разговора массажер для пальцев и в конце концов сломал.
* * *
Игорюнчик приехал к кузену с двумя бутылками кагора «Аскони»:
– Я ей написал кандидатскую, докторскую, удочерил ее сына… то есть, усыновил дочь… ну, ты понял… а она хочет вышвырнуть меня, как пыль!
– Николаич, спокойнее. – Кузен между бокалами листал свой семейный альбом, показывал юношеские фотографии и иногда произносил: – Вот здесь я какой накачанный, смотри… А здесь, еще раньше, я весь в жилах, как в веревках, на спарринге.
Странно, это успокаивало. Тем более что пока можно жить на даче, Маргошик соглашалась, а потом у него будет однокомнатная.
* * *
Хотя двоюродный брат знал всю его жизнь наизусть, Игорюнчик концентрированно-кагорно опять нанизывал перед ним факты, которые говорили, что для чего-то значительного все время спасала его судьба.
– Мне было десять месяцев, когда я подполз к грибам, принесенным мамой.
– Тетей Машей. Да… Она была известная грибница. Помнишь, как нашла гриб-дождевик, похожий на череп?
– Это незадолго до ее ухода… Я вот о чем… Я еще не ходил, так шустро подполз, поел сырых грибов. Потом год лежал в больнице, врачи сказали: безнадежен. Мама повезла к бабке, и та кагором вылечила меня.
– Ну давай еще полечимся.
Погоняв во рту душистую ауру, Игорюнчик продолжал:
– А когда прыгал с парашютом в кружке, захлестнуло купол. Скорость бешеная, но упал в болото. Очнулся среди желтых кувшинок. Болото было полуметровой глубины, так что не разбился, но и не захлебнулся!
Тут он повысил голос – как бы для Маргошика. То есть не надейтесь, не захлебнусь я в болоте жизни.
– Игорь! Ты пропустил, как мы ходили за ягодами.
– Как сейчас: на той стороне озера медведь ест рыбу.
– Я сказал: какой-то дурной мужик летом в шубе. И стали смеяться над ним, дразнить, прыгали, орали…
– К-кинул я пару коряг в его сторону, – простонал Игорюнчик.
– А мишка поплыл через озеро к нам. Он ревет, мы ревем, летим в деревню, а он ломится, лес трещит сзади нас! Добежали мы – забились на полати, дрожали-дрожали…
Тут Игорюнчик вскинулся:
– И неужели какие-то силы меня спасали, чтобы я остался один на излете жизни?
– На крайняк вот что. Попробуй к первой жене, которая от Бога, – с хмельной простотой сказал двоюродный. – Тем более что журналюгу своего она потеряла: он был рисковый, боролся с одной управляющей компанией, и – второй инфаркт.
Кузен пошуршал перед Игорем газетой с портретом в черной рамке – там указывалось, что похороны завтра, из Домжура.
* * *
Утром Игорь, расчесывая волосы ситечком, продолжил не отпускающую его тему:
– У Марго Палны знакомая вышла в Голландии за миллионера. Каждый четвертый там миллионер…
– Спокойно, братец, – остановил его кузен. – Ты расчесываешься ситечком.
Игорь отхлебнул скуловоротного чая, навел глаза на резкость и увидел четко: да, это ситечко. Отхлебнул еще пару глотков чая и на один градус посветлел:
– Ну, ей-то голландский миллионер не достался пока. Просто крутится возле нее аккуратно расхристанный юнец. Каждая прядка его волос стоит отдельным дыбом…
– …как бы намекая на что?
– На беспредельные потенции.
* * *
Стакан крепкого чая запустил разветвленную программу мечтаний. Этого расхристанного красавца Марго будет толкать в аспиранты, напишет ему докторскую, тут-то он ее и бросит! Э, докторскую она не потянет – ведь его, Игоря Николаевича Васильева-Дрозда, там не будет. Значит, ее бросят еще раньше.
А похороны-то сегодня! Зашел в «По одежке встречаем», купил черную водолазку. Когда переодевался в кабинке, на него из зеркала опять глядел боевой кочет, один глаз которого отливал завораживающим блеском. Конечно, первая жена как балерина замумифицировалась в своей прелести на много лет. Но и мы можем дать бои на всех фронтах!
На панихиде понял: никакой боевой взгляд не поможет никогда, лучше не начинать.
И тут тронула его сзади легкая рука:
– Папа!
– Валечка!
Вот дочка-то его поймет. У нее тоже есть опыт развода. Оставила своего мужа для настоящей любви в Москве. И вдруг сверкнуло: только бы не уехала в какой-нибудь гребаный Нью-Йорк-Париж за еще более настоящим чувством. Не догонишь ее, не увидишь ее лица, в котором сейчас еще сильнее проступили теплые глаза его, Игоревого, папы и твердый подбородок мамы…
Он пробормотал размягченно:
– На сколько дней приехала? Может, на часок навестишь меня? Я теперь свободен, живу на даче в Курье. У меня, представь, мед сочится из стены прямо в комнату.
– У тебя вечно что-то сверхъестестественное.
– Так лето было, сама видишь: сорок в тени. Дом начал осыпаться, и какой-то рой поселился в щели снаружи. А мед я собираю внутри – по стенке возле компьютера течет.
Валечка слушала, как в детстве: замирала, отмирала.
– Срочно пасечника позови, он заберет пчел. А то смотри, изжалят…
Он хотел ответить ей: мол, жизнь вообще такова, где мед, там и жалят. Но вдруг наперерез этой банальности бросилось воспоминание о другом лете, тридцать лет назад, когда Валечка была наполовину ниже и не с этими протуберанцами волос разноцветными, а с платиновой косой.
Они идут с электрички по просеке высоковольтки, были у зубного. Анютик уже ждет их там, на снятой даче. Дочь предлагает: давай покричим! И они начали:
– Солнце! Привет! Как поживаешь?!
– Елки, вы друзья! Ура! Да здравствует лето!
Эхо удаляется среди деревьев.
Тургенев, сын Ахматовой
«10 мая 1996.
Начинаю вести дневник. Меня зовут Таисия, я заканчиваю восьмой класс».
Тут она вспомнила, что не подписала тетрадь, взяла фломастеры и вывела зеленым:
«ЛИЧНЫЙ ДНЕВНИК
ЛИЧНОСТИ ТАИСИИ»
Но буква «Д» показалась ей кривой, и она обвела ее красным. «Д» побурела, как сердитый осьминог. Таисия сделала вокруг нее оборочку желтого цвета.
– Японские макароны! – закричала Таисия. – Все слилось.
Кот Зевс прищурил глаза на всякий случай: вдруг он в чем-то виноват?
«Хочу написать о главном. Звонят в дверь…»
Это приехал из Чечни Димон, поклонник и одноклассник сестры Александры (всего у Таисии три сестры и один брат).
– А-а-лександра-а дома? – спросил Димон.
Таисия уже знала, что он контужен на войне, но не знала, что он заикается. Она наспех объяснила: Александра скоро придет из института. Димона усадила в кресло, а сама – снова к дневнику.
Димон сел и сразу начал падать в сон. Чтобы не заснуть, он спросил:
– Стихи пишешь?
– Да так… – универсально ответила Таисия.
– А я в первом классе написал одно стихотворение. – Димон уже успокоился и не заикался, хотя немного пропевал слова, плавно так.
– Прочтите, если помните, – с надеждой на его забывчивость попросила Таисия.
Димон звонко подал текст – у него даже голос изменился:
– Ручей. – Он выпрямился в кресле. —
Средь оврагов и скал, Среди гор и камней Одиноко бежал Разговорчивый ручей. Встречались на дороге реки, Встречались и моря. И ручей думал про это: Родина моя.– Не хуже Пригова, – дипломатично похвалила начитанная Таисия.
– После контузии я вспомнил, что учусь в первом классе, и долго это у меня было…
Если бы Димон в первом классе знал, что через десять лет «среди гор и камней», на нелепой войне с чеченцами, горцами, он будет контужен, то ручей бы у него бежал не по пересеченной местности, а свернул бы вовремя в сторону и умчался бы без оглядки от этой Родины (через реки и моря).
Он понял, что вежливость заявлена, и тотчас сладко заснул, сопя равномерно, как по команде (вдох – выдох).
«Хотела написать о главном, но пришел Димон, и я напишу о нем, а потом уже о главном. У меня есть старшая сестра Александра. Ей двадцать лет. Она учится в педагогическом. Когда я хочу ее разозлить, то кричу:
– Александра Македонская, Александра Македонская!
Юто ее бесит. Ей хочется быть маленькой и тощей, как я. Она говорит, что мне повезло, а за нею бегают только маленькие и коренастые шкафчики, как Димон».
– Сержант, ноги! Ноги, сержант! – закричал Димон, совершенно не заикаясь.
И проснулся от собственного крика. Рассказал, что в Грозном у его сержанта оторвало ноги и он помогал грузить… Димон уже в госпитале начал кричать каждую ночь: «Сержант, ноги!» Врач обрадовался: память быстро восстанавливается, значит!
Таисия с щемлением сердца слушала его. Она уже знала, что у сестры есть новые поклонники. Плохо, что Александра не ведет дневник, думала Таисия, я бы подглядела, кто самый добрый. Я бы ей сказала: «Выбери самого доброго!» А без дневника ничего нельзя сделать.
– Если б вы, Дима, вели дневник, то врач бы дал его вам почитать и можно было очень быстро все вспомнить!
– Если еще после контузии буквы вспомнишь, то прочитаешь, конечно, – с поддельной серьезностью, как говорят с детьми, сказал Димон.
Таисия, как всегда от сильных чувств, захотела есть. Она взяла из холодильника фарш и стала его жарить. Димон сказал, что печень у него не выносит запаха – в Чечне он дважды переболел желтухой. Там, среди общего воровства, бурно охватившего демократическую российскую армию, приходилось питаться чем попало: с доброй примесью вирусов гепатита. Как гепатита А, так и Б. На самом деле на месте сковородки раскаленной он каждый раз видел докрасна раскаленный остов бронетранспортера, а в нем шипящие тела ребят.
А когда Таисия закрыла сковородку крышкой, то сходство вообще стало непереносимым.
Пока Таисия жарила мясо, кот Зевс, он же Зява, вспрыгнул на стол, где лежал дневник, и сильно помял его. Он стал с огромной силой чесать себе лапой за ушами, где у него горели раны от схваток с крысами. И листы в тетради пошли морщинами. Таисия села и хотела зареветь, но ведь он не со зла… Дневник был похож на помятое и умудренное тяжелой жизнью существо.
«Ну что, старик? Попало тебе от Зевса?! Ничего, держись! Я еще вырасту и вылечу многих, в том числе Димона. Надеюсь, что к тому времени война в Чечне закончится. Мама говорит, что перед выборами Президента власти прекратят бойню. Это хорошо, что власти зависят от выбора народа, а то папе уже давно не дают зарплату в школе. А перед выборами немного дадут, может.
Кстати, о деньгах. На днях у нас с Машей стало на одну подружку меньше! Вероника сказала, что бабушка Генриетта запретила ей дружить с нами, потому что мы ходим во всем старом!!! Мама ее ездит в Турцию за вещами. Они разбогатели. И отдали Веронику в особую школу с двумя языками: немецким и английским. Ослушаться Вероника не может. Доказательством тому будет история, которую я изложу на этих страницах.
Два месяца назад Вероника болтала с Алешей Загроженко. А ее Мартик в это время шнырял по двору. Он искал друзей и подружек. Я несла кулек с мусором. Мартик думал, что в этом кульке есть что-то интересное. На мильтонской машине приехал папа Вероники – капитан. Он скомандовал: „Сейчас же домой!“ А Вероника побежала за Мартиком и еще остановилась со мной поговорить: похвастаться, что ей сказал Загроженко. Он спросил, сколько стоит ее куртка, такая красивая, кожаная, турецкая. Вероника думала, что если для Загроженко куртка интересна, то и сама она тоже… И тут папа-капитан налетел на дочь, как будто задерживал преступника. И стал тащить и пинать. Мартик еще раньше убежал, а вопли Вероники доносились из подъезда: „Папочка, не буду больше, папочка, не надо, папочка, не пинай!“ И пока они не вошли в квартиру на четвертом этаже, все было слышно, вот как она кричала сильно!.. А через месяц мама Изольда стала жаловаться на скамейке бабушкам, что Вероника руки из волос не достает, все чешется, но это не вши. И полную голову, как панцирь, коросты начесала. Пошли они к врачу, когда уже расчесы перешли на щеку. Врач сказал: „Псориаз“ – и спросил: были за последний месяц нагрузки на психику, на нервы? А Вероника так удивилась: не было! Я все это слушаю и говорю: „У тебя же был стресс! Как ты могла забыть? Папа-то тебя избил месяц назад“.
А Вероника посмотрела на меня с таким удивлением: и ведь не притворяется – забыла. А вечером я сказала Александре и Маше, что Вероника с ума сходит, Александра говорит: это нормальная реакция, называется вытеснение».
Димон в это время подходил к магазину «Детский мир». Он понимал, что жизнь не бывает снисходительной. Он решил: надо тянуться до уровня среднего нормального человека на гражданке. Если купить подарок Александре, то он будет как все. Торопливо прошел по первому этажу мимо заводных машинок. Он на войне нагляделся на них, и до сих пор во сне танки, бронетранспортеры, самолеты и вертолеты наваливаются со всех сторон. На втором этаже магазина ему сразу стало хорошо среди уютных толп мягких игрушечных животных. Коровы из Голландии понравились ему, очень симпатичные: добрые глаза, улыбка даже есть, и не плотоядная. Но как бы эта корова не прошла намеком между ним и Александрой, которая тоже красивая и большая. Да и, конечно, корова ведь не умнее той травы, которую она ест!
Вот заяц – всем хорош зверек, шустрый, хитрый, его не подстрелишь сразу. Не очень храбрый, но теперь уже Димон знал, что храбрость – не первое качество, которое нужно на такой войне, из которой он выбрался… Но плохо, что они, эти зайцы, все косые.
Медведица белая с сыном. Медведеныш еще в клетчатом нагрудничке. Чтобы кашей не измазался. Вот они похожи на людей. И в то же время… обычно медведи мяса не едят, сильные, смышленые, не очень-то и злые, только когда доведешь! Во-вторых, медведица из золотистого материала, а у Александры точно такие волосы. Димон даже себе порадовался: вот ведь с каким смыслом подарок-то…
«11 мая 1996.
Александра сказала, что чувствует себя с Димоном, как бабушка с внучком.
„Подарил мне медведицу, показывая, что я должна нянчиться! С ним…“
Моя сестра Маша ходит в психологический центр „Подросток“…»
Таисия посмотрела на Машу. Сестра сидела с перекошенным лицом и читала книгу «Путь к красоте». Видимо, стиль повествования был очень плавным, и она его с помощью лицевой работы пыталась сделать трудным, чтобы победить и усвоить. Только трудное она могла усвоить. Мысленно Маша преодолевала все препятствия и барьеры из масок и массажей, стоящие на пути к Красоте. Вид Маши был как вихрь. Он зашел через глаза Таисии и все внутри вымел, сделал ее пустой от мыслей, так что хотелось лечь и поспать, чтобы мысли помаленьку опять выработались.
– Маш, вы о комплексах проходите в подростковом центре? – спросила Таисия. – С каждой войны с комплексами приходят.
Мама Таисии переносила на тарелку лицо Ахматовой: так водила кисточкой по дну тарелки, будто прибывает скорый поезд.
Продолжая накладывать ветвистые струи волос, мама сказала:
– С любой войны люди приходят изуродованными – и телом, и душой. Но сейчас… можно Димону намекнуть, чтобы сходил к психологу.
– Димону вообще ничего не светит. Александра познакомилась с милиционером… – Маша осеклась: «Вот я какая, опять чуть не проболталась, обещала ведь Александре молчать».
Но мама яростно вкручивалась кисточкой в тарелку. Просто как-то странно, в этот момент образ милиционера совместился с Ахматовой, она только начала удивляться, а он уже пролетел мимо.
«Ну, о главном писать пока не буду – кругом много народу. И Маша торопит на треньку. До вечера, старик!»
Таисия любила мечтать и рассуждать. А Маша всегда хотела побеждать только в борьбе. Напрасно Таисия старалась походить на Машу в жизни!..
Может, хоть в дневнике это выйдет? Нужно лишь побольше ставить восклицательных знаков.
«11 мая, вечер.
Так устала на треньке, что не могу ничего написать о главном! Завтра напишу!!! Точно!!! А сейчас про то, как мы с Машей встретили Веронику, ее маму Изольду и бабушку Генриетту!
Кстати, у нас тоже есть бабушка и дедушка. Они живут в другом городе на улице Свердлова возле дворца имени Чкалова! А мы живем на ул. Чкалова возле дв. Свердлова. Никто не заметил этого совпадения!
Я Машу толкнула в бок: здороваться или нет с Вероникой, Изольдой и Генриеттой? И Маша сказала: „Надо“. И мы первые поздоровались, а Вероника, Изольда и Генриетта не ответили. Они прошли с таким видом, будто мы хотим отобрать все, что они из Турции привезли».
Тут Таисия вспомнила, что надо становиться умнее – как мама с папой.
И дописала:
«Это называется путанье цели и средств. Деньги – средство. И Турция – тоже. Но мама Вероники и ее бабушка перепутали все местами!!! Прямо зла не хватает, как всегда повторяет Маша. Но зла и не должно хватать, его пусть всегда будет мало!»
«12 мая 1996.
Я хотела написать о главном, но теперь это уже не главное. Алеша Загроженко мне нравится, это само собой. А теперь главное – про жилетку».
Таисия стала записывать, какой умный Загроженко! В перемену он гонялся за девчонками с мелом: за Таисией, Ириной и Наташей. И чтобы никто не догадался, он Наташке черканул по рукаву один раз, Ирине попал вообще в волосы, а у Таисии всю жилетку сзади замелил. Мама, конечно, была недовольна, потому что ничего не понимает. «Сейчас же сними и замочи жилетку!» Как же ее снять, если жилетка доказывает ВСЕ! Так ясно это… А мама крик подняла: «Я кому сказала! Сними сейчас же – в грязи утонем». «Нас какая-то сила неодолимая влечет в грязь», – услужливо добавил папа, машинально перелистывая французский словарь.
Как же так – снять, думала Таисия, без жилетки как чувствовать, что он справа налево и сверху вниз тщательно все закрасил?..
Таисия решила по-горбачевски: должен быть консенсус. «Снять, но замочу потом, а сейчас тарелку распишу. Это и есть мой консенсус».
Хоть жилетка и лежала в углу, Таисия все равно ее чувствовала. И не нужно специально было о ней думать, она сама думалась…
Таисия взяла тарелку и стала писать портрет Пушкина. Недавно родители помогали ей написать сочинение по Пушкину. Почему родители ничего не понимают в жилетке, хотя все понимают в Пушкине?
В это время в жизнь вклинился брат Петр. Таисию прямо в пот бросило, когда он захохотал над своими шутками. Этим он походил на молодого Пушкина. Но тем, что опустошил холодильник, наоборот, не походил на Пушкина. Вместе с Петром сидел и хохотал его друг Виталя, громко рассказывая, как отлично идут дела:
– С директором мы уже вступили в завершающую стадию борьбы. Он фирму чуть не погубил. По всем признакам он в отчаянии. Не платит нам зарплату – его ответный удар.
Петр должен ехать в командировку в Екатеринбург – к генеральному директору. Чтобы окончательно свалить местного директора, Пете нужно сто тысяч на дорогу. Если семья сейчас ему их выделит, то в случае победы он их, конечно, вернет.
При словах «сто тысяч» мама уронила тарелку. Тарелка не разбилась. Но это ей подсказало, что можно сделать рисованные красивые трещины. Мама резко подобрела и дала сыну щедрой рукой две банки тушенки.
– А сто тысяч, сынок, ты у друзей займи!
И тут Виталя перестал обаятельно смеяться: ведь ближайший друг, у которого Петр будет занимать, – это же он, Виталя!
– А как идет дело с разменом квартиры? – как бы случайно спросила мама.
А папа посмотрел на нее говорящим взглядом: охота тебе слушать много вранья?
– Мы с бывшей женой сами разбираемся, все идет процессуально, времени абсолютно нет… отчет, вокзал, билет… дискеты… – И брат схлынул, шумя и пенясь.
«13 мая 1996.
Сегодня увидела во дворе, что Алеша Загроженко играет с Мартиком Вероники, но потом пригляделась: это Мартик пристает и прыгает, а Алеша неохотно ему отвечает.
– А Тургенев, сын Ахматовой, – спросила я, – сколько языков выучил в лагере?
Папа подчеркнуто умно нахмурился, как делает, когда он хочет что-то отмочить:
– Ну, наверно, не меньше, чем Гёте, сын Евтушенко…
Мама мчалась кисточкой по тарелке, выписывая Цветаеву, покрытую трещинами. Она воздела к потолку руки с тарелкой и кисточкой:
– И это моя дочь!
Я просто спутала похожие фамилии, на самом деле я знаю, что у Ахматовой сын – Лев Гумилев. Папа тут же меня извинил и даже сделал умнее, чем я сама о себе думаю:
– Устами младенца глаголет истина. Тургеневский Базаров материалист, режет лягушек, рефлексы там изучает… И Лев Гумилев в Бога не верит.
Папа говорит всегда умно, потом вдруг резко – еще умнее, у меня аж дух захватывает. Все становится понятно. Но потом папа поднимается еще выше – на одну ступень. И я перестаю понимать. Вообще! Словно слышу не слова, а ультразвук! И мне хочется вырасти, чтобы подняться еще на один этаж ума. Чтоб все понимать. Вот вдруг папа сказал, что к материи нужно относиться, как к козлу. Почему? Я ничего не поняла».
«13 мая, вечер.
Оказывается, папа имел в виду, что к материи нужно относиться, как ко злу, а я думала – как к козлу!
– Ну ты точно: Тургенев, сын Ахматовой! – смеется надо мной Маша.
А мне не до смеха. Сегодня на треньке не было Алеши, а Наташа сказала: он будто бы не поедет с нами летом на сплав, а будет мыть машины на автозаправочной станции. Чтобы заработать на кодирование своей мамы от водки, от вина. И будто бы хочет купить сестре Лизе куртку у мамы Вероники – Изольды. Кстати, когда наша мама узнала, что Вероника не стала с нами дружить из-за того, что мы ходим во всем старом, сразу сказала:
– Господь этим спас вас от большей беды! Да-да. Может, потом бы Вероника отбила жениха вашего – с ее-то знанием языков, одеждой…
А папа добавил, что одежда – напоминание о грехопадении, не больше.
В раю Адам и Ева ходили без одежды».
– Поэтому к материи нужно относиться, как ко злу? – спросила Таисия.
– Материю Бог создал, и в ней две стороны. Человек сам выбирает… Или он ценит одежду за то, что она от холода спасает, от микробов… Или хвастается, что богато одет.
У папы это была любимая мысль: все зависит от личного выбора человека, в тайне выбора все ответы на все вопросы. Таисия не хотела об этом даже думать, потому что вдруг завтра Алеша выберет другую девочку, и что тогда ей, Таисии, делать? Тайна выбора – это у-у-у тема, которая не по силам маленькой Таисии.
– Мама, а детям работать ведь можно? Машины мыть… я имею в виду мальчикам!
– Таисия, мальчикам это особенно вредно: у них дыхание глубже, чем у девочек, они быстрее отравляются. От этого, знаешь, даже дети могут родиться больными.
«Мама иногда бывает умная, а иногда нет. А иногда – вообще ничего не понимает, как с жилеткой! Сейчас я спрятала жилетку за тумбочку с телевизором, там электричество, мама не заглядывает. А ведь хочется, чтоб родители были умные кругом, как бывают круглые дураки!!!»
Димона что-то прямо тянуло в «Детский мир». Он снова быстрым шагом прошел по первому этажу – мимо заводных танков и самолетов, – при этом почему-то устал, словно сделал крюк длиною в один километр. Устал и усталыми глазами стал смотреть на мягкие игрушки. Красивых коров с добрыми глазами из Голландии уже не было. Вместо них появились бегемоты. Нет, ничем не лучше они коров. Вот маленькие трудолюбивые ослики, они Димону понравились, но ведь тоже намек не тот. И снова пошел он к полке с медведями. Видимо, коми-пермяцкий архетип бродил в его генах. Медведь – тотем, покровитель одного из крупнейших коми-пермяцких племен.
Он взял медведя в кепке: лихой и в то же время деловитый вид у зверя. Но слишком американист – под ковбоя. Димон заплатил и тотчас перочинным ножом срезал у игрушки маленький пистолет.
Мама Таисии была озабочена, что на ее тарелках получаются какие-то идеи деревьев, а не они сами. Она села на скамейку, чтобы наглядеться до насыщения деревом. Дерево было березой. Она вытягивала из себя ветки, по тысячелетней привычке рассчитывая на то, что их будут обламывать на веники для баньки, поэтому старалась изо всех сил. Мама Таисии думала, что надо все эти слова отбросить, чтобы кисточкой показать это усердие дерева… Вот я уже много слов надумала, от них как-то нужно бы избавиться, думала мама Таисии, но тут мама Вероники села рядом, подсыпая пригоршнями пыльные слова:
– Мартик, душка, вечер чудный, гуляй, гуляй!
Через две дороги, возле парикмахерской, показалась Вероника. Издалека она выглядела почти красиво. Мама Таисии подумала: вот сейчас девочка приблизится и будет видна ее некрасивая короста на лице. Но Вероника приблизилась, а лицо ее все еще казалось красивым, ибо было неиссякаемо радостным. Гомер навязчиво указывал, что боги могли красотой покрывать человека сверху, как светящейся золотой аэрозолью. Видимо, у великого певца были комплексы, мечта, наверно, была – о красоте, которую давали боги своим любимцам. Вот так радость покрыла коросту на лице Вероники.
– …заказала путевки… прелестная деревушка в Греции, – продолжала пылить словами Изольда.
Вероника бросилась тискать Мартика, как будто с младшим братом увиделась после долгой разлуки. Но мама брата Веронике так и не родила, и вот приходится тискать животное, а брат бы сказал: «Ты чего, дура, больно сжала?», но пес молчал, и усталость от тисканья переходила в опустошение.
– Пришлось весь город обойти, – с еще не погасшей радостью сказала Вероника. – Надо доплатить. Еще просят.
– Делать нечего, – с видом благородной матроны кивнула Изольда.
– Подешевле не получается, у них заказов много, оказывается…
– Ты просто поленилась торговаться, деньги-то не твои. – Изольда ворчала, но видно было, что она все-таки довольна. Тут же, повернувшись к матери Таисии, она сказала, чтоб не оставлять ее в недоумении: – Решила поддержать дочку, чтобы она постояла за себя. В новой школе ее дразнят Сало, а какое она сало, просто крепкая. Завидуют. Я даже деньги из педагогических соображений ей дала, чтоб мафию нашла… Побить, поучить немножко – ума добавить обидчикам, чтобы вели себя по-джентльменски с девочками. Отец бы мог заступиться, но послали на месяц в Грозный.
Вдруг мама Таисии подумала, что нужно ответом и молчанием понравиться этим людям, а то они найдут мафию, чтобы побить, поучить лично ее. И сквозь нарастающую боль в левой руке мама Таисии думала: повезло очень этому насмешнику, который назвал Салом Веронику, не умный, бедняга, но если б папа Вероники с ним разбирался, то… Мафия лучше, пожалуй! Левая рука превратилась в какой-то разрядник, посылающий огненные струи в сердце. А Изольда спросила:
– Что вы так побледнели? Может, вам валидолу дать?.. Дочка, сбегай домой, у бабушки на тумбочке сумочка…
– Нет, нет! – остановила их мама Таисии, стараясь говорить как можно мягче, добрее, стараясь их не рассердить. Ей было омерзительно видеть себя с такой неожиданной стороны – в виде испуганной курицы.
– Я понимаю, жизнь у вас тяжелая, столько нарожали. Но и у вас со временем все образуется. Можете со мной в Турцию поехать, будете, как мы.
Маме Таисии стало еще хуже. Левая рука начала с исключительной меткостью очередями поражать сердце. Мартик попросил, чтобы ему бросили камушки – он засиделся. Вероника и ее мать Изольда стали по очереди бросать всякие прутики под березу, и пес исправно бегал искать, загребая лапами, как лопастями, воздух.
Береза стояла, и в ней все было связано: ветки со стволом, который сам не понимал, где он переходил в корни, а корни строят неплохие отношения с землей, которая уживается со своей воздушной оболочкой, а атмосфера заигрывает с вакуумом, дающим место всем планетам, частицам и магнитным полям, – широкая душа!..
У мамы Таисии не было желания плавно перерастать в Веронику и Изольду, а также в бабушку Генриетту.
«14 мая 1996.
Очень много новостей! Во-первых, Веронику мама повезет летом в Грецию, чтобы полечить!!! Во-вторых, папу-капитана послали на войну в Чечню, а Вероника нашла мафию, чтобы проучить тех мальчиков, которые дразнят ее Сало. Мой папа считает, что с этого все войны и начинаются, с вражды людей… Папа думает, что если он сам будет долго говорить, то все придет в порядок, за это время проблемы сами отомрут. Главное – говорить долго, не дать протиснуться между словами ничему! Неприятные события не должны протиснуться между словами папы. И они потихоньку сами отомрут, эти неприятности!!!
– А на том свете мы спросим, кто убил Листьева? – спросила у родителей Маша.
– Зачем? Мы и так будем все знать, – ответил папа.
Я решила написать тарелку с портретом Листьева: может, ее в магазине дорого продадут! Мне нужно накопить денег на резиновые сапоги на сплав – старые стали уже малы!»
Все развалины биографий похожи друг на друга, руины – они и есть руины, но все-таки души-то до превращения в руины были уникальны, и порой на бесформенных обломках психики можно наткнуться на тончайший таинственный орнамент.
Общая руинность квартиры Загроженко проявлялась в том, что два года посреди комнаты лежали на двух стульях доски, на которых в свое время стоял гроб бабушки. С тех пор на этих досках обосновались стопки посуды, похожие на стопки опят-переростков на пнях, яркие пустые пакеты из-под супов, среди которых норовили затеряться такой же яркости и глянцевитости обложки журнала «Родина» за 1994 год. Кто-то вынес их в свое время в подъезд.
Мы не знаем, как ведут себя в подробностях алкоголики других стран, а наши, русские, то есть российские, почему-то жадно тянутся к чтению – в оставшееся от напитков время.
Мама Алеши Загроженко ставила на окно журнал с видом на солнечную дорогу, такую плавную, что казалось: ступи на нее, и она приведет тебя к добру. В укромном же месте, за кроватью, стоял журнал «Родина» с фотографией горящего грузовика «ГАЗ-63». Когда в озере алкоголя, которое плескалось внутри матери, заводилась злоба, она свешивала голову в закуток и смотрела на пылающий грузовик. Если бы мама Алеши знала всякие умные слова, она бы сказала, что это такая у нее медитация – смотреть на горящий грузовик. С ее помощью она представляла, что отец Алеши, который некогда работал шофером, а нынче неизвестно где, сгорает внутри. Но она лично придет к нему на помощь, потушит огонь, и в благодарность он останется с ней навеки. Мама Алеши дула в одеревенелом опьянении на изображение огня под крупными буквами «РОДИНА».
Мать Алеши с наступлением теплых денечков усердно навещала одну компанию за другой и целую неделю отсутствовала. И вдруг ее потянуло домой. Она себе это объясняла несколько абсурдно: внезапно пробудившейся материнской любовью.
Дома она сразу поняла, что сын не зря спит в носках (там, в носках, – деньги). Но Алеша начал вдруг кричать:
– Косинус альфа бу-бру-бу…
– Алеша, помоги! – закричала во сне Лиза.
«Навязалась, как этот… от которого я ее родила!.. Который ушел… только потому, что пенсия у меня по вредности… характера…»
Зов, который привел ее сюда, забылся. Новый зов вдруг повел ее в Балатово, к другу, у которого она не была два месяца. Не рассуждая, она ушла по пеленгу.
Стало совсем тихо. На солнечной тропинке, которая в ослепительных разрывах фотоэмульсии вилась между холмов, возникли две маленькие фигуры. Они быстро шли вдаль, в перспективу фотографии, затем поднялись к верхнему ее краю, перешагнули и дошли до слова «Родина». Алеша озабоченно посмотрел внутрь буквы «О», махнул сестре рукой:
– Лизка, лезь первая!
И они скрылись в таком уж свете, что пора было открывать глаза и просыпаться.
Первая мысль была бодрая: осталось двадцать тысяч. Вчера пошиковали, погуляли, съели полкило колбасы, надо притормозить. Хорошо, что мать родила его, когда не пила. Правда, Алеша не помнил такого времени, но бабушка когда-то говорила… И отец, наверное, не понуждал сильно, уже за это можно дать ему жить дальше, если встретится… Вчера Алеша получил премию за победу на школьной математической олимпиаде – тридцать тысяч. Таисия его поздравила. Алеше в жизни никогда не доставалось ничего хорошего: ни еды, ни возможности с утра до вечера закапываться в математику. Он уже давно ходил разгружать хлеб в булочную… Он от этого не страдал: так вот жизнь складывается. Но когда он не видел Таисию день или два, ему казалось, что он не ел неделю. Сейчас свистну, Таисия выйдет, она мне поможет сэкономить деньги.
В походе Таисия готовит медленно, с научным видом, но лучше всех.
«15 мая, вечер.
Загроженко дал мне буханку горячего хлеба! Он получил премию за олимпиаду да еще хлеб из булочной за разгрузку. Мне хочется сохранить этот хлеб, потому что жилетку от мела уже отстирали. Но буханка зачерствеет. Да и мама сказала: как хорошо – горячий хлеб, только почему он у тебя в тумбочке спрятан, рядом с учебниками?! И когда я ела этот хлеб, я поняла, что от Алеши что-то впитывается в меня. Я прямо это почувствовала внутри. Буханку съели за один вечер, мою любовь. Я не знаю, надо так или не надо, но получается, что любовь должна впитаться в людей, а сама по себе она пропадет никому не нужная».
«Еще раз вечер 15 мая, но поздно!
Встала потихоньку, еще раз пишу. Никогда такого не бывало. Что-то все не сплю! Вспомнила, что Маша мне говорила, когда я ходила еще в садик:
„Если ты не заснешь, то все волшебники умрут!“
И так я начинала жалеть волшебников, что последняя дремота убегала. Или дрема? И этим я губила последних волшебников, наверно. Плачу, потом истощаюсь до нуля и в конце концов засыпаю. А утром Маша мне говорила: „Глубокий, здоровый сон воскрешает магов и волшебников“.
А сейчас я не сплю, чтобы чудо буханки, которой уже нет, дольше было со мной. Потому что, когда все это заспишь, уже не вернешь в себя.
А спать хочется. Но еще посижу. Нет, пойду… Неужели я привыкну к таким воспоминаниям?! Душа такая тупая и быстро привыкает к хорошему, если оно повторяется, и считает ни во что… Достоевский опять задергался, эпилептик, не знаю, как мы будем его продавать. А Мурка спит, не просыпается даже, что ее сыночек в беде».
Алеша причесывался перед зеркалом и думал: «Не похож я на Влада Листьева!» Вчера вечером Таисия сказала, что сделала на тарелке портрет Листьева. Да, может, и хорошо, что не похож, как-то неохота на него походить – чтоб из жизни уходить. Когда Алеша отлип от своего отражения, он еще несколько секунд был доволен. Просто чистый Штирлиц, как говорила с похвалой бабушка. Как это мужья разрешают женам-артисткам целоваться в кино? Если Таисия будет артисткой, я никогда не разрешу! Я буду дублером во всех сценах…
Когда бабушка была не только жива, но и очень бодра, она устроила один раз Лизе елку. Потом Лизка много дней еще спрашивала: «Вы купите мне праздник? Купите?!»
Сегодня куплю тебе небольшой праздник. Ну, допустим, двести граммов халвы… еще в пределах. Вот вынесу-ка я гробовые доски эти. Получается, что после этого надо мыть посуду, пол, сменить обои, красить пол. Окна тоже… Он знал, на что идет, но все-таки содрал тарелки, прикипевшие с помощью грязи. И вспомнил, как они в походах снимали с берез чагу. И снова стало хорошо. Вторая доска далась уже совсем легко. Лиза крикнула из сна: «Что стучишь?» Сделал несколько движений веником, показав себе, что уборка квартиры еще запланирована на продолжительное будущее.
Он оставил доски возле скамеек во дворе: мало ли кто может умереть, стариков в доме много, а старухи-то вообще кишат. Живучие, как тараканы, лезут все время, советы дают. А бабушка никогда не лезла, будто и не старуха вовсе была. Бабки с лавочек кричат: «Не кури – не вырастешь высоким!» «Зато в корень пойду», – один раз сказал он. Накинулись после так, будто хотели его бесплатно во внуки зачислить. «По телевизору всех детей испортили», – взъелись старушки, как бы снимая с себя вину.
Если бы он сказал им все шутки, какие в школе слышит, то много досок бы пришлось для них таскать. Вот, например, одна из них: «Я так хочу тебя (пауза)… лягушками кормить!» А туристок не испугаешь лягушками…
Вечером в воскресенье папа пришел навеселе с работы. С тортом, из которого были выедены два кусочка. Сказал с обидой:
– Пытались мне вручить бутылку коньяка недопитого… Вот здесь-то их подсознание и вылезло, новых русских! За кого они меня приняли: за слугу, обслугу свою?
Мама Таисии встала на защиту новых русских: ничего они такого не имели в виду – просто люди экономные.
Папа достал из портфеля запечатанную бутылку травника «Мономах»:
– Вот подарили. Почему они устроили мне день рождения? А, понимаю: весна, солнце посылает свои расслабляющие лучи, вся природа вокруг…
– И снова ты недоволен. Изо дня в день, из года в год. – Мама подавала ужин.
– Мама, а у других вообще мужья пьют. – Таисия хотела отвлечь маму от папы на других мужей.
Маша тоже туда же: она в классе почти всех победила, кроме одного; руками боролись, когда локти на столе. Она сделала паузу, чтобы все поняли, что сила в руках у нее от отца.
Но мать еще больше понурилась. И внезапно сказала чистосердечно:
– Вдруг я так позавидовала соседям внизу: железную дверь вставили.
– Мама, Достоевского на рынке продали, ты еще недовольна! Валерьянкой напоили, он и не дергался. А красавец! За пять тысяч купили английские студенты. Я им говорю: «Пять, пять, фюнф таузенд», – а они на руке просили написать… Осталась одна девочка: Буткина. Каждый день буткалась с кровати на пол…
Вдруг мама повеселела: в жизни-то все идет к хорошему, оказывается! Хворого котенка купили, притом англичане, которые, наверное, гуманные и не выбросят его брезгливо. А Буткину купят в следующее воскресенье, она за это время еще поздоровеет.
Тут разыгралась на глазах семейства целая пьеса сложных отношений и переглядываний в прайде кошек. Буткина развязно цапнула сиамца Зевса в его изысканный бархатный нос, кот в ответ дал девочке-котенку по уху могучей лапой. Мурка просто так оставить это не могла, подошла сзади и осторожно лапой тронула Зевса. Он обернулся – она ему в глаза посмотрела: «Понял? Не горячись. Ребенку надо на ком-то шлифовать мастерство охоты, скрадывания и душения».
Котята были так замусолены в маскульте и киче, что мама не видела возможности эту сцену перенести на тарелочку. А чувство бессилия она не любила, поэтому продолжала ворочать глазами в разные стороны. Вдруг на полу обглоданный меланхоличным Зевсом скелет ставриды. Вот в чем выход! Так, белый фарфор там, где скелет, оставлять? Или засинить все, а сверху белилами? Когда мама брала в руки тарелку и кисточку, все знали, что лучше не лезть.
«16 мая 1996.
Привет, старик! Что я тебе напишу!!! Наташка мне сказала, что Вероника всем рассказывает, какой она видела про меня сон. Будто бы в походе мы сидим у костра и едим. Вдруг у меня начал расти мешок кожи под подбородком, вырос, как у динозавра. Все на меня смотрят, и тут она проснулась… Она хочет, чтоб Алеша потом женился на ней. У него много сил, он сможет помогать вещи привозить из Турции. Но она понимает, что этого никогда не будет. И никакие деньги тут не помогут. Вероника прекрасно видела, что буханку хлеба Алеша подарил мне».
Загроженко звал ее в свое царство, но оно за большой железной дверью, не видно… Алеша повернулся, и ворота за ним захлопнулись и срослись. Вероника с надеждой постучала туда – ворота с треском разорвались сверху донизу, и Вероника провибрировала всем раздувшимся телом:
– Дай мне буханку хлеба, я тебе помогу выйти!
Страшные толчки сотрясали тело Таисии: тут она поняла, что это царство не то, куда надо было отпускать Загроженко…
Мама тихонько касалась ее плеча:
– Тася, проснись! Ты что так смеешься?
Смех был такой жутко-торжествующий, какого мама никогда в своей семье не слыхала.
– Спи дальше, только тихо.
Таисия немного покаталась по цветущему лугу на поезде – без рельсов, над лиловыми колокольчиками, – а потом вспомнила, почему смеялась. Эта Вероника была такая корова в этом сне, сначала она поскользнулась и упала, потом ее начало раздувать. Так сатирически. Раз – на спине платье лопнуло, и вырос жировой горб. Таисия засмеялась. И от ее смеха, как от насоса, Веронику стало еще больше раздувать во все стороны, накачивать…
– Давай вместе посмеемся, она лопнет от злости, – сказала Таисия Алеше, который, оказывается, стоял здесь все время, а потом из него образовалось дерево, а за деревом открылось царство.
Наверное, и без этого сна Таисия взяла бы Кулика. Куликом она назвала щенка потому, что на Куликовом поле русские победили. А он должен победить своего самого страшного врага – смерть. Но сон как-то ее овиноватил, как будто обвинил в том, что желает лопнуть – заболеть, – и кому, бывшей подруге, с которой гуляла. И они ходили и больше молчали, чем говорили, и говорил-то за них обеих Мартик, визжал и лаял разными голосами, добро озвучивая их молчание. Было так же хорошо, как уютно было, когда она не умела говорить до года, и без слов все ее понимали. Но родители заставили ее заговорить, обучили словам, хотя сколько слов ни говори, хоть тресни, а уж такого понимания и любви не выколдуешь!
Один раз на Мартика набросилась кошка, которую дура Лилька вынесла в коробке вместе с котятами подышать воздухом. Кошка вопреки всем законам летала над ним кругами, вырывая то там, то тут из него кусок шерсти. Первыми двумя самыми мощными взмахами когтей она разрубила его нежный нос, и Мартик тут же упал в позу покорности, задрав с мольбой четыре ноги. На языке собак это… Но кошка была в языках несильна. Она бы поняла, если б он внятно выразился – побежал бы, тогда она б его проводила ритуально до границы своей территории… Кошку Лилька наконец унесла, вместе с котятами…
Но сейчас у Мурки одна Буткина – надо ее срочно продать. Таисия не запечалилась над изувеченным Куликом: если б она завяла, ей бы ничего не удалось. А так уже Маша уехала на рынок с Буткиной, папа писал список необходимых лекарств, а мама отсчитывала большие деньги и только приговаривала плачущим голосом:
– Сначала Мурку больную лечили, потом Зевса с гниющей сломанной ногой подобрали, теперь вот Кулик без сознания…
Как только Таисия увидела Кулика, дрожащего без памяти на теплой крышке канализационного люка, а вокруг стояли дети из разряда мелких (детсадовского возраста), тут же ее пронзила картина: Кулик уже выздоровел и подружился с Мартиком. Таисия же будет бегать, отзывать его и постепенно разговорится сначала с Мартиком, а через него и с Вероникой. Собака умеет выражать восторг хозяином, а ведь хочется, чтобы кто-то тобой восторгался…
Среди волосинок растерянно бродили блохи, словно понимали, что произошло что-то с их источником питания. Мелкие сказали, перебивая друг друга: был бомж, запинал его, и щенок заболел, и с тех пор лежит…
– За что Бог щенка наказал? – спросила Таисия у папы. – Он ведь ни в чем не виноват…
– Если палец болит – порезала, то нельзя спрашивать, за что Бог наказал этот палец. Бог тебя наказал… Или твои грехи тебя наказали…
Таисия вспомнила про сон с Вероникой, которая раздувалась, и больше не решилась спрашивать, хотя многое было все равно непонятно. Каждую секунду будущие видения счастливых прогулок с Куликом осеняли Таисию: и в главном они с Вероникой будут совсем неотличимы. В главном!
Кулику дали цинаризин, димедрол, антибиотики, витамины, залили все в его пятнистый изнутри рот. Таисия держала пасть, когда мама вливала лекарства, и видела черные пигментные пятна на нёбе. Хотя он был без сознания, челюсти его были сжаты так, что Таисия утомилась, раскрывая их навстречу лекарствам. После всех этих процедур щенок впал в тихое бесчувствие и только дышал.
– Дрожать перестал, – сказала Таисия. – Где «Молитвослов», я хочу почитать над ним… и блох повыбирать.
– Кулик заснул, так ты пол хоть подзатри, – сказала мама.
Таисия моет пол, и у нее тряпка – это ледник, а ледник двигается, заполняя все щели, морозит все. Таисия выжала тряпку, начала затирать – весна наступает, потепление, всеобщее притом, весело стало в мире, ледник отступает с позором. Был север, теперь юг. Леднику пришел каюк. Тряпка только что несла заморозки, оцепенение, сейчас принесла жизнь, жаркий, сухой воздух. А Таисия словно из космоса смотрит на всю картину климата – незримый инопланетянин.
– Медленно моешь, – решила простимулировать ее мама. – Обед готов. Сейчас начнем.
Как это медленно? А ледник и не может, как мотоцикл, носиться. Или как ракета. Вдоль кромки тающего ледника шла кипучая жизнь. Она вовсю разворачивалась. У носорогов и мамонтов шерсть блестела, как вымытая шампунем. Кстати, Кулика надо потом вымыть шампунем «Дружок», от блох… Про кромку ледника Таисии рассказал папа, он вычитал из журнала, а в журнал написал журналист, который вычитал у ученого, а тот, в свою очередь, узнал от настоящего ученого. А откуда все узнал настоящий ученый – неужели из самой жизни мира?!
Таисия представила себе настоящего ученого, который роется в земле, находит всякие кости, тряпки, тарелки разбитые, когда-то расписанные неизвестной девочкой, измученной перед этим мытьем пещеры. И вдруг Таисия представила, что девочка не расписала каменную тарелку, ее выгнали из племени, она медленно шла-шла, и ее съел пещерный лев.
– Ты чего слезы льешь? – заглянула ниоткуда мама. – Пол-то домывай!
А Кулик в это время снова завыл.
– Впереди ночь, – сказал папа.
Таисия впервые его почувствовала, как прохожего, хорошего, но прохожего, доброго, но все-таки проходящего мимо.
– Надо же, песик без сознания, а как мочиться, так встает с подстилки и отходит в сторону, – удивилась мама, чтобы успокоить дочь: вид у Кулика был неживой.
Мама взяла тарелку, посмотрела на нее и отложила. Когда вой Кулика пульсировал в квартире, можно было только дышать, больше ничего. Мама включила телевизор, но от этого стало еще хуже, потому что собачий вой как бы становился частью любой передачи. Маша Распутина плясала, и пляска принимала обреченный характер, в Чечне взрывали, и бородатые командиры советовались, как достичь успеха, а вой Кулика делал эту войну еще безвыходнее…
Александра ушла к подружке ночевать. Папа не мог читать, потому что из каждой буквы торчал волосок воя. Если его в цвете выразить, этот волосок, то он покажется фиолетового оттенка – кожи удавленника.
Папа твердил про себя как мантру: Таисия мала, она не понимает, что он должен готовиться к занятиям, новые способы для новых русских выдумывать! Тексты самому сочинить, свежую голову где-то взять завтра. И он твердил это про себя, каждый раз повышая тон мыслей.
Снизу торжественно пришли соседи, как делегация ближайшего нейтрального государства:
– На кухне у нас такой резонанс – все слышно!
– Взяли больного щеночка, – объяснила Таисия. – Мы его обязательно вылечим, он не будет кричать.
– Ну, ладно, ночью мы на кухне не бываем, а завтра ему уже, наверное, будет легче, – сказали они, а несказанное у них в глазах означало: если не будет легче, то как-нибудь нужно этого кабысдоха устранить.
– Мама, постелите мне на полу в кухне, – попросила Таисия. – Когда он вместе со мной, ему легче, и он не будет кричать.
Кулик в это время встал с подстилки, кругами побродил по кухне, помочился в углу. Потом острое чувство выживания помогло ему найти холодную батарею: в нее он уткнулся распухшей от побоев головой и от холодного чугуна с облегчением затих.
Мама Таисии сказала: холод псу нужен, он к батарее вон головой прижался, а ты будешь его греть, усилится воспаление…
Всю ночь Таисия вставала с большой точностью – почти через час. Она давала Кулику лекарства, но уже ничто не помогало, он выл практически без перерыва, а утром зашелся так, что мама первым делом схватила сигарету, чего никогда не делала с утра, а папа лежал смирно, не двигаясь, отчаянно твердя какие-то успокаивающие мысли.
Таисия принесла «Молитвослов» и начала вслух молиться за выздоровление раба Божьего Кулика. Ей было жаль родителей, но щенка во много раз больше.
– Пойду к Люде, у нее дочка в реанимации, – сказала мама Таисии, чтобы ее успокоить. – Что-нибудь да посоветуют хорошее.
– Я могу тут же совет дать. Зачем бегать по городу? – сказал папа. – К ветеринару нужно, а лечить животных нынче дороже, чем людей. Если мне в начале июня заплатят, так это самое раннее. Новые русские, они вовремя деньги выкладывают, но раньше-то где взять… Их же история о бедной собачке не очень тронет.
Мама не дослушала мужа и сорвалась бежать. Вскоре она пришла с какой-то молодой широкоплечей девушкой, которая своими длинными пальцами – каждый из них словно имел свой разум и волю – пробежала по грязному туловищу щенка, подцепила живот и попыталась поставить Кулика на ноги, но его лапы разъезжались в разные стороны.
– Наверно, сегодня он умрет, а если нет, то не надо мучить. К вечеру увезите его на укол.
Таисия сразу поняла, какой укол та подразумевала.
– Тарелочку выбирайте, – противным голосом сказала гостье мама Таисии. – За беспокойство.
Вкус у врача был отличный: она сразу увидела самую лучшую тарелку. Ее похвалили и одобрили все на семейном худсовете, а этого почти никогда не бывало. Месяц там просачивается сквозь листья березы, которые словно перебирают пальцами, играя музыку ветра.
Таисия подумала: наверно, все будет хорошо! Тарелка – это большая жертва, мама ее три дня рисовала! Не может быть, чтоб впустую все это…
К вечеру Кулик замолчал. Мама Таисии сказала: умирает.
– Значит, не нужно везти его на укол, – сказала Таисия.
– Но соседи не вынесут… Если снова завоет…
– Мама, ты же видишь, что он больше не завоет. Успокоился…
Но ночью Кулик, набравшись каких-то крошек сил, стал жаловаться на свои боли менее громко, но более внятно. Пронзительно. Соседи, конечно, не слышали этого, но в квартире Таисии стало понятно, что щенок подводит черту под прошедшей жизнью.
Таисия не знала, что кулик – это название болотной птички, свободно порхающей во все стороны, а то бы не назвала щенка так, и счастье бы не улетело от нее.
Утром следующего дня мама наглоталась всяких таблеток и ничего не соображала, а папа ушел на работу, от последних денег отделив Таисии плату за последний укол Кулику.
…Врач сказал, что за неделю-две капельницами можно пса поставить на ноги и это стоит не больше миллиона. Таисия знала, что на миллион мама сможет прокормить семью два месяца. Но нигде нет миллиона для Кулика!.. И с отсутствующим сердцем Таисия сказала:
– Ставьте укол! – И добавила: – Как мама велела…
Когда Таисия с телом щенка вернулась домой, то сердце уже вернулось на место и жгло еще сильнее, но ей хотелось, чтобы жгло не у нее одной.
– Больше всего меня удивило, что врач тарелку взяла и сказала: Кулик умрет. А тот, который укол ставил, сказал, что вылечить можно…
Когда мама забегала и закурила, Таисии стало легче, и она стала заворачивать Кулика в тряпку, чтобы схоронить.
Вот уже вечер, и Кулик мертвый на руках… Теплотрасса за домом начала сиять в темноте своей дюралевой теплозащитной оболочкой. Земля была еще рыхлая, Таисия палкой ударяла, а доской убирала в сторону почву. Видимо, это длилось долго, потому что мама в открытую форточку кричала: «Таисия, ужинать, Таисия!» Она молчала, потому что знала: мама ее видит. А зачем говорить, что тут скажешь?
Когда она подняла глаза от могильного холмика, то увидела между домами еще одно сияющее вздутие холма, будто видение. И без всякого предупреждения горе ее сменилось восторгом. Сначала Таисия думала, что это будет купол нового храма, потом вдруг подумалось: это же инопланетный аппарат из звонкого металла. Захотелось побежать к нему и потопать по нему ногами, чтобы слышно было, как звенит. Но пока она на него смотрела, он раздувался все больше и больше. Теплотрасса заблестела сонным блеском. И вдруг все сразу усохло. Дома вокруг ужались, пригнулись и стали маленькими. А пузырь раскаленный прыгнул в беспамятную даль и не разочаровал Таисию, что он всего лишь луна!
«20 мая 1996.
Вчера луна родилась из середины пейзажа. Я пришла домой и расписала тарелку с луной. Ее поместила в середину, а все домики – по краю.
Мама сказала: „Юто новый стиль, дымчато-лунно-жемчужный с намеками на черты лица, мудрого“. Мама много знает слов, но здесь их не хватает. И ей приходится все слова, какие она знает, грудами сгребать и покрывать ими место новых знаний!!! Вообще-то этому стилю миллион лет».
Таисия ни в дневнике не писала о Кулике, ни Алеше Загроженко о нем не говорила, потому что у Алеши сестра вскрикивает, а то и воет от своих многочисленных болезней по ночам… Теперь, когда Таисия почувствовала, каково Алеше от мучений Лизки, она взяла ручку и зачеркнула три знака восклицания (после слова «знаний»).
– Где у нас Библия? – спросила она у родителей.
– Завтра найдем, спи давай! – Мама все еще не могла снять головную боль и горстями глотала таблетки.
– Маша, может, ты знаешь, где у нас Библия? – не отставала Таисия.
– Сказали: завтра! – закричал папа. – Тебе говорят, а ты как не слышишь…
Конечно, не слышит, думала мама: изнутри своей пустыни он кричит в ее пустыню – не доходит… Или от таблеток в голове такие просторы?
Мама хотела расписать тарелку и забыть Кулика, она взяла портрет Набокова, но угловатые концы портрета не помещались в голове, и она не знала, как их втиснуть в тарелку. Раньше получалось как-то, а сегодня – нет…
Александра пришла из библиотеки (она готовила экзамен по психологии) и схватила том Стругацких – ей хотелось отдохнуть от копаний в человеческом мозге: тут центр речи, а там другой центр… Зря пошла на дошфак, думала она, надо было на филологический, эх! То ли дело Стругацкие. А Таисия в это время писала:
«Вот дождалась: взрослые уснули. Могу написать свои мысли. И когда только взрослые успевают о жизни-то думать? Ведь если о ней не думать, то она как бы останется неизвестно где, а если думать, то жизнь останется внутри тебя. Клянусь, жизнь, я буду думать о тебе! Чтобы ты не проходила…»
– Все, ложусь, включай лампу! – Таисия выключила общий свет.
Они с Александрой спали в одной комнате. А раньше здесь еще спали старшая сестра и брат, но они уже ушли в самостоятельные приключения под общим названием «жизнь»…
Александра читала Стругацких. Сильно пишут! Даже кажется, что в комнате появились фантомы и кто-то уже стоит на стуле. Фантастика просто!.. Александра подняла глаза: это Таисия стоит на стуле… Стругацкие не сильней жизни.
– Таисия! Ты зачем встала?
– Как зачем?! Как зачем?! – возмутилась в ответ Таисия.
– Слушай, ты, Тургенев, сын Ахматовой, ты чего?
– Как чего?! Как чего?! – возмущалась Таисия.
– Центры торможения того?.. Ложись немедленно!
Таисия послушно легла.
Александра углубилась в «Жука в муравейнике», и в это время со стороны телевизора раздались стуки. Один, второй, третий… Александра боялась поднять глаза: на телевизоре не могло быть Таисии! Мурка с Зевсом мирно спят на стульях. Все-таки Стругацкие сильно повлияли на действительность… Когда их читаешь, странное вокруг творится! Александра услышала еще один стук и все-таки подняла глаза. Это попадали пластилиновые поделки, стоявшие на телевизоре. Стало холодно, они отлипли. Мороз, как всегда, на цветущую черемуху, подумала Александра.
Маша и Таисия были наркоманами родительского внимания. Они привыкли всю жизнь получать все более концентрированные дозы этого вещества.
Когда папа пристроился помечтать с бутылкой «Балтики», воображая себя добропорядочным бюргером, который с каждым глотком пива вырабатывает гегельянствующие мысли, Маша выпускала стенгазету о русском языке. Она тоже мечтала, но – о выигрыше в триста тысяч рублей, обещанных директором победителю.
– Папа, ну у нас же конкурс, вынырни из своего пива. – Она ножницами кромсала взад-вперед ватман (получались удивительные пенистые волны). – Мне нужно название оригинальное – о русском языке.
– Виликий и магучий, – с ходу сказал папа. – Как вы не понимаете, что если я отвлекаюсь, то так трудно снова заныривать мыслями в возрождающее пиво?
Маша пустилась в гонку рассуждений: «Виликий» – хорошо, «И» зачеркнем, наверху напишем «Е», в «магучем» зачеркнем «А»…
Папа непросветленно сопел, вытирая с усов пену.
– Усы! – чуть не потеряла сознание от озарения Маша. – А мама сказала, что у тебя нет усов… На днях говорили мы об усах… Мама сказала, что она очень любит мужские усы. И с сожалением и с горечью: «А почему-то он уже их не носит. Наверно, молодится, как пошел к новым русским бизнесменкам преподавать…» А ты был на работе! А мы: «Папа же с усами». Но мама натянула все морщины на лоб: «Но я-то лучше знаю!»
Папе показалось, что пиво вдруг стремительно сквасилось и превратилось в жидкое удобрение. Потому что Машу сменила Таисия:
– Где-то должна здесь Библия быть. А зачем Каин жертвоприношение делал? Богу ведь это не нужно…
Тут Александра вернулась с консультации и начала стоя звучно есть свекольный салат. Нёбо у нее было, как купол небесный, с резонансом. Маша вырвала у сестры ложку и тоже принялась есть.
– Чего ты – ложку верни! Иди сходи! Моя ложка!
– Сама сходи – я газету делаю!
– Ну и делай! Сделаешь и поешь!
Драка разгоралась, хотя обе старались, чтобы не исчезал оттенок какой-то семейной шутки – при всей серьезности тумаков. Свекольный салат летел веером, и красные пятна дополняли картину боя, усеяв стенгазету, папину футболку и тюлевую штору.
Последняя тень шутки исчезла, когда папа вскочил и заорал, забрызгал недопроглоченным пивом:
– Мне хочется вас на куски разорвать!
Немедленно дочери начали страдать. Они прострадали две секунды, но для них это время гораздо длиннее затянулось, чем если бы три года радости.
Мама вылетела из другой комнаты, как аварийный отряд реагирования.
– Ложек-то много! – кричала она таким же голосом, как и дочери: пронзительно. – А вы… никто не уступит! Пиво тебе попалось неудачное, так ты на дочерях это срываешь?!
Всем известно, что в ссоре не бывает полноценных аргументов, но, раз ступив на ухабистою дорогу ссоры, каждый думал, что авось она его-то уж выведет к победе. Это все равно что заяц, который попал в свет фар, уже не убежит с дороги и будет прыгать-скакать, пока не упадет замертво.
Мама начала бегать, курить и искать лекарства, но она уже их съела за те ночи, пока выл Кулик, – в общем, она забуксовала в своих страданиях. А папа не помогал ей выскочить из разъезженной грязной колеи страдания. Закаменел и в то же время раздулся, символизируя незаслуженную обиду. Тут-то и выяснилось, что Александре сегодня дали стипендию, и мама немного поторжествовала, что она давно угадала подлость своих дочерей (когда Александра дала Маше деньги на новую бутылку пива для отца).
– Да что ты, ей нужна косметика, всякая гигиена, обедать в институте, – стал защищать Александру папа (ему было неудобно долго быть символом незаслуженной обиды, хотя и почетно, конечно).
Маша вернулась с двумя бутылками «Туборга». Папа хотел извиниться, но мама его опередила:
– Извиняйся немедленно – родных дочерей разорвать на куски захотел! Сатурн, пожирающий своих детей!
Получалось: если он сейчас извинится, то поддастся грубому и безжалостному давлению, как будто бы он не свободный человек, который может выбирать линию поведения. И он попытался всем телом снова изобразить какой-то символ.
– Раз в жизни сказал! – повторял он шепотом.
– Если б папа этого не сказал, – просветленно сказала Александра, – он бы, может, с ума сошел, поджег бы что-нибудь.
Таисия думала: папа же всем видом извиняется – что еще надо!
Ну, мама еще немного поприставала: извинись немедленно, извинись немедленно. И устала. Легла и задремала. Но потом вдруг подумала: надо просветить до конца ситуацию… Не открывая глаз, она сказала:
– Как хорошо Саша выразилась… что папе нужна была отдушина.
Папа начал неумеренно расхваливать пиво:
– Какое хорошее пиво вы, девочки, купили, вкусное! – Нашел способ извиниться таким образом.
А мама подумала: все-таки лучше ясность в любой ситуации. Лучше бы он сказал: «Извините меня, пожалуйста, девочки!» И тут она заснула, слава Богу.
Она еще слышала, как за стеной шепотом задушенно хихикали дочери, как громко звучала где-то вода, в которую бросали запачканную свекольным салатом футболку, штору, Машин халат и блузку…
За стеной Таисия рассказывала папе очередной сон Вероники, который ей, Таисии, передали сложным, окружным путем, поскольку добровольных парламентеров кругом очень много, хоть пруд пруди. Сон сначала приснился Веронике, но тут ведь не проверишь, был ли он. А потом, художественно изменяясь, он пришел к Таисии через Наташку, Иру и Лизу. И все с удовольствием работали в этой цепочке, утверждая необходимость благородной бесполезности. У взрослых это вылилось в чеканную форму: «Я могу обойтись без необходимого, но не могу без лишнего».
– Как будто бы у меня, в ее сне, сделался… ковшеобразный подбородок и по краям еще бородавки… вдруг от себя, не потому что он еще был злой, а просто картина казалась более внушительной и завершенной, если эти бородавки расположены регулярно.
И папа от всего этого эстетства радостно засмеялся.
Александра вдруг сказала, что надо позвать Загроженко и испытать на нем новый тест, который дали на консультации: преподаватель велел взять мальчика-подростка десяти – четырнадцати лет.
– А я вам что, не мальчик? – удивился папа. – Давай я буду тестуемый, а ты тестующая. – Он поднял стакан с янтарным «Туборгом».
– Загроженко уже около четырнадцати, а тебе, папа, никак не меньше пятнадцати!
Александра начала собирать какую-то еду на стол, объясняя, что дети не могут отвлечься от импульсов, идущих от внутренних органов.
– Поэтому сначала Алексея накормим. И исключим посторонние влияния…
Таисия схватила веник и принялась мести пол. «Тургенев, сын Ахматовой, подняла пыль», – возмутилась Александра. Чего это с сестрой? Ее просили сбегать за Лешей, а она пол метет. Таисия остановилась, плачевно оттопырив губу: если пыль еще стирать сейчас, то от спешки что-нибудь уронится, и этому конца не видно! Она срочно стала брызгать во все стороны водой и забрызгала стенгазету Маши. «Да, Тургенев, сын Ахматовой», – подумала Маша, но промолчала…
В этот же день Вероника, одетая в платье, как из каталога, читала:
Мы в детстве были много откровенней: – Что у тебя на завтрак? – Ничего. – А у меня хлеб с маслом и вареньем — Возьми немного хлеба моего. Прошли года, и мы другими стали. И уж никто не спросит никого: – Что у тебя на сердце, уж не тьма ли? Возьми немного света моего…[1]Пока она читала, ее мало кто слушал, но все сидели тихо, потому что понимали: в частной школе надо вести себя по-светски, у них сейчас тут почти дворянское собрание. Только изредка жужжал у кого-то в кармане телефон.
Прочтя выбранное стихотворение, Вероника почувствовала, что она похожа на человека, спрятанного в этих строчках. Силы в ней появились, такие свежие, чистые. Теперь, когда Вероника ходит в частную школу, у них тут такие интеллектуальные вечера! А Таисия медленно утопает в своем бытовом болоте, бедности. «Возьми немного хлеба моего». Вдруг настроение стало гадким: хлеб – это ведь Загроженко, который дал буханку Таисии. Конечно, раздавала бы я это добро горстями. Но надо ведь его сначала накопить. А для этого – выучиться! Процедура чтения стихотворения дала Веронике не только силы, но и воображение. Не только воображение, но и интуицию. Сам собою придумался интересный сон, который мог бы зацепить слабые места Таисии.
– Будто идет Таисия с косточкой в руке, а мой Мартик к ней подбегает, он, как всегда, думает, что она с угощением к нему пришла. И говорит человечьим голосом: «Дай погрыфть кофточку…» Это Вероника рассказывает сейчас Наташке, чтобы та передала Ире, а Ира вручила бы сообщение Лизке. Через Лизку дойдет до Таисии.
– А Таисия говорит: «У меня самой есть нечего». Один конец кости откусила и дала Мартику, а другой сама как начала грызть – клыки растут. И кость тоже растет. Хруст такой стоит. Мартик прибежал ко мне, жмется…
Вероника осязательно чувствовала, что у нее длинные руки и она через Иру, Наташку и Лизку достает Таисию своим сном. Она заранее прикинула, как может измениться сон, пройдя через всю эту цепь. И снова почувствовала удовлетворение, как от чтения стихотворения Решетова.
Тася пригласила Алешу Загроженко с Лизой на тестирование. А Александра их накормила гречневой кашей, чтобы не мешали импульсы от пустых внутренностей.
– Ну ладно, – сказала Александра, когда все поели. – За работу…
Она попросила Алешу нарисовать вымышленное животное и подробно объяснить, где оно живет, чем питается, какие у него враги. А Лизе дала тест «Моя семья».
Леша изобразил какого-то Тянитолкая, одна голова которого мирно щипала траву, а другая окрысилась, зорко глядя с длинной жирафьей шеи. Ног много, они мощные и покрыты чешуей. Рядом двухголовый детеныш. Пасется.
А Лиза нарисовала в центре две доски. Александре на лекции не говорили о таких символах. Алексей объяснил, что это доски из-под бабушкиного гроба. И тут же добавил:
– Были доски, я их выбросил!
Себя с братом Лиза поместила по одну сторону досок, а маму – очень съеженную, ниже табуретки, – по другую сторону.
– Бабушка хотя бы ругала маму: чего ты лежишь, пупом в небо смотришь? А теперь… – сказала Лиза и увеличила на рисунке одну ногу матери. – Вот теперь у нее нога и болит!
– А! Мама скоро деньги получит за свои тарелки! И мы устроим мой день рождения, – перевела на веселое Таисия.
– Я вам устрою, по сценарию, – пообещала довольная Александра, ведь теперь у нее все есть для сдачи экзамена по психологии.
На самом деле душа у человека большая – всегда есть чем утешиться! Если нет денег, есть любовь, друзья, красота, доброта, ум, талант или юмор. Родственники есть. Мечты. И все помогает выжить. Да еще любовь к Богу и Его любовь к нам. Так думал папа Таисии. Он думал, как обычно, вслух. Еще есть красота природы – она радует…
– Или есть песик, верный товарищ, – добавила Таисия.
– Или книги, – подсказала Маша. – Я вот начала читать «Мастера и Маргариту», и знаете что: на первых двух страницах ни разу не повторяются слова, да! Ни разу! Чтобы одно слово два раза – нет такого!
Такой странный подход к чтению сильно поразил папу, но пиво – как всегда – сгладило остроту восприятия, и он не стал пускать умные едкости по семейным каналам. Только и сказал:
– Спокойной ночары. – И задал ежевечерний дежурный вопрос: – Что передать в страну снов?
На этот раз Таисия сказала:
– Передай, чтоб страна снов не отделялась от СНГ, а то визу долго придется оформлять…
Загроженко и Лиза засобирались домой. «У них свои порядки, но… неделовые все они, по-моему, – думал Алеша. – Если никто в семье не пьет, то деньги должны появляться сами собой… Что люди в свободное время-то делают – деньги зарабатывают. Я Таисию потихоньку перевоспитаю».
Алеша в субботу взялся за полцены мыть машины. Время было грязное – май, и водители охотно останавливались у забора с надписью: «Мойка машин». Мыли подростки машины с улыбкой, которая была частью униформы. Еще не читан Карнеги, и вообще ничего еще почти не читано, кроме букваря и пары учебников, но уже подростки схватили мысль: кроме хорошей работы, должен быть гарнир к ней в виде микропьесы общения.
Алеша в булочной часто разгружал хлеб, но там запах от буханок поднимался сухой, теплый и живой. А мыть машины надо в болотине, которая, конечно, текла к люку, но медленно. Выбросы из глушителя, замерзшие руки – и все это за полцены. Злость вспыхнула, которая здесь не к месту, Алеша ее прогонял, но она снова возвращалась.
Подъехал джип «чероки», красивый весь, никелированный, как раз для детей сорока – пятидесяти лет от роду. Вышел водитель, поправил сползшее на бок брюхо и сказал:
– Пацаны, за пять кусков вымоете?
Всего за пять? Ребята молчали. Но у Алексея костер внутри запылал еще сильнее.
– Может, за эти деньги ему еще и жопу помыть? – сказал он внешне спокойно, с каким-то удивлением полуинтеллигента.
Новорус с самого начала знал, что зарвался, – просто привык надувать на каждом шагу. Если б он не жилил, то и не разбогател бы быстро. Но хотя он был жила, долго терпеть не мог, чтоб последнее слово не за ним.
– Ну ладно, птицей налетайте, десять кладу. – Не видя поползновений к сервису, добавил: – И еще пять сверху!
Тут они поняли, что нельзя стоять, и схватились за губки и ведра. Еще они поняли, что Алеша – крученый пацан, он знает, где можно нахамить клиенту и не проиграть. А они не знают.
А сам он вдруг подумал: «Здесь можно шишку держать – денег больше будет».
В это время на стадионе чадила очередная скоротечная звезда эстрады, поддерживая кандидатуру Ельцина. Ветер доносил волнами бодрящий рев зрителей. А очередная машина неслась на подростков, как таран. Сначала ребята подумали, что водитель ненормальный и хочет всех скосить под корень. А он просто любил мастерски притормозить, с шиком, чтобы по маскам испуга, возникающим на лицах, понять важность своего существования. Зато он хорошо заплатил, не торгуясь и молча.
Алеша вытянул руку с губкой, призывая очередного клиента, и закричал:
– Голосуй или проиграешь!
И его крутость еще больше закрепилась в глазах компании.
Бабушка, которую они называли «проходной» (она каждый день мимо них ходила на рынок), продала им, как обычно, литровую банку картофельного пюре и шесть котлет – по две на каждого. Все было горячее. Алексея поразило, что Виктор быстро свернул из конфетной обертки жесткий длинный треугольник и стал пользоваться им как зубочисткой. Все у них пригнано без промежутков – Загроженко выставил им мысленно хороший балл. Деловые! С ними я смогу подняться.
Варя шла как миссионерка религии под названием «Я». Она всем насылалась, а люди отвергали ее миссию, думая, что она смутится. Наивность своих знакомых Варя прощала и приходила потом к ним еще много раз. Варе было уже под сорок, но на вид она была без возраста… У нее бывали периоды колебаний веры в себя, и тогда она казалась старше. Но на подъеме Варя лучилась юностью.
– Я пришла вас предупредить вот о чем: один ваш знакомый о вас плохо говорит… что вы даже кошек не кормите! Но все остальное я скажу, если поклянетесь молчать.
Папа Таисии только уселся поесть хлеба с мороженым салом и нарезал сало на крохотные дольки, стараясь их съесть еще до того, как они потеряют алмазную твердость.
– Сала хочешь? – спросил-предложил он.
– Если сама отрежу. – Варя взяла нож и отхватила кусок сала, а потом угостила себя еще куском хлеба. – Так вы клянетесь молчать?
А Таисия со страхом на отца смотрела и думала: неужели он сейчас поклянется на всю жизнь и услышит такую грязь, что потом будет всю жизнь?..
– Не буду я клясться!
– Неужели вы не хотите знать, кто ваш враг?
– Не хочу.
– А он, между прочим, распространяет о вас одиозные сведения. И может сделать что-то плохое. Я его знаю – он в силах!
– Ну, ты, Варя, наверное, уже отдохнула, поела – теперь давай расстанемся.
– Надо же! Первый раз вижу человека, который не захотел слышать, что о нем плохо кто-то говорит…
Таисия подумала: если папа первый отказался, значит, тетя Варя уже ко многим ходила. Хорошо, что мамы нет дома – с ее неустойчивым здоровьем. От тети Вари впечатление, как от сковородки, плоской и твердой: сама она непрошибаема, а кого хочешь может пришибить своей информацией.
Варя ушла, неся в себе чувство абсурдности происшедшего и обиды на то, что мир не так логичен, как на него надеешься. На лестнице она встретила радующуюся маму Таисии (она получила много денег за свою стопку тарелок).
– Дорогая, – сказала ей Варя вразумляющим тоном, – в нашем возрасте пора уже влюбляться в молоденьких мальчиков. Посмотри, на кого стал похож твой муж.
– Вот и влюбляйся – подай пример, будешь кому-то нужна, – с безжалостной радостью отвечала мама Таисии.
– Ты же знаешь, что у меня одна гордость – я девственница.
Представляю, что она навообразила себе за сорок лет, подумала мама Таисии. Варя на одном уровне с певичкой несчастной, которая агитирует ляжками голосовать за любимого кандидата в президенты. Спеть хорошие песни трудно, а показать голую ногу легко, ничего не стоит. И Варя, и мама Таисии не имели права друг друга осуждать, но осуждали.
– Сделаем два торта и два салата! – возликовала Таисия, когда мама достала деньги.
– Один торт и один салат! – отвечала мама.
– Один торт – это уже не день рождения, а…
– Но денег не хватит на два!
Папа Таисии думал: да сколько ж надо работать, чтобы денег хватало! Зачем говорить о том, чего не изменишь?
– Бродскому тоже, наверное, ни на что не хватило Нобелевской премии.
– Ну вот что за человек, не знает, а говорит всегда. – Мама Таисии только светилась изнутри, а теперь начала мерцать и чадить, пока совсем все внутри не потухло и остался один дымящийся фитиль.
– У денег есть коренное свойство – их всегда не хватает, – озвучил расхожую мысль папа с умным видом.
– Кстати, о деньгах, – вспомнила Таисия. – У меня в кармане два письма – взяла в ящике, – одно из налоговой какой-то, а другое от Димона.
От Димона письмо положили в Сашин ящик письменного стола. А письмо из налоговой инспекции словно током всех било. Общая мысль была: не зря, нет, не зря приходила Варя! Она, наверное, в курсе, намекала на того, кто сообщил в налоговую полицию! Уж лучше б выслушать ее рассказ о неведомом враге. «Явиться с декларацией доходов и всеми документами, подтверждающими…» Листок в руках папы подрагивал, продолжая посылать невидимые государственные силы.
– Раньше вот так же боялись повестки из КГБ! – возмутилась мама (в то же время ей захотелось боязливо посмотреть в окно: не подъехали ли экономические опричники с проверкой).
– Ты скрываешь миллиарды, – сказал папа Маше. – Ну-ка выкапывай немедленно и плати за всех налоги, а то ишь ты…
– Нет, это Таисия, наверно, закопала и в форточку каждый вечер смотрит – не на могилу Кулика, Кулик для нее – это прикрытие, а там баксы закопаны…
Таисия подумала: щенок так мучился, а Маша говорит… Но она уже знала, что не надо делать душным то семейное пространство, в котором живешь. Поэтому она обернулась веселой девочкой и сказала Зевсу:
– Это из-за твоих миллиардов к нам повестки ходят? Ну-ка живо! Выкапывай и плати… Грязный ты приходишь – наверное, по разным кладам шныряешь, проверяешь.
Маша хотела успокоить родных:
– Если приедут с проверкой, то увидят наши необыкновенные миллионные диваны. – И она обвела взглядом просевшие семейные лежбища.
– Русская вера в доброту властей неистребима, – вздохнул папа. – Я не знаю, как к ней относиться…
На лестничной площадке стали слышны легкие юношеские шаги и два баса: один принадлежал Петру, другой – неизвестно кому.
Петр зашел и сразу испугался, увидев столбняк, охвативший всю семью. Последний раз все были такие деревянные, когда у мамы и папы умер близкий друг дядя Изя.
У отца в руках развевалась какая-то бумажка. Единственный, кто сразу оживился, так это выглядывающий из-за плеча Петра бледный юноша. Как человек, очень сильно прикрепленный к реальности, он верил, что реальность ему за это всегда воздаст определенным количеством спиртных напитков.
– Вот в Абхазии нам вообще ничего не давали: солдатских не платили, не кормили… – сказал бледный юноша. – А вы меня узнаете? Я – Боря, который приходил к вам играть на компьютере, когда мы с Петром в школе вместе учились.
Он сразу понял, что бумага – весточка от государства. Но он уже наплевал на государство и не боялся его. Только дописывал на всех рекламах с «Хочешь похудеть?»: «Сходи в армию» (кривым почерком).
– Из налоговой полиции повестка!
– Расписались в получении? – спросил Петр.
– Нет! – просияла Таисия. – Из конверта.
– Тогда выбросьте. Всем мужчинам пришли такие. У нас в фирме все выбросили.
Бледный Боря, как утонченный режиссер ситуации, подумал: надо как-то усилить всеобщую радость, чтобы привести ее к известному благодатному результату.
– Старик абхазец нас один раз пригласил – долго торговался. А ему нужен был бензин. Такое гостеприимство проявил – настоящую «Хванчкару» нам выставил… И правильно вы сделаете, что выбросите. Нам тоже что сержант говорил? А мы: «Слушаем, товарищ сержант», – а сами налево все спускали… Поэтому немногие только умерли, большинство-то выжило.
Мама Таисии дала бледному Боре, тут же порозовевшему от приятных чувств, десятку, чтобы купил в ларьке чего-нибудь. И хотя эти деньги убавляли фонд дня рождения Таисии, но и она была радостная, потому что хотела веселья. Абхазия или Пермь – все равно приходится обороняться от натисков государства.
– Дырка-то спереди у него на шее откуда? Ранение?
– Нет, это у него от реанимации, с перепою – через трахею делали искусственное дыхание, отек горла был.
Тут Петр из воздуха уловил нервные волны матери и добавил:
– Боря сегодня пришел к нам устраиваться по объявлению, а мы уже плотника взяли.
Не успел он договорить это, как раздался звонок. Прямо с порога Боря отрапортовал:
– Купил спирт «Троя» – настойка на женьшене.
Папа с его привычкой читать мелкие примечания обратил внимание:
– Для наружного употребления.
– Все пьют, и я пил – и все в порядке.
Все посмотрели на дырку в отвороте рубашки – с глубоко пульсирующим морщинистым дном. Боря перехватил их взгляды и сказал твердо:
– Позавчера пили. (Понимай: с тех пор он не был в реанимации.)
Выпили по первой порции. Девочки устроились, как в партере, посмотреть и послушать.
– Снится мне… – начал Петр и остановился, спохватившись – нужно ведь подождать, пока женьшень дойдет до самых отдаленных клеток. – Снится мне, что веду самолет. И вдруг стюардесса вызвала меня к какому-то капризному пассажиру. Успокоил я его, вернулся, а в кабине все приборы управления исчезли. Самолет начинает разваливаться на части, пассажиры гибнут, а я тут же оказываюсь подсудимым…
– Что-то неладно с жизненными целями, – сказал после продолжительного молчания папа.
– А мне приснилось, что я бронетранспортер на цистерну спирта поменял. К чему бы этот сон? – Боря достал из кармана сдачу, пошелестел и сказал: – Дешевый этот женьшень…
Мама Таисии поняла намек, но поскольку она уже внутрь себя уронила росинку этого наружного растирания, то перевела разговор в какую-то гносеологическую плоскость:
– С Троей все время что-то не то происходит… Шлиман не ту Трою откопал, которая у Гомера. И вообще сейчас ученые доказали, что ту Трою так и не взяли.
– А мы ее все-таки окончательно возьмем! – с угрозой сказал Петр.
– Зачем спиртовую растирку назвали таким знаменитым именем и на этикетке лихой Гектор на колеснице скачет? Это Троя, что ли?
– Это троянский конь, – качнул недавно стриженной головой папа. – С сюрпризом внутри.
Маша понимала: непедагогично поощрять выпивки разговорами с нетрезвыми родителями, но они ведь редко разрешают себе расслабиться. (А если будут часто, придется их взять в крутой оборот – откажусь их постригать, маму откажусь подкрашивать.)
– Вчера Таисия, – начала речь Маша, – не могла сделать доклад о росписи древнегреческих ваз. Я ей достала «Мифы народов мира», Гаспарова, Куна, книгу Любимова по древнему искусству… Заливаюсь, диктую ей тезисы: краснофигурные, чернофигурные, последовательность времени, а Таисия в слезы – надо подробно, а она не успевает. Говорю: «Надоело мне это уже – давай я за тебя напишу, почерки у нас похожи…»
Слушали Машу с голубиным терпением: понятно, что общаться нужно с детьми, отец кивал головой – вот еще один квант общения прошел, вот другой, а мама только водила глазами, как бы провожая каждую частицу общения.
– Эмхакашка, блин, требует подробно, – добавила Таисия. – А у самой муж говорит: «Вера, я лóжу в сумку…»
Петр сказал Боре:
– МХК – это мировая художественная культура. Боже мой, ну и каково зерно этого сообщения? А, Маша?
– А таково! Я за Таисию писала, а она потом еще целый час перед зеркалом так причешется, сяк… одно примерит, другое не нравится. А выла: не успею, не успею!..
– Это же МХК в действии, – заступился за Таисию папа. – Эстетика поведения…
А взгляд Бори, как у всякого человека употребляющего, бродил по комнате в поисках предлога добавить. С каркаса психики обрушились все завитушки, придающие Боре вид обыкновенного человека, и при солнечном свете вылезло что-то колченогое, похожее на тарантула, чья экологическая ниша – океан алкоголя. Он увидел расписанную одуванчиками тарелку, сохнущую на подставке для учебников. Показывая на нее, сказал:
– Тут у одуванчиков ножки… просто… голые нарисованы! А на самом деле они покрыты волосками. Вот как у меня! – Он задрал брючину, все ожидали увидеть суперсамцовское непотребное буйство джунглей, но не успела мама еще почувствовать неудобство перед дочерьми, как услышала разочарованный вскрик: – Ё-мое! Все вылезли… от пьянки! Это точно. Все Абхазия виновата: они нас поили, эти черные! Ну, покажу я им на рынке – в День пограничника!
– Эти, на рынке, за тех отвечать должны? – удивился Петр.
«Да, все должны за меня отвечать», – взглядом показал Борис.
Петр сразу начал его выводить из зоны возможного конфликта. Борис хотя и поплыл от «Трои», но вертелся по прихожей очень быстро, так что все включились в его ловлю. Петр не мог понять, почему на одну ногу легко наделся туфель, а на другую – с трудом, и то при помощи ложки для обуви. «Гениальный человек изобрел эту ложку – надо бы Нобелевскую премию дать», – шептал Петр безрадостно.
Родители Таисии неуместно педагогически нажали, когда Петр и Боря ушли.
– Ишь, черные ему во всем виноваты, – сказала мама.
– Он в чем-то прав: в самом деле все за всех в ответе, – добавил папа. – Но и он, Боря, должен за всех быть в ответе… в меру своих сил. А он абсолютно безмятежен…
Мама продолжила: мол, Петру неудобно своего везения, что он не был в армии, вот он его и привел. И тут оба родителя разом вспомнили, как Боря угрожающе наставлял, как дуло, свою дырку между ключицами в коридоре и дно этой дырки пульсировало всхлипами.
«26 мая 1996.
Сегодня я поняла, что враг существует: он мешал нам все время, пока мы собирались в монастырь. Вчера только приготовили мне мини-юбку, а сегодня найти не могли. Вся темная одежда на виду была, а мы ее словно не видели. Наконец оделись с Машей, гостинцев положили в кулек с ручками, уже чуть не вышли, мама сказала: „С Богом!“, – и тут увидели, что на пакете „секс“ по-английски. Слава Богу, еще не ушли… Не буду писать, с какими приключениями покупали кулек – вообще нет ничего строгого! То голые, то реклама…
Мама написала по всем правилам письмо к матушке-игуменье. Сначала „Слава Богу нашему“, потом „Благословите, матушка!“.
Мы у матушки Марии попросили благословения на поход – на сплав. У нас нет прививок от клещей, и может помочь только благословение. Матушка, оказывается, была врачом до монастыря. Она прочла молитвы и потом подробно рассказала, какие места на теле надо чаще всего осматривать. Матушка нам подарила по книжке „Таинственный смысл символических священно-действий“. Завтра у меня день рождения – пригласила Алешу, Лизу, Наташу, Иру и Лильку».
«А какие будут призы за победу в конкурсе?» – интересовалась Маша. Александра вычитывала из книги «Все о детской вечеринке», что можно взять для дня рождения. Маша подумала: вот бы прочесть книгу «ВСЕ о будущей жизни»! Чудаки эти англичане или американцы (книга была переводом с английского): «Не стоит устраивать сюрпризы для малышей – они могут оказаться источником испуга…» Н-да, для шестилетней Лизы Загроженко все, что мы предложим, будет очарованием.
А в это время Таисия писала своим заунывно-аккуратным почерком; она чувствовала, что внутри букв скрывается что-то невеселое, и старалась их подвеселить всякими чернильными кудрями. Она сочиняла: «На кладбище встретишься с таинственным незнакомцем», «Если будешь грустить – лопну воздушный шарик возле уха»…
– Картошку выключите, – командовала Александра, – салат режем!
Она заглянула к Таисии и прочла надпись на открытке.
– Что это у тебя за ажурная вязь полуарабская, Таисия?
У них было сейчас такое раздолье: папа на работе, мама уехала за город на этюды. Перед этим она много раз повторила: «Не дай Бог, разобьете хоть одну тарелку! Я, конечно, все терплю, и это вытерплю, но будьте милосердны!»
– Так какие будут призы? – повторила вопрос Маша.
– Да вон медведи, – небрежно сказала Александра. – Они новые.
Сестры насторожились: как это, Димон выбирал, выбирал, а мы на призы их отдадим?!
– А вы почитайте, какую он ерунду мне написал. – Александра с деланой небрежностью дала сестрам письмо Димона.
«Дорогая Александра! Вчера вернулся из Москвы и сразу попал на похороны Васяна. У него было ранение в печень. Схватило в правом боку, вызвали „скорую“, потом сказали, что умер от старой раны. У него осталась беременная жена. После той войны еще многие раненые могли жить, а сейчас напридумывали всякое оружие, чтобы раненые не вставали в строй и не продолжали воевать. Всякие хитрые зазубренные осколки и т. д.
А в Москве мне мама купила куртку, мама сказала, что я в ней „чистый жених“. И ботинки из мягкой и удобной кожи, но по виду грубые, как из каталога! Еще мы были у платного психоаналитика. Он сказал, что военные действия останавливают развитие психики человека, делают его похожим на ребенка. Но от меня зависит, хочу ли я вернуться к образу взрослого человека. А я про себя знаю, что очень хочу. Ты сказала, что чувствуешь себя со мной, как бабушка с внучком. И ты, наверно, боишься, что я всю жизнь буду кричать: „Сержант, ноги!“ Но на самом деле я чувствую себя с каждым днем все здоровее: память улучшается, я ее тренирую, заучиваю из хрестоматии стихотворения – это мне посоветовал врач. Каждое утро делаю пробежки, хочу поступить в школу милиции! Вот увидишь: через десять лет я буду главным милиционером района.
Александра! Когда я тебя вижу, то забываю, что где-то сейчас есть война и кровь! Без тебя я все время нахожусь там!!! Первого июня, как сдашь психологию, приходи к пяти часам к магазину „Цветы“, я буду ждать тебя в новой куртке и ботинках. Готов ждать хоть сколько, если экзамен затя…»
Маша, которая читала письмо, заплакала, а Александра и Таисия уже чуть ли не с самого начала письма вытирали слезы.
– В июне он будет в ботинках высоких разгуливать, – сказала Александра сырым голосом сквозь нос. – Взрослость прямо через край.
В это же время их мама стояла среди желтых колокольчиков и писала речку, которая внизу: такое ощущение, что ее уронили с небес давным-давно. Этюд пренебрегал углами и сворачивался с каждым прикосновением кисти. «Надо пореже тарелочки расписывать, – решила она, – а то и дома уже пружинят с углов и закругляются для тарелочки, и мир-то весь глуповато-круглый». И тут она заплакала, объяснив себе, что вспомнилось письмо от Димона, прочитанное рано утром, перед выходом из дому. Оно валялось на столе у девочек – среди всех приготовленных ко дню рождения вещей: сливок в аэрозольной упаковке, обещающих буквами на крутых упитанных боках абсолютную бескалорийность; стопок открыток; там же были размягченные на газовом жару старые пластинки, которые уже не на чем было проигрывать. Дочери накрутили из них каких-то раковин, горшков, цветов и пейзажей с флажками (флажки они вырезали ножницами с краю размягченной пластинки). На самом деле мама рыдала не от письма, не об ухудшившемся восприятии мира, не о жизни, которая пропадала, а потому, что в это время дочери ее проливали хоровые слезы.
Проплакавшись, мама почувствовала, что кругом разлита необыкновенная свежесть. Одной рукой она ухватилась за бутерброд, а другой рвала в подарок дочери желтые колокольчики…
Когда она вошла, первое, что бросилось в глаза, – зловеще раскинутый на середине дивана тонометр. Ей бы подумать, что кругом жутковато чисто, то есть дети ушли гулять, но она первым делом бросилась в ужасную мысль, что прибрались специально перед вызовом «скорой помощи». Ровно застланные покрывалами кровати напомнили ей о существовании операционных и реанимаций. Перед ее глазами количество кроватей стало расти. И в это время в голове взорвался звонок. Оказалось, муж забыл ключ и не мог попасть домой. Иногда он приходил и нажимал на кнопку, а потом продолжал ходить вокруг дома, представляя для разнообразия, что он сыщик или подпольщик. Остатки таинственности он еще не успел стряхнуть с лица, поэтому мама их увидела и объяснила в духе множащихся кроватей. Ей стало еще дурнее.
Но потом, когда все выяснилось, каждый получил за свое. Оказывается, дети разбили тарелку и решили, что за это они уберут хорошо после дня рождения и пойдут погуляют, чтобы мама успокоилась к этому времени, осознав, что даже наиболее удачно расписанная тарелка, где она подрисовала волоски к ногам голенастых одуванчиков, чтобы не походили они на лысые ноги бледного пьющего Бори, не стоит обиды на семью…
Мама отбушевала. Пришел Петр с подарком в виде электронных наручных часов. Здоровье мамы на глазах вспучивалось, росло и хлестало через край. Дети зачитали послание агентства «РИА Новости»:
– Сегодня неизвестный инопланетный террорист пытался захватить расписанную тарелочку и угнать ее, но при попытке захвата заложников в виде веселящихся детей не справился с управлением и врезался в кота Зевса…
– Что, вы Зевса покалечили? – снова затревожилась мама.
Тут же черный сиамец раскрыл свою пасть и сказал с достоинством: «Мя!» Понимай так, что «я у вас наиглавнейший, беспокойтесь обо мне непрестанно».
Девочки рассказали брату, что гвоздем дня рождения оказались не американские штучки, а тонометр для измерения давления. Сначала Лиза сказала, что у нее заболела голова, Александра измерила ей давление, а потом все встали в очередь – у каждого оказался свой болезненный орган. Потом каждый захотел научиться мерить давление, и всех захватила такая деловитость, что Алеша подпрыгнул и уронил тарелку…
Петр взял в руки гитару, которая всегда лежала на шкафу у родителей (в семейной его жизни гитара пришлась не по нутру жене).
Солнышко в небе ярко горит, На берегу тихо церковь стоит, Снегом покрыта в зимний мороз, Немало пролито в церквушке той слез,– пел он стихи, которые Таисия сочинила давно, еще когда ей было лет шесть.
В общем, ничто не предвещало неприятностей. Петр засиделся и остался ночевать, а за завтраком просил сестер не смешить его, потому что у него и так болит рот. Он взял сигарету, книгу и скрылся в туалете. Сразу же оттуда донесся его громкий хохот. А сам говорил: «Не смешите, не смешите!» Наверное, взял с собой «Трое в лодке» Джерома, подумала мама. Она на кухне мыла посуду, а Таисия запаковывала мусор.
Из-за стены от соседей полилась старая детская песенка: «Дважды два четыре, дважды два четыре – это всем известно в целом мире!» И тень пробежала по маминому лицу: когда эта песня считалась модной в детских садах, мама была молодая, самой старшей, Наташе, исполнилось восемь, а Петру – шесть стукнуло, Александре – еще только три, и сколько сил… Боже мой, она преподавала в Доме пионеров (вела кружок), каждую неделю ездила на этюды…
Петр вышел из укрытия, неся под мышкой «Пеппи Длинный чулок».
– Ма, у тебя хорошо Высоцкий получился, дай мне эту тарелку, а? Я на день рождения подарю Витале, а то денег-то нет…
– Да хорошо, бери. – Она не любила, когда сын начинал хвалить ее работы (ничего хорошего это не предвещало: либо денег попросит, либо еще чего – выручить из беды и пр.). – Слушай, возьми лучше Гомера – тебе все равно, что подарить, а мне трудно будет продать Гомера, понимаешь… Я хотела Николу Угодника, а вышел почему-то подслеповатый Гомер.
– Гомер, бедный, ждал-ждал, когда его нарисуют, – не дождался. И вылез без очереди, – с одобрением отозвался папа о древнегреческой предприимчивости (и ушел на работу навстречу новорусской предприимчивости).
Петр завязывал галстук и в то же время выпрашивал тарелку с портретом Высоцкого, не прямо, а говоря про то, как обычно простоватый Высоцкий похож на Есенина. И он показал себе в зеркале слегка провисшую челюсть и дымные глаза. А у тебя, мама, такое у него лицо: горького много.
– Максима Горького? – не поняла мама, хотя на самом деле все она поняла: у нее хотят отнять ее золотую мечту о недельном пропитании. – Я уж пыталась сделать копию, чтобы в семье осталось, – не получилось. И правильно, что не получилось, потому что удача – всегда чудо, – добавила она. – Руки те же, краски те же, и я та же самая, а получился не Высоцкий, а бандит просто.
Петр уже привык в своей фирме «Урал-абрис» вести переговоры до конца, поэтому он ввернул угодливую загогулину в рассуждении: у Витали пробовали его собственное вино из смородины. Просто «Вдова Клико», даже лучше, с какими-то лучистыми пузырьками; когда они лопаются, ощущение звездочки на языке. Он спросил: как его делают? Они говорят: год на год приходится. Правильно, что чудо или есть, или его нет.
Мурка и Зевс имели на этот счет свои взгляды, которые и выражали, бросаясь под ноги и требуя себе чуда в виде американского птичьего фарша.
– Ма, помоги занять полмиллиона, – сказал Петр. – Одному старичку надо приватизировать комнату, а когда мы с экс-женой разменяем квартиру, это будет моя комната.
– Кошки, – закричала мама, – как вы не понимаете, что мы живем не для вас в первую очередь? Да что кошки – дети не понимают. Ты думаешь, отец получит, так мы голодать должны, деньги все тебе отдать? Такому – метр девяносто, посмотри на себя!
Отработав попытку, Петр поспешно обулся и убежал, сказав Таисии:
– Арпеджио, арпеджио и еще раз арпеджио!
Он вчера начал учить сестру играть на гитаре.
А мама села на пол, изнуренная разговором, и начала бесчувственно повторять: «Раньше бы я ого-го… да, раньше бы… я! Я бы его заставила впитать весь многоцветный поток того, что я думаю о нем! Но, видимо, остались только проторенные дорожки, бесцветные, по которым вращаются чахлые слова… Правильно ли мы сделали, что отдали ему и его жене с таким трудом выколоченную квартиру? Все-таки правильно. Если б мы ее объединили с нашей, жили бы – не приведи Бог!..»
– А посмотри на Гоголя, – сказала Таисия. – Материны деньги все истратил! Она ведь их как наскребала со своего поместья. – Таисия представляла поместье как нечто вроде продажи тарелочек. – Гоголь их в опекунский совет должен был сдать, а он на эти деньги уехал за границу. А мы читаем его «Рим» и думаем: как хорошо, что он пожил в Италии!
– Так это же Гоголь! Сравнить разве…
– Для русской литературы он Гоголь, а для своей матери он просто сын.
Маша пришла с походными спальниками и застала хвост разговора.
– Петр не украл, не убил, на гитаре нас учит и ничего за это не требует, – строго заметила она.
Таисия вразумляюще сказала:
– Ну что вот так сидеть, мама? Теперь волю надо Божью принять: нетерпение тоже ведь за грехи наши. Может, надо курить бросить тебе?
Мама поднялась с пола, достала из морозильника фарш и начала его резать кошкам. Но она не могла сразу бросить бормотать. И бормотала:
– Резать-то трудно, а зло-то делать легко, все разрушительное легче дается, а добро – всегда чудо… – Вдруг она почувствовала заигравшую по всем суставам бодрость. – Если добро непредсказуемо, то оно может вот сейчас в любую секунду выскочить!
Мечты, повисшие в воздухе
Когда все в России будут богатыми, мама снова разрешит дружить с ними – ведь они будут одеты очень красиво. Она повторила слова матери Изольды, что Россия расцветет, понимая под Россией что-то большое, доброе, которое сделает за всех… для всех… Да, с ними трудно было, тяжело. В походе Маша говорит: «Слушай, Вероника, не твою конфету сейчас унес из палатки зелененький человечек?» Посчитала – точно, одной «Ласточки» не хватает. Стало так интересно, но я спросила: «Почему не остановили?» «Так он током бьет – зеленым…» Это было два года назад… Может, папа без ранения из Чечни придет, он же гаишник – на посту стоит, не так опасно. И от радости, что здоровый, разрешит дружить – еще до богатой России… Мама тоже все из мечтаний брала. Сначала взяла из мечтаний мужа, а он оказался пьющим. Тогда она замечтала о деньгах. Деньги надежнее мужа. Они не пьют… А у Таисии на дне рождения, Наташка рассказала, измеряли давление. Вечно они такую глупость интересную придумают, какой ни у кого не бывает. Не могут ничего купить вкусного или нарядного, вот и приходится тужиться головой. Хорошо, что мама запретила с ними дружить, а то пришлось бы тратиться на подарок. Наташка сказала, что Загроженко подарил Таисии открытку с надписью «Не бойся». Там пацан с пацанкой, пятилетние, в песочнице. Наташка еще сказала: «Такое шоу было вчера!» Таисия такая упорная, бьет в одну точку, в конце концов может Алешу заграбастать. А зачем он ей нужен – нам больше, помогал бы в челночных поездках. На Ближний Восток. В сочинении Таисия проговорилась, будто бы в доказательство, что никакой ревизор не запретит чиновникам воровать в будущем. Она привела случай из прошлого похода: один мальчик рисовал свою фамилию на стенах турбазы. Мелом. Директор раскричался, что приезжает губернатор, надо все стереть. Мальчик стер, но сказал: «Я потом снова все обратно напишу, когда губернатор уедет…» Юто был Загроженко, а у нее нисколько стыда нет, рассказала, что нужно зарыть под окном у себя носки кандидата в любимые. Тогда не уйдет! От тебя не уйдет. Зимой-то нельзя было зарыть – снег растает, и носки уплывут вместе с хозяином. Сейчас бы можно, но как у Алексея его носки выманить? Может, подарить – в обмен? Одно место есть возле подвального окна, как раз без асфальта. Там и закопаю. Аварийный вариант: ящик с цветами, у нас на балконе. Но, наверное, не так будет действовать…
Таисия строила штабик на дереве. Такой был ясный день, что хотелось быть окруженным со всех сторон этим мелким золотым светом. На развилку трех толстых веток она положила доски, и папа прикрутил их многократно толстой проволокой. Получился удобный помост. Таисия решила добавить уюта, соорудив крышу из полиэтилена. Она себя уговорила, что не для себя строит, потому что для себя, такой большой, стыдно. Как будто бы она заботится о маленькой Лизке Загроженко.
– Какой штабик! – изумлялся бодрый старичок на лавочке. – Я в твоем возрасте уже в ремеслухе был. Ну… Лебедь придет к власти, всех этих толстожопых малолеток из штабиков и подвалов, где они известно чем занимаются… он их всех сгребет и в какие нужно ремеслухи… рассует.
Поскольку старичок не к ней обращался, а как бы к невидимому митингу, который шумит все время во дворе, то Таисия ничего не ответила.
– Таисия, ты боишься смерти? – спросила Лизка. – Я боюсь! Смерть – это большое и нигде… Бабушка когда умерла, я думала, что на время. И все ждала, что она придет из магазина.
Таисия начала объяснять Лизке про рай: что он как штабик, только там солнце никогда не заходит. Там все время такое сияние, и на райском дереве много всяких жилищ, и там ангелы и души ходят по стеклянному воздуху и беседуют. Лизка очень обрадовалась: точно, в раю все будет здоровое у нее, в животе не будет болеть.
С бодрящим аппетитом гусеница, вся в павлиньих глазках, пожирала древесные листы. Лизка с завистью смотрела на это: у гусеницы вокруг еда есть, поэтому она такая красивая и здоровая.
– Как хорошо у нас, – сказала Лизка, – как дома! Теперь давай собирать на стол.
Таисия быстро побежала в дом и принесла три бутерброда и компот в бутылке из-под колы. И Лизка начала соревноваться с гусеницей. Много жизни вдруг навалилось на штабик. Самец лимонницы шарахнулся прямо к носу Таисии, следуя по невидимой дорожке запаха. Шмель пролетел, похожий на самолет-невидимку «Стелс». Кошка Мурка наведалась узнать, нельзя ль отсюда достать этих привлекательных птичек. Комок комаров свалился сбоку на дегустацию. Таисия взяла Мурку и начала считать пульс.
– Сто двадцать ударов в минуту, – сказала она. – А у комаров, наверно, молотит вообще… Чем меньше животное, тем чаще сердцебиение.
Лизка радовалась: два дела сошлись под крышей штабика для нее удачно. Она и ест, и слушает уж чересчур для нее умную Таисию.
К старичку прибавилась Изольда, мать Вероники, дочь Генриетты. С Мартиком, сыном Бенджамина и Лейлы. На короткое время они со старичком образовали такое судящее-рядящее единство по отношению к миру.
– Выборы-то на носу, – сказал старичок. – Лебедь-то придет! Молодец! Он молодец наш… железным крылом!
– Точно, – откликнулась Изольда. – Муж звонил позавчера из Чечни и сказал: тут такое творится! И обложил все радио и телевидение, которые тысячную долю не показывают. Мартик, не царапай дерево. – На секунду пронзительное чувство зависти у нее мелькнуло, потому что она вспомнила, как строила в детстве штабики, и тут же утонуло под тяжестью Турции…
Изольда с презрением оглядела проем между домами и вместе с ним весь мир. В этом мире, как ни трудись, как ни старайся жить достойной жизнью, приходится страдать, как всем. Хотя все-то… столько сил не прилагают.
– Толстого сейчас читаю. – Она еще прочнее обжила скамейку. – Решила «Казаков» почитать, чтобы понять, что там творится, на Кавказе…
Пришлось прочесть Толстого, вот как жизнь поворачивается – вдруг пронзило ее изумление.
Но у нее, как у делового человека, это не пропадет! Глядишь, в самолете расскажет летящим в Стамбул. Или в гостинице после тяжелого дня езды по складам. Она утвердит среди челночниц свои позиции как умная.
Мартик отчаялся присоединиться к Лизке и Таисии и был уведен.
– Правда, что в походе все комары огромные, как лошади? – спросила Лиза.
– Да, прямо летающие лоси такие, причем ветер, а они, как лодки, против ветра выгребают могуче – и к тебе!
Маша вышла из подъезда усталая, с сумками: ей еще с Вандам Вандамычем на оптовый рынок за консервами.
– Таисия, надо рюкзаки собирать, а ты в штабик закопалась. Вон Мережковский тоже на дереве домики строил, так Достоевский ему сказал: «Страдать надо!», – рыночным голосом разнесла на все окружающие дома Маша.
«30 мая 1996.
Дневник! Хорошо, что ты у меня есть! Хотела писать о главном, а оказалось, что бывает Самое главное! Печорин жаловался, что жизнь ему скучна, а интересны только набеги на Кавказ. Вот я бы ему подсказала, если бы оказалась рядом, что на самом деле жизнь не скучная и интересная, а главная и самая главная. Идет полосками такими. И вот я это пишу. Сон про то, что Загроженко зовет меня в свое царство, видимо, указывал на… предсказывал сегодняшний разговор.
Алеша сказал, чтобы я думала об этом весь поход. Дал мне срок. Он мне сказал сначала: хорошо иметь папу, маму и много сестер, которые взрослее.
А взрослые – умнее.
„Права Александра, они все ищут маму!“ – подумала я. Но все-таки Алеша не до конца такой, как Димон!
Он сказал так: „Я становлюсь совсем взрослым, я зарабатываю. Но… Ты видишь, какая Лизка бледная. Денег у меня сейчас много, я старушку нанял, Кондратьевну. Она все заедается, хотя готовит хорошо, и у Лизки живот не болит. Деньги есть, Лизка просит конфет, а Кондратьевна: «Семь лет мак не уродился, и голода не было». Отдохнуть после мойки не дает. «Семь всего тысяч я потратила на рыбу!» – «Спасибо, баба Валя». – «Три тыщи еще осталось». – «Хорошо». И так каждый вечер. Давай, Таисия, ты веди наше хозяйство!“
Я испугалась и про другое говорю: „Кондратьевна взрослая, а я нет“. Алеша: „Мне кажется, что, кроме тебя, на свете никто нам с Лизкой не нужен“. Потом он подумал и добавил, что законы знает. „Когда мы распишемся и в церковь сходим, тогда будет все, как у всех. Возле меня тебе нечего бояться“.
„А мама где?“ „Не было ее, потом сообщили. С инсультом с перепою лежит в реанимации, меня не пускают…»
Таисия купила огромную ручку – полметра длиной, так как думала, что она будет помогать ей писать дневник, ведь ручка раскачивалась, как дерево. Но оказалось, что нужно все время тормозить. А не успеешь затормозить – ручка сама по инерции ведет линию…
«31 мая 1996.
До сих пор у меня был какой-то выход. Двойку получила – можно исправить. Да и всего один раз я ее получила! С Машей поругаюсь – можно быстро помириться. Или даже без всего: ходим-ходим, и сам собой начинается разговор. А здесь ничего само собой не случится. Что ни сделай – все равно плохо будет. Дневник, если б ты был компьютером! Ты бы смог для меня рассчитать правильный способ поведения. Мама сказала (сегодня я всю ночь кричала): „Наверное, не самая большая беда в жизни!“ Юто мамина любимая присказка по жизни. Я ее с детсада еще помню. Мама часто к ней добавляет: „Не рак, не смерть, не украл, не убил“. „Двойку получила – не рак, не смерть“. А папа тут же: „Не землетрясение, не извержение вулкана“.
На самом деле, если я уйду жить к Алеше, варить еду Лизке, то беда! Если мы в походе задержимся, я уже не могу один день терпеть. Домой хочу! Сегодня Александра умывалась и вдруг нас крикнула. Мы с Машей прибежали. И видели, как из таракана-подростка вылез большой таракан. Оказывается, они меняют шкуру и так растут. В одно мгновение. Если б я могла так мгновенно стать взрослой. Правда, вылезший таракан был весь белый, но он быстро коричневеет».
Год назад Таисия была в гостях у богатого дяди Вити, маминого брата. Она вспомнила, как писала каждый день по письму: «Мама, забери меня отсюда, я уже не могу терпеть! Домой хочу!» Хотя дядя Витя был очень веселый, каждый день своим детям и Таисии покупал по ящику маленьких бутылок колы. Пепси-колы!
«Алеша сказал: решай в походе! Я вообще не люблю ничего быстрого, а поход-то быстро закончится.
Если скажу „нет“, он найдет другую! Но так и будет. Да и родители все равно не отпустят меня. Если я скажу: „Подожди год“? Но что за год изменится? Да и Алеша не будет ждать. Теперь хоть в походы не ходи. Все равно все отравлено.
Думать, думать о супах Лизке. А чего думать, когда ничего не могу придумать».
Есть такие чувства: начинаются в тебе, а заканчиваются в родителях. Так чувствовала Таисия. Если против желания родителей она поселится у Загроженко, то эти чувства будут болтаться в пустоте. Оборванные нити уже не срастутся. Они снились ей, когда гостила у богатого дяди Вити. Похожие на длинные макароны, кудрявые, которые варила тетя Лена, очень вкусные и дорогие. Оборванные нити уже не могут срастись! Таисия у дяди Вити всех разбудила, когда выла ночью во время этого сна.
«Ну вот, старик, до похода осталось два дня!
Подошла ко мне Александра и увидела слово „старик“. Говорит: по Фрейду, это разборки с образом отца. Если ты дневник считаешь замещением, то потом нужно символическое убийство отца. Блин, заколебали меня уже со своим Фрейдом, ну его на фиг».
– Мама, на остановке написано:
«Пусть накажет меня могила За то, что я ее люблю. Но я могилы не боюся, Я все равно ее люблю!А при чем тут могила? Я не понимаю – могила какая-то…
– Таисия, могила тут для подчеркивания силы любви. Больше ни для чего. Поняла?
Таисия заметила, что если она скосит глаза и вдохнет, задержав дыхание, то вокруг все распадается, умирает и гниет на глазах. А если она вдруг задышит глубоко и посмотрит прямо перед собой, то все вокруг становится молодым, оживает, в ушах появляется веселый звон.
«2 июня 1996.
Вчера ходили просьбу Александры выполнять. К Димону! Вместо нее. Маша увидела: летит пушок одуванчика. И пока он летел, я успела загадать желание, чтобы Димон был счастливый в жизни! Мы подошли к „Цветам“, еще не успели ничего сказать. А Димон уже увидел нас, ссутулился весь. Мы его уговаривали, что вместо нее он найдет другую – еще лучше! Я сказала: „Димон, ты не горбись, чего вниз-то смотреть – там черт. Смотри наверх, где Бог“. Димон купил нам по мороженке „Юскимо в шоколаде“!»
Маша вгрызлась в эскимо, и чувствовалось, что для него пошли последние секунды существования. А Таисия выводила языком задумчивые вензеля на шоколадной рубашке. Они встретили папу. Он закончил урок в одном офисе и сейчас шел в другой. Новые русские сейчас учат языки, потому что у них гости то из англоязычных стран, то из Германии. И не в том дело, что каждую секунду под рукой нет переводчика, но ведь хочется соблюсти тайну сделок. Юра из Кунгура сказал вчера, что одна деловая немка заявила: «Не буду есть ничего из того, что мыто вашей водой». Холеры боится. Юра так обрадовался, что понял ее! И подарил папе американский утюг. Впрочем, оказалось, что утюг не работает, но папа и мама решили ничего не говорить кунгуряку. Он и так странный: недавно поставил памятник Гоголю во дворе фирмы. На самом деле, может, так и надо Гоголю ставить памятник – по-нелепому. Позолоченный гипс выглядел постмодернистски среди тесно растущих кустов шиповника. Они свежие, цветы, а Гоголь кричаще-золотой и уже пощербленный сыростью. Но Юра-то считал, что сделал нечто вроде святилища одного из богов литературы! Хотя в детстве он вообще не читал Гоголя, но ощущение священности писателя в душе как-то появилось. Очередная загадка русской Психеи.
А уже этот скверик стал местом прогулок и даже вроде медитаций. Иные забредают нечаянно в фирму и покупают телевизор-другой. Папа Таисии думал: неужели памятник Гоголю – сознательный рекламный ход или деловитость вошла в бессознание и подает оттуда причудливые сигналы? Когда у человека есть возможность все в выгоду обернуть, он менее агрессивен. Один покупатель подал на Юру в суд за то, что не был принят в ремонт его телевизор еще до истечения срока гарантии. Сервисный мастер уверял: прибор уронили! В суде будет свой эксперт, и Юра уже рассчитал, как превратить поражение в прибыль:
– Позову корреспондента, наверно, надо его угостить… Ну, чтобы он меня не воспевал, не ругал, а как бы дал объективное описание, что фирма безропотно подчинилась законам. И принесла извинение, хотя этого не требовалось по решению суда. Вместо сломанного я выдам новый телик, зато клиенты прочитают, узнают, придут…
Рядом с папой шли два новых русских, разговаривали по радиотелефонам и одновременно ели мороженое. У Маши осталась треть эскимо, и она отдала его папе.
– Вот и хорошо, – сказал он. – А то ты так поправляешься, уже, наверное, больше семидесяти килограммов. Надо бегать по утрам, Маша!
– Если б знала, что ты так скажешь, ты бы ничего не получил!
– А я и не просил нисколько.
– Просил – в тонком плане!
Он понял давно, что другие взрослые как-то взрослее его, но вот уже и младшие дети обращаются с ним поучительно… И он горестно свернул налево, к ядовито-золотистому Гоголю, погруженному по пояс в пьедестал. Его известняковые глаза были ниже среднего уровня глаз проходящих, и поэтому он как бы с шалым подобострастием заглядывал снизу в лица прохожих с немым вопросом: «Ну, как вы тут? Меня еще не забыли, люди добрые?»
Папа Таисии вошел в вестибюль, оформленный известным пермским стилистом Сергеем А. Буддийские метровые уши с оттянутыми мочками выступали из стен. Раскрашенный алебастр призывал к сохранению секретов предприятия. Собрались уже все, а Коряков никогда не придет. Неделю назад его взорвали прямо в джипе. Тут в голову сразу залетел анекдот о гробе для нового русского с четырьмя дырками в крышке – для пальцев веером. Он подивился циничности мысленного потока.
Коряков говорил, что «если такой дурак, как Лимонов, Эдичка, знает два языка, то уж давайте навалимся, братва!». У него были какие-то пересечения в жизни с известным коммунистом. Приезжая из Москвы, Коряков базарил о Гребенщикове, который подарил ему свою раннюю картину, один раз даже принес ее показать – какую-то смесь Малевича с Макаревичем, на взгляд папы. А после смерти выяснилось, что у него в столице бизнес на стороне и его оборот там доходил до двухсот миллионов долларов. Это как раз те большие цифры, где очень может быть, что жизнь укоротят.
Все коммерсанты стояли у открытой двери в торговый зал и вовсю смотрели в ряды телевизоров, которые хором показывали «Дубровского».
– Евгений Иванович, а кто написал «Дубровского»? – спросили у папы Таисии.
Ах, если бы это была шутка, можно сказать: «Писемский», – но с ними, бизнесменами, как с детьми, неловко их обманывать.
– А по-моему, Тургенев, – сказал Юра из Кунгура.
– Лермонтов или Толстой? – полуутвердительно спросила секретарша Аня.
Мифологическое сознание, подумал папа Таисии. Они считают, что есть один автор в разных ипостасях: Пушкин, Лермонтов, Толстой; их священные имена могут меняться: вместо Лермонтова – Тургенев (но он уже на вылете из мифа). Таким образом живет литературная троица. Сказали они: «Да будет литература!» И стала литература…
– «Дубровского» написал Пушкин, – грустно резюмировал свои размышления папа Таисии.
Но ведь они тоже страдают. Юра оставил в родном Кунгуре первую жену, здесь нашел молодую балеринку. Но это еще не страдание. Дочка от первого брака звонит отцу: «Папа, ну почему бывает разрывная любовь?» Ей шесть лет. Всего пермского кордебалета ему бы не хватило, чтобы забыть этот телефонный разговор.
А вот стоит и смотрит на борьбу Дубровского с медведем Пермяков по прозвищу Веник, но не потому, что у него проблемы с интеллектом… Он выпустил за свой счет книжку своих стихов «Тоги», по одному экземпляру раздал братве. Все прочитали только первую страницу, потому что у деловых людей нет времени всякие книжульки перелистывать.
Веник, замкнутый сам на себя, Стоял в углу бытия. Эта вещь, себя возлюбя, Просила внимания.Только Таисия интересовалась бедным Пермяковым. Она спрашивала пару раз: «Как живет Веник, замкнутый?» – «Зарабатывает. Наметает три миллиона в месяц».
Он раньше думал: зашибу бабки – издам книгу, и все увидят меня! Мой задавленный коммунизмом талант. А ведь кто-то должен ответить за это.
Тут вмешался железный совок. Он был, как Феликс Железный. Один он смог разрубить замок Базаров бесполезных…Разместил он книжку в пяти центральных книжных магазинах, полгода прошло, купили только одну. Если б не купили и ее, было бы не так унизительно. Ее купила критик Татьяна Г. Она собрала несколько таких книжек и чохом высмеяла их в статье под псевдонимом Бомбелла Водородова. Видимо, ее посещала мысль, что люди, имеющие деньги выпустить книгу за свой счет, имеют деньги для того, чтобы сделать жизнь маловыносимой для борзых критиков.
«…близко подошел с образом веника к постмодернистским изыскам в области органов выделения… остался последний решительный бой! Таланта г-ну Пермякову это не прибавит, зато поставит его в первые ряды штурмующих остро пахнущие вершины пермского Поэзиса». Если бы он знал, что критикесса тоже пострадала от тоталитаризма, как и он, – невостребованностью там, где бы она хотела. А она очень хотела!
– Ты устрой себе презентацию, – предлагал Пермякову Евгений Иванович. – Раздай книжку прохожим на улице…
– Это для меня удар ниже пейджера, – сказал Пермяков и снова повел окрест взором, надеясь найти виноватого. – Я лучше сожгу!
Ему казалось, что огонь очистит какое-то пространство внутри его психических декораций для новой, неподдельной жизни. А если не получится, то он так и представлял, как будет разводить руки и сокрушенно рассказывать: «Пришлось сжечь – художник никогда не востребован в этой жизни». Он хотел эту жизнь оправдать, но чувствовал, что все клонится к высшей мере… Даже звонил в редакцию газеты: «Кто эта Бомбелла?» Он хотел только спросить: до конца ли она прочла его сборник? Было бы легче, если до конца, но, с другой стороны, вина ее выросла бы в непоправимую, ведь человек, прочитавший до конца, не может так писать! В крайнем случае он затащил бы ее в одно из двух мест, где решаются дела: в постель или в ресторан, – уж тогда бы она про него не так записала бы…
– Нун, бегинен вир ди штунде! – призвал папа Таисии.
«3 июня 1996.
Сегодня мы шли с мамиными тарелками. Купили белых двадцать штук. Навстречу Алеша! Он был в секонд-хенде: покупал себе непромокаемый комбинезон мыть машины. Он сказал мне: „Думай в походе!“ А Маша сразу догадалась, что о чем-то очень уж больном. И начала у меня выпытывать, о чем думать нужно. Конкретно! Я ей сказала: знаю такую частную фирму, которая за умеренную плату удаляет излишки любопытства. Маша по-партизански стала удаляться от меня. С гордым видом. А поскольку ей некуда было идти, да и мама ждала тарелки, то мы обе так и пришли домой. Сейчас Маша из грампластинки, размягченной на огне, делает веер.
Дневник, я кладу тебя в тайник! Прощаюсь с тобой на три недели похода».
Эти три недели были какие-то усохшие для Таисии. Все время она думала о Загроженко. Дышала чистым воздухом леса и жалела, что Алеша дышит сейчас выхлопами, моет машины. Таисия мыла посуду в Койве, ощущая ожог холода от этой солнечной воды, похожей на закипающее стекло. И представляла: Алеша сейчас берет воду из ржавых труб, которые не лучше лужи!
Когда они плыли в протоках – туннелях из схлестнувшихся друг с другом кустов, – они их звали «Поцелуй шестиногого друга»: на них сверху сыпались голодные клещи. Маша говорила Вандам Вандамычу:
– Вадим Вадимыч, хорошо, что клещи маленькие, а то прыгали бы нам на загривки, как рыси.
После этого приходилось срочно причаливать катамараны и устраивать на поляне подробные взаимные обыски. А там были кругом сталинские лагеря. Уже одни заборы остались. Эти лагерные заборы, как перебитые члены драконов, вставали по обеим сторонам реки. Вандам Вандамыч не хотел делать ночевки рядом с ними, потому что один раз так сделали – несколько лет назад, – так всю ночь были слышны чьи-то стоны и голоса.
Сталин-то сейчас уже получил свой вечный лагерь, сказала тетя Люба. А Вандам Вандамыч важно кивал в ответ на рассуждения жены. Хотя как каждый учитель физкультуры он был чужд метафизики. Дежурное блюдо туристов – гитара – разогревалось под его пальцами и посылало в разные стороны звуки, которые бродили между деревьями и стонали, как заблудившиеся духи. А звезды смотрели на них всю ночь надзирательными глазами. Все почувствовали себя хорошо, когда миновали заброшенные лагерные зоны.
Бабочки садились прямо на их руки. Они, бабочки, побирались на коже рук, пробуя остатки сладкой еды. А Таисия представляла, что бабочки подключаются к ее активным точкам. Она неотвязно представляла, что по меридианам, как по мощным кабелям, идет информация, а бабочки ее считывают. А после они садятся на активные точки лося. И так передаются мысли. От одного организма к другому. Без конца. Лось, рысь, цветы, деревья – все захвачены одной вестью: проблемы живого нужно решать сообща, дружно… Правда, Таисия еще не знала, как совместить это с борьбой видов за существование…
Машу укусили два клеща, а Таисию – один. Еще один клещ укусил Мишу, сына Вандам Вандамыча. Все остальные были привиты, поэтому им клещи были не страшны. Таисия считала, что им с Машей тоже не страшны, потому что они благословлены на этот поход матушкой-игуменьей. А вот Миша в опасности! У него недавно была операция, и прививки нельзя было делать. У Маши и Таисии тоже нашлись противопоказания…
Там, где раньше поработала золотоискательская драга, были неопрятно оставлены кучи гравия. И даже Вандам Вандамыч не мог определить, что за малиновые цветы выросли на этих кучах. Почти без листьев, похожие на городские мальвы, но мельче. И как бы ядренее. «Словно лопнула бомба с семенами этих цветов», – сказала тетя Люба. Потому что была видна резкая граница, где они остановились в своем кольцевом расширении. Вандам Вандамыч, как старый турист, объяснил с некоторым сомнением, что это, наверное, военные накуролесили: может, взрывы были подземные, ядерные; может, опыты в зековских шарашках…
На ночевке Таисии приснилось, что она упала на дно малиновой поляны, в глубокую яму со щебнем. И не может выбраться, потому что щебень осыпается. Тогда она стала приманивать бабочек, писать на их крыльях записки-мольбы о спасении. Мелким почерком! И просила их торопиться. Она проснулась неспасенная и поняла, что готова к разговору с Алешей.
Маша и Таисия без отдыха набирали запас впечатлений, чтобы обеспечить ими себя на всю будущую зиму (так взрослые запасают соленья и варенья). Маша нашла дерево, кора которого словно вся состояла из детских рук – они плотно обнимали мякоть ствола, вот бы мама нарисовала такое, надо ей рассказать! Таисия нашла лощину, а там сугроб нерастаявший – в виде крокодила с открытой пастью, вот папе рассказать – он оценит!.. Само собой, запомнился надолго неизбежный обряд последнего костра, когда Вандам Вандамыч с тетей Любой уже расслабились (почти весь поход позади, завтра на электричку), и можно было отмочить несколько туристских шуток вроде рассказывания страшных и смешных историй, которые только здесь трогают своей незамысловатостью.
– Тетя Люба, расскажите, как вас петух клюнул, а мама ему за это голову топором отрубила! (История о великой материнской любви.)
– Теть Люб, расскажите, как вы спасли утопающего. (История о безответной любви.)
– Лучше о том, как подделали путевку в лагерь! (История о самозванстве.)
Мне будто четырнадцать лет (Рассказ Любы)
Я в путевке сама исправила «11 лет» на «14 лет», крючок добавила к единице – и все. Хотела попасть в первую группу! Мне мой высокий рост много горя доставлял. Играю с девчонками в классики, например, идет прохожий, если меня не знает, обязательно скажет: «Такая кобыла и тоже с малышней в классики прыгает!» Я думала тогда, что обгоняю сверстников из-за рыбьего жира. Я единственная из детей его любила. От меня прятали: нельзя много. А я воровала, на хлеб капала и солила. Вкусно! К тому же я много читала и думала, что в первой группе справлюсь, никто не разоблачит, даже наоборот – мой уровень оценят, начитанность! Я уже Мопассана прочла два тома, Бальзака шесть томов, Флобера. «Госпожу Бовари» со скрипом, но одолела. Я и тогда была волевая. А они, оказывается, четырнадцатилетние, стукалки устраивали, никакого вам Флобера! И у меня, как у плохого разведчика, все время был страх, что меня раскроют, опозорят. Явка, господа, провалена! Стукалка – это картошку привязывают… О, такая интересная вещь, почему она пропала и не дошла до вашего поколения, непонятно! Вбивается в стену гвоздь, к нему привязывается бечева с картошкой. А другой конец бечевы у тебя в руках. Ну, ты сам отходишь далеко, стучишь, а как выйдет кто – убегаешь еще дальше! А может, стукалка потому исчезла, что само слово «стучать» стало окрашенным нехорошо. Книжки-то они не читали, а сразу перешли к взрослому состоянию, следуя развитию организма. Обсуждали ночью вопросы о менструациях, которые я путала с регистрацией. И раздался жуткий стук. Девки обрадовались – внимание мужское.
Выскочили и долго гонялись с воплями, всех разбудили, все палаты… А я лежала и боялась: вдруг родители приедут? Хотя была уверена, что не приедут, – очень заняты проблемами ругани друг с другом. Если бы какой-нибудь писатель жил рядом с ними, он бы – хоть сам Мопассан – ни за что не стал писать о маме с папой! О чем писать: как ругаются монтер со слесарем? Я мечтала, чтоб папа был другой – военный, капитан, а мама чтоб интеллигентная и на пианино чтоб играла… Но если приедут родители в лагерь, то будет полное разоблачение. Штирлиц, а вас я прошу остаться!
Мы в «бутылочку» играли не на поцелуи, а на откровенный ответ. Меня спросили: «Кто тебе нравится?», – и я ответила искренне: «Саша Березкин». Было такое мероприятие – прощальный костер, когда всю ночь не спали, как сейчас мы… Костер делали очень большим, об экологии тогда еще не имели понятия. Я мечтала… В общем, было соревнование, кто больше детей уместит на фанерке в один квадратный метр! Какой отряд победит? Мы там целый куст из детей вырастили – на одном квадратном метре. В три этажа: кто висел, кто на плечах у другого, некоторые на одной ноге стояли. Победили мы! Так Березкин меня буквально обнял в это время и сжимал изо всех сил, чтоб я не упала! Скульптуру бы можно такую изваять – «Дети, побеждающие в пионерлагере». Как Лаокоон. Чей он, Лаокоон, забыла… Мне показалось, что Саша не о победе думал, а обо мне. Он шепнул: «Сегодня на костре я тебе что-то скажу!» За победу нам дали право зажечь вечером прощальный костер. А я сначала стояла и мечтала, как Саша меня похищает из плена… когда он обнимал меня на фанерке. Он обещал мне сказать что-то важное. Но я никогда не узнала это важное! Потом, на истфаке, поняла, что остальным самозванцам было еще хуже, им в истории никогда не везло. Одного сожгли и пепел из пушки выпалили, других – на кол, кого-то обезглавили. Я думала: повезло! Пример счастливого самозванца – это я в лагере. Хотя сам страх быть раскрытой мучил и так измучил, что я была рада концу смены! Юта мука позади. Но я ошиблась. После обеда Саша собрал нас – элиту, – шесть человек. Мы так хорошо провели эту смену, надо это отметить, купить вина – сухого. А в этот день воспиталка, которая всегда ругалась так: «Дура, куда мяч унесла, не дай Бог такую жену моему Тимочке!», – вдруг про меня говорит: «Молодец, выиграла шахматный турнир – вот бы такую жену моему Тимочке». А пойдет за вином самая умная – Любаша! Так предложил Саша. Якобы мальчишкам не дают. И мы скинулись по рублю – нам родичи дали на конверты, чтоб мы письма писали.
За водокачкой мы эту бутылку «Рислинга» открыли – пробку расковыряли. И выпили по полстакана. Пять человек. Никакого приятного опьянения я не почувствовала. Им-то по четырнадцать, я не знаю, что они чувствовали, внешне они хорохорились. Я же через десять минут почувствовала, что отравилась: началась судорога, а потом рвота. Организм очищался, извергая остатки яда, а тот, который всосался, уже тычется, тычется в разные стороны, а выхода ему нет. Меня унесли в палату чуть ли не без сознания, во всяком случае, я сразу заснула. Юти часы закрыли все приятное времяпрепровождение в лагере! Кстати, пионерский галстук я тоже заблевала. Выглядела как бомж привокзальный, наверное… Все ушли на костер, а я спала в палате, иногда просыпалась, думала – лучше б мне было все время без подделки одиннадцать лет, и без всяких притязаний… Конечно, Березкина уже бы не было, он ведь был бы в другом, старшем, отряде, среди полубогов! Но зато бы я мучилась по-человечески: ревностью, желанием вырасти, стать умнее, сильнее… А так я чувствовала себя старушкой во французской богадельне, которая заканчивает свои дни в тусклости. Бальзака и Золя начиталась я. Ведь надо было копить ощущения на зиму, чтобы потом ими любоваться, как драгоценностями, доставая их из ящика памяти, и я копила-копила, шлифовала, а потом смешала все со рвотою. И примерно воспоминания получались такие потом: иду с Березкиным на речку ночью – ловить пескарей, – а через две недели у меня судороги и пьяная икота, и он же потом меня и несет… Прижимается ко мне во время борьбы за первое место на одном квадратном метре и тут же прижимает меня, когда несет, чтоб не выпала, а я обгажена собственной слизью. Тут вся зарождающаяся чувственность, как подкошенная, валится. Дома никогда не узнали об этой истории. Тут уж я постаралась, чтобы Штирлиц в очередной раз ускользнул от Броневого.
Потом, через много лет, когда я выросла, то поняла другое! Еще хорошо, что выпили не на костре мы, а то я могла бы потерять сознание и упасть в огонь…
Пришли из похода с цветами, грибами. И Таисия несколько раз повторила шутку Вандам Вандамыча:
– Грибы без разбору можно есть все… но только один раз!
После этого они упали в пятнадцатичасовой сон. В походе казалось: все время отдыхаешь! Спали по четыре часа, и то под нажимом Вандам Вандамыча и тети Любы. И мерещилось Таисии с Машей: придут домой – горы свернут.
А проснулись угрюмые, до предела уставшие, стали Зевса кормить, говоря осипшими голосами:
– Кушай, Зява, молочко-вкуснячко!
Мурке они тоже налили, но молча, и животное поняло, что есть разница между справедливостью и любовью. Мурка подошла и укусила Зевса за хвост. Маша схватила пластинку, начала ее гнуть, размягчив. Она все делала отшлифованными движениями, так что пламя газа словно выполняло работу подмастерья. Поверху пустила какой-то перепончатый гребень, вроде хребта дракона, в мягкую плоскость воткнула пучки мелких гвоздей. Потом все покрасила в грязно-серый цвет метели с белыми прожилками вихрей.
– Это сталинский лагерь, – сказала она маме. – Мы там не ночевали, нечистое место – надо будет его освятить.
– Видимо, ваше поколение уже не будет голосовать за коммунистов… хорошо!
Мама вся была в волнениях по поводу выборов президента, она хотела включить телевизор, но сели батарейки у пульта. Мама сначала их мыла с мылом и сушила на батарее – есть такой рецепт. Телевизор поработал минуту, и снова пульт отключился, нельзя программу переменить. Мама стучала батарейками друг о друга – тоже есть такой рецепт. Рецепт не помог, и мама села расписывать тарелку – портрет Ельцина запустить придумала, может, это будет ее вклад в демократию…
В тишине Маша решила пришить пуговицу к джинсам: в последний вечер у костра она так смеялась, что пуговица отлетела. И тут послышались звуки большого толковища людей и зверей, разворачивавшегося во дворе. Таисия выглянула в окно: люди стояли с радостно-нервозным видом, а собаки радостно общались друг с другом (это были все знакомые собаки – с Комсомольского проспекта, Таисия и Вероника с ними часто выгуливали раньше Мартика). Над всем этим сборищем витала тень мероприятия, рассыпая искры общения. Заряженные всем этим Маша и Таисия выбежали во двор. К ним победительно кинулся Мартик: «У нас радость, радость огромная!» Наташка подошла и спросила:
– Дядю Гошу видели? Ранило легко в Чечне! Очень легко! Он вернулся домой вчера… на костылях, но ранен очень легко!
Девочки сели возле своего подъезда вместе со старушками – солидно так, как бы безотносительно ко всему, что разворачивалось у дома напротив. Но плечо, бок, щека, обращенные в ту сторону, превратились в сплошную воспринимающую плоскость.
Дядя Гоша, пьяный своей не отнятой в Чечне жизнью, выходил из подъезда с большим подносом. Он приговаривал:
– Ну, Мартик, счас дадим шороху! Неудобняк получается: с костылем и с подносом, но счас…
Знакомые собачники затолкались вокруг, принимая угощение. Их лица и тела, здоровые от прогулок по утрам с собаками, излучали честно выполняемый долг. В выражении этих лиц, как поняла Таисия, было что-то от мечты об отдельно взятой планете, населенной четвероногими друзьями и их хозяевами. Ну, может, должна там еще жить пора жертвенных существ для веселья зубов собачьих.
– Кто у нас во дворе хорошие люди? Да те, у кого собакам хорошо живется! – говорил дядя Гоша, вынимая из кармана брюк бутылку вина.
Вышли Вероника, ее мама Изольда, а бабушка Генриетта несла коробку с тортом. Маша и Таисия привыкли уже, что Вероника вычеркивает их из поля своего зрения, и вздрогнули, когда она закричала:
– У нас день рождения Мартика – идите есть торт! Маша, Тася!
Вероника почувствовала самой своей серединой, что за сегодняшнее перемирие с сестрами ей ничего не будет. Ведь Мартику исполняется два года!
Превратившись в достойных светских девиц, Маша с Таисией медленно подошли к скоплению живых тел, издающих разнообразные звуки:
– Ты своего ротвяка к астрологу своди! Я водил Хелму, сказали, что подверженность влиянию этого… Меркулия… Меркурия…
– Мочу Алисочки на анализ только в человечью больницу ношу!.. Даю двадцать баксов – хорошо делают…
– Гав-гав!
– Двадцать – это многовато…
– Р-р-р…
– Подставку под собачью миску мы сделали из красного дерева!
– А мы зразы особые готовим Хелме!
– Ску-у, ску-у, ску-у-у-у…
Разевая чистые красные пасти, шерстистые друзья изо всех сил общались друг с другом и с людьми. Щенок-боксер (был чудо – мордочка вся в морщинах, словно маленький Сократик, как говорил папа Таисии) вырос таким злым, что один раз чуть не покусал папу Таисии (и тогда тот сказал, что у такого Сократа Платон бы ни за что не стал обучаться философии!); сейчас он словно мучительно решал: кто здесь главный? Ему хотелось стать главным, но «були» – две горбоносые увесистых крысы – оглядывали его взглядом новых русских: «Мы главные».
– Ну, что новенького? – спросила Вероника у сестер, выделяя им по большому куску торта.
– Да вот я решила, – отвечала Таисия, – вырасту – тоже свою фирму открою… Собаку куплю!
На самом деле Вероника понимала, что не будет у Таисии никакой фирмы, но она хотя бы соблюдает правила игры и говорит о том же, о чем говорят все дети двора. И то хорошо.
На торте были изображены имя Мартика и большая цифра 2. Так Вероника дала Маше кусок с буквой «М», а Таисии – с буквой «Т». И Таисия подумала: а какую букву она выдаст Алеше? Букву «А»? И точно: кусок с буквой «А» Вероника никому не выдала. Ждала. И Таисия тоже с тревогой ждала. Но Загроженко нигде не было. Обычно вечером он выходил покурить во двор с обычным снисходительным видом насчет собравшихся. Но сегодня не видать его сухой фигуры.
– Подходите, берите! – любезничала со старушками на скамейке Изольда, дочь Генриетты.
И Генриетта живо двигала лицом и руками, приглашая полакомиться за здоровье Мартика.
– Очень вкусно, – сказала Таисия, продолжая высматривать Алешу.
Маша, хотя ей ничего не было сказано сестрой, все видела внутри нее ясно, будто прочитала в подробной глуповатой книге, не становящейся от своей глупости менее интересной.
У Таисии не было радости от временного перемирия с Вероникой, ведь завтра… прощайте снова! Об этом говорил ее маслянистый взгляд. «Не каждый день из Чечни возвращаются люди!»
Уже звучали предложения добавить – купить в киоске и… Но псы были дисциплинирующей силой: кому надо догулять, кому особый ужин приготовить, – так что все распрощались, договорившись встретиться таким же образом в день рождения Хелмы. Таисия вспомнила, как они с Вероникой начали выводить Мартика на Комсомольский проспект. Он сильно боялся взрослых собак, так что слюна беспрерывно шла изо рта, и когда он мотал головой, то слюна веревкой словно обматывала всю его мордочку, и Вероника каждую минуту вытирала его специальным платком. Но и тогда уже любимицей Мартика была Хелма. И сейчас его от нее не оторвать – так и рвется вслед. А Таисия уже твердо решила отказать Алеше: не будет она вести их хозяйство! Не готова она к семейной жизни… Но нужно увидеться и все разъяснить…
Вечером, когда Таисия мучила немецкие глаголы, а Маша выгибала над газом из грампластинки нос Гоголя, позвонили в дверь. Это была Вероника. Таисия сразу почувствовала, что случилось что-то с Алешей, хотя потом не могла понять, почему она это почувствовала.
– К папе заезжал его друг из отделения милиции, нашего… Там арестован Загроженко!
Говорит это Вероника, а вид у нее плачевный: ведь для нее Алеша становился уже не чужим, а вымечтанным партнером-челноком, но теперь… Порог квартиры Вероника так и не переступила, а когда уходила, то снисходительный ее взгляд говорил Таисии: «Получила?» Это уже завтрашняя Вероника, аккуратно уклоняющаяся от касаний с секондхендным людом.
Поздний вечер в светлых проплешинках ночной уральской зари очень помогал успокоиться. Но слезы лились сами. Таисия села писать в дневник, но не вывела ни одного слова… Родители были на высоте на сей раз. Они сказали, что знают одного человека, который в детстве сидел в колонии, а теперь доктор наук! Потом они пошли узнать, где Лизка, но ее, оказывается, уже инспектор по делам несовершеннолетних увезла в детдом. Или в детприемник. Никто точно не знал.
А случилось вот что. Алеша шел по Комсомольскому проспекту. Он только что был на сходняке мойщиков, они вновь распределяли участки. Количество машин, особенно иномарок, увеличивалось. И теснины уличного движения выдавливали машинный поток на ранее захолустные улицы. Одним мойщикам становится выгодно, а другим завидно. Приходится собирать такие съезды, чтобы не было войн у пацанов. Тем, кто зарабатывает своим трудом, не пристало воевать по пустякам!..
От белой ночи лицо подошедшего подростка было словно покрыто прозрачной грязью.
– Без базара, Леха, – сказал он, – надломим ларек – сигнализации на нем вообще ёк!
Вавилон, одноклассник, но бывший, он уже два года как бросил школу, говорил так, словно боялся отказа, вплетал одно слово в другое. А в Алеше что-то на уровне журнала «Родина» глухо жаловалось, что мать после реанимации будет нуждаться в уходе. Но… потом ведь она опять примется за старое, и сколько бы бабок он ни ковал, мать будет волочиться за ним через всю улицу жизни…
Леша потянулся, томя Вавилона, причем лунная тень превратила его движение в первобытный обряд. Одно только томило Загроженко: шли они вскрывать несчастливый ларек на углу проспекта и улицы Чкалова, где зимой была убита и закопана рядом в сугроб ночная продавщица. Ее зловещее, жаждущее отмщения присутствие ощущалось то тут, то там.
К облегчению Загроженко, Вавилон вдруг взял наискось через бульвар.
– На Хасана фонари сейчас отключили, – говорил Вавилон. – Хозяин ларька жадный, опять вчера от него ушла ночная продавщица.
Слова бывшего одноклассника звучали кругло и успокаивающе, а как принялись за дело, Алеше все казалось, что наклонившийся над ними старый дом жестких сталинских линий кишит многоглавой бессонницей. Стон выдираемых петель донесся, кажется, аж до Башни Смерти – гнездилища УВД. На что они надеялись: что пачки денег будут везде раскиданы? Вавилон захватил из дома наволочки, в них вяло набрали без разбору (внутри было темно, а о фонарике не догадались позаботиться) шоколадок, курева, каких-то бутылок, чтобы потом можно было продать их алкашне. Ничего не мешало, и все замолчало вокруг, но это было самое неприятное. Вышли, неся на плечах по две дрябло набитых наволочки. Самые алмазные мечты Вавилона выродились в усталый марш мимо предутренних домов. И надо же – в это время в милицейской машине оказалось еще несколько литров бензина, и решили сделать еще один кружок. И увидели две подростковые фигуры с узлами. А мертвая продавщица тоже продолжала свой незримый патрульный облет.
В участке шла бесконечная ночная работа. Сосредоточенные милиционеры ходили со своими подопечными, устало, незло охаживая их иногда по шеям и плечам. Вавилон несколько раз принимался рыдать, стараясь разжалобить, потом шептал Алеше, что постарается подкупить своего мильтона… И тут Алеша увидел Димона, того самого, что ходил раньше часто к Александре, сестре Таисии…
В эту же самую ночь у Димона было патрулирование по Свердловскому району. Их уазик въехал во двор и затаился. Напарник шепнул шоферу: «Будь!», и они из-за угла дома на улице Пушкина стали наблюдать за проезжей частью. Димон раньше слышал по рации: есть звонок – посреди улицы Пушкина лежит труп мужчины.
И тут же он увидел, как к трупу подъехала милицейская машина.
– Это из Ленинского района. Наши районы… граница по улице Пушкина, – терпеливо втолковывал сержант, у которого сердце закипало от раздражения на контуженного Димона. – Сам смотри!
Сначала два обесцвеченных луной и ночной зарей милиционера ходили взад-вперед по проезжей части, видимо желая получить указание от великого поэта Пушкина. Затем они перекатили тело мужчины через невидимую линию. Как кукла, наполненная тяжелой жидкостью, терпеливо кувыркалось тело. В голове у Димона однообразно вспыхивало: «Пропали медведи!» Только сейчас он понял, что никогда не выйдет за него Александра, что никогда ему не будет в жизни безопасно и уютно!
– Здравствуй, Петя! – сказал сержант Мартемьянов, выходя на дорогу. Он выглядел очень довольным, и Димон тоже почему-то стал спокойнее. – Что же ты нашему району статистику портишь, бля?!
– А на шестьдесят процентов тело было на вашей стороне, – нисколько не смутился Петя. – Я только окончательно высветил… просветлил ситуацию! Статистику нашего района мы поганить тоже… знаешь… не дадим!
Когда Мартемьянов и Димон приехали в участок, Алеша думал о Таисии, что она теперь подумает… Он не знал, что о ней же вспомнил в эти минуты Димон: «Не пропали медведи – растут в той семье еще девочки… Таисия очень хорошая будет… жена…»
«Ну что, дневник! Посадили нашего Алешу! Папа говорит, что чувство стыда за мать толкало… к воровству. Или к другому… Папа все по Фрейду: Алеша хотел сменить это чувство. Он лучше будет теперь стыдиться, что украл… чем матери.
Не верю я в этого Фрейда! На выпускном вечере была дискотека. Алеша хотел со мной танцевать. Заиграли „медляк“ (медленный танец). Он меня пригласил. А я отказалась. Просто мне нужно было сходить в одно место. Я ни в чем не виновата. Так Алеша стал сразу со зла исчеркивать все плакаты веселые, которые висели у нас на празднике. Когда я вернулась в класс, девчонки мне зашептали: „Скорее соглашайся на танец, а то он все испортит, весь праздник“. Такой он мог быть раздражительный!.. Наверное, что-то его сильно раздражило, и он назло пошел воровать…»
Мама рассказывала свой сон:
– Будто мы красим небо – оно же наш потолок. Но не потолок, а небо! Белила такие, как шпакрил – темно-сиреневато-сероватые. И мы белим ведь всей семьей! Вот такой круг выбелили и видим, что ракеты (а в Чечне все война) не проходят сквозь этот выбеленный нами кусок неба! И мы понимаем, что Бог услышал наши молитвы, что войне скоро конец…
– По-моему, что-то у тебя сгорело на кухне, дорогая! – сказал папа. – Все стремишься мир переустроить, а на кухне еда в это время пригорает…
Мама пошла на кухню: там ничего не стояло на огне вообще! Тогда стали принюхиваться и поняли, что дым и запах идут с улицы. Выглянули в окно: дом напротив весь в дыму.
– Пожар! – закричала мама. – Девочки, бегите узнайте – вызвали пожарных или нет! Если что, сами по ноль-один звоните!
«Ну что, дневник, сгорела квартира Вероники! Она спасала Мартика и так измазалась в саже, что пришла к нам и просит: „Дайте вашей одежды переодеться!“ Мы, конечно, сразу дали ей платье мое! Из секонд-хенда, но она не поморщилась даже! Вот так: дружба – это то сокровище, которое не может уничтожить пожар, так ведь, дневник?
Конечно, ты скажешь: скоро Вероника, ее мама Изольда и бабушка Генриетта снова накопят много денег и запретят нам к ним подходить… Ты прав, но… как оптимист оптимисту я тебе скажу вот что: пожар ведь может случиться в любое время!»
На этот раз мама случайно заглянула в дневник дочери и вся вспыхнула: что же это за подлость такая! Сгорела не квартира Вероники, а дочь пишет… словно она желает восстановления дружбы любой ценой! Это плохо: любой ценой! Мама закричала: «Грех-то какой, доченька моя! Что ж ты написала?! Слова ведь имеют такое свойство – сбываться. Ты накликать беду хотела? Даже если не хотела, то накликать можно запросто».
Папа включился тотчас в педагогическую струю: по-французски «слово» – «пароль». Пароль! Слово такой отзыв может в жизни вызвать, что… Конечно, я понимаю, ты думала, что Вероника после пожара будет добрее, но поверь: они бы еще больше стали сил тратить на то, чтоб быстро восстановить прежний уровень богатства. Еще дороже бы продавали вещи…
– Какой ужас, – повторяла тихо мама Таисии. – Мои дети… чтобы Таисия так могла написать: пожелать злое… Боже мой!
Таисия в смятении чувств хотела выйти и закопать дневник, спрятала его под футболку, но чувствовала, как дневник жег ей кожу. Он там лежит, такой доверчивый, и не знает, что его ждет!.. Как же быть? Надо, чтоб родители ничего не знали. Она выбежала на балкон и сбросила: потом, мол, выйду и закопаю. На том месте, где он упал, началось мелкое мерцание. Таисия заметила, как приподнялись и взлетели вертолетики кленовых семян. Или показалось? Но в самом деле: этот воздух, который взбаламутил дневник, был последней каплей, которой не хватало для зарождения кругового ветра. Пока Таисия сбегала вниз с четвертого этажа, вспоминала, как летел ее дневник, кувыркаясь и перелистывая сам себя, как бы просматривая на прощание текст или предлагая себя всем, всему свету свои страницы, чтобы вычитали из них некое назидание птицы и бабочки, стрекозы и мухи, осы и шмели, чтобы запомнили его навсегда… Но лишь пара неграмотных стрекоз равнодушно пролетела мимо, и в их множественных глазах раздробились изображения букв… Пока она так вспоминала, уже начали в том месте подниматься и опускаться мертвые бабочки, сухие листья прошлогодней зелени, с каждым разом все выше и выше, и вот уже поднялся маленький серый хобот, который хотел схватить дневник, но тот сопротивлялся всеми страницами. Таисия намеревалась успеть схватить свое сокровище и закопать рядом с Куликом, но хотя дневник и отмахивался всеми страницами, отказываясь от предложения ветра попутешествовать, хобот урагана усилил свое всасывание, и дневник уже прыгал на спине обложки, едва удерживаясь от полета… Таисия подбежала и протянула руку, чтобы схватить, но в этот миг дневник уже захлопал своими крыльями-страницами, сделал несколько переворотов, показав высший пилотаж, и начал взбираться по невидимой спирали…
Таисия вспомнила: если внутрь вихря попадет тело, оно может распасться. А дневник уже летел от теплотрассы по улице Чкалова. Хлопали двери подъездов, зазвенел лист на крыше, но не отпал и не пустился в путешествие, ибо не пришло еще его время – не все гвозди прогнили… Таисия бежала за дневником – вдруг земля подкосилась и отделилась от ног, потом пошла вбок, после – вниз, ее закрутило… Но это не смутило дневник: он летел, переворачиваясь вокруг своей оси, как лихой голубь, и радостно поднимался еще выше. Она изо всех сил перебирала ногами, но не смогла его догнать. Скоро он исчез из поля зрения своей хозяйки…
– Сейчас анекдот расскажу! – крикнул Петр, с треском врываясь в квартиру. – Слышали: победил Ельцин! Про новых русских анекдот. Сидят двое, выпивают, один, который гость, спрашивает: чего это видак крутит одну кассету – «Одиссею капитана Кусто»? «Это не Кусто, это аквариум».
И что же? Разве хоть кто-нибудь из семьи показал движением бровей, что слышал? Папа тихонько бряцал на гитаре, мама действовала на кухне, а Таисия – вечная зубрилка – вообще будто спряталась за обложкой «Истории мировых цивилизаций». Одна Маша поняла брата:
равнодушие – сплошное равнодушие к анекдотам. Наконец папа отложил гитару, вздохнул и сказал:
– Все же неплохо, что анекдоты о новых русских появляются в изобилии. Была, была зловещая пауза в производстве фольклора, уж не знал, что и думать…
– Что же хорошего, папа? – удивилась Таисия. – Новых русских дурачками представляют в анекдотах, им это не понравится…
– В сказках Иванушка – тоже дурачок. На Руси дурачков любили. Значит, и новых русских стараются полюбить. Значит, что?
– Что? – не поняла вывода Маша.
– Значит, революции не будет! – догадался Петр. – Не будут их жечь и резать, как в семнадцатом году жгли помещичьи усадьбы.
– Возьмем также средства массовой информации…
Папа явно зарапортовался. Чтобы понизить траекторию его умственного полета, Маша вклинилась своим острым голоском:
– Но в жизни-то, папа, этих новых русских многие не любят!
Папа отвечал: миф – фольклор – анекдот – это и есть регулятор поведения! Не любят, но уже хотят полюбить! Отсюда и теплое, почти покровительственное отношение к ним, как к Ивану-дурачку…
Папа, похоже, уже писал вслух эссе по культурологии: подспудно народ хочет полюбить этих богачей противных, показывает в анекдотах, какими не нужно им быть. Миф регулирует поведение!
– Папа, папа, остановись, мы тут не поняли! – закричали девочки.
Папа привел остекленевшие глаза в человеческий вид, немного постоял посреди комнаты – видимо, соображая, куда его занесло. Таисии даже захотелось поводить ладошкой перед его глазами.
«Революции не будет? – подумала она. – Так, запишем это сейчас в дневник, а потом проверим, будет или не будет. Прав папа или нет».
И тут она вспомнила, что дневника нет, он улетел неизвестно куда. «Эх, зря я его сбросила с балкона! Если б закопала, то сейчас бы могла выкопать, записать папины слова…»
– Анекдоты говорят о том, что нравственность русского, то есть российского, народа – жива! – продолжил папа. – Возьмем хотя бы СМИ. Что такое СМИ?
Он говорил: СМИ, СМИ, – а Таисии слышалось: змий. Какой змий?
– Не змий, а СМИ – средства массовой информации… они тоже стали на место фольклора. В сказке все начинается с недостачи, да? Ну, яблоки у царя в саду кто-то ворует, нужно послать сторожей – это «Конек-горбунок». Газеты и ТВ наперебой нам про криминал: убийство, конечно, тоже недостача, правда? Надо искать преступника, как в сказке.
Петр прервал отца: а как же чудесные, волшебные помощники? В сказке напиток или яблоко, которое надо откусить… А в СМИ что?
Папа на секунду задумался.
– Ну, сами СМИ и есть волшебники: могут и собственное расследование вести, могут помочь, объявив, чтоб звонили по телефону, если кто что знает. Ну и, конечно, они регулируют наше поведение. И заметьте: даже писателей журналисты недолюбливают, как сказители народные тоже недолюбливали представителей культуры.
Таисия слушала папу, слушала дождь, который лил уже второй день, и у нее само появилось в голове стихотворение:
Дождь льет, льет, льет, Дождь льет, льет, льет, И сильный поворот Сделала машина… Дождь льет, льет, льет, Дождь льет, льет, льет, И сильный поворот сделала Россия…– Само появилось? – переспросила мама. – Ну, значит, ты в отца, пойдешь по филологической части.
– Только не надо много думать о политике, о выборах, господа, – сказал на это папа. – Сейчас само написалось про Россию, а потом, может, напишется про другое, более важное… Так я о фольклоре: заметили притчевые истории?
– Пап, ты меня любишь? – спросила Таисия вдруг.
– Что? Ты о чем? Да, конечно… люблю, а что? Я не то что-то сказал?
Просто папа улетал куда-то в холод словно, когда размышлял вот так. Нет, когда Таисия вырастет, она не поступит на филологический, а найдет литературно-ветеринарный институт! Обещала ведь Кулику, что лечить будет! Литературно-ветеринарный с элементами гитары! А тарелки? Она их будет расписывать в свободное время… Да, решено! Где же есть такой институт? Ну уж где-нибудь да есть же, подумала Таисия.
Папа Таисии ушел заваривать чай и подумал в одиночестве: не Бог весть какие гениальности изрекаю, а уже детям показалось, что я не с ними, что забыл в это время любить Таисию… И вдруг его осенило: зря напали тогда на нее за красочное описание пожара якобы в квартире Вероники! Бальзака тоже в жизни не очень любили женщины, зато его героев в романах сильно любят. Таисия повела себя, как писатель: в жизни у Вероники не случилось пожара, а в дневнике случился. Не надо быть Фрейдом, чтобы это понять.
С тех пор прошел почти год. Алеша Загроженко недавно написал Таисии из колонии очередное письмо: по баллам он обогнал всех, и за это его досрочно выпустят на свободу. «Я мечтаю день и ночь об этом», – пишет Алеша. Как Кювье по одной кости восстанавливал все лицо (тело), так и по одной этой фразе можно рискнуть представить его, Алеши, будущее. Но, к счастью, будущее не нуждается в этом, оно придет само собой.
Примечания
1
Стихотворение Алексея Решетова.
(обратно)


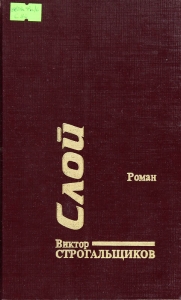


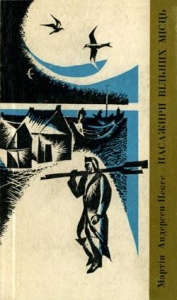
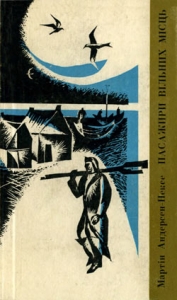

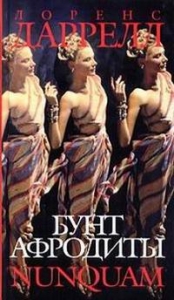
Комментарии к книге «Тургенев, сын Ахматовой (сборник)», Нина Викторовна Горланова
Всего 0 комментариев