Юрий Буйда Послание госпоже моей левой руке
Послание госпоже моей Левой Руке
Госпожа моя Левая Рука! Сколько помню себя, наши отношения всегда были по меньшей мере напряженными, и разве только привычка к жизни мешала мне избавиться от Вас раз и навсегда, – теперь же – Вы будете удивлены – я готов объясниться в любви к Вам, хотя по-прежнему считаю, что неизбежное, то есть Вы, не есть необходимое, то есть Мы. Я всегда относился к Вам с подозрением, и это понятно, если не забывать о Вашей роли в человеческой жизни вообще и в моей – в частности. Известно ведь, что грешники на Страшном Суде окажутся слева от Судии, что рыцарю, даже если он рожден левшой, предписывалось держать меч неизменно в правой руке, а плевать – через левое плечо, за которым всегда маячит черт. Да и кто из нас не знает, что такое сгулять налево, левый заработок или левый товар? Госпожа моя Левая Рука, удивительно ли, случайно ли, что Вы всегда служили символом и даже воплощением всего лживого, негодного, коварного, опасного, женского, наконец? Мне скажут, что это не более чем суеверие, но мой опыт свидетельствует о том, что все злое, гадкое, неприличное, что – увы – мне довелось совершить и причинить близким и дальним, было совершено и причинено с непременным Вашим участием. Помню, когда в юности передо мною поставили стакан водки с горкой и я заколебался, хотя и страсть как хотелось приобщиться к миру взрослых мужчин, смело ссавших под забором на виду у женщин и детей, наш кумир – он был на три года старше, а главное – успел отсидеть в колонии, – произнес с усмешкой: «Если хочешь, но не можешь что-то сделать, – сделай это левой рукой». Как сказал поэт, свободен первый шаг, но мы рабы второго: ступив на скользкий путь, я оказался во власти темного очарования левизны. Ну, например, знакомясь с женщиной, я без колебаний позволял своей правой руке стремиться к освоению вершин, в то время как Вы, госпожа моя Левая Рука, все норовили забраться в мрачные сырые глубины. А паленая водка? А дама пик в рукаве? А онанизм, госпожа моя Левая Рука? Но так уж сложилось, что у Вас не было другого лица, кроме моего, хоть я и жил справа от Вас. Потому-то, наверное, и кораблик жизни, качаясь вправо, качался влево, и, видимо, это неизбежно, поскольку выбираем мы не между любовью и ненавистью, но между любовью и пустотой, и именно страх пустоты и побуждает нас вновь и вновь к поиску правого пути, какими бы утомительными, изматывающими и чаще всего бесплодными ни были эти попытки. Потому что только эти попытки и придают нашей с Вами жизни смысл или хотя бы иллюзию смысла. Левая Рука не позволяет забывать о зле, предоставляя правой творить добро, и неизвестно, что важнее. Сомнительный комплимент, не правда ли, госпожа моя Левая Рука? Но ведь, даже объясняясь в любви к Вам,
остаюсь справа от Вас –
Ваш Ю. Б.
Аппендэктомия
Боли начались еще в пятницу, резко усилились в ночь на субботу. Кое-как добравшись до кухни, выпил горячего молока и почувствовал себя лучше. Лицо стало мокрым. Таблетки не принимал – боялся. Весь следующий день не выходил из дома. Не читалось, не спалось – смотрел телевизор. На ночь опять выпил горячего молока. С позвонившей из Крыма женой разговаривал то печально, то раздраженно.
Утром он с трудом подошел к окну, долго смотрел на лужи. От страха свело шейные мышцы, боль отдалась в уши.
Издали увидев «Скорую», пробиравшуюся между автомобилями через огромный двор, он наскоро оделся и спустился в парадное.
Женщина в белом помяла его живот слева, потом вдруг быстро провела ладонью от печени вниз. Он вскрикнул.
В приемном покое больницы, располагавшемся в полуподвале, его провели за штору, велели раздеться и лечь на тахту. Вытертый линолеум пола, облупленные, в потеках сырости стены, серые простыни…
Ему стало не по себе.
Пришел врач с вислыми рыжими усами. Глядя почему-то в сторону, доктор сказал, что у него аппендицит, возможно, перфорированный, то есть разлитой, поэтому консервативное лечение отпадает, нужна срочная операция.
Молоденькая медсестра, состроив серьезную гримаску, тупой бритвой обрила ему живот и в паху, всунула резиновую трубку в нос – его чуть не вырвало, когда трубка с хрустом полезла в горло.
За занавеской кто-то хрипло сказал: «Реанимация? Приготовьтесь принять перитонит». Значит, у него перитонит. Он слыхал, что запущенный перитонит может послужить причиной смерти.
Он не глядя подписал какие-то бумаги. Ему дали куртку, повели наверх. В операционной велели раздеться. Кожа покрылась мурашками.
– Неужели у вас там никакого приличного халата нет? – сердито спросил врач в марлевой маске.
– Есть один, – смущенно ответил санитар-маломерок. – Рватый весь.
Пациенту помогли взобраться на операционный стол, накрыли простыней до подбородка, раскинутые крестом руки привязали марлевыми жгутами, в правую вену воткнули иголку, придвинули капельницу.
Было холодно и страшно.
– Осмотритесь, пока хирурги моются. – Кажется, анестезиолог улыбался. – Вас будут оперировать под общим наркозом, так что вы ничего не почувствуете. Во рту сохнет? Голова кружится?
Он так волновался, что ничего не чувствовал, но ответил:
– Да, немножко.
– Это лекарство. – Врач удовлетворенно кивнул. – Скоро уснете.
Ему вдруг захотелось что-нибудь напоследок запомнить. В открытое окно была видна цветущая ветка каштана. «Хоть бы птица на ветку села», – подумал он.
Он очнулся в реанимационной палате, все еще с резиновой трубкой в носу и марлевыми жгутами на руках. В окне поверх ширмы была видна цветущая ветка каштана с сидящей на ней птицей.
– Неизвестная доставлена утром, – донесся женский голос из-за ширмы. – Отравление. Промыли, прокололи, но до сих пор не может очнуться.
– Разбудите, – раздраженно потребовал мужской голос.
Обладатель его вышел из-за ширмы и уставился на нового пациента. Медсестра назвала его имя, фамилию, год рождения, и он вдруг обрадовался, что за время, проведенное в наркотическом беспамятстве, ничего не изменилось – ни имя, ни возраст…
– Оперирован по поводу острого флегмонозного аппендицита.
– Уберите трубки! И это… И дайте ему подушку! – сердито добавил врач уже в дверях.
Медсестра выдернула трубку из носа, сняла жгуты.
– Ничего, – сказала она устало. – Часа через два-три вас переведут вниз, в общую палату.
Ему принесли утку. С огромным трудом, превозмогая режущую боль, он сполз с кровати и минут пятнадцать тужился, пока не помочился.
В послеоперационной палате он провел две недели. Его кормили невкусной пищей, вводили пенициллин. Ходить было трудно. В больничном буфете купил пачку сигарет, но курить не хотелось. Обрадовался: наконец-то получится завязать с табаком. Через день посылали на «перевязку с врачом». Молодая хирургиня с красивым мужским лицом энергично чистила зондом воспаленный шов, не обращая внимания на вздыбленный фаллос. «Хороший признак», – только и сказала она однажды, хлопнув резиновой перчаткой по головке члена.
Выписка из больницы совпала с возвращением жены из Крыма. Она была удивлена и огорчена: «Почему не дал телеграмму? Что за ребячество!»
Она трогательно ухаживала за ним. Они удивлялись переменам его вкусовых ощущений: все блюда казались ему пересоленными, чай теперь он пил с сахаром и конфетами. Вечерами, гуляя с женой по набережной, он молчал, не слушая ее болтовню, когда-то казавшуюся ему милой. По утрам, когда она уходила на службу, он бродил по улицам, где никогда раньше не бывал. В каком-то переулке он познакомился с некрасивой женщиной, к которой и ушел после болезненного разрыва с женой. В новой квартире книг почти не было. Выходные дни они проводили в постели, вслух читая глянцевые журналы, попивая кофе и занимаясь тем, что Хемингуэй стыдливо называл любовью.
По вечерам он ходил в кино – один.
Он заговаривал с женщинами на улицах, некоторые были не прочь продолжить знакомство. Надолго запомнилась рослая брюнетка с откушенным левым соском. Она требовала, чтобы он жестоко с нею обращался, и он с наслаждением избивал ее до полусмерти. После расставания он еще долго вспоминал коричный запах ее кожи. Была еще одноногая пьяница, немыслимо гордая и готовая на чудовищные унижения ради него (и он равнодушно соглашался на это). Однажды в каком-то подвале, выпив для храбрости, она попыталась убить его, но лишь поранила. Он милосердно задушил ее и закопал в куче угля.
Изредка он заходил к бывшей жене, раза два или три оставался ночевать, но вид старой квартиры, сотен книг любовно подобранной библиотеки не вызывал у него никаких чувств.
По ночам он смеялся во сне, но не верил женщинам, когда они ему об этом говорили. Снилась вода. По утрам он сочинял стихи, но листки с записями непременно сжигал.
Каждую субботу он ездил к морю. Подолгу сидел на песке с закрытыми глазами, лицом к прибою, и нельзя было понять, спит он или бодрствует. В конце июля он обосновался в приморском городке у новой подруги. Новую работу он искать не стал. Кое-как позавтракав, отправлялся на берег, а как только установилась жара, стал и ночевать на песке в нескольких метрах от воды. Он перестал обращать внимание на свою внешность, ходил в лохмотьях, вызывая недоуменные взгляды блюстителей порядка. В августе он окончательно перебрался на пляж, устроив себе логово между валунами. Ползал по мокрому песку, уже без помощи рук, оставляя глубокий извилистый след. Иногда женщина, с которой он жил, приносила ему еду, но чаще он сам добывал пропитание, охотясь на мелководье за камбалами. С каждым днем он заплывал все дальше и плавал все уверенее. Наконец 12 сентября на закате дня он почувствовал, что достаточно надышался этим воздухом, и, сверкнув чешуей, скрылся под водой.Самсон-самсонит
Втайне мы все хотели бы жить в воде, а некоторые наверняка предпочли бы обитать в фонтанах. Я отличаюсь от этих людей только тем, что осмелился осуществить потаенную мечту. Я выбрал фонтан на площади у кинотеатра «Россия». Конечно, я отдавал себе отчет в трудностях задуманного дела и потому нисколько не удивился, когда спустя полчаса дворники и милиционеры объединенными усилиями попытались удалить меня из фонтана. Я вцепился в железное кольцо у подножия каменного цветка и кое-как отбился, лишившись, однако, пиджака и рукава от рубашки.
В воде было хорошо.
Вскоре собралась толпа. Разумеется, люди смеялись. Мужчины выразительно крутили пальцем у виска. Дети бросали мне конфеты и кусочки хлеба.
Наконец подъехала машина «Скорой помощи». С дюжими санитарами я едва справился. Труднее оказалось с врачом – пожилым человеком с потухшими глазами. Сначала он попытался убедить меня, потом обругал, не повышая голоса. Я отвечал сдержанно или отмалчивался.
Доктор присел на низкий гранитный парапет и предложил мне сигарету.
– У вас есть семья? – мягко спросил он.
– Да. Дочка замужем. Сын вернулся из Афганистана, правда, без ноги. А у вас?
Уже прощаясь, он как-то вскользь поинтересовался, почему я избрал именно фонтан, а не, скажем, море.
– Да ведь это все равно что вернуться в материнское чрево! – воскликнул я. – Недостижимая, а может быть, и опасная мечта. Чтобы жить в море, надо обладать безмерной храбростью и абсолютным самоотречением. Надо отречься от своего прошлого. Увы, это не для меня.
Первый месяц, как я и предполагал, оказался самым тяжелым. Каждый день меня пытались вытурить из фонтана, то и дело отключали и спускали воду, так что приходилось часами лежать на бетонном дне. Донимали и зрители. Однажды ночью пьяные хулиганы забросали меня камнями. Но постепенно жизнь наладилась. Обеды мне носили из соседней кафешки. Изредка навещал доктор – тот самый, с потухшими глазами. Мы беседовали. Чтобы сделать мне приятное, доктор залезал в воду, но так, чтобы не возбудить общественного возмущения.
Со временем я стал достопримечательностью, которую даже стали показывать туристам. Один гид-зубоскал прозвал меня Самсоном, сравнив со скульптурой знаменитого петергофского фонтана. Как всякая нелепость, шутка пришлась по вкусу и была тиражирована.
Заезжая эстрадная звезда упросила меня сфотографироваться с нею на память. Уже через неделю я увидел майки и пластиковые сумки с этой фотографией. Предприимчивые дельцы наладили выпуск значков с моим портретом. Как-то неожиданно я оказался в центре некоего бума. В городе возникли группки молодых людей, называвших себя «фонтанерами» (что за нелепость!), – они разгуливали босиком, часами просиживали, опустив ноги в воду, вели себя дерзко, презирали зубную пасту и писали стихи без рифмы. Их девушки, раздевшись донага, пытались пристроиться рядом со мной, но я отвергал саму мысль о сближении. Быть может, напрасно. Хоть этим можно было бы оправдать звучавшее в мой адрес обвинение в безнравственности.
Иногда приходил сын. Он не осуждал меня. Мы болтали о том о сем. Сыну и принадлежала мысль отпраздновать мой день рождения. Собрались друзья, еду и напитки разложили на парапете, пели хорошие песни. Мы славно провели время. Никто не швырял окурки в воду.
От доктора, а потом из газет я узнал, что у меня появились последователи не только в нашем городе, но и за границей. Между нами завязалась переписка. Особенно активно писал человек из фонтана Треви. Французские газеты называли нас «братством самсонитов». Немецкие и шведские самсониты примкнули к движению «зеленых» и стали играть заметную роль в политике. Турецких самсонитов привлекли к судебной ответственности за нарушение общественной нравственности и коммунистическую пропаганду. Самсонит из Андорры установил мировой рекорд безостановочного плавания в фонтане и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Пестрое, разрозненное движение вскоре раскололось на многочисленные течения, секты и ереси. Были такие, кто предпочитал жить только в тех фонтанах, которые были шедеврами искусства. Были аскеты, которые сворачивались клубком в питьевых фонтанчиках (иногда их называли столпниками). Иные устраивались на жительство в канализационных или водопроводных трубах – они щеголяли своим фанатизмом. Были самсониты-одиночки и те, кто жил в фонтанах семьями…
Митинги, зеваки, подражатели, интервью… Все это утомительно и бесплодно. Если б не привычка, я давно сменил бы фонтан на другой – мне предлагали гораздо более престижные и удобные сооружения. Подумывал я и о скромном лесном ручье или небольшом озерце, но доктор отговорил меня от этой затеи: «Не то у тебя здоровье, чтобы пускаться в новые авантюры». Не без сожаления я был вынужден с ним согласиться. Я стал чувствительнее к перепадам температуры воды, иногда меня мучили простуды.
На исходе весны я принялся за дневник с тайным подзаголовком «Записки Самсона-самсонита. Без иллюзий».
Как-то незаметно начался спад «самсонизма». Некоторые братья и сестры покидали фонтаны, другие обиженно молчали. Дольше всех держались самсониты в тех странах, где они подвергались преследованиям и гонениям. Учуяв изменения конъюнктуры, туристические фирмы пересмотрели маршруты, после чего движение самсонитов приказало долго жить. Это был последний удар. Остались только люди, пришедшие в фонтаны по глубокому внутреннему побуждению. Среди них был и обитатель фонтана Треви. Я получил от него письмо, исполненное жалоб и тоски по морю, но, по недолгом размышлении, отвечать на него не стал. Все чаще я впадал в прострацию, часами лежал без движения, погрузившись в размышления об океане. Кто-то ведь должен мечтать о большой воде. В один из таких дней мой друг доктор растолкал меня и показал газету с сообщением о моей кончине после тяжелой продолжительной болезни. Мы от души посмеялись.
Вскоре, однако, я стал замечать, что люди проходят мимо фонтана и смотрят на него так, словно меня там и не было. Никто не откликался на мои обращения. Я рассказал об этом сыну.
– Может, это и к лучшему? – сказал он. – И не об этом ли ты мечтал?
На следующий день какой-то папаша, стоя в двух шагах от меня, стал рассказывать маленькой дочке о Самсоне, жившем некогда в этом фонтане. Я окликнул их.
– А это кто? – спросила девочка, указывая на меня.
Мужчина потыкал в меня палкой (она пронзила мое тело, не причинив боли) и облегченно рассмеялся.
– Да никого тут нет!
Мне стало весело. Я подмигнул девочке, но она уже отвернулась.
Вечером я отдал свои записки доктору. Мы попрощались.
Ночью мне приснилось, будто душа моя переселилась в океан, тогда как тело осталось в фонтане. Потом – будто я превратился в струю фонтана, взмывающую вверх и, достигнув рокового предела, в изнеможении падающую в бассейн.
Я не просыпаюсь. Во сне – это третья или четвертая форма моего бытия – я встречаюсь с сыном и доктором. Иногда мы просто болтаем, иногда играем в домино или шахматы.
Гость из Андорры
Он умер вовсе не потому, что с ним плохо обращались, – он умер сам: сунул голову в петлю и выпрыгнул из окна своей комнаты.
Нет, мы ему не мешали (мы уже привыкли к его чудачествам) и не трогали его. Но к исходу третьего дня из него потекло: оказывается, он умер.
Мы закопали его в землю и обработали участок. Несколько дней дети бегали на то место, но он так и не пророс.
Когда его привезли к нам, мы сразу сообразили, что это – Гость из бескрайней Андорры. Звуки его языка были почти такими же, как и у нас, и комбинировал он звуки так же, как мы, но понимать друг друга мы научились не сразу. При этом слово «понимать» я употребляю в узком смысле: понимать речь.
Мы отвели ему комнату во втором этаже, куда он всегда упорно поднимался по лестнице. Спал он на кровати, вызывая острую жалость у домочадцев. Справляя нужду, снимал часть одежды. Жидкую пищу ел ложкой, твердую – вилкой, проделывая все это за столом. Что ж, мы ему не препятствовали.
Каждый день он уходил из дома и бродил по городу, всякий раз посещая зоопарк, хотя, побывав там впервые, он громко кричал ночью (это время его сна), а днем не прикасался к пище.
Лебедя, жившего за домом, он упорно называл птицей, имея в виду такие признаки животного, как крылья, перья, клюв и способность к полету. Щуку именовал рыбой, а когда мы привели ему рыбу, спрятался в подвале, откуда, невзирая на уговоры, не выходил пять дней.
Мышь он называл мышью.
Смешное веселило его, грустное – печалило, что немало нас забавляло.
Долгое время он ходил по пятам за нашей шестой средней дочерью. Однажды они поднялись наверх, в его комнату, он снял с нее одежду, разделся сам и лег на девушку сверху. Когда мы поинтересовались у дочери, зачем они все это делали, она ничего не смогла объяснить. Тогда жена и остальные дочери попросили гостя сделать то же самое и с ними, но он отказался и, кажется, расстроился. Но женщины не хотели его обидеть, уверяю вас.
Книги он читал. У него была тетрадь, в которой он рисовал. Музыку он слушал. Да, так и говорил: «слушать музыку». При слове «небо» смотрел вверх.
Однажды он сказал, что лет через тридцать-сорок наверняка умрет. Всякого можно ждать от человека, который говорит «здравствуйте» даже знакомым и садится на стул задницей.
Каждое утро он умывался, употребляя для этого мыло, и чистил зубы, и довел себя до того, что дети не выдержали и предложили его помыть. Он заплакал, а вечером выпрыгнул из окна с петлей на шее. Жаль, что после этого он умер. Но подождем весны: быть может, он еще расцветет.
Одиннадцать шагов
Много раз впоследствии Нина Николаевна пыталась вспомнить, что же так беспокоило ее в тот день, когда случилось несчастье, изменившее ее жизнь. Звуки? Краски? Запахи? Это было последнее воскресенье сентября, когда надо было переводить часы на зимнее время. Чтобы дотянуться до часов, ей пришлось встать на придвинутый к стене стул. Покачнувшись, она чуть не смахнула на пол висевшую рядом с часами акварель – река, отлогие холмы, бледно-желтые перелески, – которая была подписана инициалами П.Р.: Павел Рассадин, ее покойный муж, был живописцем-любителем.
Неяркое осеннее солнце замерло над верхушками облетевших тополей, над тремя черными трубами какого-то заводика, окруженного многоэтажными серыми домами. Обычно эти уродливые трубы раздражали ее, но в тот день даже они не могли испортить «пейзаж ее души», как говорил ее покойный муж. Он был склонен к банальной сентенциозности, которую принимал за философию. «Человек – перекресток времени и вечности, – говорил он, – и, как на всяком перекрестке, он может заблудиться, ошибиться путем».
«Еще осень, а время уже зимнее, – подумала Нина Николаевна. – Еще, уже…»
Она попросила сына принести из кухни тряпочку – стереть пыль с часов, и мальчик, перешагнув через свернутый в трубку ковер (в квартире завершался ремонт), скрылся за дверью. Именно в этот миг ощущение тревоги усилилось, вспоминала потом Нина Николаевна. Так и не дождавшись сына, который не откликался на зов, она соскочила со стула и выглянула в прихожую. Кости не было. В кухне же на полу лежал старик в клетчатой рубашке, босой, с прижатыми к лицу ладонями. Нина Николаевна с перепугу метнулась в комнату, принялась дрожащей рукой набирать номер, но тотчас отшвырнула телефонную трубку и бросилась в ванную. Потом в спальню. Кости не было. Он не мог незаметно покинуть квартиру: входная дверь была загорожена отодвинутым на время ремонта платяным шкафом. Окна закрыты. Она выбежала на балкон, и тихое угасание теплого сентябрьского дня с его неподвижным неярким солнцем, голыми тополями и разлитой в воздухе истомой поразило ее, как самый дикий, нелепый, страшный кошмар. Она вдруг поняла, что от этого ощущения ей не отделаться всю жизнь, и закричала…
Рассказывая милиционерам об исчезновении сына, она то и дело ловила себя на мысли, что вся эта история попросту неправдоподобна, и мучилась, едва удерживаясь от срыва в истерику. Следователь пытался успокоить ее. Она показала, где находилась в тот миг, когда Костя покинул комнату. Подтвердила, что не слышала никаких подозрительных звуков. И не знала и никогда не видела этого странного босоногого старика, каким-то загадочным образом оказавшегося в ее квартире. Не мог же он влезть или взлететь на шестой этаж… Прилететь, чтобы умереть в ее кухне? Абсурд.
Опросы соседей тоже ничего не дали. Никто не знал старика. Никто не видел и мальчика, который неизвестно каким путем покинул квартиру. Он просто физически не мог ее покинуть. Обследовав каждый квадратный сантиметр жилья, сыщики развели руками. Судя по всему, получалось, что мальчик исчез на пути из гостиной в кухню, когда мать переводила стрелки часов на зимнее время. Эти одиннадцать шагов стали для Кости и его матери роковыми. И спустя годы она иногда безотчетно начинала считать шаги от порога гостиной до порога кухни. Одиннадцать. Всегда одиннадцать. В этой банальности было что-то непостижимо зловещее. Куда, как пропал мальчик? Ни стены, ни люди не могли ответить на этот вопрос.
Когда Нина Николаевна немного успокоилась, она вспомнила и сообщила следователю о куске сыра, оставленном на столе в кухне. Она вынула его из холодильника к обеду. Сыр пролежал на столе не больше полутора часов, но за это время успел превратиться в клубок червей.
Врачи установили, что смерть старика вызвана естественными причинами – сердце, годы, и Нина Николаевна заметила, как облегченно вздохнул следователь с забавной фамилией Ледюк. Он с юмором рассказал ей о своих предках, французских монархистах, осевших в России в 1801 году и сменивших претенциозное имя Ле Дюк на вполне простецкое хохлацкое Ледюк. Сергей Михайлович не скрывал радости, когда окончательно стало ясно, что Нина Николаевна не имеет никакого отношения к кончине незнакомца.
Старика похоронили за казенный счет. Спустя несколько месяцев Нина Николаевна попросила Ледюка выяснить, на каком кладбище упокоился прах незнакомца, и установила скромное надгробие с номером. Теперь у нее было место, куда она могла прийти и положить осенние цветы.
Через несколько лет Нина Николаевна перестала вздрагивать, завидев в толпе мальчика с желтоватой челкой и рыжим колечком на затылке. В последнее воскресенье сентября она отправлялась «к Косте» – на кладбище, где лежал незнакомый старик. Она думала о страшном разломе, вдруг возникшем на стыке времени и вечности, куда, возможно, и провалился ее сын, вернувшийся семидесятилетним стариком в клетчатой рубашке, босым, с прижатыми к лицу ладонями. Эта глупая фантазия утешала ее. На кладбище она проводила час-полтора. Ледюк ждал ее в машине у ворот. Иногда она, внезапно спохватившись, вскакивала и растерянно оглядывалась, будучи не в силах понять, отчего ей вдруг стало так тревожно. Пожелтевшие деревья, светлые коробки домов вдали, голубая небесная твердь и неяркое сентябрьское солнце снова возвращали ее к мысли о том, что между временем и вечностью всего одиннадцать шагов, то есть ничего, и эта наивная мысль странным образом примиряла ее с жизнью…Дневник Игоря Землера
Вот уже который год каждую ночь я читаю дневник Игоря Землера, неожиданно покончившего с собой, и не могу понять, что мучает меня, когда я листаю эти сто чистых страниц. Ни слова, ни знака. Отдавая мне эту тетрадь, его жена лишь пожала плечами: «Сжег картины, книги, даже одежду, а это осталось…» Помню, как поразили меня поначалу эти чистые страницы. Я подарил Игорю эту тетрадь, когда ему исполнилось двенадцать. Но за минувшие годы он так и не доверил бумаге ни одного слова. Жена говорила, что по вечерам он уединялся с этой тетрадью в своей комнате. Иногда даже рвал и комкал бумагу, словно его не устраивало написанное, но на испорченных страницах не было ничего – ни даже случайной помарки. Иногда я говорил себе: «Хватит заниматься пустотой». И прятал дневник в стол. Но через несколько дней возвращался к тетради. Что-то заставляет меня беречь ее, что-то побуждает листать. Как-то он сказал, что только подлинный художник может изобразить пустоту так, чтобы звезда в ней загорелась сама, хотя счастья не найдет и подлинный художник. Я листаю этот чертов дневник, но ничего не нахожу и, хотя знаю, что ничего не найду, продолжаю листать и листать…
На Красной площади
О, это буддийское утро в Москве! С петухастым Блаженным на фоне яркого неба, с ожесточенно-красным Кремлем, с запахами палого тополиного листа, скрученного в свиное ухо, с голубоватой дымкой над Москвой-рекой и продрогшими провинциалами на Никольской, всю ночь бродившими по великому городу, с рассветом вышедшими наконец на Красную площадь и замершими – в изумлении, смешанном с одуряюще темным восторгом, поднимающимся откуда-то со дна души, – при виде этого жаркого Блаженного, стобашенной алой твердыни в сердце мира, при виде голой шлюхи с распущенными волосами и длинными узловатыми ногами, которая, вяло зевая, показалась вдруг из двери Мавзолея и, почесываясь, деловито направилась к Васильевскому спуску, – мы провожали ее взглядом, пока она не скрылась из виду. «Если ты осмелишься хотя бы предположить, чем она там занималась…» – начала было Лена и запнулась, потому что мы вдруг оба поняли, что не напрасно так стремились сюда, потому что не обманулись в ожиданиях: ведь только раз в жизни человеку выпадает возможность увидеть начало новой эпохи своими глазами, и нам такая возможность выпала – вот здесь, в Москве, явившей нам сияющую в лучах роскошного утра главную площадь Святой Руси с тощей голой блядью, шагающей по легендарной брусчатке, по которой из полуприкрытой двери Мавзолея во все стороны торопливо расползались тараканы, клопы, сороконожки, мокрицы, пауки и прочие мелкие бесы русской истории…
Бронзовый нож
Этот нож когда-то я сделал своими руками, хотя, в сущности, по-настоящему-то делать ничего и не пришлось: найденную в школьной мастерской прямоугольную бронзовую пластинку достаточно было просто подровнять напильником. С тех пор вот уже сколько лет этот бронзовый нож валяется на моем письменном столе, изредка – и все реже – используемый для разрезания книг (забытое удовольствие), а чаще как закладка. Мне было бы жаль его потерять, как жаль расставаться с мелкими привычками, совокупность которых создает иллюзию полноты жизни, а иногда прикидывается роком (с присущей мне выспренностью думал я). Этот кусочек металла вызывал столько ассоциаций: мечи, кубки, фибулы, рака святого Зебальда, Гиберти, Троя, Гесиод… Он напоминал о детстве, о маленьком городке, где я родился и вырос. Поэтому, когда я стал мало-помалу приходить в себя после болезни (колеблющаяся температура, пляшущий на груди слон) и не нашел на привычном месте бронзового ножа, – отчаянье мое, усугубленное расстройством нервов, как писали люди не чета мне, не знало границ.
Уже давно в каждой утрате, будь то всего лишь пуговица от старого костюма или листок календаря с загадочным вензелем, мне видится нечто роковое, бесстыдно напоминающее о необратимости времени и непредсказуемости будущего – будущего, в котором застревают утраченные вещи, свободные от всяких обязательств перед прошлым, то есть передо мною. Пропадают фотографии, на которых я запечатлен юным и умным, пропадают книги, так и не прочитанные…
Переживая горечь утраты, которая вовсе не кажется мне комичной, слабый после болезни, я сижу у окна, выходящего во двор, и придумываю историю о пропавших вещах, чтобы создать хотя бы иллюзию обладания и тем самым поддержать надежду на встречу (иллюзорное бытие Парменида, в котором Зенон поместил свою ужасающую стрелу).
Впрочем, я не придумываю историю, для вымысла я еще слишком слаб, – я ее наблюдаю. Мне помогает женщина.
Ранним утром она выбегает из подъезда (молода и красива), торопливо пересекает двор – асфальтовый прямоугольник, образованный П-образным домом и рядом пыльных тополей вдоль тротуара, – на несколько минут задерживается в телефонной будке на углу и почти бегом направляется к троллейбусной остановке.
Я ее не знаю, знать не хочу и знать, вообще говоря, и не должен. Где она служит, замужем ли, есть ли дети – это не нужно. Вечером она возвращается и снова на несколько минут застревает в телефонной будке. Иногда она вылезает возле этой будки из машины – кажется, из одной и той же, но с седьмого этажа мне не видно, целует ли она того, кто ее привез. Случайно или нет, но автомобиль всегда останавливается так, чтобы его нельзя было разглядеть из той части дома, где живет женщина, – хотя возможно, что это я выдумал.
Однажды в воскресенье я увидел эту женщину гуляющей с ребенком – девочкой лет пяти. Они остановились на широком тротуаре, женщина принялась что-то объяснять девочке, показывая рукой на пыльные тополя и дом. Прежде чем скрыться за углом, она зашла в телефонную будку. Тем временем девочка знакомилась с собакой, которая влекла за собой тощего высокого мужчину, издали похожего на меня.
Через несколько дней, когда духота в городе стала невыносимой, а над крышами повисла бескрайняя темно-фиолетовая туча, эта женщина выпрыгнула из резко затормозившей машины «Скорой помощи» и помчалась к дому, придерживая руками наброшенный на плечи белый халат. За нею едва поспевали двое мужчин с чемоданчиком и нелепой кислородной подушкой. Спустя некоторое время они вернулись к машине, оживленно болтая и смеясь. Почему-то мне вдруг взбрело в голову, что у женщины должен быть хрипловатый волнующий голос.
Итак, жила она в П-образном доме или нет? Если нет, – приезжала к любовнику или навещала тяжелобольного? Если да, – кем приходится ей мужчина, подвозивший ее на машине до дома? А девочка? Ее – или его? – дочь? От кого она прячется? Кому звонит из автомата? О чем могла бы рассказывать девочке, прогуливаясь перед нашим домом? И какое отношение ко всем этим сюжетам имеет история, рассказанная соседкой, – о найденном в запущенной квартире мужчине, которого убили ножом?
А наутро из того подъезда вынесли и погрузили в лиловый автобус кремовый гроб. Среди одетых в черное людей, сгрудившихся у автобуса, я пытался взглядом отыскать ту женщину, но не нашел. А когда автобус тронулся, я вдруг заметил машину – за углом, возле телефонной будки. Из машины вылез молодой мужчина. Закурил и потянулся. Когда автобус, набитый людьми и венками, выехал со двора, мужчина сделал шаг навстречу. Автобус остановился, из него вышла женщина в черном. Они обменялись несколькими словами, и женщина направилась к автобусу. Мужчина догнал ее, схватил за локоть. Не оборачиваясь, она стряхнула его руку и захлопнула за собой дверцу. Мужчина проводил взглядом автобус, посмотрел на часы и скрылся в телефонной будке. Через минуту он выскочил оттуда как ошпаренный и бросился к машине.
Чтобы лучше видеть, я приподнялся на локте – и нечаянно сбросил с подоконника книгу. Как на грех, это был растрепанный том Шекспира с бронзовым ножом-закладкой, раскрывшийся на том месте, где Анджело «а партэ» признается в своей страсти к Изабелле. Как заманчиво ту историю наложить на эту!
Я задумчиво взвесил нож в руке.
Конечно же, это был уже другой нож. Тот же самый, но другой. Быть может, разминувшись со мною, он пролил чью-то кровь…
Я думал о сокровенном смысле двух-трех чужих судеб, едва различимые контуры которых на несколько мгновений выступили из тумана, чтобы тотчас исчезнуть. Важны не сами судьбы, но связи между ними: не может быть, чтобы эти трое (не считая ребенка) не были как-то связаны. Банальный равносторонний треугольник можно рассматривать как неисчерпаемый пифагорейский символ. Я посмотрел на нож. Впрочем, быть может, эти люди никак не связаны. Вовсе не исключено, что я наблюдал не одну, а две-три истории с тремя-четырьмя женщинами, с двумя-тремя мужчинами. В этом случае число связей становится головокружительно бесконечным, а история утрачивает смысл. Если… если единственным звеном, которое их безжалостно связало, и единственным смыслом не стал вот этот нож, живший неведомой мне жизнью, пока мое время стояло на месте, увязнув в болезни…
Ястобой
...
Ichbinbeidir.
Рильке
Я люблю этот уголок природы. Часто бываю здесь, но – не регулярно и не обязательно после напряженной работы или каких-то, как говорится, эмоциональных перегрузок. Вовсе нет. Желание посетить этот уголок возникает как бы ни с того ни с сего. Я бы даже сказал, что это иррациональное желание. Оно возникает словно помимо моей воли, беспричинно. Просто вдруг я обуваюсь, спускаюсь во двор, пересекаю закочкаренный пустырь, посреди которого дети устроили что-то вроде футбольного поля с покосившимися воротами и рваной сеткой, перепрыгиваю щербатую оградку и оказываюсь на свалке.
Здесь тоже по-своему живописно, и одно время – несколько месяцев кряду – я мог часами бродить по головокружительно пахнущим навалам ломаной мебели и рваной обуви, пищевых отходов и консервных банок. Я даже облюбовал там уголок, где проводил часы досуга. Нашелся огрызок деревянного стула, маленькая драная подушечка, приспособленные для сидения – напротив высоченной кучи разнообразнейшего хлама. Скрученная штопором детская прогулочная коляска, несколько связок раскисших от влаги книг, раздрызганный телевизор, пара лысых автопокрышек с бесстыдно выпирающим кордом, офицерская фуражка с красным околышем и рваной дырой на месте кокарды, детская ванна, доверху заполненная сгнившими яблоками и картошкой, сотни полторы жестянок и пластиковых флаконов – вот картина, представавшая моему взору. По-своему содержательная картина. Во всяком случае – выразительная, как выразительны тошнотворно детализированные изображения бреда у Достоевского и Дали.
Подолгу я напряженно вглядывался в детали, сопоставлял, сочетал в разных вариантах, и душа моя наполнялась… ну, чем-то… Возможно, это состояние можно назвать и гармонией, пусть и пустой, но – гармонией. Вот только получается, что душа наполнялась пустотой… Впрочем, почему бы и нет? И не таково ли главное и самое жгучее желание современного человека? Хотя, возможно, ощущение душевной наполненности я просто путал с усталостью от работы, когда душа ищет смысл там, где его и быть не должно, как в фильмах Тарковского, – и тем не менее эта работа не напрасна, как не напрасно любое усилие души.
Словом, я подзапутался, назовем это так. Душевная гармония сменялась дискомфортом, возникало напряжение, по ночам я кричал или разговаривал на незнакомом языке, и это было ужасно. Будучи примитивным городским животным, я жаждал простоты и ясности.
И я обрел простоту и ясность, когда однажды совершенно случайно забрел в незнакомый уголок свалки, туда, где она упиралась в жиденький перелесок, примыкавший к железной дороге. Кое-где мусорные осыпи вползали в перелесок. Одолев перемычку между двумя кучами, я оказался лицом к лицу – да-да, лицом к лицу – с уголком природы, сжатым двумя мусорными языками. Я оторопел. Разумеется, здесь не было ничего необычного в том смысле, который мы привыкли вкладывать в это слово: ни сногсшибательных панорам, ни потрясающе редких пород деревьев, ни так далее. Группка покрытых маслянистой копотью кленов трепетала листвой над путанкой ежевики, сквозь которую рвались вверх толстенные стебли лопухов-репейников, забрызганных чем-то вроде известки. Вот, пожалуй, и все, если не считать мелочей – подорожника и безымянной травки.
Я долго и внимательно разглядывал этот уголок, пока не впал в раздражение. Ну почему я оторопел? Почему остановился? Почему сразу не ушел? Непонятно. Просто непонятно – и все. Швырнув окурок в ежевику, я вернулся к давно облюбованным гнилым яблокам и картошке.
Однако утром я проснулся с совершенно недвусмысленным намерением вновь побывать на границе свалки.
Солнце только встало. За перелеском прошумел первый поезд. Прихватив обломок деревянного стула и драную подушечку, я пробрался к новонайденному уголку и пристроился у одного из мусорных языков. Но не успел закурить, как понял, что с этой точки мне будут плохо видны брызги известки на лопухах, а без этих белых шлепков на серой зелени я не воспринимал уголок как целое.
Несколько дней ушло на поиск места для наблюдения. Наконец я устроился. Я попытался понять, чем же привлек меня этот уголок, сразу же отвергнув мысль о тяготении к живой природе: пошло и непродуктивно. Да и какая это природа! Грязные деревья и грязные же кусты на границе между свалкой и закопченным городским предместьем. Так же бессмысленно было искать и некое содержание в расположении растений и предметов. Речь могла идти разве что о сакральном содержании, но таковым обладал любой материальный объект в мыслимой вселенной, что обессмысливало поиск. В конце концов я отказался от этих попыток и почувствовал облегчение: навязанные предметам – да и людям – моральные значения утяжеляют и уплотняют мир настолько, что движение, неважно куда, становится невозможным.
Постепенно я настолько привык к новому уголку, что уже отваживался вести здесь разговоры. Разумеется, только случайные и бесцельные. Это могли быть рассуждения о проблеме неотвратимости воздаяния в поэме о Горе-Злосчастии; об определителях конечного порядка в понимании Гаусса; об определении характера мужчин на основании наблюдений за способами мочеиспускания; о воспитании детей и зверей; о трагедии женщины, вынужденной вести жизнь прямостоящего существа; о способах приготовления салата из тунца и т. д.
Несколько недель уголок никак не реагировал на мои излияния. Все так же трепетали закопченные листья кленов, все так же равнодушно покачивались стебли лопухов, все так же жила своей лиственно-насекомой жизнью ежевика. Я продолжал разглагольствовать, следя только за тем, чтобы, не дай Бог, не впасть в последовательность (развивая, скажем, изо дня в день одну тему) или обнаружить в моей болтовне хотя бы даже скрытую, потаенную связь с моей жизнью. И хотя я ни на что не надеялся, усилия мои не пропали втуне.
Это случилось – хорошо помню! – в те минуты, когда я говорил о бронзовом топоре из Аркалохори с надписью пиктографического характера. «В начале двух из трех строк на этом памятнике, – бубнил я, – которые читаются сверху вниз, стоит знак головы со странной зубчатой линией на темени, что является, вероятно, параллелью к позиции ГОЛОВА С ПЕРЬЯМИ на Фестском диске, так как этот последний появляется только в качестве начального знака группы. У головы, изображенной в профиль, зубчатая линия идет вдоль, у другой головы – поперек. Другой памятник, который можно поставить в ряд с Фестским диском, это каменный алтарь из Маллии…»
Но тут я запнулся, остановился и тотчас задался вопросом: что заставило меня остановиться? Никаких видимых причин. Да и ощущения… Они были такими неясными. Я внимательно вгляделся в тополя. Ветерок стих, и листья на несколько мгновений замерли. Это? Или что-то изменилось в расположении листьев ежевики? Или, может, появление вот этого рогатого жука заставило меня прервать треп об истории дешифровки надписи на Фестском диске? Но все это – внешние обстоятельства, скорее поводы, а не причины. Нет-нет, было же и что-то внутреннее, хотя и связанное с этим уголком, со смыслом, который – чего уж там – мог содержаться в растениях и предметах. Если бы у этого уголка была душа, я бы сказал, что эта душа шевельнулась, и это-то движение передалось мне, моей душе.
– Знак головы со странной зубчатой линией на темени, – медленно и отчетливо проговорил я.
Ни отклика.
– Голова с перьями…
Ничего. И ничто не шевельнулось в моей душе. Но встрепенулись листья кленов. Ложный знак? Я взмок от волнения.
– Начальный знак группы…
Нет.
– У головы, изображенной в профиль…
Нет!
– Зубчатая линия идет…
Вот! Я чуть не упал со стула. Все вокруг и во мне напряглось, словно на миг натянулись тысячи невидимых нитей между мною и этими кленами, ежевикой, лопухами, подорожником и даже крапинками извести на листьях.
– Линия идет вдоль…
Снова – молчание. Но мне стало ясно, что этот уголок природы реагировал на слово «идет». Идет. Глагол. Почему?
Вернувшись домой, я лихорадочно пролистал работу Гюнтера Ноймана «К современному состоянию исследования Фестского диска», но так и не понял, почему мой уголок так отреагировал именно на слово «идет». Дело, видимо, было не в Ноймане и вовсе не в загадках критского письма, которые никогда меня особенно и не занимали.
Отныне я стал чувствовать реакцию моего уголка на то или иное слово, произнесенное мною вслух, а немного спустя – и на мысль, едва зародившуюся в моем мозгу. А в тот апрельский день, когда за перелеском, судя по всему, случилась железнодорожная катастрофа: грохотало железо, выли пожарные машины и кричали женщины, – в тот день, беспокойный и, казалось бы, не располагавший к углубленному размышлению, я вдруг – ни с того ни с сего – задумался о братстве. Братство, думал я, бывает не по оружию только; братство бывает и по ремеслу, по занятиям или труду, но для всемирного братства нужно, чтобы занятие было всеобщим; для объединения необходимо, чтобы у всех было одно общее дело – только при этом условии братство будет не пустым, не бездельным, – таким занятием может быть, например, земледелие, общность земледельческого опыта. И еще вдруг пришла мне в голову мысль: если человек – существо словесное, в противоположность животным и растениям, то в этом случае объединение людей будет литературным, говорящим сообществом…
Внезапно я очнулся – то ли от взрыва за перелеском, то ли от внезапно ударившего понимания: это НЕ Я думаю.
Отерев пот с лица, я растерянно огляделся. Над верхушками деревьев плавали черные хлопья сажи, где-то на одной ноте кричала женщина, натужно выли моторы. Здесь же, в уголке, все было по-прежнему: трепетали закопченной листвой клены, пучилась серо-зеленой пеной ежевика, колебались стебли лопухов. И во всем был строй и смысл – точно такой же, что и во мне, с грустью подумал я. Ни больше и ни меньше.
Плетясь домой, я думал об уголке, который как бы спровоцировал, вызвал меня на размышления о чем-то давно читанном и благополучно забытом. Более того, я был готов допустить, что никогда и не читал этого. Но тогда получалось, что это – не мои мысли. Чьи же? Кленов? Лопухов? Мошек-букашек? Всех вместе? Но могут ли они делать это БЕЗ МЕНЯ? Вряд ли. Я им нужен, чтобы… Господи, но это невозможно! Это они мне нужны, чтобы… а не наоборот!
Дома я перерыл книги, пока наконец не установил, что посетившие меня мысли принадлежат Н.Н. Федорову и содержатся в его статье 1898 года «Что такое добро?» Я никогда не интересовался этим травоядным философом и, как и подозревал, никогда даже и не читал его. Но тогда получалось, что… Дикая нелепость! абсурд! чушь! Даже если допустить, что некоторые – или даже все – идеи существуют вне конкретного человека, то есть были высказаны до или после него, и ему, человеку, дано лишь угадать то, что уже есть, – даже если допустить это, то как определить место в этом процессе для моего уголка? Декорация? Кажется, я начал запутываться, придавая вещам значение, которого они не имели…
Я был так напуган, что несколько дней не появлялся на свалке. И впервые за последние восемь лет я наконец-то спал без сновидений, без тех жутких кошмаров, которые терзали меня со дня гибели сына.
Но уже через две недели я ощутил пустоту, и мои сны являлись мне плеском кленовых листьев, сладким шорохом лиственно-насекомой жизни моего уголка. И я возобновил походы на свалку.
Теперь я мог и помолчать. Но и мой уголок не беспокоил меня. Мы были словно два существа, давным-давно все переговорившие и давным-давно все понимающие без слов. Если мне бывало плохо, ежевика незаметно подбиралась к моим ботинкам и оплетала ноги, так что, когда я собирался домой, приходилось буквально отвоевывать свои ноги у растения. Но это меня не раздражало, а временами и трогало. Иногда же, махнув на все рукой, я проводил в своем уголке несколько дней кряду. Почувствовав голод, довольствовался ягодами ежевики. Попытки же освободиться от ее колючих объятий вызывали явное осуждение со стороны кленов. Да и лопухи так недвусмысленно выказывали свое неодобрение…
Я остался.
Изредка над моей головой пролетают птицы – иные беззвучно. Что-то растет. Но вокруг много такого, что не растет вовсе, словно в страхе перед иной жизнью. К счастью, я забыл, что такое счастье. Да и пространство – зачем мне оно? Довольно вечности, тихо гаснущей в хлорофилле моей крови…
Одиночество с видом на комнату с видом на одиночество
Иногда по ночам я кричу. Иногда жгу книги из своей библиотеки – развлечение, не приносящее ни радости, ни хотя бы низменного удовольствия. Но в такую ночь, как эта, когда за окном клубится ледяная морось, оседающая влажными пятнами на грязный асфальт, нет, в такую ночь я не выйду на улицу, в холодную темень без запаха. Хотя, наверное, и стоило бы. Мне еще никогда не приходилось кричать на улице в такую непогодь. В моей коллекции криков нет такой ночи. Я кричал в подушку, кричал в замызганной, загаженной рощице, тянущейся вдоль железнодорожной линии, кричал в яму, которую выкопал в сыром лесу за Варшавским шоссе, кричал в заброшенном ангаре на пустыре, кричал в обледенелом тамбуре лязгающей пригородной электрички, в горячей ванне, в темном кинозале, в метро – люди шарахались от меня и бежали дальше, оглядываясь – кто с ненавистью, кто с завистью… Но такой ночи и такой улицы в моей коллекции нет. Что ж, пусть она останется мечтой, сожалением об утраченной возможности – без этого немыслима любая подлинно ценная коллекция…
Я остаюсь в комнате, курю у окна, жду.
Улица пустынна. Ни людей, ни собаки, ни Бога.
В толще дома забулькал лифт. Слышно, как он остановился. Открылись двери. Шаги. Но это опять не ко мне.
На столе рядом с пишущей машинкой – апельсин. Его давно пора съесть, но я медлю.
Форма моей комнаты, родившаяся в архитектурной мастерской Освенцима, не иначе, – проста и безнравственна: это прямоугольник. Четыре на четыре с половиной метра. Почти квадрат – круг, из которого не вырваться. Геометрия зла. Справа от окна – маленький письменный стол с пишущей машинкой, пепельницей и толстенной пачкой чистой, как ужас, бумаги. Вдоль стены – неширокая тахта без двух ножек, одна заменена кирпичами, в роли другой выступает желтый пятитомник Сервантеса. Изредка на полуистлевшей маслянистой поверхности тахты раскидывают свои горизонтальные прелести мои немногочисленные подружки. Одна из них съела мою золотую рыбку. С тех пор я не держу аквариум.
Дальше – двустворчатый платяной шкаф, слишком просторный для моего скудного гардероба. Напротив тахты, вдоль другой стены, – книжные полки. С потолка свисает костлявая латунная люстра с вечно перегорающими лампочками, которые то и дело приходится добывать на лестничных площадках (разумеется, тайком от соседей).
Я пытаюсь написать заметки об одиночестве. Почему русский человек так жаждет одиночества? Национальному сознанию чужда культура одиночества, вызревшая на христианском Западе. Западное одиночество – это труд, который может восприниматься и как проклятие, но к проклятию не сводится. Для коллективистского русского сознания, усматривающего в индивидуализме лишь зло, одиночество – это душевное состояние, ибо наша свобода – это свобода мистического восхождения души к Богу, свобода слияния с Ним. Иной свободы нам не дано. Столетиями русские люди жили на миру, в тесных жилищах, не имея возможности побыть наедине с собой и завидуя святым отшельникам, затворявшимся в лесных скитах и монастырях…
Мы мечтаем о проклятии одиночества.
А я – я ненавижу свое жилище. И мысли, порожденные этой геометрией зла, – ненавижу. И какие еще мысли могут появиться на свет в родильном доме, построенном по чертежам крематория?
По ночам я прислушиваюсь к звукам, зарождающимся в глубинах дома. Скрип кроватей. Капля, с болезненным звоном разбивающаяся в раковине. Чей-то всхлип. Полузадушенный женский крик. Плач ребенка. Взбрех собаки. Шаги. Дверь. Лифт. Но это опять не ко мне. Краски и запахи чужих сновидений глубокой полночью сгущаются и смешиваются, проникая во все уголки дома, моей комнаты, моего слуха. Утром бывает очень трудно выделить свои сны из слипшейся массы чужих видений, отделить свой кошмар с пауками и клюворылыми гадами от райского хаоса, клубящегося в сознании юной девушки, которая со счастливым стоном подается влажным лоном навстречу прекрасному золотому змею, прилетающему к ней каждую ночь…
Я курю у окна.
Пора.
Обернуться нужно вдруг, внезапно. Конечно же, это всего-навсего игра. Но иногда мне кажется, что, пока я глазел в окно, кто-то перебирал мои вещи. Мистика. Авторучка на письменном столе лежит не так, как положил ее я. Почему-то оказывается открытой папка со старыми рукописями. А если заглянуть в платяной шкаф, наверняка окажется, что серый костюм с накладными карманами висит не с краю, а рядом с черным, который тоже давно пора выбросить на свалку. И апельсин уже не оранжевый и вроде бы успел тронуться порчей.
Еще более разительные перемены обнаруживаются утром, после путешествия по мелководью старушечьих снов и в багровых глубинах ада (ад – это я, а вовсе не другие). Похоже, кто-то нащупал меня и шарит наугад, натыкаясь на мои вещи в надежде проникнуть в мои сновидения. Кто-то, кому я нужен. Кто-то ищет меня, и я не знаю до сих пор, радоваться этому или ужасаться. Я пробую вообразить человека, который – быть может, помимо своей воли, пустился в путь, принялся за дело, столь же человеческое, сколь и трагическое, человека, который ищет другого, ибо без другого не может осуществиться его собственное «я». Мучительное, небезопасное, хотя иногда и плодотворное приключение, слишком уж напоминающее поиски Бога, – движение по кругу – в самом совершенном и чудовищном из лабиринтов вечности…
Ищущие Бога обязательно натыкаются на дьявола.
Одиночество – это ожидание. Я смертен, ergo, я должен ждать. Всегда быть готовым к встрече. Ибо не существует никакого будущего, кроме того, что зовется «сейчас».
Страшно оттого, что страх или незнание могут разлучить меня с теми или с тем, кого я жду, и этот страх вызывает боль – главное сокровище моей коллекции.
Наконец я растягиваюсь на тахте и засыпаю.
На рассвете особенно неприятно бульканье вновь ожившего лифта. Это не ко мне, не ко мне. Не ко мне.
Приподнявшись на локте, я тупо смотрю на птицу, опустившуюся вдруг на подоконник и замершую, уткнувшись клювом в ледяное стекло. На что она уставилась? Ага, на апельсин. Даже отсюда мне видно, что плод уже несъедобен: он сгнил.
Испугавшись моего движения, птица улетела. Я могу длить и длить ее полет в своих сновидениях, как она может длить мою жизнь – в своих снах. Впрочем, не исключено, что воображение ее захвачено апельсином, продолжающим разлагаться на столе…
Последний
Сто тысяч человек – это не много, если они правильно рассредоточены и заняты делом, а их быт продуман до мелочей. Плюс охрана, иногда жестокая, но всегда бдительная. Если бы не охрана, они давно перессорились бы. Из-за женщин или из-за пищи. Ребилы и даты, каменотесы и счетоводы получали равное количество еды, развлечений и палочных ударов. А главное – все они в равной степени участвовали в строительстве Башни.
С утра до вечера скрипели повозки, подвозившие битый камень. Для Башни, призванной поразить воображение жителей плоскогорья, пожирателей желтых лягушек, – призванной достигнуть неба – ну, вы знаете эту байку, популярную среди плотников, пьющих вино, в которое они тайком подмешивают толченый песок. Среди этих людей, чье мышление примитивно, а язык, не взнузданный синтаксисом, сводится к скудному запасу жестов, связывающих немногие слова.
Иногда со стороны жаркой пустыни, чью жестокую безмерность по-настоящему ощущали лишь старики да беременные женщины, налетали разрушительные ураганы, оставлявшие после себя поваленные постройки и перевернутые повозки. Люди вновь прокладывали водопровод, укрепляли свои жалкие жилища из песка и соломы и сочиняли песни, исполненные страха перед судьбой и потому – прекрасные. Их пророки, по ночам ползавшие между домами, чтобы не заметила охрана, говорили о грядущем Последнем Урагане. Женщины считали их святыми и спешили с ними совокупиться, чтобы на рассвете побить камнями.
В полдень шестого месяца Тха по десяти поселкам великой стройки разнеслась весть: один из ста тысяч строителей Башни – Бог. Разумеется, были заданы все приличествующие случаю вопросы: правда ли это? зачем Он явился? кто Он? Были тотчас высказаны и предположения, за неимением лучшего сошедшие за ответы: Он явился, чтобы спасти; чтобы помешать строительству Башни; чтобы наказать начальника Третьего поселка за похотливость. Но поскольку практической ценности эти предположения не имели, большинство сосредоточилось на вопросе «кто Он?». А для этого было необходимо попытаться ответить на вопрос «что есть Бог?» Было предложено множество вариантов ответа, от банальных и рассчитанных лишь на внешний эффект, до еретических и чрезмерно приближающих к сути. Бог – это тень будущего в настоящем. Это все, что не Бог. Бог – это Башня, какой она предстает в воображении сразу ста тысяч строителей и какой она никогда не будет. Бог – это план Башни, это строительство Башни, это натертая пятка возницы и дневная бессонница каменотеса, это предполагаемый и возможный результаты строительства, обреченность строительства на неудачу, осознание этой обреченности и, вопреки всему, стремление к завершению постройки: все это, вместе взятое, и есть Бог.
Были предложены остроумные способы выявления Бога. Некоторые были претворены в жизнь – разумеется, безрезультатно. Например, посреди всех десяти поселковых площадей были начерчены совершенно одинаковые круги, внутри которых землю присыпали тончайшим слоем рисовой муки, строго-настрого запретив кому бы то ни было ступать за черту внутрь круга. Тысячи глаз денно и нощно бдительно следили за белыми кругами, но на седьмой день во всех поселках одновременно в центре круга обнаружили отпечаток чьей-то ноги. Наблюдатели были вне подозрений, поскольку шпионили друг за другом. Значит, этот след и был следом Бога. Но Его самого уловить не удалось.
Тогда попытались перепутать значения слов, чтобы поймать Его в сети безумия. Например, договорились словом «рыба» обозначать понятие «любовь», а словом «любовь» – понятие «смерть вечером в воскресенье» – и т. д. Но вскоре поняли, что Бог имеет дело не с названиями предметов, но с их сущностями, и единственное слово, сущность которого ему неподвластна и недоступна, это слово – Бог.
Были испытаны и другие способы, но, повторяю, безрезультатно. Тогда у многих вновь возникли сомнения в существовании Бога – во всяком случае, в его присутствии среди этих ста тысяч людей. Охране с трудом удалось подавить беспорядки и пресечь бесчинства. Быть может, впрочем, успокоению способствовал и некий К., который продемонстрировал доказательство бытия Божия. Во вторник он на глазах у всех преодолел расстояние от ворот поселка до колодца за десять минут, тогда как в четверг то же расстояние – за тридцать минут, да и то с преогромным трудом, а в субботу – снова за десять минут, правда, в обратном направлении, то есть от колодца к воротам. Разница во времени убедила последних маловеров и колеблющихся в существовании Бога.
Бурная активность, однако, сменялась апатией. Бог мог оказаться строителем или охранником, начальником Третьего поселка или женщиной. Более того, кое-кто, вспоминая опыт К., догадывался, что в предложенной системе доказательств Бог мог быть Богом с полудня до заката и только по средам, но никогда по пятницам; женщина была Богом, пока одета; ребенок, швыряющий камнем в собаку, был Богом, а ребенок, швырнувший камень, переставал быть Богом; каменотес мог быть Богом только в нужнике у Восточных ворот Башни, тогда как начальник охраны – всюду, но только мертвым… Бог мог быть великим, красивым, мудрым, ничтожным, милосерднейшим, жесточайшим, наконец – никаким. Отсюда был всего один шаг – и его сделали, ибо ничего другого не оставалось – до признания Богом всякого. И тогда отчаявшиеся предложили самый простой способ, позволяющий безошибочно установить, кто же – Бог. Надо ли рассказывать о вакханалии убийств, пьянства, насилия и разврата? О смертях по жребию? Об изнасилованных и съеденных детях? О самоубийствах с цветочными венками на головах? Потом дело смерти упорядочили. Огромная очередь выстроилась к печам, поглощавшим строителей и охранников, блудниц и пророков. Пока не осталось никого, кто мог бы свидетельствовать о Боге, Который, как и ожидалось, был в этой очереди всего-навсего Последним…
Осенний свет
Ранний осенний закат – в расплавленной меди плывут лиловые облака – еще тлел на лужах, на трамвайных рельсах, на палой листве, усыпавшей улицу и даже мост, куда ее занесло ветром, когда внезапно включились уличные фонари и поднимавшийся к мосту трамвай вспыхнул изнутри ярким бело-голубым светом, отразившимся на никлых деревьях, выщербленном асфальте и серых стенах домов с низко надвинутыми черепичными крышами.
Я вздрогнул, втянул голову в плечи: было холодно, тянуло с моря, а я был слишком легко одет. Повторяя про себя пришедшую на ум строчку «Больная совесть мировой души – на отмелях взволнованное море», я торопливо зашагал навстречу трамваю.
Полыхнув шипящей молнией на дуге, полупустой трамвай подпрыгнул и, прибавляя ходу, стал карабкаться на мост – две узкие игрушечные коробочки, освещенные изнутри неестественным бело-голубым светом, который превращает лица усталых людей в плоские маски. Я отвернулся, прикуривая, – и вдруг смешались в одно изнемогающий медно-лиловый свет заката, бело-голубой свет из трамвая и маслянисто-желтый огонек спички, смешались, взволновав меня так, словно я и был той самой гегелевской мировой душой, потрясенной космическим ураганом, хотя и не было, конечно же, никакого урагана, да и совестью тогда, в семнадцать-то лет, я страдал не больше, чем насморком, – но, вдруг подумал я, шалея от внезапного порыва ветра и счастья, – и это было как озарение, – мировая душа – есть, черт возьми, не может не быть, и вот сейчас, на какой-то миг, я – случайно, конечно, – оказался в средоточии этой самой души, высвеченной до дна вспышкой осеннего света, и она, эта огромная, словно чрево чудовищного библейского Левиафана, душа – шевельнулась навстречу свету – навстречу любви и счастью, как бы абсурдно это ни звучало, – навстречу вот этому всему, чем и будет полна жизнь, – медно-лиловому, мертвенно-белому и маслянисто-желтому, а уж чем это станет на самом деле и как это назвать – совсем неважно, потому что и жизнь, и любовь, и будущее – безымянны, по счастью…
Гравюра XVII века
Откуда это чувство вины при одном взгляде на гравюру, исполненную в духе каких-нибудь малых голландцев вроде Питера де Хоха или Яна ван Гойена? Она досталась мне от матери, которая всю жизнь хранила ее почему-то в сундучке, завернув в шелковый платок, и повесила на стену только после смерти отца. Сюжет гравюры никак не связан с историей семьи – во всяком случае, мать со смехом отвергла мои предположения о тайных мечтах всех женщин и всех мужчин, заметив лишь, что и ей, и отцу эта картина нравилась, но любовались они ею порознь, потому что делать это вместе им мешало смущение, странным образом вызываемое гравюрой. «Впрочем, когда твой отец играл из Чайковского, я испытывала такое же чувство и не могла от стыда поднять глаза на соседей, – призналась как-то мать. – Мне казалось, что музыка обращена ко мне и звучит чересчур откровенно, бесстыже, а ведь концертный зал – не супружеская спальня». И вот матери нет, и отца нет, а гравюра, не имеющая отношения к истории нашей семьи или к моей судьбе, вызывает у меня острое, подчас мучительное чувство стыда и вины, накладывающееся на те естественные чувства, которые испытывает сын, бессильный удержать мать и отца на этом свете.
При чем тут гравюра? Это странно.
Глядя на гравюру, я не думаю о родных и близких, – сохранилось немало предметов, напоминающих о них прямо и пронзительно, но эта картинка не из их числа, – при взгляде на нее я чувствую неодолимое притяжение чужих жизней, отравленных тайной, которая – а вот это уже странно – каким-то образом связана со мной. На гравюре изображена комната с низким потолком, с кроватью под балдахином в левом углу, рядом с которой высится похожий на рояль dobbel staartstuck – двухмануальный клавесин – с нотами (на обложке читается имя Орландо Гиббонса), с брошенными подле высокого табурета шелковыми туфельками. Справа же видна половинка длинного стола с бесформенной тенью от предмета, стоящего, судя по всему, либо на отсутствующем на картине конце стола, либо на подоконнике. Может быть, это ваза. А может быть, эта тень принадлежит человеку, заглядывающему в окно, которого не видно зрителю и которое видел художник, решивший, исходя из требований искусства, оставить его за рамой, в другом мире. Точно в центре – дверь, которую закрывает за собой женщина – виден только край ее уплывающего в дверной проем платья да рука, уже отпустившая край двери, которая вот-вот захлопнется, а там, за дверью, откуда-то сверху льется чистый – невинный – свет, тающий на женском затылке. Лица ее не видно, так уж решил художник, – и чем больше я думаю об этой женщине, тем лучше понимаю живописца, в жилах которого течет холодная, мудрая кровь искусства: ее лицо принадлежит тайне. Листок нотной тетради отогнулся и дрожит, не успев занять свое место, брошенные туфли по-настоящему, кажется, не улеглись и еще не остыли после женской ножки, клавесин звучит, угасая, и улетает шуршание платья и теплый блик полной голландской ручки, – и во всем, во всем – ощущение смятения, тревоги, угрозы, и в поисках причины взгляд снова возвращается к столу, на вычищенные доски которого падает свет из невидимого окна и таинственная бесформенная тень чего-то или кого-то, нарушившая и продолжающая нарушать гармонию одиночества. Свет за дверью, стремительные движения девушки, тень чудовища, ощущение бесповоротности, безвозвратности происходящего создают напряженную атмосферу разрушительного волнения, болезненно отдающуюся в моем сознании. Что побудило ее, прервав безмятежное музицирование, вдруг броситься – босиком! полуодетой! – вон из дома? Возможно, ее напугал человек, возникший в окне. А может быть, она услышала голос – зов, которого так ждала и которого так боялась, и, будучи не в силах противостоять ему, метнулась к двери, уговаривая себя: «Я только взгляну на него одним глазком», и увидела его, все поняла, зажмурилась, бросилась, пала в сани, помчалась… Стоп, стоп! Но я-то при чем? Ведь мне никогда не доводилось выступать в роли рокового соблазнителя, выманивающего девушек из добропорядочных домов, а потом бросающего их, оставляющего их в одиночестве после всех этих страстных объятий, поцелуев – оставляющего на погибель, потому что после такого бегства, после такой любви, после такой кровавой жертвы Спасением может стать только погибель. И что же это за Спасение, которому жертвуют всем, чтобы остаться лишь тенью на гравюре, лишь на миг вознесшись в мир превыше всякого ума? А истинная любовь, как и истинная вера, – это мир превыше всякого ума, мир без стыда, мир бесстыжий , достигнуть которого нам не дано, но стремлением к которому – и только им – и оправдывается наша жизнь, и даже если это не так, то все же остается хотя бы дрожь в сердце да невнятное, но мучительное чувство вины при взгляде на эту проклятую гравюру, чувство, заменяющее жизнь, превращающееся наконец в жизнь, как жизнь превращается в то искусство, которое эту жизнь питает…
Четыре сливы и стакан вина
Что видят мои глаза? Четыре сливы и стакан красного вина на желтом бархате. Черные, с сизыми боками сливы, высокий стакан толстого стекла, жаркий рытый бархат, углом свисающий со стола. Вот и все, что видят мои глаза.
А что видит сердце мое? Четыре сливы и стакан красного вина на жарком бархате. Я волнуюсь, я не знаю, как это выразить, и не понимаю, почему при виде этих слив, этого вина, этого бархата сердце мое так стеснено, так волнуется.
Сливы, стакан, кусок бархата… Разве можно это любить? Жалость, благоговение и стыд – вот что такое настоящая любовь. Но может ли небессмертный человек сострадать сливам? Или бездушный стакан – благоговеть передо мною? И может ли стыд связать нас, человека и этот бархат, как связывает людей? Может, Господи, Ты свидетель, – может, потому что в те мгновения, когда душа моя стеснена, охвачена волнением и полна любовью, этот бархат и даже эти бессмысленные сливы становятся моей душой – бессмертной душой. Ибо сказал Господь: «Воистину, кто любит сливы сии, тот любит Меня, тот пронесет душу свою в жизнь вечную».
Ореховая Гора
Одни говорят, что Ореховую Гору построили в середине тридцатых годов, другие утверждают, что произошло это не раньше сорок третьего – сорок пятого. Никакой горы там не было. Возможно, кто-то из строителей вспомнил о земле обетованной из старинных народных преданий, куда столетиями стремились в поисках лучшей доли русские крестьяне, – она называлась Беловодьем или Ореховой Горой.
Высокие стены из сосен в два обхвата, ворота, башни, дома под гонтовыми крышами, висячие сады, огороды, скотина и птица – и все это в самом центре страны концлагерей, в суровой Сибири, на вечной мерзлоте. Об Ореховой Горе мечтали все солдаты и офицеры, служившие в охране лагерей, – для заключенных же она была сказкой о рае. Да и в самом-то деле, как-то не очень верилось замордованным людям, что где-то в одном месте собраны тысячи женщин, которые сладко едят и пьют, прилично одеваются и даже каждый день моются теплой водой, и все лишь затем, чтобы удовлетворять мужские прихоти. Этих женщин выбирали из новеньких заключенных, подвергали тщательному медицинскому осмотру, обмеряли и взвешивали, после чего передавали в руки хозяйке Ореховой Горы – Марлене, которую заглазно звали Главсукой. Шептались, будто сама она обслуживает только Сталина. Раз в году ее специальным самолетом доставляли в Москву, где три дня и три ночи проводила она в объятиях Генералиссимуса. Перед возвращением на Ореховую Гору ее тщательно обследовали лучшие врачи, которые должны были убедиться в том, что Марлена не утаила в себе ни капельки сталинской мужской жидкости.
– Не горюйте, новобрачные! – с ледяной улыбочкой говорила Марлена. – Сегодня лучше, чем завтра, а завтра будет лучше, чем послезавтра.
И твердой рукой распределяла женщин по номерам.
«От каждого по способностям, каждому – по потребностям» – таков был основной принцип жизни на Ореховой Горе. Женщины сами вели хозяйство, ухаживали за скотиной, птицей и садами-огородами, готовили пищу. Развлечения и наказания назначались общественным советом.
Нельзя сказать, что там были собраны одни красавицы, нет, – там были собраны женщины на любой вкус: тонкие и толстухи, юные и в летах, с заурядными представлениями о плотских радостях (таких называли «пехотными шлюхами») и искусницы, способные удовлетворить самый взыскательный вкус, дамы вулканического темперамента, испепелявшие мужчин одним касанием (этим пеплом удобряли ореховогорские огороды), и абсолютно фригидные, с которыми любой слабак чувствовал себя настоящим героем…
Рассказывали о необъятной женщине, по которой трое мужчин могли путешествовать часами, не встречаясь друг с другом. Перед встречей с нею претенденты проходили инструктаж, сдавали экзамен по технике безопасности, снабжались подробной картой местности и специальным снаряжением, позволявшим спастись от смертельной тоски в бескрайних болотах плоти.
Любопытно также предание о женщине, которую можно было спрятать в кармане; один из клиентов попытался вынести ее тайком, но был раскушен Главсукой и отдан под трибунал…
Незадачливого похитителя всего-навсего расстреляли. Некоторым везло больше – они принимали смерть в объятиях Царицы. Одни говорили, что она убивала своей красотой; другие утверждали, что приговоренный к Царице погибал от разрыва сердца при первом же взгляде на ee чудовищное уродство. Но все это байки, ибо видеть ее не дозволялось даже Главсуке, мужчин же из ее покоев в лучшем случае выносили вперед ногами, в худшем, как шептались, хватало обыкновенного веника, чтобы вымести останки… Именно в ее объятиях приняли смерть самые крупные государственные преступники, включая Лаврентия Берию. Некоторые сами просили, чтобы их приговорили не к банальному расстрелу, но «к Царице». Она была той каплей страха, что придает неповторимый аромат наслаждению, той каплей уродства, без которой не может быть подлинной красоты…
Главсука строго следила, чтобы на Ореховой Горе, не дай бог, не случалось любовных историй. Но однажды некоему сержанту удалось выкопать подземный ход и умыкнуть из крепости юную женщину; любовники ушли от преследования и растворились в бескрайней тайге, где их обнаружили лишь спустя много лет; когда охотники приблизились к их обители, седобородый сержант, передернув затвор винтовки, спросил из-за ограды: «Как отчество Сталина?» – на что высланный для переговоров вперед сын вожака охотничьей партии не смог ответить и тем убедил сержанта выйти к людям…
История сохранила предание о рядовом солдатике, которому удалось навсегда остаться в царстве любви. Поскольку он оказался девственником, Марлена отправила его к заурядной «пехотной шлюхе». Однако Главсуке было невдомек, что солдатик был поэтом. Когда женщина раздвинула ноги, он взволнованно спросил: «Что это?» «Некоторые называют это звездой, – ответила женщина. – Другие – розой». «Но если так прекрасны врата, если так чудесно устье, каков же храм? И какова же страна, где стремит бег свой река любви?» Он потянулся к устью, врата райские распахнулись перед ним, и солдатик недолго думая отважно бросился в плавание, скрывшись внутри женщины. Ее замучили рентгеном и допросами – она лишь растерянно пожимала плечами, продолжая твердить одно и то же: «Ни капельки не было больно. Было смертельно хорошо. Он нырнул и был таков». Сгоряча решили было ее расстрелять, но Марлена не согласилась. Она отвела «пехотной» отдельную комнатку в своем доме и по вечерам приходила посидеть с женщиной, прислушиваясь к тому, что происходит внутри ее тела, и задумчиво вглядывалась в ее лицо, озаренное смутной полуулыбкой… Главсука верила пехотной. Иногда они обсуждали жизнь солдатика-поэта, отправившегося в нескончаемое путешествие по стране любви, – и тихонько плакали…
Скорее всего это легенды: Ореховая Гора охранялась как мало какой другой объект в стране секретных объектов. Тысячи заключенных погибли на строительстве противотанковых рвов, заграждений, аэродромов, а также казарм для четырех мотострелковых дивизий особого назначения, бойцы которых поверх телогреек носили стальные панцири. А сотни метров минных заграждений? А тысячи замаскированных огнеметных установок? Но, пожалуй, самым страшным оружием были сторожевые псы, нарочно выведенные для охраны Ореховой Горы. Каждый такой пес был величиной с годовалого теленка и мог проглотить, не подавившись, одиночного бойца в полной экипировке, с сапогами, каской и кисетом для махорки; среди собак встречались и такие, что могли перекусить гусеницу вражеского танка. Так что прорваться к объекту противник мог только ценой колоссальных потерь.
Солдаты конвойных полков, отправленные на фронт, шли в атаку с криком: «За Родину! За Сталина! За Ореховую Гору!» Но как ни пытали гитлеровцы пленных в надежде выведать, что же это за Гора, ни один из бойцов так и не выдал тайны.
Заключенные сибирских лагерей утверждали, что чуют запах ароматного бабьего мяса, который за сотни верст доносили до них весенние ветры. Именно поэтому весной в лагерях начинались брожения, нередко перераставшие в восстания под лозунгом: «Век Горы не видать!» Почетом и уважением пользовались лагерные брехуны, которые вечерами плели цветистые истории о жизни в загадочном бабьем царстве…
После смерти Генералиссимуса резко сократилась численность охраны Ореховой Горы и резко же возросла ее дерзость. Бывали случаи, когда охранники, подкупленные заключенными, пропускали уголовников в святая святых, и кто знает, чем бы в конце концов это обернулось, не прояви Главсука бдительность и жестокость. Она организовала хорошо вооруженные и обученные женские отряды самообороны, круглосуточно дежурившие на башнях и стенах Ореховой Горы.
17 апреля 1957 года курьер доставил начальнику охраны и Марлене приказ о ликвидации Ореховой Горы (Хрущев начал уничтожение ГУЛАГа), а 18 апреля, после общего женского собрания, Главсука подняла над главной башней крепости красный флаг неповиновения – знамя любви и отчаяния. Никто из женщин не пожелал свободы и возвращения на родину.
«За любовь!» – вот что было написано на их знаменах.
Начальнику охраны стало не до смеха, когда он узнал, что несколько конвойных рот примкнули к восставшим, – и он приказал подавить бунт любой ценой.
Но ни с первого, ни с десятого, ни с тридцать третьего раза крепость любви взять не удалось. Осажденные оборонялись отчаянно, не щадя ни своих, ни чужих жизней. Нападающие несли невосполнимые потери. Донесения начальника охраны в Москву содержат волнующие факты самоотверженности и героизма женщин, бросавшихся с гранатами под танки, обращавших в бегство полки одним видом нагих грудей, женщин, страдавших от ран и лишений, но – не сдававшихся. Если верить этим донесениям, Марлена осталась цела и невредима после того, как приняла на грудь двухсотпятидесятикилограммовую авиабомбу, – в то время как наблюдавшие за нею солдаты все как один сошли с ума, бросили оружие и бежали в тайгу…
Наконец было принято решение отвести измотанные многомесячными боями войска и сбросить на Ореховую Гору водородную бомбу, что и было исполнено. Так прекратилось существование царства любви между Уралом и Тихим океаном.
Уцелел ли кто из обитательниц Ореховой Горы – точно неизвестно (поговаривают, будто Главсука в последний день вывела секретным подземным ходом несколько женщин, в том числе и ту, в которой поселился солдатик-поэт), – но и до сих пор на этом месте в январе распускаются роскошные розы, а звезды над тайгой, как уверяют астрономы, необыкновенно, неправдоподобно ярки. Однако тому, кто отважится пробраться туда через тайгу, угрожает безумие, ибо сила радиоактивного излучения любви несоизмерима с силами человеческими…
Птичье Древо
Поэма
...
А посреди рая древо животное, еже есть божество, и приближается верх того древа до небес. Древо то златовидно в огненной красоте; оно покрывает ветвями весь рай, имеет же листья от всех дерев и плоды тоже; исходит от него сладкое благоуханье, а от корня его текут млеком и медом двенадцать источников.
Панагиот – Азимиту
1.
Геродот, Страбон, Прокопий Кесарийский, аль-Бируни, Георгий Амартол, Иоанн Малала, патриарх Фотий, Мефодий Патарский, император Маврикий, Приск Панийский, император Константин VII Багрянородный, Ахмед ибн-Фадлан, Севериан из Габалы, Иордан, автор дополнений к хронике Захария Ритора, Феофилакт Симокатта, Персидский Аноним, ибн-Русте, Масуди, Никон Великий, ибн Мискавейх, Нестор, ибн-Хордадбех, Титмар Мерзебургский, ибн-Хаукаль, Косьма Индикоплевст, Гельмольд, Саксон Грамматик, Адам Бременский, Козьма Пражский, Плано Карпини, Иларион, составители подорожных от Эдема и путешественники в области Ада, купцы и авантюристы, воины и монахи, короли и разбойники, люди ученые и невежды, бродяги и домоседы свидетельствуют, что Царство было всегда. В его заснеженных пустынях свист примерзал к губам; в кисельных берегах текли великие молочные реки; на тучных равнинах серебро росло подобно брюкве, и его копали лопатой; в бездонных болотах под обломками доисторических ледников кости исполинских ящеров медленно превращались в черную нефть, уголь и алмазы, а бескрайние леса выдерживали сравнение с вечным Космосом. И над всеми сокровищами, над народами людей и народами драконов властвовал Царь Царей, который круглый год парил над своими владениями в образе двуглавого орла с железными крыльям и клювами червонного золота. В сердце лесной страны стояла деревушка – горсть избушек под гонтовыми крышами на топком берегу Прорвы, у подножия Птичьего Древа, чьи корни утопали в жирной мгле подземного царства, а крона возносилась выше седьмого неба и служила пристанищем крылатым обитателям Рая, которые по весне спускались на нижние ветви и разлетались по всей земле птицами большими и малыми.
В этой деревне издревле селились беглые крестьяне и беглые бояре, нередко отмеченные клеймом, а то и без языка, вырванного рукой палача. Ревниво оберегая свою независимость, они не желали иметь ничего общего с миром, который отваживался граничить с лесной страной. Единственное исключение они делали для Трифона, приходившего каждую осень за русалками и единорогами, отловленными за лето охотниками и укрощенными при помощи сладкой водки и плетки-семихвостки с вплетенными в кожаные косицы кусками свинца. Когда один Трифон умирал, на смену ему являлся другой Трифон – неизменно ражий мужичина с рыжей окладистой бородой и обязательно без языка, дабы не мог приносить вести из иного мира. В условленный день его встречали за много верст от деревни и, завязав глаза, вели – всякий раз новым путем – через бездонные трясины и непролазные чащобы.
В обмен на русалок и единорогов Трифон привозил порох и кремни для ружей.
Целый месяц немой купец жил в Царской избе, где в его честь ежедневно устраивались пиршества с водкой и вымоченной в пиве свининой. В эти дни детям и женщинам запрещалось даже приближаться к гостевому дому, куда на ночь из огороженного загона одну за другой носили пьяненьких русалок.
Наутро женщины с нескрываемым отвращением стирали постельное белье из Царской избы.
Но бить русалок им разрешалось лишь однажды, в тот день, когда охотники приносили в деревню зеленокожих пышнотелых баб, до пупка обтянутых тусклой чешуей. Беспомощные перед неукротимой и холодной яростью женщин, вооруженных тяжелыми дубинами и ржавыми цепями, русалки тревожно перекликались, широко открывая красивые рты и с шипением высовывая раздвоенные языки. Мужики быстро волокли пленниц к загону, женщины обрушивали на них дубье, собаки рвались с привязей, надсаживаясь в лае до хрипа, свиньи истерично визжали и по-медвежьи взревывали…
За день до отъезда Трифона мальчиков посвящали в охотники: достигший совершеннолетия юноша должен был нагим сойтись в единоборстве с русалкой-девственницей. На следующее утро отборных русалок и традиционный подарок – огромную корчагу лесного меда – грузили на телегу. Трифона сажали на облучок передней повозки, запряженной укрощенными единорогами, и поезд трогался.
Уже через месяц прорубленная для него узкая просека зарастала черной ольхой и гигантскими кислыми лопухами на красных стеблях, в тени которых мог укрыться кабаний выводок.
Некоторые русалки после «Трифонова месяца» беременели – таких разбирали по избам. Если младенец рождался без хвоста и чешуи, его оставляли в деревне; в противном случае новорожденного вместе с матерью бросали свиньям.
Цареву повезло: сын Трифоновой русалки остался жив. Но на всю жизнь запомнились ему расширенные от ужаса глаза чешуйчатых женщин, прижимающих к животу красные сморщенные комочки и пытающихся ударами хвоста отогнать огромных бурых свиней, все теснее сжимающих кольцо вокруг пахнущих тиной и кровью жертв…
Едва дети начинали ходить, их отдавали на попечение священнику.
Как и все остальные, священник не имел имени. Как и все остальные, попал он сюда не по своей воле – молодым человеком с воспаленным клеймом на щеке и песнью Евангелия в сердце и на устах. Он ужаснулся, узнав, что в этой деревне не смеются даже дети, и в первой же проповеди вознес хвалу благосмеющемуся Господу. Через год он понял, что этим людям не нужны проповеди. Еще через год он понял, что этим людям не нужен и Бог, а единственным доказательством бытия Божия в их глазах была левая нога дьявола, убитого при нападении на деревню в 1314 году; покрытый жесткой собачьей шерстью, с грубо обкусанными синими ногтями на сросшихся пальцах, сушеный член висел рядом с алтарем, между непроглядно черной византийской иконой и ярлыком хана Батыя.
Он попытался убедить людей хотя бы сложить печные трубы, чтобы дети и женщины не слепли в чаду, царившем в избах, которые топились по-черному. Но и это ему не удалось. Наконец он понял, что только безропотным исполнением обязанностей няньки он хоть как-то сможет оправдать свое существование за счет этой угрюмой общины, – и смирился. Отныне его видели постоянно окруженным детьми, в бабьем переднике и с закинутым за спину крестом (чтоб не мешал месить тесто). Он учил детей слову Божию, но они предпочитали читать следы зверей и птиц на земле, а писать – струей мочи на песке. Он старел и все чаще впадал в отчаяние, чувствуя, как душа его обрастает бурым свиным волосом.
И только сын русалки, много позже получивший прозвище Царев, вселял какую-то надежду и примирял с миром. Говорят, во время церковной службы он из чрева матери подпевал священнику. Он родился с родинкой в виде креста на груди, и одна из лесных колдуний предрекла, что чрез него погибнет Царство. При крещении младенца на священнике вспыхнула риза.
Он быстро рос и был вечно голоден, а потому тащил в рот все подряд: кислые лесные яблоки, птиц в перьях и земляных червей. Женщины обходили его стороной, ибо при одном взгляде на этого мальчика у них начинали дрожать ноги и груди набухали дурной кровью. Мужчины предпочитали не связываться с сопляком, который ударом кулака вышибал из быка-трехлетка внутренности, с треском вылетавшие через заднепроходное отверстие. Сверстники зазывали его на песчаные отмели, куда по ночам собирались похотливые русалки, – он уклонялся.
Главной и до поры единственной его страстью стали книги, случайно обнаруженные в доме священника. Еще не разумея грамоте, он впадал в экстатическое состояние только от запаха книжной плесени. На всю жизнь запомнил он теплую шероховатость кожи, литую прохладу застежек, угловатую флору и фауну инициалов. Выучившись читать, он бестрепетно вникал в метафизические комментарии Ямвлиха к «Введению в арифметику» Никомаха из Герасы, вместе с Иоанном Филопоном решал задачи о квадратуре круга и удвоении куба, упивался «Введением в астрологию» Павла Александрийского, проводил бессонные ночи над трудами Зосимы из Панопля и «Отразительным писанием» Евфросина…
Изредка он выходил на крыльцо – из теплых, как моча, адриатических вод, из уютной лавки антиохийского стеклодува, из благовонных объятий афинской гетеры, из горячего спора о способах получения философского камня – и при виде потемневших от дождей гонтовых крыш, обширного загона в центре деревни, где рылись в вонючей грязи бурые свиньи, при виде непроницаемых лиц мужчин и женщин, считавших болтуном всякого, кто за год произносил больше десяти слов, при виде пьяненьких русалок, киснувших в больших деревянных кадках с тухлой водой, при одном взгляде на мир, воняющий тиной и свиньями, он впадал в состояние, близкое умоисступлению, переходившему в апатию.
Все реже покидал он чердак, где облюбовал себе угол и проводил дни и ночи на охапке сухого камыша, окруженный книгами и видениями. Не обремененный от рождения именем, он был убежден, что имеет право на любое имя, и каждый день примерял новое – вместе с новой жизнью. Он был Авессаломом, Иудой, Иисусом Навином, Христом, Ионафаном, Саулом, Иродом, Давидом, наконец – Измаилом…В деревне не было петухов, поэтому люди здесь умирали только случайно, а женщины носили во чреве, пока не надоест. Понятно, что рожали они чаще всего мальчиков. Весной, после праздника – с водкой, моченной в пиве свининой и русалками – в честь Царь-птицы, охотники отправлялись за девочками, которых выменивали или крали в дальних деревнях.
В женщинах ценилось умение прясть, рожать и молчать. Поэтому понятно охватившее мужчин разочарование, когда вдруг обнаружилось, что одна из захваченных в очередном походе девочек умеет только бить в бубен, кувыркаться на шерстяном коврике и превращаться одновременно в слепую старуху, стаю злых псов и обезьянку. Разумеется, ее бросили свиньям. Но она осталась жива. Ловко вспрыгнув на спину кабана-вожака, она с улыбкой послала воздушный поцелуй ошеломленным зрителям, и как ни исхитрялись животные – то внезапно падали на бок, то мчались, подпрыгивая, по загону, – девочка всякий раз успевала вскочить на спину бурому зверю. Люди впервые не спешили расходиться, напряженно и хмуро наблюдая за бесстрашной наездницей.
Царев смотрел на нее из чердачного окна, и у него кружилась голова. Не раздумывая, он выбрал себе новое имя – Соломон.
Девочке помогли выбраться из загона и отдали священнику.
Когда и на следующий день она повторила свой номер в загоне, вокруг уже собрались зрители. Они не смотрели друг на друга и не обращали внимания на смеющихся детей.
Вечером Царев спустился вниз и застал ее в кухне, где девочка, громко напевая, мылась в большой деревянной кадке. Не оборачиваясь, она протянула ему намыленную мочалку и выгнула лаково блестевшую смуглую спину. Он бежал наверх и всю ночь, дрожа, шептал – ему казалось, что молитву.
На следующий день она вновь продемонстрировала искусство верховой езды на свиньях, и когда вдруг зрителям показалось, что бурый хряк вот-вот сбросит ее, кто-то из мужчин громко вскрикнул. Раздался выстрел. Кабан замер – и медленно повалился на бок. Свиньи бросились врассыпную.
Девочка обернулась к дому священника и помахала рукой, но в затянутом пороховым дымом чердачном окошке никого не было.
Той же ночью она бесшумно поднялась на чердак.
– Суламифь! – позвал он. – Мед и молоко под языком твоим.
– Меня зовут Амадин, – засмеялась она. – Если бы свиньи не испугались, они сожрали бы меня.
Они прожили вместе несколько минут, растянувшихся для всех остальных на пять месяцев. И каждый день она выходила в загон к свиньям, которые свирепели при ее появлении, но ничего не могли с ней поделать.
Царев с улыбкой наблюдал за нею с чердака, облокотившись о фолиант. А вокруг загона стояли и сидели люди – они молча следили за девочкой, не выражая ни удивления, ни удовольствия.
Так было и в тот день, когда она вдруг потеряла равновесие и в мгновение ока утонула в круговороте бурых спин.
Она была беременна, и с каждым днем ей все труднее давались представления, но отказаться от них она не могла, как, наверное, не мог бы отказаться от своей власти над людскими душами благосмеющийся Господь.
Единственным напоминанием о ней остались дымящие печные трубы, как-то незаметно выросшие над гонтовыми крышами.Когда на сто первый день Царев наконец пришел в себя и увидел склонившегося над ним священника, он тихо проговорил:
– Я уйду отсюда.
Старик вздохнул: однажды он уже слышал такие слова, но тогда пожелавшему уйти вырвали язык, а уж только потом отпустили.
– Я уйду отсюда, – повторил юноша. – Я найду того, кто вяжет и развязывает, кто владеет и правит, и он уничтожит все это, ибо этого не должно быть.
Старик вздыхал, машинально почесывал ногтем давно зарубцевавшееся клеймо на щеке. За окном залаяли собаки: в деревню въезжал Трифон.
Весь месяц мальчик сосредоточенно читал или часами молча с открытыми глазами лежал на камышовой подстилке, источавшей слабый запах Амадин. В ночь перед отъездом Трифона он спустился с чердака – в кафтане, бобровой шапке и юфтевых сапогах, с пистолетом за поясом. Священник приблизился к нему с распростертыми объятиями – и замер: перед ним стоял незнакомец с жесткой складкой у губ и льдом во взгляде.
– Что ж, – вздохнул старик, опуская руки. – Но запомни: царство – это не царь, царство – это люди.
Мальчик протянул старику книгу, на широких полях которой он делал выписки из прочитанного.
– Мне это больше не понадобится, – сказал он. – Прощай.
Той же ночью он тайком пробрался в Царскую избу, залпом выпил весь мед и спрятался в корчаге, которую утром мужчины с бережением погрузили на телегу. Трифон уехал.
У священника отнялись ноги. Он сидел у окна и в который раз перечитывал запись, сделанную мальчиком на широких полях Евангелия от Иоанна: «Имя ложь, ибо не суть человека, лишь признак и может быть изменено. Изменения же ложь дьяволова. Мир сей меняется, ибо он не от Бога. Бог – там. Он не меняется, не имеет имени и не владеет именами, но владеет сущностями, и имена не имеют власти над Ним. Он никогда не создавал мир дольний, человека же создал лишь по образу и подобию Своему, как и Христа, который лишь подобносущен Богу; Его мир – там. Он неподвластен слову, которое отражает лишь изменения, но никогда сущности. Слово ложь, ибо от дьявола. От Бога мысль, мысль есть молчание, ибо Бог есть молчание. Улучшение мира дольнего равнозначительно примирению человека с дьяволом. Дьявол же есть апофеоз и всевластие ничтожного. Царство от мира сего должно быть унижено и ввергнуто в страх, дабы возвеличилось Царство не от мира сего, стоящее на истоках радости. Бог никакой, он больше добра и зла – измышлений дьяволовых. Жертва Христова – ложь, ибо он обладал всезнанием и всемогуществом; Его жизнь – подражание Богу, и нелепо же подражать подражанию; и подражание его лишь жалкое передразнивание, осмеяние и отречение от Подлинного и Единственного. Иуда – презреннейший из преступников, ибо возвеличил Христа, обезьяну Господа, слугу и пособника Сатаны».
Старик не знал, плакать ему или смеяться.
2.Все последующие годы Царевым владела лишь одна мысль – о возвращении.
Об этом он не забывал ни в первый день на чужбине, когда его, потерявшего сознание от голода, извлекли из корчаги под хохот обитательниц публичного дома, одним из совладельцев которого был Трифон, ни на вершине славы, когда миллионы людей во всех концах света жадно ловили каждое его слово и безропотно повиновались ему.
Тогда, в первый день, мальчику влили в рот полстакана коньяку и поставили на ноги. Трифон обошел его кругом, с любопытством разглядывая перемазанный медом длиннополый кафтан, щегольскую бобровую шапку, какие носили при дворе Симеона Гордого, кремневый пистолет за мятым поясом, и захохотал, мотая кудлатой головой и взвизгивая. Все еще похохатывая, он подвел мальчика к окну и отдернул тяжелую штору.
По чешуйчатым мостовым, освещенным электрическими фонарями, мчались на лихачах закутанные в звериные шкуры женщины; полыхала реклама крупнейших в мире компаний «Продуголь» и «Проднефть»; чахоточный террорист брел по тротуару, прижимая к груди начиненный динамитом чайник, предназначенный для наследника престола…
– Где мы? – спросил мальчик.
– В стране дураков, – проникновенно сказал Трифон. – Или в стране счастья. Третьего здесь не дано. Выбирай.
Выяснилось, что Трифон вовсе не Трифон и вовсе не немой: приняв дело от предшественника, он в совершенстве овладел искусством запрятывания языка в горло, чтобы и при самой тщательной проверке лесные жители не заподозрили обмана. Русалок он сбывал в ярмарочные балаганы, единорогов – под видом гиперборейских лошадей – в зоопарки, наживая при этом немалые деньги.
– Чего ты хочешь? – спросил он. – Зачем сюда пришел?
– Чтобы вернуться, – был ответ. – Мне нужен тот, кто вяжет и развязывает, кто владеет и правит. Царь царей.
– Значит, тебе нужны деньги, – заключил Трифон.
В порыве великодушия Трифон предложил мальчику войти в долю: он давно мечтал открыть либо публичный дом-аквариум с русалками, либо хотя бы балаган с русалками и единорогами, а в таком деле незаменим человек, знакомый с повадками лесных и болотных тварей.
Мальчик отказался, заявив, что, если понадобится, готов продать свою душу, но чужими душами торговать не намерен.
Ему помогли переодеться, а когда он остался в чем мать родила, окружившие его жрицы любви испытали что-то вроде потрясения при виде его мужского оснащения и даже поспорили за право разделить с ним ложе. Бросили жребий, выпавший Афродите.
Не успели обитатели дома отойти ко сну, как дикий вопль Афродиты поднял всех на ноги.
– Или ты под паровоз попала? – ворчливо поинтересовался Трифон.
– Это еще лучше! – воскликнула Афродита.
Этот эпизод решил судьбу Царева.
Не прошло и месяца, как в нанятый Трифоном дом потянулись женщины – герцогини и белошвейки, поэтессы и кокаинистки, обуреваемые жаждой испытать необыкновенные мужские достоинства этого молодого человека с бесстрастным лицом и раздвоенным языком.
Он был неутомим. Слава о его подвигах быстро разнеслась по белу свету. С берегов Сены ежедневно отправлялись поезда по маршруту «Париж – Царев», битком набитые женщинами в бархатных полумасках, согласными терпеть любые дорожные невзгоды ради конечной цели путешествия. Европейские экспрессы выплескивали на Северную столицу потоки франков и фунтов, которые оседали в сейфах владельцев гостиниц, ресторанов и увеселительных заведений.
Царев щурился от жаркого блеска чужого золота – и думал.
Когда он поведал Трифону о том, как предполагает заставить богачей раскошелиться, лженемой расхохотался.
– Да ты просто не знаешь этих крокодилов и живоглотов. Раскошелиться! Но согласен: бери все, что они тебе дадут – на папиросы хватит.
И снова расхохотался.
Вскоре Царев заболел, временно прекратив прием посетительниц. Поначалу никто этому не придал значения. Но когда поезд из Парижа стал приходить через день, а потом и через неделю, предприниматели, оказавшиеся перед угрозой краха, бросились к Цареву, наперебой предлагая услуги лучших врачей.
Слабым голосом больной предложил им поделиться с ним своими доходами.
После бессонной ночи тузы согласились на полтора процента.
– Пять – или я пущу вас по миру, – заявил больной.
Откинув одеяло, он сел на постели и обвел капиталисток и капиталистов холодным взглядом. Он был в чем мать родила.
– Семь! – прежде чем упасть в обморок, воскликнула королева столичных ночлежек.
– Восемь! – простонала императрица китайских опиекурилен.
Женщины и решили дело.
Так начался стремительный взлет Царева к вершинам богатства и власти.
Уже через несколько лет он сосредоточил в своих руках всю торговлю салом и соболями, сибирским лесом и украинской пшеницей. Он не ведал жалости к конкурентам, чем нагонял страх на партнеров. Он опутал сетью своих контор весь мир. Ему принадлежали двести тысяч пароходов под флагами всех стран, включая Эльдорадо, и двести тысяч паровозов, пугавших своим железным ревом американских бизонов, африканских львов, индийских слонов и русских леших. Он владел бескрайними плодородными землями и лесами, хрустальными дворцами и жалкими хижинами, невылупившимися цыплятами и лунными дорожками на океанских просторах; он организовал три революции в Южной Америке и оплатил подавление трех восстаний в Китае; его мнением дорожили монархи и монахи.
Он владел миром, но не было мира в его душе.
Этот мир казался ему сном, который он видел, лежа под кроной Птичьего Древа, которое каждую ночь он видел во сне.
В его великолепной резиденции была потайная комната, где в мраморном бассейне было устроено наигрязнейшее в мире болото – туда вечерами и забирался повелитель рублей, франков и долларов, там, в обществе русалок, которых поставлял ему Трифон, он и проводил лучшие часы, с наслаждением поглощая кислые лесные яблоки и земляных червей.
Он ждал знака.
И когда загрохотали орудия, обрушившие снаряды на баррикады Красной Пресни, он вдруг поймал себя на мысли, что не считает это Царство тем местом, где стоило бы умереть.
3.На рассвете дрогнула стена непролазного леса, рухнули вековые деревья, и по широкой просеке, твердо ступая по свежим щепкам, во главе огромной армии рабочих в деревню явился Царев – в черном цилиндре, черном фраке и черных сапогах до колен, с золоченой клеткой в руках, в которой сидел нахохлившись злой алый петух. За ним выплясывал пьяный до изумления оркестр с орангутаном впереди, который самозабвенно бил в барабан и скалился на зевак страшнозубым ртом. Завидев Птичье Древо, петух в клетке вдруг встрепенулся, забил крыльями и заголосил, повергнув в ужас жителей деревни, которые никогда не слыхали петушиного голоса.
С этого дикого петушиного крика, с запаха свежих сосновых щепок, с рева оркестра и началась новая жизнь. И как всякая новая жизнь, началась со смерти.
В считаные минугы село было стерто с лица земли, свиньи – перебиты из крупнокалиберных ружей выписанными из Англии пулями дум-дум. Оставшихся в живых людей согнали и заперли в построенном за полчаса сарае.
Шеф личной полиции принес Цареву связку книг в кованых переплетах, с литыми серебряными застежками, угловатой флорой и фауной инициалов.
Царев велел бросить фолианты в огонь, процедив при этом сквозь зубы:
– Если хочешь довести дело до конца, никого не слушай. Никого и никогда, даже если потом выяснится, что ты ошибся.
Пятьдесят тысяч рабочих копали и возили землю, а за ними не по дням, а по часам росла высокая насыпь, по верху которой по свежеуложенным шпалам и рельсам, подталкивая людей, полз паровоз с ярко начищенным медным котлом и трубой в форме пузатого бочонка, пыхавшей в небо клубами грязного дыма. В прицепленных к паровозу загонах и на платформах громоздились глыбы каррарского мрамора, пакеты листового золота, янтарные вазы с одуряюще пахнущими экзотическими цветами, бочки с керосином и селедкой, ящики с печеньем и ружьями, клетки с хищниками, разобранные карусели и электрические машины, горы фарфоровых ванн и унитазов, поленницы свернутых в трубы персидских ковров, каждым из которых можно было накрыть село, уложенные в солому греческие и римские мраморы, связанные попарно за хвосты индийские слоны и английские аэропланы…
Рабочие опоясали Птичье Древо каруселями, поставили вокруг дома с крашенными под черепицу крышами, электрические фонари и городовых-полицейских с жесткими усами и чугунными кулаками.
В Прорву сбросили пять миллионов восемьсот тысяч пудов наилучшего битого камня, выписанного из Швейцарии и Америки, а два миллиона двести тысяч тачек кубанского чернозема, насыпанного поверх камней, позволили создать твердь там, где было коварное болото.
В центре рукотворного поля на гранитном основании воздвигли хрустальный дворец с сотнями мраморных статуй на фронтонах и в залах. Вокруг дома разбили сады, устроили фонтаны, а также зверинцы, где с утра до ночи свирепые хищники жутко рычали, жрали мясо травоядных и неудержимо плодились.
В увеселительные заведения завезли пять тысяч француженок и итальянок, закупленных в Тверской и Новгородской губерниях.
Царев неутомимо руководил работами, без колебаний расстреливавая недовольных, спаивая сильных и ободряя отчаявшихся.
Вечерами распахивались двери трактиров, игорных домов и балаганов, где в строгом соответствии с инструкциями предсказывали судьбу, показывали фокусы и широкозадых русалок.
Каждый день шеф личной полиции передавал хозяину список работающих и развлекающих, и хотя в таких списках значились десятки тысяч людей, Царев всегда просматривал их от начала до конца.
Все шло по заведенному порядку, когда однажды его взгляд остановился на имени только что прибывшей циркачки. Отшвырнув бумагу, он сунул в карман многозарядный револьвер и отправился в балаган.
Под куполом шапито он увидел божественно красивую девушку. Повиснув на трапеции, она жонглировала факелами, глотала огонь и, кувыркнувшись, превращалась в слепую старуху, стаю злых псов и обезьянку, умевшую показывать карточные фокусы и выстрелом из револьвера гасить свечу.
– Международное чудо! – провозгласил лысый здоровяк в красном фраке. – Прекрасная Амадин, принцесса Лабрадора, дочь повелителя Атлантиды! Взгляните – и в душе у вас останутся ее слова, одежды, взгляды, походка, стройность, ловкость, обнаженное тело, и вы уйдете, получив множество сладостных ран!
Терпеливо дождавшись конца представления, Царев подозвал хозяина цирка.
– Почем принцесса?
– Вообще-то она не продается… – проблекотал хозяин, пытливо вглядываясъ в лицо Царева.
– Враки, – отрезал тот. – Продается все. Дорого, дешево или очень дешево, но все. Итак?
– Очень дорого, – вежливо улыбнулся лысый.
На следующий день было объявлено о бракосочетании Царева и принцессы Лабрадорской.
По такому случаю за ночь выстроили церковь. Обязанности попа Царев возложил на шефа личной полиции. При венчании выяснилось, что имени у Царева нет. Это почему-то повергло всех в смущение.
А ночью, когда на произнесенный Царевым с дрожью и надеждой в голосе пароль: «Мед и молоко под языком твоим» – жена ответила протяжным коровьим мычанием, вдруг выяснилось, что она немая.
– Что ж, – задумчиво проговорил Царев. – Отныне, чтобы жена меня понимала, придется включать свет. Только и всего.
Над входом в хрустальный дворец рабочие приколотили огромную вывеску с цитатой из Илариона: «Събысться о нас языцех реченое: открыеть Господь мышцу свою святую предо всеми язык и узрять вси конци земля спасение». Последние удары молотка заглушил гудок паровоза, доставившего первую тысячу гостей.
Семь дней и ночей текли потоком люди к дворцу на Прорве. Сюда спешили императоры и короли, шахи и шахиншахи, владетельные герцоги и удельные князья, таны и графы, вальвассоры и прелаты, мандарины и самураи, сегуны и владыки сталелитейных трестов, поэты и музыканты, журналисты и проститутки, купцы и кондотьеры, фараоны и фарисеи, матросы и землекопы, охотники за ведьмами и заклинатели змей… Отдельно прибыли папа римский, тибетский далай-лама, шеф корпуса жандармов и Последний Индейский Касик, ради такого случая впервые покинувший свой великолепный дворец в неприступных Андах.
Когда в золотых дверях появились одетые в багряницу Царев и Амадин, ударили колокола и пушки, завертелись карусели и рулетки, вспыхнули фейерверки и красные фонари под крышами веселых домов, взрычали свирепые хищники в клетках, фонтаны извергли струи искристого шампанского, полицейские взяли под козырек, петух в золоченой клетке истошно закукарекал – и начался праздник.
Люди пели, пили и плясали дни и ночи напролет. Поезда едва успевали подвозить провизию и напитки, женщин и шулеров, патроны и клоунов. Малейшее желание гостей удовлетворялось, не успев возникнуть. По утрам в закоулках находили людей с улыбкой блаженства на лице и вспоротым животом, набитым кредитками. Галантные кавалеры провожали дам в уборные, освещая дорогу факелами из сторублевок. Деньги обесценились настолько, что считалось шиком стребовать и получить плату отрубленным пальцем или куском мяса, вырезанным у стойки из клиентовой задницы. В нескончаемые оргии втянули римских и греческих богов – они танцевали с тяжким грохотом, едва сгибая колени. Мраморная Деметра в восторге колошматила гостей по головам, разбрызгивая по стенам жидкие мозги. Несколько пьяных, не выдержав, оттащили Юнону в сторону и попытались получить от нее полноценное удовольствие. Наутро ее нашли в углу. Будучи не в силах свести мраморные бедра, забрызганные кровью и спермой, она все еще прижимала к прекрасной груди любовника, раздавленного наподобие лягушки, попавшей под тележное колесо.
Каждое утро Царев снимал с золоченой клетки платок, и петух громким криком возвещал продолжение праздника.
Раз в месяц очередную тысячу недовольных рабочих расстреливали из пулеметов у выписанной из Парижа стены кладбища Пер-Лашез и меняли переутомленных новгородских и нижегородских француженок на свежих – архангельских и саратовских. И уже не было здесь человека, который не испытывал бы страха при мысли о том, что однажды все это может кончиться.
– Только не останавливаться, – цедил сквозь зубы Царев. – Лучше бунт, чем будни.
Он бдительно следил за тем, чтобы жители деревни, поселенные во дворце, непременно участвовали в увеселениях, на которые их доставляли под усиленным конвоем полиции. Бывшим деревенским запрещалось носить прежнюю одежду, кормили их только говядиной. А когда они тайком завели поросенка, выгородив ему закут за шкафами в библиотеке, Царев повелел строго наказать виновных. Поросенок и ослушники были сожжены рядом с клеткой, где томился единственный оставшийся в живых единорог, доживавший свои дни в ожидании непорочной девственницы, способной его укротить.
Однажды Царев забыл накрыть золоченую клетку платком, и петух остервенело голосил день и ночь, пока не сорвал голос. Но и после этого он продолжал хрипеть двадцать четыре раза в сутки. Хрипели и всхрюкивали серебряные трубы оркестров, трудившиеся от зари до зари. Царев мрачнел, вслушиваясь в их голоса.
Беременную Амадин беспрестанно рвало, служанки сбивались с ног, вытирая пятна рвоты в коридорах и залах, с мебели и зеркал. Изо рта у нее постоянно пахло тиной и кровью.
Ее повелитель все чаще запирался в потайной комнате-болоте с приближенными русалками и медленно, всласть напивался.
Спустя положенное время Юнона родила мальчика. Он выпал из ее растрескавшегося живота и был взят на попечение Амадин. Впрочем, поселили его в зверинце, вместе со змеями. С ужасом взирали зеваки на ребенка, спавшего в кольце узких и скользких тел, источавших ледяную злобу.По ночам Царев все чаще просыпался от приглушенного похрюкивания. Иногда ему мерещились тени огромных бурых свиней, пытающихся проникнуть в его комнату. Он стрелял на звук, пока не кончались патроны, а потом пил водку и писал на узких разноцветных листах бумаги, которые под утро сжигал в камине. Иногда начальнику полиции удавалось добыть обгорелый листок с размашистыми каракулями.
В ту ночь, когда Амадин разрешилась от бремени, сын Юноны выпустил из клеток хищников, и они вместе с бурыми свиньями ринулись во дворец.
Цареву доложили, что жена родила слепую старуху, стаю злых псов и обезьяну. Он слушал вполуха, его внимание привлеки чьи-то крадущиеся шаги в коридоре. Как только они приблизились, Царев выстрелил на звук. Обессиленная родами Амадин, пробиравшаяся на кухню попить водички, рухнула с пробитым сердцем.
Царев выцедил стакан водки с черным перцем и твердым шагом направился в столовую. Он с порога разрядил оба револьвера в домочадцев.
Никто не успел даже понять, что происходит, и только обезьяна попыталась дать деру через окно, но застряла в форточке и была сражена пулей.
Никогда еще Царев не стрелял так метко, с таким вдохновением и спокойствием. Он вдруг словно понял, к чему призвал его Господь, и торопился исправить все свои ошибки, разя виноватых, ибо правых не было. Когда у его ног рухнул начальник личной полиции, кончились боеприпасы. Из-за пазухи главного шпика выскользнуло несколько обгорелых бумажек. Царев поджег от упавшей свечи ту, на которой чьим-то знакомым почерком было написано:
Россия – сфинкс. И тем она верней
Своим искусом губит человека,
Что, может статься, никакой от века
Загадки нет и не было у ней.
От зажег эту бумажку, а от нее вторую, третью…
В залах кипела битва: в яростной схватке сошлись люди и звери, сипло выли оркестры и разносилось петушиное хрюканье. Шатаясь, Царев брел из зала в зал, разбрасывая горящие бумажки, от которых то там то сям мгновенно занимались пожары. Внезапно огромное тело дворца содрогнулось. Царев еще не знал, что это рухнула крыша, проламывающая тяжестью золота и резного камня междуэтажные перекрытия. Потеряв равновесие, хозяин упал на пол перед Юноной, и последнее, что он увидел, была богинина нога, покрытая жесткой собачьей шерстью, с грубо обкусанными синими ногтями на сросшихся пальцах.
Все еще раз содрогнулось, и охваченный яростным пламенем и разваливающийся на глазах дворец медленно погрузился в Прорву, на берегу которой сидел и плакал сын пьяницы и богини…
4.
Не было ни света, ни тьмы, а было какое-то холодное, ровное и тусклое свечение, исходившее невесть откуда, словно усталое вещество жизни источало последнюю энергию – светом, но не жаром – для последних людей, бредущих по последним дорогам. Намаявшийся в госпиталях солдат наконец дошагал от полустанка до холма, с вершины которого хорошо было видно раскинувшееся внизу село с церковкой у подножия огромного дерева. Странная картина открылась солдату. У крайних домов поскотины были разгорожены, кое-где завалились заборы. И – ни лая собак, ни дыма из труб. Дорога, ведущая к селу, напоминала ровный и гладкий песчаный нанос, какие остаются после паводковых ручьев; на ней не было ни одного следа – ни птичьего, ни звериного, ни человеческого. Кое-где сквозь песок пробивались жесткие, изрядно запыленные щитки подорожника.
Прихрамывая, солдат осторожно спустился с холма и по травянистой обочине пробрался в ближайший двор. И здесь не было никаких следов. Заглянул в хлев. Запах навоза почти выветрился, уступив запаху плесени и керосина. В доме не было ни души, хотя нехитрая мебель и утварь находились там, где их когда-то, видимо, приспособили хозяева. От печки пахло сырой глиной. В красном углу, где висела икона, чернело небольшое пятно. Ни к чему не притронувшись и стараясь не шуметь, солдат вышел на крыльцо.
Ему захотелось воды, но колодец был сух.
Он двинулся по селу, заглядывая в опустелые дома, сараи, амбары, вдыхая запахи плесени и керосина. Во многих дворах стояли телеги, груженные домашним скарбом. Но ни в одном доме он не увидел детских игрушек. И ни на одном дереве не было скворечника. Рядом с разоренной церковью высилась стена с дверью, запертой на большой висячий замок, на гвозде, вбитом в косяк, висел ключ. Это было все, что осталось от дома.
Тусклый свет сгустился до сумерек. Значит, он пробыл здесь почти весь день. Солдат вышел за околицу и сел в траву. Он чувствовал себя усталым. Медленно скрутил папиросу. До него не сразу дошло, что, прикуривая, он неотрывно смотрит на слабый огонек в окошке крайнего дома, а когда дошло, он бросился к этой избе.
За столом сидели двое – древняя старуха в низко, по глаза, повязанном платке, и девочка лет десяти, худенькая, в темном заплатанном платьице. Они хлебали какое-то варево из мятой алюминиевой плошки. Старуха равнодушно взглянула на пришельца и снова зачерпнула ложкой. Девочка испуганно уставилась на незнакомца. Губы у нее дрожали – солдат заметил это даже при свете лучины, кое-как прилепленной к светцу. Он торопливо развязал мешок, достал хлеб, мясные консервы и сгущенку, своим ножом открыл банки. Старуха все так же равнодушно стала ковырять мясо и кусать хлеб. Девочка боязливо попробовала сгущенку. Солдат отхватил ножом краюху потолще, навалил на хлеб побольше холодной говядины и протянул девочке.
– Ешь, – сказал он. – Почему у вас тут пусто?
Девочка жалобно замычала.
– Немая она, – пробурчала старуха. – А людей нету.
– Куда ж подевались-то?
– Агаряне пришли и забрали.
Старуха зевнула и перекрестилась.
– Немцы, что ли?
– Агаряне. – В голосе старухи не было раздражения. – Коров поели, свиней поели, людей позабрали и ушли. Лица же у них птичьи, а головы железны, с двомя роги…
Солдат поморщился: острой болью вдруг напомнила о себе рана.
– Что же ты тут делаешь?
– Землю сторожу. – Старуха пожевала губами. – Народ вернется, а земля-то – вот она.
Солдат усмехнулся.
– Пойду, что ли. – Старуха поднялась. – Спать пора.
Солдат молча, не прощаясь, вышел и быстро, как только позволяла больная нога, зашагал прочь.
Через два дня он догнал свою часть и растворился в огромной человеческой массе, медленно истекавшей кровью и двигавшейся в сторону заката солнца.
5.
Он прожил ровно шестьдесят пять лет, три месяца и один день. Жаркий и пыльный, как и тот, когда он впервые появился в городке – в выгоревшем солдатском обмундировании со следами споротых погон, в стоптанных кирзовых сапогах, с этим своим вагон-чемоданом в руках – фанерным чудовищем, обитым стальным уголком и запертым на висячий замок, каким впору запирать амбары, конюшни и крепостные ворота.
Говорят, его появление возвестила новая звезда, вспыхнувшая накануне ночью над лесом, на фоне бурлящей грозовой тучи, зловеще мерцавшей изнутри тусклой медью.
В тот же день стало известно, что в лесхозе появился новый лесник. Его имя передавалось из уст в уста: Царев. Мы узнали, что этот человек решил поселиться на холме, у подножия Птичьего Древа, возносившегося огромной обглоданной костью над бескрайними полями, бывшими когда-то бескрайними лесами. Впрочем, тогда еще кое-где сохранились довольно большие клочья прежних лесов, разбросанных по берегам Прорвы, в ледяных глубинах которой под обломками доисторических ледников кости исполинских ящеров медленно превращались в нефть, уголь и алмазы.
Мы не знаем, как ему удалось подрядить четверых братьев Кудимовых на постройку дома. Вечером он появился в пивной и бился об заклад, что четверым дюжим мужикам нипочем не согнуть его левую руку. Каждый из братьев кулаком валил с ног лошадь, поэтому они не раздумывая согласились в случае проигрыша построить дом. Иван, Сергей, Аким и Петр повисли на той коряге, которую он называл своей рукой, но сдвинуть ее хотя бы на миллиметр им не удалось. Говорят, что он просто запугал мастеров. Но чем можно запугать прошедших всю войну мужчин? Говорят, он посулил им щедрое вознаграждение – не то самородным золотом, не то якутскими алмазами, которыми доверху был набит его неподъемный вагон-чемодан. Говорят, когда он открыл этот свой вагон-чемодан, все замерли от восхищения, смешанного с ужасом: внутри на алом бархате лежал ослепительно красивый мальчик – голый, с родинкой в виде креста на цыплячьей грудке и лютой злобой в голубых глазах. Царев дал ему кислое яблочко и снова запер футляр, а в пивной еще долго стояла тишина – люди продолжали грезить наяву. Тем же вечером он постучал к Сурнушке – известной городской блуднице, славившейся своей женской ненасытностью и языкастостью, чем нередко отпугивала робких отцов семейств. В ее спальне стояла чудо-кровать: когда на нее укладывались, она начинала скрежетатъ, громыхать и звякать, как наполненная битыми бутылками железная бочка, спущенная с вымощенного булыжником откоса. В ту ночь эта кровать скрежетала, громыхала и звякала так долго, словно высота откоса равнялась расстоянию от городка до Рая. Или до Ада.
А наутро Царев, оставив мальчика на попечение Сурнушки, отправился с братьями Кудимовыми к холму, и ровно месяц их никто не видел. Говорят, вскоре мастера пожалели о своем решении. Первым делом они выстроили просторный и крепкий сарай, где Царев их и запер. Говорят, он держал их на цепи и кормил тем, что сам готовил из добытой в лесу дичи, а в неудачные дни – жестким сорочьим мясом, которое поглощал спокойно, даже равнодушно, не жалуясь на судьбу и не внемля сетованиям мастеров.
Уже тогда он обзавелся стаей огромных полудиких и вечно голодных псов, сильно смахивающих на матерых волков, – они-то, скорее всего, и держали мужиков в повиновении. Люди валили лес, и когда лошадь валилась с ног, не в силах вытащить бревна из трясины, – Царев на плечах выносил бревна вместе с лошадью и телегой.
Братья выстроили ему дом на фундаменте разрушенной церкви. Дом из неохватных бревен, в два этажа, под гонтовой крышей, с просторной верандой, резными ставнями на окнах и кованым петухом с хищно разинутым клювом на коньке. Дом с картинки.
Это была картинка из какого-то журнала, измахрившаяся на сгибах, испещренная пятнами то ли жира, то ли крови: увитый плющом особняк, дамы в тарелкообразных шляпах и мужчины в белоснежных галифе на открытой веранде, вокруг хрупкого столика, уставленного предметами неизвестного назначения…
Он пронес ее, свернутую вчетверо, через всю войну, а потом через все лагеря.
Никто, конечно, не верил, что этот человек был заключенным, отбывавшим срок за шпионаж (он побывал в плену). Говорят, Царев был охранником, причем одним-единственным на пять тысяч человек, которых он удерживал в страхе и повиновении взмахом бровей. Говорят, однажды его столкнули в глубокую яму и быстро забросали землей – двадцать пять тонн мерзлой анадырской земли сверху. Всю ночь он стонал и шевелился, лишая сна пять тысяч заключенных. К утру он выбрался из-под земли и явился в лагерь – с засохшими потеками крови на лице, в изодранной одежде – и снова взял власть в свои страшные руки.
Другие говорили, что он сам был заключенным. Когда по приказу следователя его попытались разрезать пополам циркулярной пилой, он так напряг мышцы, что пила, раскалившись добела, деформировалась, а разлетевшимися с жутким визгом зубьями поубивало всю охрану, тогда как на его теле не осталось ни царапины. Его пытались уморить голодом, но он выжил, питаясь сосновым соком, добытым из щепки, утаенной за щекой.
Итак, он поселился в огромном доме, вся обстановка которого состояла из самодельного табурета и самодельного стола. Спал он на полу, завернувшись в солдатскую шинель. Говорили, для полного комфорта он обнес дом колючей проволокой и по углам участка поставил сторожевые вышки, но это не так. Стая полудиких псов – вот и вся охрана. Стая полудиких и вечно голодных псов – они рвали в клочья и проглатывали все живое, что ни попадалось на их пути, – зверя, птицу или человека.
Да он мог бы обойтись и без псов. По ночам, когда считалось, что он спит, тысячи гадюк из всех окрестных лесов и болот сползались к его дому и даже заползали в спальню, окружая спящего плотным кольцом скользких, извивающихся, дрожащих от злобы узких тел, но не отваживались напасть на человека, который днем умерщвлял ядовитых змей силой своего взгляда.
Себе под стать он выбрал и коня – огромного, черного, как смоль, страшноглазого. Говорят, он поймал его жеребенком и выкормил молоком волчицы.
Верхом на черном коне, в окружении полудиких псов, он без колебаний вступал в жестокие схватки с браконьерами и порубщиками. Говорят, в него стреляли. Пуля попала ему в затылок и расплющилась. Но если ему удавалось захватить врага, живым тот от него уходил редко. Говорят, он пытал пленных в подвалах своего дома. Это были бесконечные холодные лабиринты с неровными земляными стенами, сочившимися болотной влагой, темные лабиринты, где с потолков свешивались гигантские слепые пауки с черными крестами на спинах и вишневыми от человеческой крови животами. Те, кому все же удавалось вырваться из этих подземелий, рассказывали страшные истории о притаившемся в лабиринте слепом звере в облике человека, о пытках, дыбах, клещах, о жаровнях, над которыми людей подвешивали вниз головой и держали до тех пор, пока лопнувшие глаза не зашкварчат на раскаленных угольях, как яичница на сковородке.
Как бы там ни было, вскоре Цареву удалось отвадить браконьеров и порубщиков со своих угодий.
Говорили также, что он не отпускал живьем ни одну встреченную в лесу женщину, девушку или даже старуху. Изнасиловав жертву, он бросал ее на растерзание своим псам. Столетняя старуха по кличке Железная Жопа утверждала, что, до того как сойти с ума, она в течение тридцати лет была наложницей Царева: вошла в его дом расцветающей девушкой, вышла гнилой развалиной, и пятьдесят лет из тридцати он кормил ее сырой человеческой печенью и поил сорочьей мочой.
Все это, конечно, ложь, но со своей будущей женой он познакомился именно в лесу.
Она собирала ягоды, когда бурлящая грозовая туча внезапно закрыла солнце и на поляну верхом на огромном черном коне выехал огромный черный человек. Истукан на истукане. Он молча смотрел на девушку – и молча взирали на нее его волки, считавшиеся его собаками.
– Да ведь я тебя знаю, – вдруг проговорил он.
Выронив лукошко, она попятилась в малинник, упала, вскочила и бросилась бежать. Она мчалась сломя голову, он ехал за нею шагом, не отставая ни на шаг, и так они одновременно добрались до городка, до дома ее родителей.
Второй раз он увидел ее в парикмахерской, куда раз в неделю – всегда по воскресеньям, в один и тот же час – приезжал бриться. Парикмахер Илюха к его приезду держал наготове свежие салфетки и наточенную до звона золингеновскую бритву. Добрый час он скоблил Царев подбородок, благоговейно изумляясь прочности щетины и дубленой кожи. Говорят, при этом с бритвы сыпались искры, а после бритья лезвие напоминало обгрызенный мышами ломтик сыра. Именно здесь, в парикмахерской, и увидел вновь Царев немую Марию, приемную дочь Илюхи. А через неделю все в городке только и говорили, что о сватовстве нелюдимого лесника.
Прежде чем отправиться в загс, Царев приволок в Илюхин двор большие весы из соседнего магазина, где на них взвешивали мешки с картошкой и свиные туши, и взвесил будущую жену. Говорят, ее отпели и плакали по ней, как по покойнице. После загса он отвез ее в лес, забыв отпраздновать свадьбу. Говорят, перед тем как лечь с ней в постель, он тщательно осмотрел ее с ног до головы, как осматривают перед покупкой лошадь или корову.
Никто, кроме Марии, не видел его обнаженным, и вот ей-то и открылось, что он принадлежит к царскому роду, о чем свидетельствовал тайный знак на его теле – на таком месте, которое никому не показывают. Может быть, речь шла об осьмиконечном кресте, врощенном под кожей на груди. Говорят, во сне он смеялся. Говорят, плакал. Но об этом могла знать только жена, а она никому ничего и не могла рассказать.
Говорят, после свадьбы, которой не было, их видели на лесной полянке: Мария со смехом гонялась за бабочками, а муж с улыбкой наблюдал за нею. Но это конечно же ложь. Говорят, он возил ее по врачам, пытаясь исцелить от немоты, но безрезультатно. Говорят, тайком от него она сама лечилась. Однажды Царев застал ее в лесу, где она, раздевшисъ донага, бросалась в заросли шиповника и, превозмогая боль, каталась по колючкам. Прекрасное белое тело на колючках. Белое тело, испятнанное кровью. Боль исторгала из нее мычание, переходившее в крик, – казалось, вот еще миг – и крик дорастет до слова. Но слова не было. Царев выхватил жену из зарослей шиповника и на руках отнес домой. Все это больше похоже на ложь. Правда только то, что ни до, ни после свадьбы в доме не было зеркал.
После женитьбы Царев взялся по-настоящему обзаводиться хозяйством. Основательно рассчитав, сколько и чего ему понадобится до самой смерти, он принялся набивать поместительные кладовые мешками с сахаром, солью и крупами, а также купил пять пар кирзовых сапог, один выходной костюм, жесткостью не уступавший фанере, шесть рубашек, две пары нижнего белья, восемьсот кусков мыла, а также сто пар чулок в резинку для жены.
Детьми мы видели однажды эти сумрачные кладовые с маленькими окнами, эти аккуратно сложенные в штабеля мешки, кули и ящики, эти гладкие доски и тяжелые даже на вид балки цвета темного меда; там одуряюще пахло сосной и яичным мылом. Табак он выращивал в огороде, а водку гнал из своей пшеницы. Из векового леса он срубил амбары и птичники, хлев и конюшню, и вскоре просторные, пахнущие свежей смолой помещения были заполнены живностью. Говорят, он крал коров и свиней у жителей городка и окрестных сел. Говорят, он знал вещее слово, на которое скотина шла, как сом на тухлые куриные потроха. Его гордостью было огромное и растущее стадо бурых свиней, рывшихся в загонах и по-медвежьи хрюкавших. «Царская свинина», как называли ее горожане, славилась на всю округу.
Было известно: если корова или овца забредала в лес, ее можно было отыскать в его хлеву. Иногда он возвращал скотину, взимая за постой и прикорм несусветные штрафы. Но никто не осмеливался даже за глаза назвать его вором. Лишь однажды толпа разгневанных мужиков осадила лесникову усадьбу и потребовала его к ответу.
– Отвечай народу! – кричал старший Веремеев. – Как живешь, фашист? Отвечай!
– Народу? – искренне удивился вышедший на крыльцо Царев. – Народу – отвечу, а вы – вон отсюда.
И спокойно ушел, а из-под крыльца один за другим лениво выползли его псы, при одном взгляде на которых в мочевом пузыре начинало льдисто покалывать. Люто ругаясь, мужики убрались восвояси.
А через несколько дней младший Веремеев попытался выкрасть у лесника свою телку, дабы уличить Царева во лжи. Никто не знает, что там между ними произошло, но в городок младший Веремеев возвратился глухонемым идиотом без каких-либо признаков совершенного над ним насилия, если не считать стойкого запаха крови, исходившего от его одежды, кожи, волос. Целыми днями он просиживал на корточках перед какой-нибудь лужей и, не обращая внимания на ребятишек, мочившихся ему на спину, тискал в руках кусок яичного мыла. К нему привыкли и вскоре стали считать, что глухонемым он был с рождения.
Именно после этого случая на дороге, ведущей в лес, Царев поставил дубовые двустворчатые ворота, и никто не осмеливался ни миновать их, ни отпереть без лесникова разрешения. Тогда-то его владения и стали называться Царством.
В том же году у Царева родилась дочь.
Говорят, он так был этим возмущен, что даже не приехал забирать жену из роддома, заставив ее пешком добираться до леса. Но это неправда. Он привез ее в больницу ночью и на руках отнес в палату. Всю ночь она дико кричала. Всю ночь он сидел на облучке и курил бесконечную самокрутку. Шел дождь, но зазвать Царева под крышу так и не удалось. Утром ему сказали про дочь. Он выплюнул окурок и уехал: надо было кормить скотину.
Вскоре он забрал жену – на руках вынес ее из больницы и уложил на пахучее сено с малышкой. И всю дорогу придерживал дюжих коней, норовивших пуститъся вскачь. Но известно также, что, переступив порог дома, он будто забыл о существовании дочери и лет пятнадцать даже не приближался к двери ее комнаты на втором этаже.
Не больше внимания уделял он и мальчику, давно изъятому у Сурнушки и водворенному в доме на холме. В городке его прозвали, естественно, Царевичем, иногда называли Лютым – может быть, из-за звериной злобы, которую он вкладывал в любое дело: будь то драка, еда или обладание женщиной.
Мальчик рос среди собак, свиней, телят, не чувствуя, казалось, себя ущемленным и в штыки встречая попытки Марии вытащить его из стада, чтобы умыть, пригладить вихры или пришить пуговицу к рубашке. Он был вечно голоден и потому тащил в рот все подряд: дикие лесные яблоки, мышей, лягушек и земляных червей, но всегда оставался все таким же тощим и лютым.
Сверстники били его только толпой, но и тогда он умудрялся вцепиться в кого-нибудь мертвой хваткой, так что, даже потерявшего сознание, его приходилось отрывать от жертвы с мясом.
Он делал все для того, чтобы вызывать у людей отвращение.
В пятнадцать лет он познал женщину – разумеется, это была Сурнушка, к тому времени расплывшаяся и подрастерявшая клиентов, но по-прежнему ненасытная. Царевича она встретила с нескрываемой радостью, благо пришел он с бутылкой черного вина, купленной на украденные у отца деньги и спрятанной в школьном портфеле. Тем вечером городок, как в достопамятные времена, был разбужен и взбудоражен скрежетом, громыханием и звяканьем чудо-кровати. Внезапно все стихло, и из окна, к изумлению соседей, выпрыгнула голая бабища, которая, вопя дурным голосом: «Просквозил! Просквозил!», бросилась в реку, где и просидела до утра, отмачивая нестерпимо горевшее место.
Говорят, тогда-то Царевич и открыл ей тайну своего происхождения: Царев убил в лагере родного брата и во искупление вины взял на попечение его сына. Но достоверно было известно, что у Царева не было и не могло быть ни братьев, ни сестер, ни, говорят, родителей, так что Царевичу никто не поверил.
Говорят, Царев, узнав о похождениях Царевича, избил его с такой жестокостью и силой, что капли крови с Царевичевой спины летели к памятнику Генералиссимусу, стоявшему посреди двора (памятник было велено убрать ночью. В самый разгар работы, когда полсотни мужиков, натужно матерясь, потянули переброшенные через блоки веревки и бронзовая махина с протяжным скрипом оторвалась от пьедестала, на площадь влетела запряженная парой телега, в которой, широко расставив ноги, стоял Царев. Мановением руки он остановил мужиков и подлез под зависший монумент, после чего велел отпускать. Когда памятник лег на его плечи, Царев, говорят, по колено погрузился в землю, а на лбу у него выступил кровавый пот. И вот так, при каждом шаге по колено проваливаясь в землю, он и донес Генералиссимуса до своего дома. Другие говорят, что он уложил Его в телегу – и кони, дико захрапев, тотчас понесли. Остановить их удалось только у самого края Прорвы. Царев установил памятник во дворе и, говорят, каждое утро мочился на него с крыльца. Говорят, он молился Ему. У подножия монумента он поставил колоду, на которой рубил головы молодым злым петухам – их горячая кровь шипела и пузырилась на раскаленных солнцем бронзовых сапогах).
После этого Царевич ушел из дома – мы думали, навсегда.
Через три года леса вокруг города вздрогнули и затряслись от грохота машин. Под вой электропил и гром топоров сотнями падали вековые деревья, и на глазах изумленных горожан вырастала высокая земляная насыпь, по ней с ревом ползли машины, облепленные людьми в спецовках. Они споро, быстро укладывали шпалы и рельсы, по ним, подталкивая людей, двигался паровоз с десятком вагонов, где рабочие отсыпались, ели, играли в карты, спаривались, пили дешевое вино и слушали радио. Тысячи людей в одинаковых спецовках, мужчины и женщины. А впереди этого воинства чавкал гусеницами огромный бульдозер, за рычагами которого восседал Царевич.
И тогда мы поняли этих людей, утверждавших, будто их главная цель – строительство железной дороги. Увидев Царевича, мы поняли, что эти люди вознамерились разорить Царство, мы также поняли, что не способны к отпору этим людям.
Насыпь неуклонно двигалась через Прорву к дому на холме и через шесть дней приблизилась к цели.
Говорят, все эти дни Царев хранил спокойствие, не отвечая на задиристые насмешки людей в спецовках. Говорят, по ночам его видели мерно шагающим вдоль насыпи, мимо поезда со спящими и спаривающимися людьми, мечущимися в бреду, насланном болотными испарениями. Говорят, он вышагивал с непроницаемым лицом, окруженный миллионами извивающихся, источающих лютую злобу гадюк, – шагал, словно мерил шагами ту могилу, куда задумал сбросить всех этих людей с их машинами и топорами. И в ночь на день седьмой это и случилось: Прорва вдруг протяжно и дико вздохнула, всхлипнула, всколыхнулась и расступилась, одним махом поглотив тысячи людей и их машины, их жалкие радиоприемники и жалкие видения, – и вся эта мешанина из песка, земли, бревен, шпал, железа, щебня и человеческого мяса медленно погрузилась в небытие, чтобы разделить участь исполинских ящеров, чьи кости под обломками доисторических ледников превращались в нефть, уголь и алмазы. Наутро мы увидели узкую просеку, затянутую болотной водой с нефтяными пятнами.
Говорят, Царев плакал и искал Царевича. Говорят, он только затем и бродил вдоль насыпи, чтобы отыскать блудного сына – говорят, чтобы простить его.
И он нашел его – в объятиях сестры. Застав его в ее комнате, Царев сгреб сына в охапку и швырнул в окно.
С оконной рамой на шее и осколками стекла, вонзившимися в горло, парень рухнул на грядку с табаком и пролежал там до наступления темноты, истекая кровью и беззвучной бранью. Говорят, ночью он кое-как освободился от оконной рамы и уполз в Прорву, где гадюки и волчицы зализывали его раны. Говорят, это Мария помогла ему выжить, это будто она спрятала его в сторожке на берегу болота и выхаживала тайком от мужа. Говорят, это обесчещенная сестра вытащила истекающего кровью блудного брата из огорода и на себе отнесла в город – к Сурнушке, которая и приютила лютого любовника, оставшегося у нее навсегда – до конца.
Говорят, немая Мария валялась в ногах у мужа, умоляя проявить милосердие к мальчику, на что Царев якобы ответил загадочной фразой: «Я-то его давно простил» – или: «Мне ли прощать его?» Но определенно никто ничего не знает.
6.Лесник жил замкнуто, и только по вечно рокочущей над лесом грозовой туче и ярко горящей звезде над его домом жители городка догадывались: Царев жив.
Кажется, именно в это время он утратил интерес к хозяйству и впервые задумался о причинах сырости, начавшей пожирать камень и дерево его дома подобно раковой опухоли. Черные бархатистые пятна выступали на только что вычищенном с песком полу, на стенах и потолках, на мебели и посуде, а однажды хозяин обнаружил зловещее пятно на брюхе кованого петуха, хищно разевавшего клюв на крыше. Переходя из одной мрачной комнаты в другую, то спускаясь в подвал, то поднимаясь на чердак, молчаливая Мария неутомимо сражалась с плесенью. Для этого она использовала речной песок, керосин и кровь черных петухов. С тряпкой в руках и бутылкой с алой жидкостью на поясе она иногда и засыпала. Помогало это мало, и не успевала Мария уничтожить одно пятно, как в другом углу возникало и быстро разрасталось другое. Наконец она стала изнемогать в неравной борьбе и, когда однажды утром обнаружила черное бархатистое пятно на своей левой груди, решила сделать так, чтобы муж ничего об этом не узнал.
А Царев, тщательно обследовав почву, пришел к выводу, что распространению сырости способствует разрушительная работа корней Птичьего Древа, проникших в щели между камнями фундамента.
С того дня и началась всецело захватившая Царева схватка с Древом.
Топоры, пилы, стальные клинья, поваренная соль, набитая в пробуренные в стволе шурфы, – ничто не помогало, и это только раззадоривало лесника. Говорят, перепробовав все средства и не добившись успеха, однажды ночью он вызвал из Прорвы семнадцать тысяч голодных аспидов, которые остервенело обгрызли остатки коры с Древа и, добравшись до нижнего неба, прогрызли дыру в подвернувшемся облаке. И только внезапно разразившийся ливень прогнал их в болото. Несколько раз он пытался поджечь Древо, но древесина обугливалась и не поддавалась огню. Черные бархатистые пятна продолжали наступление на дом.
Царев по-прежнему по воскресеньям приезжал бриться к Илюхе, который, как всегда, ждал его со свежими салфетками и наточенной до звона золингеновской бритвой. Почему-то теперь каждый его приезд в городок совпадал с дождем – иногда бурным и теплым, но чаще унылым и холодным.
В такой вот дождливый день, прислушиваясь к стуку капель по жестяному подоконнику, на традиционный вопрос Илюхи: «Как там девочки?» – он рассеянно ответил: «Умерла».
Как выяснилось, он имел в виду жену. Он молча расплатился, надел дождевик и захватанную кепку и уже с порога – огромная черная фигура на фоне ослепительной серебряной дождевой завесы – вдруг проговорил:
– Зачем мы живем, Илья?
Илюха почувствовал дрожь в коленках и медленно опустился на груду дров в углу у печки.
Говорят, он убил ее, когда обнаружил, что она заглянула в некую запретную комнату, где он прятал не то свои несметные сокровища, не то души замученных браконьеров. Говорят, она просто исчахла в этом большом мрачном доме, разлученная с пасынком и отлученная от дочери. Говорят, ее сожрали свиньи. Говорят, она-таки произнесла слово, и это было такое слово, которое уничтожило ее своею силой. Говорят, он сжег ее тело, а прах развеял над Прорвой. Говорят, он похоронил ее в подвале – ближе к корням. Говорят, после ее смерти в доме поселились лисы и летучие мыши.Его дочь ходила в школу в сопровождении стаи полудиких псов. Пока она зевала на уроках, эти звери, словно вылепленные из печной золы статуи, неподвижно сидели в углу школьного двора, возле кучи ржавого металлолома. Но стоило ей показаться в дверях, как они вскакивали и окружали девочку плотным кольцом.
Некоторые парни пытались ее провожать, но все их попытки облапить ее где-нибудь на лесной дороге заканчивались печально: лютые псы без колебаний и жалости пресекали любую попытку прикоснуться к дочери властелина. Говорит, она со слезами просила отца освободить ее от этой опеки, но Царев был неумолим.
И только одного человека псы не трогали – Царевича, который иногда провожал ее от школы до последних домов городка.Он вытянулся, еще больше высох и почти никогда ни с кем не разговаривал. Да это было и трудно с его перерезанными голосовыми связками. И только с сестрой он отваживался нарушать это табу. Случайно заслышав его речь, слабонервные шарахались в сторону: это был какой-то зловещий клекот, переходящий в змеиное шипение.
Однажды Царевич исчез. В городок он вернулся через два года – во главе пьяного до изумления оркестра, с которым ему едва хватило денег рассчитаться, и огромным чемоданом-вагоном в руках, где, как вскоре выяснилось, не было ничего, кроме обезьянки – маленькой, скрюченной и печальной.
Говорят, все это время он просидел в тюрьме – говорят, за кражу. Говорят, не только за кражу, но и за убийство, которое просто не удалось доказать. Говорят, его выдали сообщники, ненавидевшие его и боявшиеся, что ночью он перегрызет кому-нибудь из них горло.
Кроме обезьяны он приобрел пристрастие к футболу. Играл он с такой же лютостью, с какой дрался, ел или обладал женшиной. Получив мяч, он уже никому его не отдавал, рвался к воротам соперников с дикой неукротимостью, повергавшей игроков в растерянность, а то и в ужас. Его били по ногам и в спину, толкали и пинали что было сил, – стиснув зубы и будто ослепнув и оглохнув, он мчался по полю, сбивая с ног чужих и своих, пока не прорывался к воротам. Он не обращал внимания на ссадины и ушибы, кровь и синяки. Нередко он промахивался, но нисколько не переживал. Как машина. Возвращался на свою половину поля, чтобы начать все сначала.
Матчи с его участием часто превращались в жестокое, а иногда и в кровавое действо, будоражившее зрителей, но, кажется, ничуть не трогавшее исполнителя главной роли.
Он по-прежнему жил с Сурнушкой, постаревшей и вконец опустившейся. Она стала неутомимой собирательницей пустых бутылок, в поисках которых могла пройти десятки километров, чтобы прокормить своего прожорливого сожителя.
Почти ежедневно он предпринимал вылазки к трем-четырем женщинам, чьи имена в городке стали давно нарицательными. Иногда, поднабравшись одеколона, Сурнушка пыталась устроить скандал, – в таких случаях Царевич одним ударом лишал ее сознания и отправлялся спать, в то время как печальная ученая обезьяна шарила по чужим курятникам в поисках свежего яичка хозяину на завтрак.
Вырвавшаяся наконец из школы сестра Царевича совершила крупную растрату в магазине, где работала продавщицей. Говорят, растрата была общей, но, как часто бывает, старые продавщицы свалили все на новенькую. Царев внес деньги. До суда дело не дошло. Говорят, лесник подкупил следователя, судей и прокурора – говорят, теми якутскими алмазами из своего вагон-чемодана, которыми была доверху набита потайная комната в его мрачном доме.
Девочка не пропускала ни одного футбольного матча с участием брата. Обычно она устраивалась позади зрителей или сбоку от скамеек, на траве. Окруженная полудикими псами, она напряженно следила за перипетиями игры, не сводя взгляда с Царевича и слабо постанывая – от этого томного стона у псов вспыхивали глаза и торчком вставали уши. Когда игра переходила в потасовку, она перебиралась к ограде, откуда и наблюдала за жестоким и скоротечным побоищем.
В тот день она не успела сменить место и неожиданно оказалась в эпицентре драки. И хотя собаки надежно защищали ее от разъяренных мужчин, она вдруг потеряла сознание. Говорят, она это сделала нарочно. Расшвыряв мужчин, Царевич подхватил сестру на руки и отнес домой. Говорят, когда она очнулась от обморока, все уже свершилось, о чем свидетельствовало и темно-розовое пятно на простыне. Говорят, в первый миг она испугалась, увидев склонившегося над нею Царевича. Он проклекотал-прошипел: «Мед и молоко под языком твоим…» Говорят, она обняла его и заплакала – говорят, от счастья.
Говорят, весь день они провели на той грязной, кое-как заштопанной подстилке, которую Сурнушка именовала постелью. Говорят, все это время Сурнушка на кухне тихо точила слезы, утирая лицо замасленным подолом. Говорят, впервые ее кровать не скрежетала, а пела, как арфа. Ложь, конечно, хотя многие слышали.
Вечером он проводил ее домой. Говорят, он уговаривал ее остаться, но она не решилась. Говорят, ей стало жалко отца. Говорят, Царев и глазом не моргнул, увидев под ручку с Царевичем дочь – счастливо улыбающуюся, как улыбаются – туманно и как бы сразу всему миру – девушки, только что пережившие утрату невинности и радующиеся той внезапной неопределенности, которую они почему-то называют новой жизнью.
Проводив ее до ворот, Царевич убрался восвояси.
С того дня девочка ни разу не появиласъ в городке. Если не считать последнего раза.
Целым днями она бродила с сонной улыбкой на губах, в длинной, до пят, рубашке без ворота, доставшейся ей из материных пожизненных запасов. Иногда она выбредала во двор и с детским недоумением взирала на бронзового Генералиссимуса, взиравшего на спаривающихся животных. Несколько раз на дню отец обращался к ней с какими-нибудь вопросами, но она отвечала ему только смущенной улыбкой.
Лесник мрачнел. Однажды он застал дочь в саду: с закрытыми глазами и выражением экстаза на лице она жадно поглощала дождевых червей вместе с комочками земли, камешками и корешками. В другой раз он видел, как ее вырвало, и вскоре стал находить следы рвоты то в огороде, то за сараями, то в комнатах. Наконец однажды он ворвался в чулан, где стояла огромная чугунная ванна, и выхватил из горячей воды дочь, от которой резко пахло вином и кровью. Завернув ее в пуховое одеяло, Царев погнал коней в город. Лил дождь. Когда в больнице развернули одеяло, никто не мог понять, от чего оно больше намокло, от крови или дождя. Тогда же он дал знать о случившемся сыну и тогда же получил от него ответ: «Я не желаю иметь ничего общего со шлюхами».
Под утро ему разрешили забрать ее. Он уложил завернутую в простыню дочь на влажноватое сено, аккуратно укрыл ее сухим одеялом и не торопясь поехал домой. Дождь прекратился. День обещал быть жарким.
Примерно через час его увидели у дома Левых. Громадный босой старик с пятизарядным длинноствольным браунингом в руках, в застиранных до белизны галифе и расстегнутой на груди исподней рубахе.
Сидевший на подоконнике Вася Левый отложил гармонику и крикнул вслед:
– Эй, Царь, где же твои псы?
Никто еще не знал, что, оставив дочь на чисто выскобленном кухонном столе, он снял со стены ружье и с крыльца расстрелял все живое: псов, одного за другим, и ни один не посмел уклониться от разрывной пули, затем коней, телят, коров, быков, овец, кур, гусей, уток, наконец, и свиней. Через несколько минут двор был завален мертвой животиной, и из-под этой груды остывающего мяса вниз по склону с журчанием бежал ручей дымящейся крови.
После этого он снял со стены другое ружье, браунинг, и пошагал в город.
Было раннее утро. Старик шагал размеренно, не глядя по сторонам и никого и ничего не замечая. Он даже не взглянул на запертую дверь парикмахерской, хотя, наверное, знал о недавнем самоубийстве Илюхи, оставившего Цареву письмо с единственной загадочной фразой: «Не знаю». Он прошел через пробуждающийся город и остановился на тротуаре, окаймлявшем городскую площадь.
Как он и ожидал, навстречу ему выбрел ссутулившийся Царевич с обезьяной на поводке. Он остановился, увидев отца. Говорят, ровно минуту они стояли и молча смотрели друг на друга. Наконец Царевич вздохнул и улыбнулся – говорят, впервые в жизни и, говорят, с облегчением.
Первая пуля сбила парня с ног, вторая перевернула на живот, третья подбросила в воздух и отшвырнула метров на пять в сторону, к газетному киоску, четвертая расколола череп на две половинки. Пятый патрон перекосило и заело в патроннике (он подпиливал гильзы, но раз на сто выстрелов все равно заедало).
Прибежавший в одних трусах и с пистолетом в трясущихся руках участковый нашел старика сидящим на корточках возле остывавшего тела.
Ополоумевшая от ужаса обезьянка рвалась с поводка, жалобно вереща и держа на весу сломанные ручонки; она беспрестанно дергала ремешок, и рука Царевича с намотанным на нее поводком подпрыгивала, как живая…
Браунинг был прислонен к забрызганной кровью стенке газетного киоска.
Поскольку камера в милиции была закрыта на ремонт, участковый отвел старика к себе домой и запер в дровяном сарайчике, где стояла драная раскладушка и пахло гниющим деревом.
Когда через полчаса участковый принес Цареву яичницу, три вареные картофелины и полкастрюли клюквенного компота, старик лежал на раскладушке. Его чудовищно огромные босые ступни упирались в дверь, и между пальцами ног уже проросли какие-то мелкие белые цветочки, источавшие недобрый запах. Под голову старик подложил чурбачок, на котором милиционер щепал лучину для растопки. К еде Царев не притронулся.
День был жаркий и душный. С востока небо затекло алым цветом. Люди разговаривали вполголоса, опасливо обходя стороной газетный киоск: его даже к концу дня не удалось отмыть от Царевичевой крови. У киоска сидела и плакала Сурнушка, обвязавшая голову черным платком, взятым взаймы у соседки.
Говорят, она-то и рассказала старику про дым над лесом. По ее словам, вечно висевшая над лесом грозовая туча наконец-то разродилась огнем.
Уже через полчаса участковый, принесший старику ужин, обнаружил пропажу и поднял тревогу. Вася Левый сказал, что видел Царева: он быстро шагал в сторону леса. Туда люди и кинулись. Много людей. Наверное, весь городок.
Мы миновали ворота – при нашем приближении они сами рухнули и рассыпались гнилым прахом – и, пройдя через лес, вышли к холму.
Дом был объят пламенем. Гудящий огонь хлестал из окон, изо всех щелей.
Мы разобрали ведра и выстроились цепочкой от болота к пожару. Но как только первое ведро оказалось у Сурнушки, стоявшей ближе всех к дому, из огня на крыльцо шагнул Царев.
Он выстрелил в воздух, передернул затвор и направил ствол на Сурнушку.
Она послушно вылила воду себе под ноги.
Пожар разгорался. Дом скрипел и трещал, и казалось чудом, что он еще не рухнул. Дрожало и стонало Птичье Древо, чьи корни вспучивали и рвали сухую землю.
Люди завороженно взирали на высокого старика, замершего в дверном проеме на фоне ревущего пламени: большая лысая голова, необъятная грудь под застиранной рубахой, спокойное, какое-то умиротворенное лицо…
И вдруг он шагнул в дверь и исчез за стеной огня, и оттуда с диким воем вылетел клубок дыма и пламени.
Никто не шелохнулся. Мы стояли и плакали вокруг груды битой скотины, над которой возвышался покосившийся памятник Генералиссимусу. И не было над нами ни грозовой тучи, ни звезды.Сон Риччардо
Лавинелла происходила из знатного рода, от природы была наделена умом немалым и острым. Ей не было еще восемнадцати. Была она свежа, мила и на редкость хороша собой. Целые дни проводила она у окна, выходившего на главную улицу подле портала церкви Святого Августина. Скрытая ставней от посторонних глаз, она наблюдала за прохожими, из которых наконец выделила некоего Риччардо. Красотою, изяществом и благородством он намного превосходил всех, кто когда-либо проходил или гарцевал на коне под ее окном. Лавинелла влюбилась в Риччардо. Страсть захватила ее всецело, и девушка не знала, как удовлетворить свое желание, чтобы не сойти с ума. Фантазия, изощренная одиночеством, подсказала ей способ, а закаленное одиночеством сердце стало оплотом ее мужества.
Вечером во вторник, слывший самым беззаботным и веселым днем сиенского карнавала, Лавинелла тайком от домашних выскользнула на улицу, скрыв лицо под маской. Встретив Риччардо, который вышел из дома со светильником в руках, она приблизилась к нему и нежным и жалобным голосом попросила позволения зажечь от его светильника свой фонарь. Одета она была легко и богато. Руки ее дрожали. Риччардо решил воспользоваться подвернувшимся случаем и после прогулки, убедившись, что незнакомка питает к нему слабость, пригласил ее в свой дом. Они поужинали с вином. Риччардо принялся упрашивать ее снять маску. В конце концов Лавинелле пришлось уступить пылким и настойчивым уговорам того, кто властен был ей приказывать и кто, даже повелевая, оказывал ей милость.
– Уберите все светильники, – сказала она, – и я перестану упрямо и столь невежливо отвергать вашу любезность. Я хочу доказать вам, как мило и дорого мне все, что исходит от вас, сколь сердце и воля мои готовы служить и повиноваться всему, что вам угодно будет повелеть мне честным и благородным образом.
Светильники были вынесены. Лавинелла сняла маску. Когда любовники, устав, лежали рядом, она рассказала ему об ухищрениях, приведших ее в его дом. Однако едва Риччардо велел внести светильники, как Лавинелла тотчас надела маску. На все просьбы Риччардо снять личину девушка твердо отвечала отказом. Впрочем, сказала она, ежели он позволит ей беспрепятственно уйти, то не пройдет и двух часов, как он получит достовернейшие сведения о том, кто она такая. Риччардо недоумевал, почему, не желая исполнить его просьбу здесь, она вдруг откроется в другом месте, – но в конце концов решил сделать так, как угодно и приятно даме.
Он проводил ее в квартал Казато, где тем вечером давали большой бал. Лавинелла попросила его войти в дом, в котором гремела музыка, спустя некоторое время после нее и обратить внимание на женщину, которая станет покусывать кончик своей косынки: это та, которая, испытывая от сего великую радость, незнакомкой лежала в объятиях Риччардо и всецело отдала ему душу свою и тело.
Поступив так, как она просила, Риччардо обнаружил, что маска обманула его. Она ускользнула через другую дверь, выводящую к церкви Санта-Кроче, сообщает Шипионе Баргальи в новелле пятой своих «Забав» («Забавы, во время которых прелестные дамы и молодые люди развлекались пристойными и приятными играми, рассказывали новеллы и спели несколько любовных песенок» – таково полное название труда Баргальи).
Мне осталось рассказать о том, что было потом.
Не прошло и года, как родные, видя, в каком настроении пребывает Риччардо, принялись настаивать на его женитьбе. Среди возможных невест оказалась и Лавинелла. Ее-то – лишь бы потрафить родне – и выбрал Риччардо. Девушка была несказанно счастлива, но не открыла жениху тайну незнакомки в маске: быть может, боялась, что, узнав о ее готовности к подобным поступкам, Риччардо поостережется брать такую девушку в жены.
Вместе они прожили долгую жизнь. Риччардо с похвальной осторожностью преумножал славу и благосостояние семьи и рода. Лавинелла ежегодно рожала по ребенку (некоторые выжили), расцвела, но вскоре состарилась, расплылась; ее мучили одышка и воспаление яичника, придававшее ее носу сходство с носом старого пьяницы. Каждый год в последний вторник карнавала она отправлялась в церковь Санта-Кроче, чтобы со слезами возблагодарить Господа за случай, сделавший ее супругой Риччардо. Она до старости гордилась своей решимостью, превратившейся в тайну. Она полагала, что может открыть эту тайну на смертном одре. Иногда, впрочем, она думала, что тот случай был как бы сам по себе, а жизнь с Риччардо – обычная жизнь жены знатного сиенца – сама по себе, – то есть такую же жизнь она могла бы прожить и с любым другим человеком ее круга…
Каждый вечер в последний вторник карнавала Риччардо с волнением выходил из дома с зажженным светильником в руках, и всякий раз с другой стороны улицы его окликала юная девушка с погасшим фонарем: «Любезный юноша, будьте так добры и не откажите зажечь от вашего светильника мой фонарь, который совсем погас». Он давно выучил наизусть все, что она говорила ему – из года в год, в последний вторник карнавала, – но сердце неизменно вздрагивало при звуке ее голоса, и он думал: а не воспользоваться ли ему этим случаем? Они гуляли по городу. Он приглашал ее к себе. Они ужинали с вином. Потом выносили светильники. Они ложились в постель. Проходили годы, а она была все такая же: пылкая, гибкая, пахнущая жимолостью. Затем он провожал ее в квартал Казато, в дом, где гремела музыка, ждал, входил, искал незнакомку, которая должна покусывать кончик косынки, и убеждался, что она вновь ускользнула в другую дверь, выходящую к церкви Санта-Кроче…
Перед смертью жена открыла ему тайну маски.
Он сделал вид, что поверил, подумав: «Как я и предполагал, она шпионила за нами». Лавинеллу похоронили под звон колоколов Санта-Кроче.
Риччардо с нетерпением ждал карнавала и вечером в последний вторник праздника, как всегда, вышел из дома со светильником в руке. С другой стороны улицы его окликнул взволнованный девичий голос: «Любезный юноша, будьте так добры…» От нее пахло жимолостью. Он всегда боялся изменить хоть слово, хоть жест в ритуале, который столько лет связывал их. Но на этот раз – ему исполнилось семьдесят два, он с трудом дышал и давно не интересовался женщинами – Риччардо прервал ее и сказал: «Конечно, я зажгу ваш фонарь. Я сделаю все, что делал всегда. Но прошу, останься».
Она замешкалась с ответом.
Он повторил просьбу, когда, насытившись друг другом, они отдыхали в темноте его спальни. И в третий раз он обратился к ней с той же просьбой у дверей дома в Казато. Она молча скользнула мимо привратника. Тогда Риччардо решился. Он обогнул дом и встретил ее у двери, выходившей к церкви Санта-Кроче.
– Что ж, – вздохнула девушка, когда он взял ее за руку. – Пойдем.
Шаг ее был тороплив и сбивчив. Они вышли к реке. Здесь хорошо дышалось. Риччардо почувствовал, что сердце его перестало болеть, и понял, что больше никогда не расстанется с девушкой, слабо пахнущей жимолостью…
Флорин
Богатый молодой кастилец Альфонсо да Толедо, привлеченный славой Болонского университета, отправился туда, чтобы, поучившись, получить докторскую степень. По пути он остановился передохнуть в Авиньоне, где увидел в окне прекрасную даму, которую звали Лаурой, – и влюбился в нее и решил, что покинет Авиньон не раньше, чем добьется ее полного или значительного благоволения.
После непродолжительных ухаживаний дама согласилась встретиться с ним наедине, потребовав при этом плату за услуги в размере тысячи золотых флоринов. И хотя больше у него денег не было, мессир Альфонсо согласился не раздумывая.
Они провели вместе ночь. Когда наступило утро, они подробно уговорились о продолжении начатого предприятия. Однако на следующий день дама не пустила его к себе, и Альфонсо понял, что потерял и даму, и деньги, и честь. Чтобы расплатиться с хозяином гостиницы, ему пришлось продать своего лучшего и красивейшего мула.
В слезах, в печали продолжил он путь в Болонью. Прибыв в Трек, он по странной и непредвиденной случайности остановился в одной гостинице с мужем мадонны Лауры, благородным и почтенным рыцарем, который возвращался домой после выполнения одного поручения от французского короля к папе.
Рыцарь пригласил его поужинать и участливыми расспросами выведал причину Альфонсовых горестей.
Известие об измене жены опечалило его, однако рыцарь с немалым благоразумием подавил в себе невыносимую боль. Он пригласил юношу к себе в гости, чтобы хоть как-то помочь несчастному испанцу.
Вечером они прибыли в Авиньон.
Мессир Альфонсо узнал улицу и дом, увидел и даму, которая при свете множества светильников с большой радостью вышла навстречу мужу. Юноша было решил, что рыцарь привез его к себе, чтобы отомстить за оскорбление, и обомлел от страха. Узнала студента и дама.
Когда ужин закончился и они остались втроем, рыцарь обратился к жене:
– Принеси ту тысячу золотых флоринов, которую дал тебе этот юноша и за которую ты продала себя, свою и мою честь и честь нашего рода.
Ей ничего не оставалось, как принести мешок с деньгами.
Рыцарь рассыпал их по столу и, взяв одну монету, вложил ее в руку юноше, который сидел охваченный страхом, ожидая каждую минуту, что рыцарь заколет его и жену кинжалом.
Но тот сказал:
– Жена моя поступила как шлюха, и, как бы красива она ни была, она не заслуживает и не должна получить за одну ночь больше одного флорина. И потому я желаю, чтобы ты, купивший товар, сам вручил ей заработанную плату.
Он велел жене взять монету, и Лаура повиновалась.
Когда же она удалилась, рыцарь призвал своего слугу, употреблявшегося для деликатных поручений, и велел приготовить яд. Порошок он молча вручил юноше, который дрожащей рукой всыпал его в кубок с вином, тотчас отправленный к столу Лауры.
– Сын мой, – сказал рыцарь, – помни, что впредь тебе следует быть благоразумнее и не покупать такой дурной товар за столь высокую цену. – Он прислушался к шуму за дверью. – И не трать на похоть свое время и имущество, когда тебя одушевляет стремление принести честь и славу твоему роду…
Дверь распахнулась. На пороге стояла Лаура. Юноша вскочил, но рыцарь остановил его властным жестом. Женщина упала. Ее вырвало с кровью. Она попыталась приподняться, но это ей не удалось. Судороги сотрясали ее тело. Хрипя, она вползла в столовую – и замерла. Глаза ее выкатились из орбит, по подбородку текла пена, из разжавшейся руки выпала золотая монета.
Альфонсо поднял флорин и опустил в свой карман.
Рыцарь велел слугам унести тело, а юношу проводить в приготовленную для него богато убранную комнату.
Утром, осыпав гостя многими подарками, рыцарь проводил его далеко за город. Они крепко обнялись, и юноша едва смог открыть рот, чтобы поблагодарить рыцаря, который, тоже плача, приказал ему молчать. Они нежно поцеловались и расстались.
Так рассказывает эту историю Мазуччо Гуардати («Новеллино», новелла XLV).
Но настоящий финал этой истории тоже заслуживает внимания.
По приезде в Болонью Альфонсо да Толедо устроился, как и подобает знатному человеку, и приступил к занятиям в университете. Одно только мешало ему: правый чулок вечно сползал и натирал ногу до крови. Юноша заказывал чулки лучшим мастерам, менял их, как и обувь, по три раза на дню, но всякий раз мучения возобновлялись. Рана нагнаивалась, и лекари задумчиво переглядывались и многозначительно покачивали головами. Альфонсо перестал посещать университет и вообще выходить из дома, чтобы не натирать ногу, но и это не помогло. Тогда он, все бросив, постригся в монастырь босоногих братьев, где проводил время в нескончаемых молитвах. Рана гноилась, ныла, не давая о себе забывать ни на миг. Альфонсо пожертвовал монастырю все свои деньги и вел жизнь скудную, чтобы забыть, как выглядят золотые флорины. Однако это не удалось ему ни в Болонье, ни в Риме, ни в Ассизи. Он попытался облегчить страдания, обратившись к перу и бумаге. Впоследствии в его келье обнаружили обрывок пергамента со словами «В златых теснинах ужаса, называемого также памятью…» На этом месте запись обрывалась.
Доведенный болью до отчаяния, он стал странствующим монахом. Он путешествовал по самым бедным местностям, где в деревушках подавали милостыню не деньгами, а хлебом, сыром и вином. Последние свои дни он провел в одном нищем калабрийском селении, в церквушке, в молитвах. Однажды утром крестьяне выволокли из церкви окоченевшее тело монаха с гноящейся ногой. В руке у него был зажат флорин – этого хватило, чтобы отпеть, похоронить и помянуть чужака.
Счастье Лауры Сколастики
Лаура принадлежала к семейству Онесте, которое издавна враждовало с семейством Сансеверино. Причиной конфликта была конкуренция: обе фамилии владели судовыми компаниями и занимались торговлей с Левантом. Ну, фрахт, прибыль и так далее – то, из чего, собственно, и выпечена великая Италия – Италия Ренессанса, Венеция дожей Дандоло, пузатая Флоренция гонфалоньеров… По легенде, когда-то, в древности, один из Сансеверино в ослеплении страсти силой овладел женщиной из рода Онесте, был проклят и умер тридцатипятилетним. С тех пор мужчин из рода Сансеверино неудержимо влекло к девушкам из рода Онесте, иногда они даже вступали в брак, но все равно не могли вырваться из плена древнего проклятья: что-нибудь да случалось между ними, и в конце концов мужчины умирали, не достигнув тридцатипятилетия. Предел. Потолок. Тридцать пять. Как ни крутись, а умрешь, едва достигнув этого рокового рубежа. И ничто, однако, не спасало их от роковой любви к доннам Онесте. Даже если кто-нибудь из них влюблялся в другую и даже женился на этой другой, все равно судьба рано или поздно сводила их, палача и жертву, и разверзала у ног их пропасть. Они бежали на край света, в Китай, к гипербореям, пускались в рискованные предприятия или же запирались в своих домах или в монастырях, но магия страсти не позволяла им скрыться от женщин Онесте.
Джакомо Сансеверино было двадцать пять, когда на городском празднике он познакомился с Лаурой, прозванной Сколастикой: она славилась ученостью, слагала стихи и даже выступала – под покрывалом или в маске – на диспутах. Джакомо же был огромным грубым мужланом. Он пукал так, что в бокалах скисало вино, а после соития с женщиной охлаждал член в кувшине с водой, мгновенно выкипавшей до дна. Он был не из тех, кого можно запросто напугать каким-то древним проклятьем. А главное – он был удачливым купцом и ловким драчуном, отлично владевшим кинжалом и шпагой. Он был умен, расчетлив и настойчив. За несколько лет ему удалось разорить своих главных конкурентов – Онесте – и привести враждебное семейство в полный упадок.
Лаура же Онесте была, увы, горбата и нехороша собой. Увидев ее впервые, Джакомо расхохотался:
– Слава Богу, в такую влюбиться невозможно! А других баб у них в семье нету!
Итак, семья Лауры была разорена, отец от расстройства впал в безумие, гадал по Вергилию, как это вообще было принято в те времена, и мечтал открыть восьмой день недели, и единственной надеждой Онесте был юный Леонардо, который успел прославиться своими изобретениями, усиливавшими мощь хищной Венецианской республики в борьбе с турками.
Чтобы окончательно добить врагов, Джакомо Сансеверино состряпал против Леонардо Онесте дело по обвинению в государственной измене. Подкупленные свидетели показали под присягой, что Леонардо поддерживал тайные сношения с турками и передавал им некоторые свои военные изобретения. В конце концов юный Онесте был осужден и казнен.
Джакомо был счастлив и закатил пир для родственников, партнеров и друзей.
Лаура Сколастика осталась в огромном старом доме одна, если не считать парочки ветхих слуг, отца и книг. Она поклялась отомстить обидчику, ему донесли об этом, и Джакомо послал ей в подарок кинжал со своим гербом на лезвии. Лаура ответила: «Мудрый человек слишком хорошо знает цену счастью, поэтому между счастьем и жизнью он всегда выбирает жизнь». Это были последние слова, которые люди слышали от Лауры.
Дом ее ветшал, стены покрывались трещинами, по ночам из окон вылетали совы и летучие мыши, над трубами никогда не было видно дыма… Как жила Лаура, чем питалась, виделась ли с кем-нибудь – неизвестно. Можно только строить предположения о ее занятиях – впоследствии выяснилось, что она упорно занималась турецким языком. Можно лишь догадываться, какое у нее было лицо, когда она смотрела на себя в зеркало. У нее было так мало сновидений, что они старились вместе с нею. В конце концов о ней забыли: десять лет в те времена, когда сорокалетние считались глубокими стариками, – большой срок…
На празднике во дворце дожей Джакомо Сансеверино в кругу друзей и паразитов отмечал свое тридцатипятилетие. К нему подошел слуга и сказал, что его хочет видеть женщина в маске. В сопровождении нескольких товарищей Джакомо вошел в небольшую комнату, где на турецком диване при свете единственной свечи его ждала незнакомка в алой маске.
– Я хочу передать вам важные документы, – сказала она дрожащим голосом. – Но с глазу на глаз.
Джакомо велел друзьям удалиться и сел рядом с маской. Она достала из складок одежды скатанные в трубку бумаги, при этом по неловкости, усугубленной, видимо, волнением, задрала подол так, что взору пьяного Джакомо явились ее белые бедра.
– Ты будешь моей, – сказал он. – Сейчас и здесь.
– Конечно, – ответила она. – Счастлива служить моему господину.
Недолго думая он навалился на нее.
Когда все случилось, женщина в маске вдруг выхватила кинжал и погрузила его по самую рукоять под свою левую грудь. От неожиданности Джакомо громко вскрикнул. Прибежали друзья и слуги дожа. Их взорам предстала ужасная картина: на диване лежала изнасилованная женщина, убитая кинжалом с гербом Сансеверино на лезвии. На столе нашли письмо, написанное по-турецки, в котором некто за вознаграждение предлагал туркам свои услуги в борьбе против Венецианской республики. Некоторые яркие детали послания недвусмысленно указывали на автора – Джакомо Сансеверино. Наконец догадались снять с убитой маску: это была Лаура Сколастика. Джакомо был взят под стражу, вскоре осужден и казнен – за изнасилование и убийство во дворце дожа и за государственную измену, вызванную непомерной алчностью.
Джакомо пережил свое тридцатипятилетие на три дня, которые можно не принимать в расчет. Перед казнью он сказал одному из своих друзей, назвавшему Лауру «коварной лисицей», ухитрившейся поймать Джакомо на единственную приманку, которая была у горбуньи, – на красивые бедра:
– Э, дружище, через час палач подтвердит, что ничего-то мы о счастье не знаем!Искусство моря
Оказываясь лицом к лицу с морем, вскоре перестаешь понимать, кто на кого смотрит. Смотреть на море, постепенно погружаясь в расслабленно-меланхолическое состояние, – это не искусство, как не являются искусством дыхание или смерть: неизбежное лишь часть необходимого. Искусство начинается с того, что усаживаешься спиной к морю. Да-да, попробуйте-ка не повернуться к нему лицом, когда оно так дышит, шумит и ворочается.
С чем это можно сравнить? Ну, это как усесться спиной к Джоконде. Понимаете? Вы входите в зал, где находится полотно Леонардо, причем входите так, чтобы ни в коем случае не увидеть и даже мельком не заметить Джоконду, – ну, я не знаю, можно, например, войти задом, или согнувшись в три погибели, или с закрытыми глазами, – и садитесь спиной к великому произведению. Вокруг какие-то люди, они шушукаются, обмениваясь впечатлениями, или молчат с глубокомысленным видом, какой бывает у человека на унитазе. Может, вас кто-нибудь даже случайно толкнет, может, на вас обратят внимание или о чем-нибудь спросят, а вы вступите в разговор, и все это – только спиной к Джоконде. Высиживаете час, другой, возможно, третий, наконец поднимаетесь и уходите, так и не взглянув на великое полотно. Я пробовал – это ужасно трудно, тяжело, выходишь на улицу весь в поту, физическая нагрузка – будь здоров, потом все тело ломит, шею сводит, плечи же отчаянно болят.
Впрочем, сравнение с Джокондой проясняет не все. Поэтому воспользуемся сравнением со зверем. Как вы себя почувствуете, если будете точно знать, что у вас за спиной – чудовище? Сейчас, сию минуту! Настоящее чудовище – лохматое, вонючее, смрадно дышащее, плотоядное, голодное, злобное, наконец. Оно пока неподвижно, но решение уже принято, чудовище вот-вот тронется с места, вдавит лапу – или ласту – в мокрый песок, шагнет – почти беззвучно – к вам, и в этом-то нет никакого сомнения, то есть оно уже приближается, и даже если это движение будет длиться вечно, страх никогда не ослабнет, и привыкнуть к нему невозможно, как невозможно привыкнуть к красоте.
Человека завораживают текучая вода и огонь, вообще все текучее. Можно часами сидеть на берегу реки или ручья. Но если река или ручей обладают формой, то есть хотя бы началом и концом, то к морю неприложимы понятия «оттуда» и «туда», «правое» и «левое»: оно вне форм и вне времени. Море – это категория.
Человека тянет к морю, ибо ему хочется раствориться в чем-то большем человека, в чем-то, быть может, бесформенно-идеальном. Как и космос, море содержит в себе ад и рай, но между ними нет границ. Погибшие цивилизации, города, корабли, невинноубиенные младенцы – море таит их в своих глубинах, под толщей вод, взволнованных лишь на отмелях и скрывающих от нас всю мерзость истории. Недаром Мевилл однажды заметил, что если гегелевская мировая душа существует, то море – ее больная совесть.
Если не забывать об этом, – хотя лучше, конечно, и вовсе об этом не знать, – то наше существование на берегу становится напряженно-драматическим, зыбким и зябким. Поэтому можно только удивляться, как люди могут спокойно спать под шум прибоя. В связи с этим и пребывание спиной к морю обретает некое новое измерение, новый смысл: одно дело – сидеть на стуле в пустой комнате, другое – сидеть на стуле в комнате, где в углу валяется покойник. Будь вы хоть трижды невинны, вам долго не выдержать этого испытания. Вы возненавидите свою непорочность. А может быть, возьмете чужую вину на себя, лишь бы прекратился этот кошмар. Что уж говорить о тех, чья совесть и впрямь нечиста…
К морю нужно найти подход – в буквальном смысле слова. Ведь уже в поезде дети и неуравновешенные взрослые то и дело начинают вскрикивать: «Море! Вон там! Да посмотрите же!» Смотреть, разумеется, нельзя. Лучше всего лечь на пол и зажмуриться, не обращая внимания на крики, насмешки и предложения вызвать врача. Ну не станешь же всем объяснять, в чем дело. Но и по приезде на место не стоит забывать об осторожности. Море слишком велико, оно лезет в просветы между деревьями и домами, норовя неожиданно, как тать из-за угла, броситься вам в глаза. Поначалу я добирался до берега ползком. Такой способ дает полную гарантию, но привлекает любопытных. Со временем я научился подбираться к морю так, чтобы не видеть его и не вызывать насмешек обывателей.
Важно также найти удобное место. Выбор зависит от индивидуальных предпочтений. Кому-то, быть может, нравится сидеть спиной к морю в зарослях акации, а другим – на краю обрыва. Я же избрал поваленное дерево метрах в пятидесяти от берега, с которого открывается вид на сосновый бор. Никаких льгот и скидок, никаких стен или зарослей за спиной – ни в коем случае. За спиною должно быть море во всем его великолепии. Во всей силе его искуса. А перед глазами, как я уже говорил, шумливые сосны, клонящиеся под ветром. Это существенно: при взгляде на кучу мусора или загорающих девиц мысли могут выйти из-под контроля.
Повернувшись спиной к морю, не остается ничего другого, как думать о море. Ведь ради этого все и затевалось. И первым делом нужно вообразить, что никакого моря за спиной нет. Вообще нет моря. Вообще нет никаких морей. Уверяю вас, это трудная задача: ведь мир без моря – принципиально иной мир. Это именно мир-без-моря. Чувствуете? Другие скорости, цвета, запахи, иной образ жизни и мышления. Не одна бабочка умрет, прежде чем вы свыкнетесь с жизнью без того, что шумит у вас за спиной. Это труднее, чем спрятать слона под мышкой, – вот какова мера трудности при решении этой задачи. Но – терпение, терпение, еще раз терпение. В отречении от моря есть что-то монашеское: отрекаясь об Божьего мира, святой восходит к Богу ради этого мира. Не забывайте, однако, что это лишь подготовка к главному. Наконец однажды, обнаружив, что среда превратилась в субботу, а вашую правую руку нипочем не отличить от левой, – вы вдруг понимаете: моря нет. Ни за спиной, ни вообще – в мире. И вот тогда-то вы приступаете к творению моря. Своего моря.
Голова идет кругом, стоит только вообразить, на какие вопросы предстоит ответить. Например: каким будет дно моря? Илистым, песчаным, каменистым, с вулканами, гротами, провалами, утонувшими кораблями и погрузившимися в бездну городами? Это будет северное море или вы предпочтете юг? С акулами или без? А как насчет тысяч характеристик донных пород, течений и бухт? Полгода уходит на придумывание водорослей, года два убиваешь на рыб и мелких животных, при этом ради шутки можно сотворить таких чудовищ, которые сохраняют жизнеспособность только в ваших сновидениях, но, к счастью, не смогут увидеть в своих снах – вас…
Наверное, вы согласитесь, что Искусство Моря требует от человека усилий не меньше, чем любое другое искусство. Ему отдаются целиком, ему посвящают всю жизнь, иначе вам не достигнуть совершенства, ваши акулы мгновенно деградируют до травоядных уклеек, а штормы и ураганы не потревожат и младенца.
Каждый день я отправляюсь к морю. Неподалеку от поваленного дерева я соорудил шалаш, где иногда сплю или наскоро совокупляюсь с какой-нибудь мимобегущей самкой. Сидеть спиной к морю ночью, в шторм, при ясной луне, зимой, в одиночку или на пару со случайным, но непременно молчаливым прохожим – я все перепробовал, все познал. Я создал свое море. Отныне оно лишь часть моей души, как дольний мир является лишь частью души Бога. Теперь-то я в состоянии обернуться и взглянуть на то, что у меня за спиной, – но не вижу в этом необходимости. Я стал замечать то, на что раньше не обращал внимания. Стреляю без промаха. Разлюбил картофель фри и неподкупных судей. Наверняка смогу двумя руками поднять над головой двухтонный грузовик. Бабочка-однодневка на моей ладони может жить вечно. Пожалуй, я сумею без содрогания посмотреть в лицо самой жизни. И пусть невежды продолжают считать Искусство Моря бессмысленным – будущее за теми, кто овладел им, кто хранит в душе нерасплесканное величие моря с его адом и раем, за теми, кто постиг великое искусство сидеть спиной к тому, что у них за спиной.
Люди-на-острове
...
…корабль их
Целой почти половиною на берег
вспрянул – так быстро
Мчался он, веслами сильных гребцов
понуждаемый к бегу.
Стал неподвижно у брега могучий корабль.
«Одиссея», XI11, 113-116
Молодой предприимчивый Парикмахер во время морской прогулки обнаруживает необитаемый остров, а на нем заброшенный дом, еще довольно крепкий, чтобы служить жильем человеку. Его осеняет идея: почему бы не устроить здесь что-то вроде пансионата, где за умеренную плату могли бы отдыхать задерганные городской жизнью люди?
Вскоре находятся желающие участвовать в эксперименте. Первый – Писатель. Он немногословен, носит свитер грубой вязки, курит трубку и никак не может избавиться от чувства вины за смерть молодой жены. Компанию ему решила составить Мадам, замученная бытовыми неурядицами и злобной враждебностью дочери, которая считает мать причиной всех своих несчастий. Мадам любит поесть, посудачить и не очень внимательна к своей внешности, хотя ей еще нет сорока пяти. Именно она дает прозвище Статист следующему участнику эксперимента – мелкому чиновнику статистического ведомства, который предпринимает это путешествие только ради сына – семнадцатилетнего немого, трогательно-беспомощного Нарцисса. Статист – желчный, занудный человечек в дешевой шляпе, тщательно отглаженном плаще, слегка потрескавшихся лакированных ботинках и синтетических носках. Если угостят, закурит, да и от рюмочки за чужой счет не откажется. Наконец, последняя участница – Девица, юная, легкомысленная, чуточку взбалмошная, пытающаяся казаться интеллектуально-ироничной. Рекомендуется начинающей киноактрисой, хотя на самом деле служит официанткой в третьеразрядном ресторанчике.
В одно прекрасное (туманное и дождливое) утро Парикмахер переправляет их на остров.
На острове их ждет живописный двухэтажный дом, сложенный из дикого камня и неохватных бревен. Огромный камин, три широкие кровати внизу и две наверху, кухня с очагом и кособокой плитой, дощатая будка туалета за домом – все это производит благоприятное впечатление на наших робинзонов.
Сложив вещи в доме, они возвращаются на берег. И тут-то их ждет сюрприз: лодку с провизией унесло сильным прибрежным течением. Парикмахер в ярости и отчаянии: его предприятие на грани краха. Статист брюзжит по поводу безответственных людей, готовых в погоне за наживой пренебречь элементарными требованиями техники безопасности. Он настаивает на возвращении залога. Парикмахер швыряет купюры ему в лицо. Мадам требует, чтобы ее немедленно – «слышите, немедленно!» – отвезли домой. Писатель хмуро помалкивает. Лишь Девица в восторге.
«Да это же настоящее приключение! – восклицает она. – И чего вы переполошились? Напрасно надеетесь, что нам дадут здесь загнуться. Не пройдет и двух дней, как сюда кто-нибудь заявится, чтобы выяснить, кто мы такие, по какому праву и так далее».
«Сюда уже лет десять никто не заглядывал», – цедит сквозь зубы Парикмахер.
Как бы там ни было, надо налаживать жизнь на острове. Робинзоны тотчас сталкиваются с непредвиденным. Во время сбора хвороста для очага они подвергаются нападению огромной одичавшей собаки. Кто знает, а вдруг она бешеная? И вдруг она не одна? Люди решают противопоставить опасности сплоченность и дисциплину. С этой целью они избирают «диктатора» – Парикмахера, который призван предупредить разброд и шатания. Все это как бы игра. Но когда в «тронной речи» Парикмахер с избытком воодушевления требует безоговорочного подчинения и при этом полушутя-полусерьезно, поигрывая ножом, угрожает вырезать у Статиста «орган строптивости», становится ясно, как далеко эта игра может зайти.
Писатель, Статист и Девица составляют пассивную оппозицию диктатору, тогда как Мадам искренне радуется тому, что они наконец-то обрели «сильную руку».
Осталось как-то поделить пять кроватей между шестью отдыхающими. Отвергнутый Девицей, Парикмахер проводит ночь с Мадам.
Путешественникам предстоит решить две задачи: добыть пропитание и каким-то образом дать знать внешнему миру о своем бедственном положении. Они раскладывают на возвышенностях дымные костры и отправляются на поиски пищи. Вскоре они обнаруживают птичьи гнездовья – это спасает их от голодной смерти.
Возвращаясь кружным путем, они натыкаются на крохотную избушку, возле которой на перекладине висит корабельная рында. Статист, которому надоели непрекращающиеся злобно-иронические нападки Парикмахера на Нарцисса, решает перебраться сюда. Оставшись один, он тщательно обследует избушку и случайно находит тайник: в нем карабин с запасом патронов и несколько банок мясных консервов. Возможно, этот домик был прибежищем контрабандистов.
Поздно вечером, когда Статист с сыном укладываются спать, в избушку перебираются Писатель и Девица, которым надоело собачиться с Парикмахером.
Наутро мужчины решают выяснить, что же это за собака напала на них и нельзя ли как-нибудь избавиться от опасности. Писатель и Статист, вверив Нарцисса попечению Девицы, отправляются в путь. По дороге Статист рассказывает Писателю о своем партизанском прошлом: «Уж оружием-то я научился пользоваться!»
Тем временем Парикмахер и Мадам, потерпев неудачу в поисках пищи, заглядывают к «отщепенцам». Пустые банки из-под мясных консервов приводят их в ярость. Парикмахер и Мадам обвиняют Девицу и ее товарищей в отсутствии солидарности и порядочности. Голод и раздражение заставляют их говорить много лишнего и, пожалуй, несправедливого. Напуганный ссорой Нарцисс зачем-то бросается к колоколу. Тревожный звон рынды еще сильнее раздражает диктатора. Он набрасывается на мальчика, пытаясь оттащить его от перекладины, стоящей на краю обрыва. Одно неосторожное движение – и Нарцисс падает вниз, на камни. Он мертв. Растерянный, ополоумевший от страха Парикмахер…
Дописав до этого места, я вдруг понял, что дальнейшая работа лишена смысла: более или менее подготовленному читателю, быть может, интереснее самому додумать развязку или даже несколько развязок. И все варианты, как мне кажется, имеют примерно одинаковое право на существование. Они лишь пополнят список, о котором я скажу ниже.
Не исключено, что свою книгу об искусстве XX века будущий исследователь назовет просто – «Люди на острове». В предисловии он, видимо, отметит завораживающее влияние этой темы на большинство художников эпохи. Обратившись к их предшественникам, он, несомненно, обнаружит немало имен, достойных хотя бы простого упоминания (например, Томаса Мора или Паскаля, который сравнивал нашу участь с судьбой потерпевших кораблекрушение, выброшенных на необитаемый остров), но уж никак не обойдется без Себастьяна Бранта с его «Кораблем дураков» (1494), Даниеля Дефо – автора «Робинзона Крузо» (1719) и Джонатана Свифта – создателя «Путешествия Гулливера» (1726). Однако при этом не преминет заметить, что, пожалуй, первым произведением, в котором мир изображен в образе корабля (движущегося острова), а экипаж китобойца «Пекод» – в роли представителей человечества, был «Моби Дик» (1851) Германа Мелвилла. Недаром в книге упоминается Анахарсис Клоотс, который явился во французский парламент во главе разноязыкой делегации, чтобы от лица человечества приветствовать революционных галлов. Впрочем, в качестве важнейшей метафоры духовного состояния уже XX века эта тема будет осознана лишь в 1924 году, по выходе в свет романа Томаса Манна «Волшебная гора», после которого только ленивый не отправлял своих героев на остров, в санаторий, больницу, тюрьму или уединенный монастырь…
На плоту «Медузы» стало многолюдно.
В этом списке, на мой взгляд, могли бы оказаться «Повелитель мух» Голдинга, «Америка» Кафки, «Флигель упокоения» и «Улей» Хосе Селы, «Чума» Камю, «Случай в Виши» Сартра, «Раковый корпус» Солженицына, «Корабль дураков» Портер, «Выигрыши» Кортасара, «А корабль плывет» Феллини, «Пролетая над гнездом кукушки» Кизи – Формана, «Ангел-истребитель» Бунюэля, «До-дес-ка-ден» Куросавы…
Список, разумеется, далек от полноты (а Бергман? а Патрик Уайт? а Уэльбек): я назвал лишь те книги и фильмы, что первыми пришли на ум. Кроме того, ни слова не сказано о театральной драматургии – из боязни, что перечень просто утратит обозримость.Отметив небывалое усложнение жизни и стремление науки и искусства отыскать средства к упорядочению если не мира, то хотя бы наших представлений о нем, исследователь в связи с этим должен указать на возросшее значение моделирования как сравнительно нового и плодотворного метода познания действительности. Послать людей на «остров», изолировать их от всего многообразия действительных и ирреальных, подчас мистифицированных связей – прием, сознательно эксплуатирующий условность, если не искусственность. Прием, характерный, впрочем, для того процесса, который привел к возрождению в искусстве и отчасти в науке игрового начала. Прием, как бы вырастающий из психологии людей, для которых прошлое – далекий берег позади, а другой берег, будущее, освещенное сполохами апокалиптических войн, вызывает ужас. Психология людей на «историческом острове».
Глава или параграф исследования будут, вероятно, посвящены принципу случайности, который активно используется при разработке темы «люди-на-острове». Историк, конечно, заметит, что эта случайность – по контрасту – служит лишь выявлению неслучайности характеров, связей и коллизий: даже на необитаемом острове люди продолжают решать проблемы, порожденные жизнью-до-острова. Однако процесс решения этих проблем в лабораторно-экстремальной, пограничной ситуации протекает как бы при повышенной температуре, резко, быстро, обнаженно, тем более, что нередко жизнь-до-острова и жизнь-на-острове соотносятся как неподлинная и подлинная. Заимствованием терминологии из полузабытого экзистенциализма я только хочу напомнить о том, что это учение настойчивее других разрабатывало эту тему – увы, с точки зрения людей-на-острове.
Закономерно, что ни один художник не рискнул изобразить жизнь на острове как новую Утопию – зато так называемых антиутопий создано сколько угодно. Дабы исключить всякие сомнения на этот счет, писатели и кинематографисты почти всегда вводят в ситуацию элемент опасности: людям на острове угрожают «оно», «нечто», «они», «чужие», чума, туберкулез, грипп, крысы и т. п. Угроза в одних случаях материальная, в других нематериальная, но всегда – реальная. Причем угроза – атрибут модели (т. е. неотъемлемая ее часть), более того, без опасности модель безжизненна: «страх», «насилие», «болезнь» – ключевые понятия современной науки, описывающей социальные процессы и состояния личности в обществе. Личности одинокой, одномерной, отчужденной.В апреле 1363 года Петрарка совершил восхождение на Ветреную гору (Мон-Ванту) близ Авиньона, после чего написал: «Кроме души, нет ничего достойного удивления… в сравнении с ее величием ничто не является великим». («Существует зрелище более прекрасное, чем небо: глубина человеческой души!» – воскликнул Виктор Гюго спустя полтысячелетия, но это уже не открытие, а реплика, рассчитанная на публику.)
Это одна из первых в европейской культуре осмысленных деклараций эмансипации личности, одна из первых апологий Острова.
Интересен, важен, ценен не Континент, даже не Архипелаг, но Остров. Не Пантеон – но Церковь. Не Аноним – но Автор. Не Люди – но Человек. Не Один – но Единственный.
Это были новые ценности, содержание которых, разумеется, не оставалось неизменным. Со времен Иисуса искусство открывало, изучало, возвышало Человека. Он, Единственный, стал мерой всех вещей (эта мысль Протагора откликнулась в Римской речи Пико делла Мирандолы в 1487 году: «Я поставил тебя в центр мира…»). Его душа – неисчерпаемая сокровищница; его свобода – безусловное благо; владение психологизмом стало мерилом мастерства художника. Границы острова предельно сузились, то есть раздвинулись до границ Космоса (тут, видимо, уместно вспомнить, что идею «человек есть космос» развивали еще досократики, Григорий Теолог, мистики). В XIX веке этот процесс достиг кульминации в творчестве Достоевского, и именно он указал на оборотную сторону эмансипации: одиночество, своеволие, отчуждение (впрочем, у него был предшественник, написавший «Ричарда III», «Макбета», «Кориолана»).
Последующее развитие европейской культуры свидетельствует о кризисе психологизма и традиционного гуманизма, ядро которого – индивидуализм, антропоцентризм. Ницше, Пруст, Джойс, Кафка довели до конца процесс, истоки которого лежат в евангелиях, «Исповеди» Августина и «Меа secretum» Петрарки. Однако в творчестве последователей гуманистическая идея первопроходцев лишилась апологетической окраски. Последний удар нанес фашизм – перезревший, гнилой плод этого индивидуализма, этого антропоцентризма, этого гуманизма.
Бог умер. Люди на острове оказались бессильны перед Сверхчеловеком. Единственный стал Одиноким, испытывающим страх перед свободой. Человек – легко заменяемая деталь социальной машины. Вещь – мера людей («Я есть то, что у меня есть» – так сформулировал эту мысль Эрик Фромм).
Итак, наш исследователь констатирует конец эпохи индивидуализма, соотносимый с эпохой христианского антропоцентризма и психологизма в искусстве (еще Тынянов говорил, что психологическая повесть стала бульварным жанром), – и завершение ее символизировано грандиозной метафорой «люди-на-острове». Хотя, конечно, это уже давно не метафора.Иголка княгини Февронии
Нам неизвестно имя автора китайского романа «Цзинь Пин Мэй» («Цветы сливы в золотой вазе»), который нередко ставят в один ряд с такими классическими произведениями, как «Троецарствие», «Речные заводи» и «Сон в красном тереме». Но легендарная история его создания интересна сама по себе.
Живший в середине XVI века крупный сановник Янь Шифань, любитель и коллекционер древностей, однажды узнал, что у одного военачальника хранится прославленная картина художника Чжан Цзедуня «Праздник Поминовения на реке Бянь», и возжелал во что бы то ни стало заполучить драгоценный свиток. Владельцу, однако, вовсе не хотелось расставаться с картиной. Он заказал искусному живописцу копию «Праздника Поминовения» и поднес ее сановнику-коллекционеру. Присутствовавший при этом известный художник Тан сказал: «Это не подлинник. Я видел картину собственными глазами. Взгляните, вот воробей – как неуклюже стоят его лапки, сразу на двух черепицах. Ясно, что это подделка». Сановник разгневался, затаил злобу и со временем добился, чтобы военачальника-обманщика обвинили в государственной измене и казнили.
Сын погибшего генерала – эссеист и поэт – долго вынашивал мысль о мести за отца. Однажды Янь Шифань спросил у него, нет ли в книжных лавках какой-нибудь интересной новинки. «Есть». – «Какая?» Поэт случайно бросил взгляд на золотую вазу с цветущей веткой дикой сливы и ответил: «Она называется «Цзинь Пин Мэй». И добавил, что книга напечатана плохо, поэтому он берется переписать ее и прислать.
Вернувшись домой, поэт открыл классический роман «Речные заводи», наткнулся на кратко изложенную историю любвеобильного торговца Симынь Циня – и сочинил книгу «Цветы сливы в золотой вазе». Зная о привычке врага слюнить пальцы при чтении, автор пропитал углы страниц мышьяком. Наконец подарок был поднесен.
Янь Шифань читал роман не отрываясь всю ночь. Утром он вдруг почувствовал, что язык у него одеревенел. Глянул в зеркало – а язык черен. Он понял, что обречен, и вскоре умер, попросив сына лишь об одном одолжении: проследить, чтобы враги не изувечили его мертвое тело.
Пропитанные ядом страницы – пленительно страшный образ самого искусства, стремящегося «отравить» читателя, в идеале – «умертвить» того человека, каким он был до встречи с книгой, преобразить его…
Эта захватывающая история вымышлена, она недостоверна, но убедительна благодаря детали – неуклюже поставленным лапкам воробья, растопырившегося на двух черепицах. Мы жадно хватаем все новые куски несуществующего пирога, если в нем попадаются настоящие вишенки.
Читать труднее, чем писать. Тысячи писателей спорят за душу малоискушенного читателя– а таких читателей большинство. Писатель не может не писать эту книгу, тогда как читатель, даже самый запойный, имеет полное право не читать именно эту книгу. Вдобавок читателю приходится ориентироваться в чужом мире, преодолевая искушения собственного опыта, подчас очень далекого от опыта автора книги, который живет в ней, как в собственном доме. Наконец, стоит читателю обжиться в новом доме, как его бросают на произвол судьбы, обрывая повествование… Да стоит ли звание читателя всех этих лишений?
Движимый сочувствием к читателю, писатель стремится свести чужие страдания к минимуму.
Всякий человек подчиняется инстинкту самосохранения и инстинкту смысла, побуждающим его действовать, что называется, по линии наименьшего сопротивления. Миф о Кроносе-Хроносе-Сатурне, например, позволял человеку неаналитическим путем, поверх ума приблизиться к пониманию природы неумолимого времени. Бессознательно (гораздо реже – сознательно) ориентируясь на это фундаментальное свойство человеческой природы, писатель стремится к достижению своих целей, фокусируя внимание на самом важном. Вот уже двадцать девять веков литература звякает стрелами в колчане разгневанного Аполлона, меряющего шагами берег гомеровского моря, и этот несмолкающий звук передает чувства бога лучше, чем передало бы их подробное, развернутое описание.
Пожалуй, самым экономным поэтом в истории был Данте. Его воображение по меньшей мере двумерно: он видит, и одновременно он грезит наяву, точнее, имеет видения. В XV песне «Ада» содержится хрестоматийная иллюстрация, характеризующая его поэтическое зрение. Погибшие души с трудом различают поэта и Вергилия в адском подземье, где царит полумгла, и, силясь разглядеть пришельцев,каждый бровью пристально повел,
как старый швец, вдевая нить в иголку
(i si ver noi aguzzeva le ciglia,
come vecchio sartor fa nella cruna).
Другое качество его зрения, свойственное лишь визионерам, духовидцам, потрясает уже в первой песне «Ада», когда поэт попадает в аллегорический зоопарк, встречаясь со львом, пантерой (рысью) и волчицей. Это вполне чувственные образы, и поначалу нам нет дела до того, что вынуждены символизировать эти несчастные чудища в соответствии с тогдашними правилами толкования поэзии. И лишь оправившись от потрясения, мы, может быть, заглянем в «Пир», чтобы узнать, как следует понимать, например, волчицу с худым телом в смыслах моральном, аллегорическом или анагогическом. Во времена же расцвета катафатического богословия, устанавливавшего множество прямых связей между непознаваемым Богом и непотребным миром, это узнавание предполагалось и даже предписывалось, поскольку таков был общепонятный язык той эпохи, и поэт пользовался им так же свободно, как латынью или итальянским, имея в виду, между прочим, и соображения экономии. Поэт – Пушкин, цветок – роза, лев – гордость, насилие и одновременно Филипп IV Красивый, черт его побери. Тем же целям, кстати, служила и теория трех единств (созданная Лодовико Кастельветро в 1567 году и удачно приписанная им Аристотелю), которая упорядочивала мир, гармонизируя человеческие представления о нем, точнее, «сжимая» мир до границ человеческих возможностей (attention span), и тем самым экономила силы и время читателя-зрителя-слушателя, который не хуже автора знает: если цветок – роза, то смерть неизбежна.
В древнерусской повести о Петре и Февронии Муромских князь и княгиня сговариваются умереть вместе, в один день и час. Почуяв приближение смерти, князь Петр посылает за женой, которая в это время вышивает узор на покрывале. Верная слову, княгиня втыкает иголку в шитье и наматывает на нее золотую нитку. После чего отправляется к мужу, рядом с которым и умирает.
Жизнь и повествование завершены.
Эта иголка – потрясающая деталь, равную которой трудно сыскать во всей мировой литературе. Иголка Февронии, помимо всего прочего, спасает эту повесть от дьявольской двусмысленности. Ведь в начале истории простая крестьянская девушка знахарка Феврония выступает в роли коварной и жестокой шантажистки: как только излеченный ею от хвори князь Муромский Петр пытается забыть о своем обещании жениться на простолюдинке, которое было добыто у него путем вымогательства, вещая дева насылает на него прежнюю болезнь и в конце концов вынуждает несчастного взять ее в жены. Вся ее мудрость лишена оригинальности и не выходит за рамки плоскостопого юмора, свойственного средневековой морали, как в легенде о святой Ольге или в новелле Боккаччо о маркизе Монферратской и любвеобильном французском короле. Эти источники приходят на ум, когда встречаешь в повести эпизод с участием Февронии и ухажора, которого она отваживает поистине на восточный манер: «Все бабы одинаковы, что та, что эта, поэтому незачем ухаживать именно за мною». И вдруг – эта иголка с намотанной на нее золотой ниткой! Деталь, радикально преображающая повествование и наше к нему отношение, размыкающая круг вечнозеленых банальностей и превращающая герметический мир агиографии в мир подлинных страстей, доступный нашему соучастию, состраданию, любви…Смерть Дон Жуана
После выхода в свет в 1630 году пьесы Тирсо де Молина «El burlador de Sevilla у convidado de piedra» – «Севильский обольститель» («Севильский озорник, или Каменный гость») образ Дон Жуана, рожденный в недрах испанской народной культуры, вошел в культуру высокую, завоевав сначала Италию и Францию, а затем и всю Европу. Его образ вдохновлял Мольера и Тома Корнеля, Гольдони и Моцарта, Пушкина и Байрона, Рильке и Акутагаву…
Историки утверждают, что прототипом литературного героя был аристократ севильского рода дон Жуан (Хуан) Тенорьо, близкий друг короля дона Педро (1350–1369), которому не раз приходилось покрывать подданного-приятеля, спасая от наказания за грехи и опасные проказы. Исследователи вспоминают также о севильце доне Жуане де Марана, Обри Бургундском, Роберте Дьяволе и других повесах, которых объединяло безудержное стремление к чувственным удовольствиям, отвага и безнравственность.
Небесное правосудие в лице убитого Дон Жуаном командора дона Гонзаго в конце концов жестоко карает кощунника, пренебрегавшего законами Божескими и человеческими (по одной из версий, его убили монахи, которым поручили присматривать за ссыльным повесой). В течение двух столетий этот религиозно-репрессивный момент являлся или казался не только естественным логическим завершением, но и едва ли не ведущей идеей сюжета. Религиозное сознание, особенно в католических странах, воспринимало явление Командора как должное, хотя уже Моцарт почувствовал если не искусственность, в глазах человека нового времени, то анти– или внечеловечность этого deus ex machina: при появлении Каменного гостя сверкающая музыка моцартовского «Дон Жуана» словно пустеет, тяжелеет, становится одномерной, мертвой. Финальная партия Командора лишена какой бы то ни было певучести и песенности, каких бы то ни было связей с живой музыкой, в ней преобладают широкие интервалы, чередующиеся с псалмодическим типом пения, многократное повторение одного и того же звука. Командорская ре-минорная тональность всюду противостоит си-бемольному мажору Дон Жуана. Тяжелые ре-минорные аккорды в сочетании с остинатным ритмом создают впечатляющий образ зловещего закона, силы, кары – ничего человеческого. Дон Жуан, искатель вечной женственности, уничтожен Командором, являющимся воплощением бесчеловечного Закона. Закона-Машины, каким он представлялся Кафке: жуткий, смертоносный абсурд «эпохи после Бога», от которого невозможно уйти, спрятаться. Впрочем, Моцарт жил в эпоху хоть и иссыхающей, но все еще возбуждающей религиозности.
Accusatus, judicatus, in aeternum damnatus es.
Обвинен, осужден, проклят навеки.
И только немецкие романтики позволили себе радикальный, как им казалось, пересмотр отношения к образу Дон Жуана, который представлялся им титанической натурой, устремленной к недостижимому идеалу. Дон Жуан в гарольдовом плаще для того времени был новостью, но, как оказалось, не очень-то интересной и перспективной. В то время были романтизированы и Шекспир, и Люцифер, и Виктор Франкенштейн.
До конца XIX века этот подход вяло мусолили многие третьестепенные поэты, превратившие метод в набор пошлых банальностей. В 1913 году увидела свет пьеса «Мигель Маньяра» Оскара Владисласа де Любич-Милоша, в которой постаревший одинокий Дон Жуан, измученный совестью, раскаивается в содеянном. Надо ли говорить, что это уже не Дон Жуан, а мертворожденное дитя литовско-французского унылого умствования, цель которого – прослыть оригинальным. Трудно, очень трудно создать нечто подлинно новое, оригинальное внутри традиции, которая безжалостна к слабой индивидуальности.
В том же направлении развивалась мысль немецкого профессора эстетики Розенкранца, который, изучая «Чудотворного мага» Кальдерона, обнаружил сходство образов Дон Жуана и доктора Фауста: оба – мятежные протестанты против судьбы, навязанной человеку, оба – эгоисты и атеисты. Само по себе, впрочем, сравнение интересно. В средневековых моралите на сцену выходил некий Человек (Everyman), за душу которого вели борьбу персонифицированные силы неба и силы ада. В первой роли в случае с Дон Жуаном выступали туповатый, но богобоязненный Лепорелло и влюбленные женщины, умолявшие великолепного повесу вернуться на стезю добродетели. В случае с доктором Фаустом – в некоторых нетрадиционных и поздних версиях сюжета – в роли добрых сил выступали доктор Вагнер и прекрасная Елена. Противником их был Мефистофель. Традиция, воплотившаяся в известных литературных произведениях, отрицает факт продажи Дон Жуаном души дьяволу. Однако легенда об одном из прототипов – доне Жуане де Марана – зиждется именно на такой сделке (впоследствии де Марана раскаивается и уходит в монастырь). Да, кстати, и женолюбом доктор Фауст (догётевский) был изрядным.
Дон Жуан мог бы подписаться под высказыванием маркиза де Сада, презиравшего традиционную этику, презиравшего человека, опиравшегося на костыли – веру в Бога, карающего и милующего Отца-Хозяина: «Ты хочешь, чтобы вся вселенная была добродетельной, – обращался он к своему корреспонденту, – и не чувствуешь, что все бы моментально погибло, если бы на земле существовала одна добродетель». Вот вам карамазовский черт, презирающий нравственность «при Боге». Что, слабо быть свободным? Хотя, конечно, в таком случае очень трудно провести грань между свободой и произволом. Между Богом-для-всех и Богом Кириллова из «Бесов», считавшего способность к самоубийству единственным доказательством подлинной человеческой свободы. В глазах верующего человека Дон Жуан и есть самоубийца, отринувший Бога. Так думал и Альбер Камю, считавший прототипом Кириллова циника Перегрина по прозвищу Протей (!), покончившего с собой самосожжением на Олимпийских играх 165 г. н. э., дабы уподобиться Гераклу (о чем Лукиан, впрочем, сообщает не без иронии).
Серен Кьеркегор, убедившись в отсутствии абсолютных истин, стал Дон Жуаном познания, сознательно множившим противоречия, скандалы, бередившим все свои и чужие раны, отвергавшим общепринятые нравственные нормы и самую возможность утешения, т. е. остановки. В этом смысле – в каком-то смысле – ему парадоксальным образом близок Шестов с его призывом к болезненному – для автора – произволу. И даже Кафка, который, отправив издателю первый сборник новелл, 20 августа 1912 года записал в дневнике: «Если бы Ровольт вернул мне это и я смог бы снова все запереть и сделать так, будто ничего и не было, чтобы стать столь же несчастным, как прежде». И это тоже – «роскошь расточительной игры и смены форм» (Ницше).
В репертуаре немецких и английских странствующих комедиантов и бродячих кукольников пьесы «Дон Жуан» и «Доктор Фауст» стояли рядышком. Автор «Каменного гостя» Пушкин под влиянием книги мадам де Сталь «О Германии» начал набрасывать план к «Сценам из рыцарских времен», где Фауст, которого мадам спутала с издателем Фустом, является изобретателем книгопечатания, соперником Гутенберга. На самом деле Дон Жуана и Фауста объединяет вольное или невольное, осознанное или нет, стремление к эмансипации разума, к эмансипации личности, стремление, возникшее у истоков Ренессанса, вновь вспыхнувшее с небывалой силой в эпоху Реформации и радикально преобразовавшее духовную жизнь Европы.
Акутагава Рюноскэ в одной из своих новелл рассказывает о встрече состарившегося повесы, чьи похождения были известны всей Японии (сотни соблазненных женщин!), и молодого человека, интересующегося подвигами знаменитого донжуана. Старик поведал спутнику историю о том, как он плыл в лодке, где напротив него расположился муж с молоденькой прелестной женой. В течение нескольких часов наш герой мысленно воображал себе ее тело, ее движения и ее негу, таким образом в течение нескольких часов обладая женщиной без ее ведома и в присутствии сурового супруга. Ошеломленный слушатель по недолгом размышлении соглашается со стариком: да, такое соблазнение будет почище и пострашнее, чем физическое. Духовное искусство indulgere genio – ублажать себя – упражнение in voluptate psychologica – в психологическом сладострастии.
Изысканное остроумие японского новеллиста вряд ли оценили бы по достоинству европейские писатели и поэты, для которых Дон Жуан был и остается символом плотской чувственности.
Пушкин не без гордости своей рукой вписал в альбом Ушаковой 37 имен покоренных им женщин (т. н. «донжуанский список» Пушкина), хотя, например, включенная в реестр Элиза Воронцова была лишь платонической его возлюбленной. Боюсь, что и гениальные в передаче эротических сцен стихи его («Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем») скорее мечта, нежели случившееся на самом деле, и если это так, то нам явлено не просто чудо поэзии, но чудо в квадрате, в кубе, в десятой степени. Как заметил однажды Борхес, «поэма впечатляет тогда, когда мы улавливаем в ней страстное желание, а не радость от пережитого». «Чем тоньше артист, тем дальше его мысль от воплощения ее в действие» (Гумилев о Бодлере). Рильке периода «Дуинских элегий» полагал, что утоленная любовь – символ совершенства, полноты, чистой длительности, вечности, но при этом указывал на существенную опасность – утрату индивидуальности. («Сожаления об утрате желания в ходе его утоления, эта расхожая банальность людей бессильных, ему совсем не присущи. Скорее уж они свойственны Фаусту, который в достаточной мере верил в Бога, чтобы продать свою душу дьяволу» – безотносительно к Рильке формулирует Альбер Камю применительно к Дон Жуану). Эта мысль имеет прямое отношение к стихотворениям Рильке «Искатель приключений», «Детство Дон Жуана», «Выбор Дон Жуана» и «Святой Георгий».
Здесь уместно процитировать комментарий к ключевому стихотворению Рильке «Выбор Дон Жуана»: «Стихотворение и по-немецки озаглавлено двусмысленно. Дон Жуан не только своим выбором избирает тех, кого несчастная любовь сделает более любящими (т. е., по Рильке, и более счастливыми), чем так называемые «счастливые любящие». Сам Дон Жуан тоже выбран судьбой свершать эту миссию: делать женщин несчастными, т. е., согласно поэту, более глубоко счастливыми».
Дон Жуан – это и рилькевский «Искатель приключений», извлекающий женщин из небытия, по существу, творящий их подобно художнику и распоряжающийся их судьбами, как Бог. Великая и опасная участь. Тем-то, кстати, и отличается Дон Жуан как культурный, эстетический феномен от образа «донжуана», угнездившегося в обыденном сознании, – герой от бабника.
Для Альбера Камю важна не столько «солнечность» Дон Жуана, сколько его неустанное стремление к священному количеству. Остановить свой выбор на одной-единственной женщине означало бы для Дон Жуана отвернуться от всех богатств мира, утратить индивидуальность, уникальность. «Дон Жуан переходит от женщины к женщине не из-за недостатка любви. Смешно представлять его себе искателем совершенной любви, вдохновленным чудесным озарением. Как раз потому, что он их любит всегда с одинаковой страстью и ото всей души, ему приходится вновь и вновь повторять это принесение себя в дар и погружаться в глубины чувств… Дон Жуан претворяет в поступки этику количественную в противовес святому, тяготеющему к качеству» (Альбер Камю, «Миф о Сизифе»).
В детстве, в юности многие, теряясь перед грозной свободой выбора, начинают мечтать, например, о некоей универсальной Книге книг, о Всекниге, которая каким-то непостижимым образом вбирала бы в себя все книги всех времен. С возрастом мы убеждаемся в иллюзорности, неосуществимости этой мечты и начинаем ценить разнообразие, хотя и обзаводимся пристрастиями, одной, двумя, пятью книгами, которые перечитываем из года в год. Дон Жуан же лишен права и на подобные невинные пристрастия. Его путь, как выражаются математики, это путь дурной бесконечности: 1+1+1…+ n. Самый жуткий из лабиринтов – даже не круг, а бесконечная прямая, из ниоткуда в никуда. Подлинной зрелости – умения постигать все через немногое – ему не дано, такова одна из ведущих особенностей образа, может быть, даже главная и, думаю, роковая. Он вечно одинокий актер, играющий одновременно соблазнителя и соблазняемую, лишенный памяти Протей, удел которого – утраты и ожидания. Он сам «выше сострадания, выше добра», как искомый, но так и не найденный Бог Шестова. На этом пути в обезбоженном мире уже никогда ничего не найти.
Плутарх в сочинении «Почему оракулы молчат?» сообщает о смерти бога Пана. Весть о его смерти принес корабельщик, плывший в Италию мимо острова Паксы (или Паксоса). Божественный голос прокричал через море: «Когда ты прибудешь в Палодес, не забудь объявить, что великий бог Пан умер!» Весть эта на берегу была встречена всеобщим плачем. Так Плутарх, который был жрецом в Дельфах во второй половине I в. н. э., запечатлел финал греческой эпохи. Языческое Средиземноморье созрело для христианства.
«Великий Пан умер!»
Образ Дон Жуана стал одним из ярчайших символов двадцативековой эпохи индивидуализма, завершившейся в печах Освенцима и в ледяных ямах Колымы, эпохи, отступающей перед натиском нового иррационализма и интуитивизма.
Магелланова магия
Бледное злато и тяжелый черный бархат, дюймовым обрезком которого можно убить зазевавшуюся мышь, – злато и бархат, дрожа и колеблясь, расходятся в стороны, и на сцену выступают мужчины со знаменами и барабанами, обтянутыми кожей крещеных ослов, трубачи, словно пьющие из своих серебряных труб, стражи с алебардами и громоздкими мушкетами, раздающиеся, чтобы дать дорогу великим полководцам в надушенных женских париках, вертким шелковоногим любовникам и дамам, которым верхняя одежда служит нижним бельем, – все, все они располагаются на сцене почтительным кругом, в центре которого, положив шестипалую руку на эфес тяжелой шпаги и вздернув упрямый подбородок, обросший толстым маслянистым волосом, – капитан Фернан Магеллан, которому стальной позвоночник, выкованный лучшими толедскими мастерами, не позволяет принимать никакой иной позы, кроме надменно-величественной. Гордыня дозволена ему королевским указом, прощена постановлением Валенсийского собора и освящена смертью. Но за это предписано и после смерти отбрасывать тень – страшную тень.
Принято считать, что Фернан Магеллан родился весной 1480 года в местности Саброза португальской провинции Вила-Реал. Будучи пажом королевы Португальской, изучал астрономию, навигацию и космографию. Принимал участие в морских сражениях с маврами, арабами и индийцами, охромел в результате ранения и получил чин морского капитана. В 1505–1512 годах совершил две дальние морские экспедиции, по возвращении из последней сочинил проект плавания западным путем к Молуккским островам («Если долго идти на запад, обязательно придешь на восток»), который был отвергнут королем португальским и в 1517 году принят королем испанским Карлом I.
Около двух лет длилась подготовка к плаванию. И все это время Магеллан жил одиноко и замкнуто, не вступая в близость ни с кем, кроме чистенькой платной девушки из таверны «Красный бык». Утверждают, что перед отплытием они обвенчались. (Историки же говорят, что у Магеллана была законная жена, которая умерла год спустя после смерти их сына в 1521 году.) Достоверно известно, что душной сентябрьской ночью тридцатидевятилетний Магеллан сказал возлюбленной, роскошно раскинувшей свои храмы и пажити на златотканом покрывале: «Глупцы полагают, будто я собираюсь покорить пространство, тогда как в действительности путь мой проляжет в вечности». И ужасающая Правда склонила над ним чело.
Глубокой ночью перед выходом в море капитан Магеллан тайком поднялся на борт флагманского корабля, держа в левой руке заговоренный гвоздь, закаленный в сперме висельника, и вколотил его в стойку штурвала двенадцатью ударами, после чего, зажмурившись и сотворив заклинание, вслепую нанес последний и самый важный – тринадцатый удар.
В полдень 20 сентября 1519 года из испанской гавани Санлукар-де-Баррамеда вышли пять судов под командованием Магеллана – «Тринидад», «Сан-Антонио», «Сантьяго», «Консепсьон» и «Виктория» – с командой, насчитывавшей в общей сложности 265 человек. Когда умолкло эхо пушечного салюта, на белых парусах эскадры – это видели столпившиеся на берегу люди – вспыхнули алые кресты, что многих смутило: одни посчитали это хорошим предзнаменованием, другие же не могли скрыть недобрых предчувствий.
Переваливаясь с боку на бок, хрупкие суденышки с трудом вскарабкивались на океанские холмы, чтобы со скрипом, хрустом и скрежетом, вопя всем составом своим, сорваться вниз, в дымную бездну – и снова вознестись к бурному небу, трепеща грубыми парусами и пугая неосторожных атлантических русалок, которые еще не ведали стыда и смущали матросов своими ледяными солеными грудями, крепкими, как панцири гигантских черепах…
В январе 1520 года экспедиция достигла устья Ла-Платы. Не отыскав прохода к западу, в феврале флотилия двинулась на юг и прошла две тысячи километров, открыв по пути большие заливы Сан-Матиас и Сан-Хорхе.
Плавание измотало моряков, уставших от гнилой солонины, чар святого Эльма, то и дело глумливо зажигавшего свои кошмарные огни на верхушках корабельных мачт, и неукротимой суровости низкорослого, но физически сильного и крайне самоуверенного Магеллана. Когда однажды раздраженные матросы затеяли драку на ножах, капитан разрешил биться до конца, но при условии – победитель будет повешен: «Что же это за победа, если ради нее не жертвуют жизнью?»
В экипажах усиливалось брожение, усугублявшееся вещими сновидениями и грязными слухами. Утверждали, что по ночам, когда капитан спал, рост его увеличивался до пятнадцати футов, – в глазах команды это было неопровержимым свидетельством того, что Магеллан является чародеем (он же еще и хромал, как дьявол).
В марте 1520 года на стоянке в бухте Сан-Хулиан экипажи трех кораблей подняли мятеж, требуя возвращения в Испанию. После уединенной молитвы Магеллан призвал верного ему, но совершенно не владеющего латынью Гонсало Гомеса де Эспиносу и произнес фразу: «Occidendos esse» – «Должны быть убиты». До сих пор остается загадкой, почему Магеллан, вообще-то не отличавшийся щепетильностью, не отважился доверить приказ испанскому языку и как Эспиноса понял, что от него требуется. Наверное, у зла, как и у любви, свой язык, который превыше речи. Эспиноса прибыл для переговоров на судно повстанцев и, улучив момент, перерезал горло главарю мятежников.
Для успокоения матросов Магеллан отправил на берег экспедицию, призванную добыть свежую провизию и женщин. Неся потери в стычках с кровожадными индейцами, испанцы углубились в умопомрачительные леса, изобилующие призраками, дичью и сладкоголосыми птицами с девичьими бедрами, коварными и любвеобильными…
В августе 1520 года Магеллан на четырех кораблях (пятый, «Сантьяго», разбился о скалы) продолжает путь на юг и, наконец, 21 октября открывает тот самый 550-километровый пролив, названный его именем, который выводит испанцев в бескрайний океан, титулованный спутниками Магальянша – Тихим. На пасифический простор вышли три судна, поскольку еще раньше капитан «Сан-Антонио» дезертировал и по возвращении в Испанию обвинил Магеллана в измене королю.
После этого флотилия прошла без остановок семнадцать тысяч километров, открыв по пути несколько островов из группы Филиппинских и Марианских, в том числе Гуам. Четыре месяца люди питались сухарной пылью с червями, воловьими кожами и корабельными крысами, пили гнилую воду и умирали от цинги.
Окрестив туземцев филиппинского острова Себу, Магеллан по просьбе местного царя предпринял поход против соседнего острова Мактан, где и погиб в стычке с местными жителями.
Властитель Себу, пригласив испанцев на прощальный пир, убил 24 гостя. Оставшиеся на трех судах 115 человек были вынуждены сжечь «Консепсьон» и на двух кораблях еще около четырех месяцев блуждали в океане, пока, наконец, у острова Тидоре не купили по дешевке множество пряностей (что и позволило в конце концов окупить все затраты на экспедицию).
На 1081-й день плавания в Испанию вернулось лишь одно судно из флотилии – «Виктория» – под командованием Хуана Элькано во главе 18 человек, среди которых находился и летописец похода Антонио Пифачетта (ему и принадлежит честь открытия и описания двух крупных звездных скоплений – Большого и Малого Магеллановых облаков).
Экспедиция Магеллана, начавшаяся в сентябре 1519 года, завершилась 6 сентября 1522 года.
Спустя столетие после плавания Магеллана известный еретик Гарсиласо Луис де ла Вега-и-Бастос написал: «Открытие Магеллана изменило наши представления о мире и Боге. Если раньше мы были убеждены в конечности пространства и времени, в том, что рано или поздно мы – наконец-то! – со стоном облегчения уткнемся головой в теплый живот Господа и успокоимся навсегда, то после Магеллана мы оказались наедине с беспредельностью вечности, с Богом, подобным сфере, центр которой всюду, а окружность – нигде, в безжалостном лабиринте истории, из которого нет выхода. Круг, замкнутый им на шаре, – символ бесконечности наших бесплодных терзаний…»
Человек своего времени – эпохи, когда все были убеждены в том, что и caeli enarrant gloriam Dei (небеса глаголют о славе Божией), – Гарсиласо Луис де ла Вега-и-Бастос наделяет геометрические фигуры сакральным, магическим значением.
Стремлению понять мир через число, через знак столько же лет, сколько и человеческой культуре. Мифологическим сознанием число воспринималось как образ мира, вечного и бесконечного Космоса. Последователи Ксенофана Колофонского были убеждены: если мир однороден, сотворен из единой субстанции, то довольно исследовать одну его частицу, чтобы понять все. Досократики – а за ними Григорий Теолог и мистики – вырастили на этой благодатной почве образ человека как меры всех вещей, микрокосма, содержащего в себе макрокосм. Пифагор пришел к мысли о том, что количественные отношения и являются сущностью вещей, и в основу своего известного учения о космической гармонии сфер положил открытый им количественно определенный интервал, на котором зиждется музыкальная гармония. Спустя много столетий после Пифагора ничего не знавший о нем китаец Чжай Шень свел его учение к устрашающе простой формуле: «Числа правят миром» (а тамильский поэт Аппар сказал о Шиве ужасающе: «Он – число и цифра для числа»).
Отдельная тема – каббала, вообще иудаистическая мистическая традиция, выразившаяся в книгах «Зогар» и «Сефир Йецира». Каббалисты полагают, что, если Библия сотворена Богом, в ней не может быть ничего случайного: ни порядок слов, ни даже порядок пробелов между ними не могут быть произвольными. Исходя из убеждения в том, что владеющий Именем может овладеть Сущностью, и воспринимая Тору как некую космическую парадигму, они, например, придали каждой букве еврейского алфавита троякий смысл, раскрывающийся в мире людей, в мире планет и звезд и в ритме времен года. Изучая и комбинируя буквы, числа, знаки, они пытались разгадать подлинное имя Бога – Шем-Гамфораш – и тем самым приблизить приход Мессии. Вселенная каббалистов похожа на закольцованную цепь, в которой движение нижних звеньев отзывается движением верхних. Все связано со всем и все взаимозависимо. Если астрологи говорят, что звезды (числа, знаки) правят миром, то каббалисты добавляют: но в такой же мере и люди правят звездами.
О тех, кто предается магии чисел, нумерологии и астрологии, Тацит однажды ядовито заметил, что «этот сорт людей будут у нас всегда гнать и всегда удерживать» (римские законы – кодекс Феодосия, закон Валентиниана I – грозили астрологам смертью, как и тем, кто с ними советуется, но на практике эти правовые акты не применялись).
Отстаивая величайшую христианскую ценность – свободу человеческой воли, святой Августин с гневом и презрением обрушивался на «математиков», которые желали бы «подчинить наши действия небесным телам и предать нас звездам». С такой же страстностью против попыток онтологизации зла выступал и Максим Грек (хотя русские были убеждены в том, что мир представляет собой грандиозное хаотическое скопление случайностей, повлиять на которые человек бессилен, – потому-то и не создали своей философии).
Галилео Галилей полагал, что Книга Природы написана геометрическими фигурами. Считая человеческое тело главной загадкой бытия, Леонардо да Винчи искал магических подсказок, вычерчивая и измеряя анатомический состав человечности. Анатомия как тайноведение нашла свое воплощение в знаменитом трактате Агриппы Нетгесгеймского «Об оккультной философии» (1510). Упорно занимавшийся проблемами сечения конуса, трисекции угла, алгебраической теорией чисел, Альбрехт Дюрер выразил свое представление о мире и красоте в «Четырех книгах о пропорциях человеческого тела» (1528). В 1753 году Уильям Хогарт в предисловии к своему «Анализу красоты» не без язвительности написал, что математические увлечения заставляли Дюрера отклоняться от правды и «поправлять» более прекрасную в действительности природу, навязывая ей мертвые схемы. Как ни забавно, сам Хогарт выразил свое представление о красоте символической S-образной фигурой, вписанной в треугольник…
География, топография, понятия «левый» и «правый», «верх» и «низ» всегда обладали сакральным значением. Во время средневековых мистериальных спектаклей ад всегда представлялся слева (у Данте путь налево ведет в преисподнюю; грешники на Страшном Суде будут стоять слева от престола Судии); левое, как правило, – лукавое, лживое, женское; дьявол искушает человека из-за левого плеча («плюнь через левое плечо»); рыцарю предписывалось держать меч непременно в правой руке («правое дело»); древние иудеи считали, что зло приходит с юга, тогда как «столица страха» древних китайцев – Юду – располагалась к северу от Великой стены… Чтобы далеко не ходить, вспомним-ка все значения географических понятий «Запад» и «Восток» в духовной и политической культуре России.
На этом фоне становится понятным щенячий восторг людей, вдруг обнаруживших, что Магеллан совершил не просто очередное плавание, но кругосветное путешествие, то есть – замкнул круг на шаре. Ведь в мифопоэтическом мышлении круг выражает идею единства, бесконечности и высшего совершенства; будучи идеальной проекцией шара, круг является символом божественного абсолюта и царственного могущества. Люди, утверждавшие царственное могущество свободного человека, которого они ставили «в центр мира» (Пико делла Мирандола) и называли copula mundi, связующим мир звеном, не могли не откликнуться на это открытие. Старый порядок вещей был разрушен, и в эту кризисную эпоху (которую почему-то принято называть Возрождением) приверженцы docta religio обращались чаще к «правильной» магии, нежели к науке: осознавая кризис традиционных ценностей, они искали правильный порядок действий в новых, меняющихся условиях – способы воздействия на мир дольний, неразрывно связанный с миром горним. По их представлениям, магия была деянием творческим, даже героическим: недаром Джордано Бруно называл мага «мудрецом, умеющим действовать». Именно в этой роли и выступил капитан Фернан Магеллан, человек Нового времени, отважно преступивший границы мира сложившихся форм и идей, – это был акт свободной воли свободного человека. Замкнув круг на шаре, он вдохнул новую жизнь в понятия единства, бесконечности и высшего совершенства.
Но мы не вправе забывать о том коварном ударе кинжалом в заливе Сан-Хулиан: именно этим ударом – не сам собою – и замкнулся магический круг.
Великое деяние почти всегда драма или даже трагедия. Поэтому на сцене рядом с Магелланом навсегда останется тень Гонсало Гомеса де Эспиносы, убийцы…Над
Известно о нем мало: фигура его сама по себе не интересовала ни летописцев, ни историков, ни романистов: функция, а не человек. В энциклопедических словарях ему посвящены крохотные заметки, из которых мы можем узнать, что Святополк I Окаянный (ок. 980—1019) был князем Туровским (с 988) и Киевским (1015–1019). Старший сын Владимира Святого – крестителя Руси. Убил троих своих братьев и завладел их уделами. Из Киева был изгнан Ярославом Мудрым. В 1018 году при помощи поляков и печенегов вернул себе великокняжеский престол, но вскоре был разбит, бежал в Европу, где и умер.
Составители кратких биографических справок, наверное, не обязаны сообщать о том, что Святополк был не старшим сыном, но пасынком Крестителя. Владимир женился на его матери, когда она уже была беременна от Ярополка – с ним князь Красное Солнышко поступил так же, как впоследствии его пасынок поступит со своими братьями, «природными» сыновьями Владимира – Борисом Ростовским, Глебом Муромским и Святославом Древлянским.
Судя по немногочисленным и весьма немногословным свидетельствам современников, князь Окаянный был ненасытным и неукротимым убийцей и в этом качестве – страшным орудием дьявола, вознамерившегося с его помощью ввергнуть русских князей в бесконечную кровавую междоусобицу. Его жизнь – в общем типичная для того времени – представляет собой цепь войн, битв и походов, внезапных удач и сокрушительных поражений. Его боялись даже союзники – польский король Болеслав и степняки. Коротко говоря, он был не из тех, кого по ночам мучает совесть или хоть изредка посещает жалость.
Некий греческий монах оставил нам портрет князя: «Ростом он высок, красив, голубоглаз, с мягкими льняными волосиками, обрамляющими широкий чистый лоб; любит белое; боится алмаза». Особенно трогательно и в то же время двусмысленно звучит слово «волосики» – уменьшительно-ласкательный суффикс (очевидно, намекающий на раннюю лысину) кажется чудовищно неуместным, точнее, «достоевским»: автор «Братьев Карамазовых» наверняка пришел бы в восторг от такого лексического штришка к портрету патологического убийцы.
В 1019 году князь Святополк терпит чувствительное поражение на реке Альте. Конечно, это был всего лишь эпизод в его биографии – пусть и крайне досадный, но – один из ряда. Меньше всего князь был склонен предаваться отчаянию: преклонявшийся перед прошлым, целиком погруженный в настоящее, человек того времени думал только о будущем. Следовало ожидать, что, как и прежде, он употребит время лишь на то, чтобы оправиться от поражения и подготовиться к новой авантюре. Однако внезапный недуг положил конец всем его планам. О болезни Святополка летописцы сообщают скорее с ужасом, нежели с удовлетворением: его постигла слабость. Что может быть страшнее для человека той эпохи! Для эпохи, когда сила и форма были синонимами.
Не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой, мучимый ледяным ознобом, охваченный темным ужасом, князь бежал в Карпаты. Белые лошади, между которыми трясся завернутый в плащ Святополк, мчались без остановок – таков был приказ князя, которому казалось, будто враги вот-вот настигнут его, хотя никакой погони не было. Больше на Руси Окаянного не видели. Он затерялся где-то в Европе, «меж чех и немец», и никто не знает, где он похоронен и когда это случилось, хотя историки и называют 1019 год как дату его смерти.
Оливье де ла Марш в своей «Книге дуэлей», изданной в 1568 году, рассказывает следующую историю о собаке рыцаря де Мондидье.
Мессир Обери де Мондидье, богатый, красивый, всеми иными щедротами судьбы одаренный рыцарь, пользовался всеобщей любовью при дворе короля французов Филиппа. Мужчины полагали за честь поддерживать с ним дружеские отношения, дамы обожали его. И был у него друг по имени мессир Машер, которого мессир де Мондидье любил как брата. Названный же мессир Машер черной завистью завидовал тому, что мессир Обери пользуется благорасположением короля и его подданных. Однажды охотились они вдвоем в лесу Бонди близ Парижа, и завистник ударом меча в спину лишил жизни мессира де Мондидье, труп же забросал листьями и ветками. Видела это одна борзая, принадлежавшая убитому. Собака не отходила от тела, пока голод не прогнал ее. Она побежала во дворец, и там, увидев убийцу, бросилась на него и чуть не загрызла. И как ей ни мешали, бросалась на него столько раз, что король и его приближенные заподозрили недоброе. Собаку покормили, и она вернулась к телу хозяина. За нею же, по приказу короля, последовали некоторые из придворных, которые и нашли труп мессира де Мондидье.
Его величество король Филипп созвал совет мудрейших, на котором было решено: чтобы очиститься от страшного и ужасного подозрения в предательстве и убийстве, должен мессир Машер, вооруженный лишь палкой и щитом, сразиться с борзой на острове Нотр-Дам.
И вот наутро на острове Нотр-Дам, при большом стечении народа и в присутствии короля, один из друзей мессира Обери отпустил собаку, и бросилась она на мессира Машера так быстро и с такой силой, что сразу вцепилась врагу в глотку, и ничего тот не мог поделать.
Мессир Машер был повешен, мессир Обери де Мондидье – похоронен с почестями.
Еретик мессир Рене де Машо, в 1312 году бежавший в Англию, в своей «Апологии» между прочим пишет: «Душа мессира Машера обречена скитаться в преисподней до Страшного Суда, на который ее, может статься, даже и не позовут».
Спустя три столетия, в 1621 году, Ричард Бертон в «Анатомии меланхолии» напишет, что завистник может пролить кровь безо всякого повода, а такое убийство – худший грех.Историю женщины – назовем ее Алиной – поведали мне несколько человек, среди которых были юристы и врачи.
Молодая, красивая, богатая и беспечально одинокая женщина (незадолго до начала этой истории она развелась с мужем), возвращаясь поздно вечером под проливным дождем с пляжа, сбила машиной одиннадцатилетнюю девочку. Ребенок погиб. К счастью для Алины, нашлось больше десятка свидетелей, которые в один голос утверждали, что девочка сама бросилась под колеса. К тому же выяснилось, что родители истязали девочку – кажется, из-за плохой успеваемости в школе или просто потому, что она действовала им на нервы. Суд оправдал Алину (подробности экспертизы опустим). После суда адвокат сказал ей, что нельзя обвинять веревку или нож в том, что они послужили орудием самоубийства. Тем не менее дальнейшая ее жизнь превратилась в ад. Поначалу ей вдруг стало противно любоваться своим великолепным телом перед зеркалом. Однажды, принимая хвойную ванну, она задремала, и ей привиделось, будто она плывет в реке своего детства, поднимая брызги, которые разбиваются о ветровое стекло автомобиля – по нему туда-сюда ходили дворники, а впереди – девочка, неожиданно шагнувшая на дорогу… Ее вырвало. Машину она продала. Так началось бегство от призрака. Читая студентам очередную лекцию, она внезапно прервала анализ «Горя-Злосчастия» на словах «Быть тебе, рыбоньке, уловленной» и, разрыдавшись, выбежала из аудитории. Больше ее в университете не видели.
Целыми днями она бесцельно бродила по городу, боясь возвращаться в свою прекрасную квартиру. Пустынные парки, пустынный берег холодного моря, даже – пустынные мусорные свалки, а еще – вокзалы, магазины, бары… Она искала места, где ее одиночество обретало завершенность. Потом – другая крайность: она стала искать близости с людьми. Иногда ей чудилось, будто она наконец обрела покой, как в случае с неким водителем трамвая. Но счастье было недолгим: почувствовав недомогание и обратившись к врачу, она узнала, что заболела восходящей гонореей. Из больницы ей удалось сбежать. Нашлись свидетели, которые видели ее на повороте, где она сбила девочку. Алина исчезла – то ли уехала куда-то, то ли сошла с ума, то ли умерла…Идея неотвратимости воздаяния (включающего и наказание, если речь идет о преступлении) проходит через всю историю культуры и достигает наивысшего расцвета в христианстве, которое, при некотором усилии, можно свести только к этому принципу. Каин, Макбет, Раскольников и иже с ними четко вписываются в эту концепцию, не лишенную мрачноватой страстности и вместе с тем пламенной веры в конечное торжество добра, в концепцию, которая неразрывно, хотя и не всегда явно, связана с идеей рока, фатума, судьбы и т. п. Однако не стоит забывать: эта идея проделала путь от героической мечты к догматическому самообману и ныне на уровне массового сознания выродилась в мелкотравчатый фатализм. Сегодня же фатализм неприемлем и даже опасен в любой форме: как в той, чья сущность исчерпывается убеждением, что Ахиллес обязательно догонит черепаху, так и в той, приверженцы которой придерживаются противоположной точки зрения. Сегодня обе позиции лишены подлинно гуманистического содержания, ибо порождают смертоносную пассивность и не позволяют ответить на главный философский вопрос современности (сформулированный еще Кантом): на что мы можем надеяться? Доверие фатуму сегодня может иметь апокалиптические последствия. Гегель утверждает, что «преступление и наказание никогда не находятся в отношении причины и следствия». Но жизнь утрачивает смысл и ценность, если то же самое мы скажем о деянии и воздаянии, и это не игра словами. Да, человек бессилен, даже в союзе с другими людьми, сделать воздаяние обязательным следствием деяния (то есть превратить воздаяние в атрибут деяния), ибо другой человек, в союзе с другими людьми, может свести эти усилия на нет. Ад противоборствующих сил парализует волю. Но существует сила – над. Люди ищут и находят силу «надмеханическую», если угодно – надысторическую, не способную выйти из строя, как сломанный или отработавший свое насос, силу, которая действует помимо их воли, пристрастий и антипатий, силу – над людьми, поколениями, народами и расами, силу, не подвластную исторической изменчивости, действующую не благодаря или вопреки чему-то или кому-то, но просто потому, что она не может не действовать, потому, что она есть, потому, что она и есть эти люди, их древняя кровь, вся совокупная мощь их памяти. Если допустить, что мир есть атрибут этой силы, то верным будет и обратное утверждение. Само существование этой силы – лишь возможность, но именно она и дает надежду на продолжение жизни, которая не может быть умалена или оборвана каждой смертью. У этой силы множество имен. Самое волнующее и богатое я обнаружил у Иоанна: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог».
В русской культуре проблема воздаяния не просто сужена до проблемы наказания, но вообще рассматривается как проблема искупления. В «Карамазовых» старец Зосима рассказывает о человеке, некогда совершившем преступление и забывшем об этом. Но спустя четырнадцать лет внезапные муки совести делают его бытие невыносимым и побуждают открыться и объявить себя злодеем. После признания он заболевает непонятным недугом и через неделю, просветленный, умирает. Совершенный на его глазах и не без его влияния нравственный подвиг вызывает у Зосимы радость, «ибо узрел несомненную милость Божию к восставшему на себя и казнившему себя». В одной этой фразе – тысячелетие русской духовной истории, глубина и высота православия.
Идея искупления обладает исключительной ценностью для тех, чей образ жизни определяется формулой, вынесенной Фомой Кемпийским в заголовок его главного труда – «Подражание Христу» (1427 год). Но русские придали этой идее оттенок, безмерно поразивший европейцев уже при первом знакомстве с Достоевским и Толстым.
Несколько упрощая, можно утверждать, что европеец готов принять воздаяние, назначенное Судом Праведным в лице общества, подчиняющегося Закону (Человеческому – потому что Божьему). Внеобщественный русский человек, столетиями живший лицом к лицу с властью, божественное своеволие которой и было законом, разумеется, не мог верить и не верил в Суд Праведный, в суд земной (то есть европейский), – для русского человека таким судом мог быть и был только Суд Божий, определявший пределы лишь внутренней свободы (поскольку свобода внешняя – политическая и экономическая – была недостижима для людей, которых не так уж и давно перестали продавать, как вещи). Казнить можно было только себя. Отчасти именно этим, между прочим, объясняется отсутствие или слабость образа мстителя-индивидуалиста (равно как и сыщика вроде Холмса) в русской литературе и их обилие и выразительность в европейской, особенно в англосаксонской. У них – Habeas corpus, у нас – «Тварь я дрожащая или право имею?»
Даже прошедший через «русский опыт» Сартр отважился написать лишь: «Ад – это другие». У него были посредники в общении с Богом и вожатаи: европейцев вел Данте, руководимый Вергилием, Бернаром Клервоским и Беатриче на пути к «предызбранной промыслом вершине», в средоточие «вседвижущей любви». Русский человек, вверившийся произволу Христа, Им ведомый и с мучительным наслаждением сгорающий в Его пламени, свое жизнеощущение мог выразить только словами: «Ад – это я». В сущности, это то же, что и «Бог – это я».
Цитат может быть больше или меньше, но факт остается фактом: моя мысль движется по кругу. Исчерпав скудный запас энтузиазма, я вспомнил о сгинувшем в нацистском лагере богослове Дитрихе Бонхеффере, заметившем однажды с горечью, что повзрослевшее человечество более не нуждается в помочах, т. е. в Боге; о Маритене, констатировавшем наступление серых сумерек безрелигиозного человечества… Не убежден, что речь идет об атеистической эпохе. Скорее – о страхе перед свободой, открывающей, как казалось, лишь два пути: в бездну вседозволенности (антиромантизм Достоевского и романтизм Ницше) или в пластилиновую общность под прессом диктатуры. Страх лишиться страха. Перед лицом нового иррационализма и интуитивизма философы размышляют о рациональных правилах поведения на перекрестках свободы и ответственности. С огромным трудом пробивается понимание того, что эпоха индивидуализма, эпоха обожествления Единственного, фактически завершившаяся в Освенциме и на Колыме, сменяется эпохой, когда функции Бога возьмет на себя целое и единое человечество, исчерпавшее движущую силу, питавшуюся энергией противостояния личности и общества. Бог возвращается к Себе.
«Внешний» – западный союз индивидуалистов – тянется к «внутренним» ресурсам Востока. Дух Востока жаждет «плоти» Запада, хотя это движение друг к другу все еще больше напоминает то, что Хантингтон назвал конфликтом цивилизаций.
Память о единой духовной ойкумене можно сравнить со сферой, центр которой всюду, а окружность – нигде. И эта сфера – Бог.
Шеллинг пишет: «У того, кто удалился из средоточия, все еще остается чувство того, что он был – в Боге и с Богом всем, всеми вещами; поэтому он хочет стать тем же, но не в Боге, как возможно было бы для него, а сам по себе. Отсюда возникает голод себялюбия, которое становится тем более скучным и бедным, но потому и более алчным, голодным, ядовитым, чем более оно отрекается от целого и единства. Само себя пожирающее и постоянно уничтожающее противоречие, внутренне присущее злу, заключается в том, что последнее стремится стать тварным, уничтожая в то же время связь тварности, и впадает в небытие, так как в высокомерии своем хочет быть всем». То есть – Богом, который, напоминает Барт, «сокрыт от нас вне своего Слова». И тут снова замыкает круг Иоанн: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог».Преступление мистера Уэйкфилда
Рассказ Натаниеля Готорна «Уэйкфилд», на мой взгляд, занимает в литературе место рядом с такими шедеврами, как «Локарнская нищенка» Клейста, «Падение дома Эшеров» Эдгара По, «Студент» Чехова, «В чаще» Акутагавы, «Кошка под дождем» Хемингуэя, «Дурочка» Бунина, «Превращение» Кафки, «Хорошо ловится рыбка-бананка» Сэлинджера, то есть находится в ряду произведений, которые – произведения такого уровня – когда-то побуждали немецких филологов проводить различие между kleine Grosskunst и grosse Kleinkunst. Мне даже кажется, что по своей глубине и драматизму эта небольшая новелла не уступает прославленному роману Готорна «Алая буква».
«Уэйкфилд» – одно из самых странных произведений в мировой литературе. Готорн рассказывает о человеке по имени Уэйкфилд, который ни с того ни с сего покинул жену и поселился неподалеку, чтобы наблюдать за нею, и так продолжалось около двадцати лет, а потом без объяснения причин, опять ни с того ни с сего, вернулся домой, к жене. Это курьез, нелепый случай, о котором, по словам Готорна, он прочел в каком-то старом журнале или в газете. В самом деле, случай, так сказать, чисто газетный. Он заслуживает каких-нибудь десяти-пятнадцати строк петита в подвале на последней странице номера, не больше. Газетчики называют это «подверсткой»: «Чем-нибудь заткнуть дыру на полосе». Читателю вполне достаточно этих десяти-пятнадцати строк, чтобы подивиться случаю, покачать головой и со словами: «А она еще меня считает идиотом!» отложить газету.
Если бы Эдгар По – современник и поклонник Готорна – вдруг взялся писать рассказ на таком скудном материале, он наверняка придумал бы какую-нибудь вескую, может быть, экстравагантную причину для объяснения поведения мистера Уэйкфилда, чтобы читателю сразу стало ясно, почему эта история привлекла его внимание. Ну подумайте: человек просто вышел из дома, сказав супруге, что уезжает по делам, поселился на соседней улице и почти двадцать лет только и делал, что следил за женой, а потом взял и вернулся к ней, просто так, ни с того ни с сего, без объяснения причин. Восемь тысяч дней – восемь тысяч вечеров – он только тем и занимался, что наблюдал издали за женой, лишь иногда отваживаясь приблизиться к ее дому – к своему дому, и при этом размышлял о том, каково ей там без него. Он жалел женщину, оставшуюся в одиночестве, но при этом двадцать лет не давал о себе знать даже намеком. Следил за супругой в толпе, приближался к ее дому, смотрел на окна, а потом спохватывался и уходил к себе, в дом, который заблаговременно снял тайком от жены. Почему? Что это – клинический случай? Но Готорна не интересовали клинические случаи.
Приступая к рассказу о странном поступке мистера Уэйкфилда, писатель замечает: «Мы великолепно знаем, что никогда не совершили бы такого безумия, и все же подозреваем, что кто-нибудь другой был бы на него способен». Эта фраза только на первый взгляд является данью литературному этикету, требующему отделить здравомыслящего автора и здравомыслящего читателя от «кого-нибудь другого», способного черт знает на что. Внимательный читатель Готорна – а его читатель не имеет права на невнимательность – вскоре или даже сразу понимает, что «кто-нибудь другой» на самом деле вовсе не один лишь Уэйкфилд, но любой человек, я, вы или он, Everyone, и именно безграничные способности, таящиеся в любом человеке, то есть в человеке вообще, в человеческой природе, и интересуют автора прежде и больше всего.
Повествуя о странном поступке мистера Уэйкфилда, писатель явно не ломает голову над причиной, побудившей человека уйти из дома, прожить на соседней улице двадцать лет, а потом вдруг вернуться домой. Его не занимает вопрос – почему Уэйкфилд так поступил? Его занимает другой вопрос: почему люди так поступают и чем чреваты такие поступки?
При этом Готорн, сознательно или нет, ставит себя в довольно невыгодное положение. Ведь писателю выгодно выявлять скрытые в человеке качества, рассматривая его в ситуации, когда эти качества проявляются как бы сами собой и самым наглядным для читателя образом. То есть в ситуации выбора, связанной с борьбой, подвигом либо предательством. Месть, жадность, любовь, страх, ненависть – все эти кислоты и щелочи Господни – разъедают маски героев, заставляют их действовать и позволяют нам, читателям, следить за биением их нагих сердец. Таковы традиции психологической литературы.
Ничего подобного мы не наблюдаем в случае с Уэйкфилдом. Он просто ушел из дома, просто прожил двадцать лет вдали от жены и однажды просто вернулся в свой дом, оставленный некогда просто так, ни с того ни с сего.
Опираясь на этот скудный материал, Готорн пытается домыслить характер персонажа, который, как ему представляется, уже «прошел половину своего жизненного пути», то есть ему лет тридцать пять – сорок, который никогда не испытывал к жене пламенных чувств, но при этом – в силу вялости характера – был верным мужем. Готорн с нескрываемой иронией называет его «мыслителем», замечая при этом, что мозг Уэйкфилда был «постоянно занят долгими и ленивыми размышлениями, которые ни к чему не приводили, так как для того, чтобы добиться определенных результатов, ему не хватало упорства». Вдобавок этот человек с холодным сердцем практически лишен воображения. Писатель недоумевает: как такой никакой человек мог занять видное место «среди чудаков, прославившихся своими эксцентрическими поступками?» Впрочем, оговаривается он, жена Уэйкфилда, знающая его, разумеется, лучше других, поостереглась бы назвать мужа никаким . Она-то знала о его «безмятежном эгоизме, постепенно внедрявшемся ржавчиной в его бездеятельный ум, о своеобразном тщеславии… о склонности его хитрить и скрытничать, не выходившей обычно за пределы утаивания различных пустячных обстоятельств». Еще она знала о «некоторых странностях», свойственных Уэйкфилду. Впрочем, Готорн замечает, что «это последнее свойство нельзя определить, и, возможно, оно вообще не существует».
Странное, очень темное и даже настораживающее замечание, обращающее на себя внимание читателя своей формальной необязательностью и незавершенностью: такая фраза – «возможно, оно вообще не существует» – может быть случайно обронена в большом романе, но не в десятистраничном рассказе, где каждое слово на виду и на счету. А ведь Готорн был не только внимательным, но и, так сказать, тщательным писателем. Известно, что его первые рассказы были приняты публикой холодно, поэтому автор переписал их и издал под красноречивым названием «Дважды рассказанные истории». Ему было свойственно в высшей степени ответственное, едва ли не религиозное отношение к каждому слову, которое выходило из-под его пера. Так почему же он лишь упоминает эти «некоторые странности», которых, может быть, «вообще не существует»? Что это за странности такие? А если именно они и объясняют поступок Уэйкфилда? Или, может быть, автор и впрямь не знает, что это за странности такие, и оставляет в тексте рассказа эту фразу с единственной целью – предупредить читателя о том, что зыбкая граница между непознанным и непознаваемым пролегает в душе человека, в самой темной глубине души, где зло неотличимо и неотделимо от добра до того мига, пока сам человек не облечет его плотью своих поступков? Я думаю, что это именно так. Готорн, потомок пуритан и пуританин, не может допустить, что в своем познании человеческой природы мы хоть когда-нибудь сравняемся с Богом. Готорн смиренно признает, – и в этом его сила, – что тайна есть здоровая, естественная и необходимая часть жизни, такая же здоровая, естественная и необходимая, как зло. Поэтому «некоторые странности» – это, пожалуй, все, что он пока может сказать о тех серых существах, которые мелькают во тьме человеческой души и не имеют ни формы, ни имени и о которых мы только и знаем, что они есть, но не знаем, хищные ли это пираньи или травоядные уклейки. Так что эта как бы случайная фраза о «некоторых странностях» служит чем-то вроде тревожного предостережения, напоминающего нам о бесчисленных и безымянных опасностях, таящихся в душе любого человека, в данном случае – в душе Уэйкфилда.
Ведь нередко случается, когда мы не в состоянии сказать, чем нам нравится или не нравится тот или иной человек, и тогда в ход идут фразы вроде: «Не знаю, в чем тут дело, но есть в нем что-то неприятное» или: «Нос как нос, голос как голос, но есть в ней что-то – сердце замирает и глаз не оторвать». Кстати, в 1642 году французский поэт Венсан Вуатюр в одном из своих «Писем», перечислив все известные ему приметы красоты, о главном, о том, что неуловимым образом очаровывает и обольщает нас, выразился так: «Je ne sai pas quoi» – «не-знаю-что-это-такое». Красота, любовь, добро, так же как уродство, ненависть, зло, – это мир превыше всякого ума. Источник добра и зла – один и тот же источник, но когда мы пьем из него, мы не знаем, какой глоток окажется роковым. Такое знание – Готорн убежден в этом – прерогатива Бога. И только Он в состоянии спасти нас. Хотя сегодня многие считают, что верно и обратное: если не мы, то никто не спасет нашего Бога. Впрочем, это нисколько не умаляет ни нас, ни Бога. Замечу только, что для понимания этого рассказа и вообще творчества Готорна особенности его религиозности, его страстная и сухая вера в Бога не менее важны, чем религиозная вера во второй закон термодинамики, утверждающий, что Воскресенье Христа, спасение души и надежда на вечную жизнь – иллюзия.
Впрочем, оставив эту фразу о «некоторых странностях» без продолжения, Готорн возвращается в физическую реальность и продолжает: «Давайте представим себе Уэйкфилда в тот момент, когда он прощается со своей женой. Время – сумрачный октябрьский вечер. На нем коричневое пальто, шляпа с клеенчатым верхом, высокие сапоги, в одной руке у него зонтик, в другой – маленький саквояж. Он предупредил миссис Уэйкфилд, что уедет за город с ночным дилижансом… Он говорит ей, чтобы она его не ждала обязательно с обратным дилижансом, и советует ей не волноваться, буде он задержится… Сам Уэйкфилд – и это следует подчеркнуть – не имеет ни малейшего представления о том, что его ожидает… И вот пожилой мистер Уэйкфилд уходит, и в душе у него уже почти созрел замысел смутить покой своей любезной супруги недельным отсутствием. Дверь за ним затворяется, но затем приоткрывается вновь, и в образовавшуюся щель миссис Уэйкфилд успевает разглядеть улыбающееся лицо своего супруга, которое исчезает в следующее же мгновение. Тогда она не обращает внимания на это маленькое обстоятельство, считая его несущественным. Но много позже, когда она уже проживет вдовой больше лет, чем была замужем, улыбка эта вновь и вновь всплывет, вплетаясь во все ее представления об Уэйкфилде». Итак, мистер Уэйкфилд решил всего-навсего подшутить над женой, и его улыбка вызвана именно этим решением. Ни он, ни его жена еще не представляют, чем обернется эта шутка и что на самом деле скрывается за этой улыбкой.
Тем временем мистер Уэйкфилд никуда не уезжает, а попросту запирается в квартирке, снятой на соседней улице, радуясь тому, что по дороге остался неузнанным. Эта радость вызывает у автора саркастическую реплику: «Бедный Уэйкфилд! Ты очень плохо представляешь себе свое собственное ничтожество в этом огромном мире. Ни один смертный, за исключением меня, не следил за тобой. Спи спокойно, глупец!»
Наутро Уэйкфилд пытается понять, что же он совершил и «какую цель он перед собой ставил». Он доискивается смысла, чтобы оправдать свой поступок и хоть чем-то заполнить пустоту жизни, и приходит к выводу, «что ему очень любопытно узнать, как пойдут дела у него дома, как его примерная жена перенесет свое недельное вдовство и как вообще тот небольшой кружок людей, в центре которого он находился, обойдется без него». Он выходит на улицу, приближается к своему дому, поднимается по знакомым ступенькам – и вдруг, словно очнувшись, бросается бежать. «В этот именно момент судьба его решительно поворачивается вокруг своей оси. Не задумываясь о том, на что обрекает его этот первый шаг отступления, он устремляется прочь, задыхаясь от никогда еще не испытанного волнения, не смея даже обернуться…» Автор отмечает: Уэйкфилд «приведен в замешательство переменой, как будто происшедшей со столь знакомым ему зданием, той переменой, которая поражает нас всех, когда после нескольких месяцев или лет мы снова видим какой-нибудь холм, или озеро, или предмет искусства, издавна нам знакомые. В обыкновенных случаях причиной этого непередаваемого ощущения является контраст между нашими несовершенными воспоминаниями и реальностью. В случае же с Уэйкфилдом магическое воздействие одной ночи приводит к такой же трансформации, ибо в этот кратчайший срок с ним произошла большая моральная перемена. Но это еще пока секрет для него самого».
Впрочем, разговор о характере этой моральной перемены и ее последствиях Готорн предпочитает отложить на потом.
После бегства и возвращения на съемную квартиру Уэйкфилд успокаивается. Он смиряется с той новой, абсурдной жизнью, которую выбрал, и подчиняется ее правилам: обзаводится париком, другим платьем и превращается в другого человека. Более того, теперь он еще недоволен тем, что его жена, которую он мельком видел, «недостаточно поражена его уходом», а потому решает не возвращаться, «пока она не изведется до полусмерти». Насекомое вдруг обнаруживает способность к сильному чувству, продиктованному, однако, озлобленностью, злом, и это, как мы увидим ниже, вполне естественно.
Каждый день Уэйкфилд отправлялся к своему дому, следил за женой, фантазировал, а однажды – через десять лет после исчезновения – даже сталкивается с нею лицом к лицу, они касаются друг друга – и она его не узнает. Этот эпизод, занимающий в новелле каких-нибудь два десятка строк, исполнен подлинного драматизма. Эта случайная встреча заставляет Уэйкфилда пережить минутный ужас пробуждения, и он восклицает: «Уэйкфилд! Уэйкфилд! Ты сумасшедший!» «Может быть, он им и был, – продолжает автор. – Странность его положения должна была настолько извратить всю его сущность, что если судить по его отношению к ближним и к целям человеческого существования, он и впрямь был безумцем. Ему удалось – или, вернее, ему пришлось – порвать со всем окружающим миром, исчезнуть, покинуть свое место (и связанные с ним преимущества) среди живых, хоть он и не был допущен к мертвым». Готорн не считает его отшельником, хотя и не называет ни беглецом, ни изгнанником, замечая: «Глубокое своеобразие судьбы Уэйкфилда заключалось в том, что он сохранил отпущенную ему долю человеческих привязанностей и интересов, будучи сам лишен возможности воздействовать на них».
Эта абсурдная история внезапно завершилась однажды вечером: мистер Уэйкфилд с тротуара перед домом наблюдал за тенью жены в окне третьего этажа, воображая ее танцующей, как вдруг разразился ливень. «Этот холодный душ пронизывает его насквозь. Неужели же он останется стоять здесь, мокрый и дрожащий, когда жаркий огонь в его собственном камине может его высушить, а его собственная жена с готовностью побежит за его домашним серым сюртуком и короткими штанами, которые она, без сомнения, заботливо хранит в стенном шкафу их спальни? Нет уж! Уэйкфилд не такой дурак». И он возвращается домой. Ни с того ни с сего – возвращается в дом, который ни с того ни с сего покинул почти двадцать лет назад. «Дверь отворяется. Пока он проходит внутрь, мы в последний раз глядим ему в лицо и замечаем на нем ту же лукавую усмешку, что была предшественницей маленького розыгрыша, которым он так долго забавлялся за счет своей жены».
Улыбка – усмешка – вернулась, убеждая нас только в том, что Уэйкфилд, без сомнения, ничуть не изменился. Что ж, преображение человека трудоемкое дело – проще его обожествить или демонизировать, что, в общем, одно и то же.
Таков страшный итог его истории, которая завершилась там же, где и началась.
«Среди кажущейся хаотичности нашего таинственного мира, – завершает рассказ Готорн, – отдельная личность так крепко связана со всей общественной системой, а все системы – между собой и с окружающим миром, что, отступив в сторону хотя бы на мгновение, человек подвергает себя страшному риску навсегда потерять свое место в жизни. Подобно Уэйкфилду, он может оказаться, если позволено будет так выразиться, отверженным вселенной».
Более двадцати лет мистер Уэйкфилд оставался пленником своего бессмысленного решения – выбора в пользу пустоты. Именно пустота стала содержанием жизни человека, который не нуждался в свободе, а точнее говоря – употребил свободу ни во что. Не надо быть протестантом и потомком неистовых пуритан, которые ожесточенно преследовали зло, обнаруживая его всюду – в дыхании ветра, собачьем лае, даже в добре и красоте и помещая ад в самом горячем месте Господня сердца, не нужно быть протестантом и пуританином, как Готорн, чтобы понять, что из пустоты, конечно, можно вызвать и Бога, но чаще всего на наш зов откликается дьявол.
Безусловной истиной для Готорна была мысль о том, что существует нечто более значительное, чем отдельная личность и ее свобода, и эта личность достигает совершенства, лишь растворившись в том, что не только больше, но и выше ее. При этом он понимал, что человеческого в человеке – щепоть, крошка, а тяга человека к злу – естественна, почти инстинктивна, потому что зло делает человека сильнее. Мистер Уэйкфилд не преодолел себя, его жизненный путь не стал путем преображения, а следовательно, он так и остался вне времени, вне оправдания и любви, в безмозглой вечности чудовищ. Добычей зла, если угодно, легкой добычей. Если бы я был одержим социальным пафосом, то сказал бы, что он не из тех, кто приказывает рубить головы, и не из тех, кому рубят голову, – он из тех, кто рубит головы. А будь я психологом, то попытался бы понять, существует ли хоть какая-то связь между мистером Уэйкфилдом и писателем Натаниелем Готорном, который всю жизнь испытывал чувство вины за одного из своих предков – Джона Готорна, вынесшего смертный приговор сайлемским ведьмам, одна из которых прокляла и судью, и всех его потомков…
Палач и Царь
Утверждают, что публичная смертная казнь – отвратительное зрелище, и с этим трудно спорить. Но это все-таки спектакль, зрелище. Это зрелище пробуждает в зрителях низменные чувства, и это тоже несомненно, но оно же часто вызывает и сострадание к преступнику, который иногда кажется людям невинной жертвой, а бывает, что и является ею. Поэтому я думаю, что мы бываем слишком строги, когда обвиняем в бессердечии людей, собиравшихся поглазеть на казнь.
Человек, как писал Аристотель, – общественное животное (zoon politikon). Во времена Аристотеля жители греческих городов были обязаны участвовать в общественной жизни государства, в том числе посещать театральные представления. А тех, кто уклонялся от этой обязанности, как известно, называли «идиотами», то есть людьми несведущими, необразованными, простецами, глупцами, не желающими и не способными влиять на государственные дела. Греки презирали идиота, стоящего в стороне и предпочитающего частную жизнь: такая жизнь, по их мнению, мало чем отличалась от жизни животной, скотской. Греки осуждали естественную животность человека и поощряли естественную же его человечность – слабую, очень слабую, гораздо слабее, чем его животность, но тем более заслуживающую поддержки. Этой цели служили и кровавые трагедии Софокла, и глумливые комедии Аристофана. В истории Рима известны случаи, когда для придания спектаклю занимательности и правдоподобия на сцене убивали животных и людей (рабов).
После падения Афин и Рима с их форумами, театрами и цирками поддержка человечности, тяги человека к ему подобным стала важнейшей задачей Церкви. Но эту же цель, как ни цинично, может быть, это звучит, преследовали и публичные казни с их брутальной театральностью, с аплодисментами палачу и состраданием к преступнику, который восходит на эшафот, напоминающий о Голгофе.
Палач – не выдумка жестоких людей и не плод мрачных времен. Он дан нам Богом. Устами пророка Исайи Господь говорит нам: «Я творю губителя для истребления» (Ис. 54:16). А Соломон напоминает: «Возмутитель ищет только зла; поэтому жестокий ангел будет послан против него» (Притч. 17:11). Речь идет о палаче, об ангеле-истребителе, злом духе, демоне, о дьяволе наконец, которого Бог избирает своим орудием для наказания злых. И как дьявол выступает в роли палача на службе у Господа и Завета (Dei carnifex), так обычный палач служит земной власти и закону.
Палач – не убийца. Убивать ему приказывает царь, который руководствуется Божьей волей. Вместе с тем палач – это ходячий соблазн, потому что ему дозволено то, что другим запрещено под страхом смерти: он убивает людей безнаказанно. В государстве есть только один человек, который наделен таким же правом: царь. Царь и палач – священные животные, неразлучные избранники, полубог и полудьявол, но один служит воплощением всего доброго и должного, тогда как другой воплощает неизбежность зла.
Людская молва наделяет царей магической силой. Например, французские короли обладали способностью исцелять от всех недугов наложением рук. Но чудесными свойствами обладало и все то, что было связано с палачом. Люди боялись прикасаться к нему и орудиям его труда: известен случай, когда одна девушка, случайно положившая руку на рукоять его топора, в конце концов, как ни противилась судьбе, погибла на эшафоте. Люди искали исцеления в источнике Сен-Сир-ан-Тальмондуа, где некогда утонул палач. Именно палач одолел темные силы, что ввергли в беспробудный сон принцессу, которую называли Спящей красавицей. Только у него, у палача, можно было купить волшебную мандрагору, выраставшую под виселицей из семени повешенного, или части человеческого тела, служившие лучшим средством от множества болезней: например, человеческая кровь помогала от эпилепсии, жир – от артрита, а от головокружений – толченое человеческое сердце, которое следовало принимать по щепотке с утра на голодный желудок. Многим хотелось отведать мяса человека, умершего неестественной смертью, чтобы заполучить остаток его жизни. Палач, который по долгу службы обязан хорошо разбираться в анатомии, часто ставил на ноги больных, от которых отказывались врачи.
Палач существует на границе света и тьмы, порядка и хаоса. В своей войне с хаосом Запад, который со времен Платона и Прокла убежден в том, что знание есть спасение, пытается все упорядочить, взять под контроль, назвать, вывести на свет Божий. С течением времени фигура палача становится все более отчетливой, все менее демонической. Он выступает в роли муниципального чиновника на контракте, который приносит такую же присягу городу, как сборщик налогов или ночной сторож. Ему поручается следить за публичными и игорными домами, чистить отхожие места и убирать с улиц падаль. Кое-где палачи образуют цеховые сообщества, как кузнецы, перчаточники или ткачи.
Однако люди не могут признать убийство нормальной работой, такой же, как изготовление гвоздей или выделка тканей, а палача – таким же полноправным членом общества, как кузнец или пекарь. Палач может быть честным человеком, но дело, которым он занимается, всеми признается бесчестным. В тени, отбрасываемой палачом, распускаются только цветы зла. И человек, побывавший в руках палача, даже если потом его признавали невиновным и оправдывали, оставался обесчещенным и уже никогда не мог восстановить свое доброе имя.
Общество ставило палача на одну доску с евреями, актерами, бродягами и проститутками, оно боялось палача, ненавидело его и брезговало им. И власти не могли игнорировать общественное мнение. Регламентом, который был издан в Страсбурге в 1500 году, палачу предписывается вести себя скромно, на улице уступать дорогу честным людям, не прикасаться на рынке ни к каким продуктам, кроме тех, которые он собирается купить, в тавернах не подходить к гражданам города и другим честным людям, не пить и не есть рядом с ними, не участвовать в азартных играх. А в Бамберге, кроме того, палачу предписывалось стоять в церкви сзади у двери, при раздаче же причастия – подходить к священнику последним. В Испании палача обязывали носить черный плащ с красной каймой и желтым поясом и разрешали жить только за городской чертой, в доме, выкрашенном в красный цвет.
В России дело обстояло иначе. Для русских Афины всегда были выше Рима, образ жизни – важнее цивилизации, а храм – дороже дома. Познанию Бога русские предпочитают безусловную веру в Него, знанию – любовь, и творческий хаос для них – естественная среда обитания. В мире, захваченном злом, они принимают Рождество как неизбежный факт, а все свои упования возлагают на чудо Воскресенья. Для них общение с Богом важнее общения друг с другом, и обществом они становятся в храме, а не в театре, не в цирке, не на городской площади. Может быть, именно поэтому русских так сильно поразила любовь царя Ивана Грозного к театральной аффектации, к казовой стороне жизни, в которой он играл разные роли – мудрого правителя и безмозглого юродивого, аскета и развратника, палача и жертвы.
Палачи в России набирались по большей части из уголовных преступников, жили они в тюрьме за государственный счет, а если среди них встречались добровольцы, то нередко это были люди с психическими отклонениями, те, кого мы сегодня назвали бы маньяками.
Арсенал русских палачей не отличался разнообразием: им неведомы были такие достижения цивилизации, как испанский сапог, нюрнбергская машинка для снятия кожи со спины или полая фигура, утыканная изнутри гвоздями. Казни на Руси были явлением будничным, жестоким и скоротечным. Поскольку же мало кто из русских зрителей верил в справедливость земного суда, то главным действующим лицом таких спектаклей становились чаще всего не палачи, а жертвы.
Революции и войны в двадцатом веке смешали людей, понятия и ценности. Смешались палачи и жертвы. Известна история о человеке, который в конце 30-х и в 40-х годах был исполнителем смертных казней, а потом разыскивал детей расстрелянных и усыновлял-удочерял их. Он был добрым человеком, который, однако, вершил злое дело. Он был палачом. А вот Сталин, Берия или Хрущев палачами не были – они отдавали приказы палачам, и это страшнее хотя бы потому, что Сталин, Берия и Хрущев приказали – по своей воле, не за деньги – убить миллионы, а палач по их приказу – и не по своей воле, за зарплату – убил восемьдесят семь человек. Они оказались в одной цепочке, но не срослись в одно целое. Этот факт никого не оправдывает и не снимает ответственности ни с царей, ни с палачей. Речь всего-навсего о зарплате, о деньгах. Как-то моя бабушка – вообще-то темная крестьянка – сказала, что Сталин не любил деньги, а Пушкин – любил, и это единственное, что делает их разными на весах Господа. Это, конечно, не о палачах, а скорее о человеческой природе, о людях и Боге.
Желтый Дом
Безумие всегда было частью нормальной русской жизни.
В «Борисе Годунове» Пушкин создал первый в русской литературе образ юродивого. Образ сам по себе схематичный, ложно многозначительный, но в то же время и точный: он соответствовал русской традиции почитания умом обиженных. Впрочем, русское отношение к психически больным мало чем выделяется из мировой традиции, которую можно описать одной фразой – «устами безумца глаголет Бог». Продолжая дело Шекспира («Король Лир» «утверждает безумие живой правды», полагал Мелвилл), немецкие романтики создали галерею умом ушибленных пророков, сновидцев и ясновидящих путешественников from Bethleham to Bethleham – из Вифлеема в Бедлам. Или из Бедлама в Вифлеем. Кому что нравится.
И все же, наверное, ни одна другая литература не обращалась к теме безумия так часто и с такой настойчивостью, как русская, сделавшая эту тему своей визитной карточкой. Пушкинское «Не дай мне Бог сойти с ума!» витает надо всей русской культурой: Гоголь сводит с ума Акакия Акакиевича и сочиняет «Записки сумасшедшего», Гаршин – «Красный цветок», Тютчев – «Безумие» («Там, где с землею обгорелой…»), Чехов – «Палату номер шесть», за ними – Леонид Андреев, Сологуб, Горький, Булгаков… И надо всеми возвышается угрюмый замок Достоевского. Его романы – Желтые Дома. Погрузившись в угарный хаос русского характера, исследовав отклонения его, Достоевский, как принято считать, отчетливее других выразил все существенное в понимании России и русского народа. Пушкинский Дом у Достоевского стал Мертвым Домом, грезящим о Пушкинском Доме.
Истоки завороженности русских писателей образом Желтого Дома, населенного душевнобольными, кроются в особенностях русской истории, русской религиозной веры. Национальная история практически не знает понятий «вчера» и «завтра» – для нее существеннее «всегда»; она, история, также не знает, что такое общественная, политическая свобода личности. Русское православие всегда крайне настороженно относилось к восходящей к античности европейской апологии плоти, формы, личной свободы, всего «внешнего». В православном понимании нет ценности выше, нежели ценность души, устремленной к Богу и жертвующей «телом», его свободой ради идеи, большей, чем индивидуальность. Если Россия и смогла осознать и ощутить себя единым телом, то только через духовную связь составляющих ее людей, то есть через русский язык и православие.
Русскими мы чувствуем себя не на площади, не дома, не в армии, не в тюрьме, не в школе – только в церкви.
И только житель Желтого Дома мог написать то, что Константин Аксаков написал царю Александру II в записке «О внутреннем состоянии России»: «Русский народ есть народ не государственный, т. е. не стремящийся к государственной власти, не желающий для себя политических прав, не имеющий в себе даже зародыша народного властолюбия… Всякое стремление народа к государственной власти отвлекает его от внутреннего нравственного пути и подрывает свободою политической, внешней свободу духа внутреннюю. Государствование становится тогда целью для народа, и исчезает высшая цель: внутренняя цель, внутренняя свобода, духовный подвиг жизни».
Ни в какой другой стране сословие земледельцев не носит такого названия, как в России: крестьяне – «хрестьяне» – христиане. Это не просто хозяева, не просто люди, обрабатывающие землю, – это хранители духа. Со времен монголов, захвативших Русь, повелось так: выпадение из христиан равнозначно выпадению в захваченное врагом (дьяволом) пространство, равнозначно погублению души. Эта традиция до сих пор оживляет враждебное отношение русских ко всем нерусским и ко всему нерусскому. Вне христианской соборности подлинно национальная (православная) душа мертва, а спасена она может быть лишь через самоотрицание, самопожертвование, растворение в общности, коллективе. Идея чистоты, святости народа в России всегда была выше идеи личности. Персона – в европейском смысле слова – стала появляться в русской культуре лишь после Смуты и Раскола. XVII век просигнализировал о появлении персоны Аввакумом, а также возникновением в литературе темы денег и женской темы. Еще прежде было ужаснувшее Россию явление Самозванца, монаха, «живого мертвеца», которого с полным правом можно считать персоной. И недаром его прахом выстрелили из пушки в сторону Запада: вернули «чужое».
Подавление «телесной», т. е. внешней, социальной жизни в условиях, когда миллионы людей даже как бы и вовсе не имели тел, ибо ими распоряжались другие люди (крепостное право), превратило русского человека в сновидца, визионера, пестующего душу и не заботящегося о теле, об условиях земной жизни. Если человек «спит жизнь», значимыми компонентами его идеологии естественно становятся нищета, небрежение собственностью, бродяжничество, склонность к опьянению мечтами о Беловодье, Ореховой Горе и других царствиях Божиих на земле, он способен к неожиданным, нелепым и даже опасным поступкам с ущербом для плоти, но, как ему кажется, не для души. Бытие важнее быта. «Голубиное» отношение к жизни свойственно людям, лишенным возможности влиять на условия быта. В их представлении реальность уравнивается с фантастикой и управляется непостижимыми силами. Сознанием овладевают мифы. Особенностью такого мышления является не проникновение в суть происходящего, но выражение отношения к происходящему: «наше – не наше», «правильное – неправильное» и т. д. Здесь же берет начало и удивительное отношение русского человека к Слову, особенно к слову печатному, писаному, отношение, часто зиждущееся на некритическом доверии. Искусство способно преобразовать мир и человека, считают русские, и хотя они тут вовсе не первооткрыватели, именно они, наверное, оказались единственным народом, который свято во все это поверил и пустил в дело. «Литература как форма сознания» (Борис Парамонов) – это уж точно о русских. Реализм важнее реальности, осталось только ответить на вопрос: неужели то, что мы создали, и впрямь можно назвать реализмом в общепринятом смысле слова?
Из тайников народной души бессознательное стремление к полной жизни прорывалось в сновидения, принимавшие форму Слова: сны Пушкина и Одоевского, Гоголя и Гончарова, романы-сны Достоевского, создавшего самый замечательный образец такого прорыва – «Записки из подполья». Русская культура развивалась как бы внутри и благодаря незатухающему конфликту между Словом и Делом, между Сном и Явью, между Душой и Телом. Двойничество стало навязчивым синонимом русскости. Россия всегда грезила об Идеале, тогда как Запад был устремлен к Цели. Наша мечта о гармонии противостоит западному стремлению к балансу. Обитателям Желтого Дома в бредовых видениях являются говорящие собаки и вии, пауки и недотыкомки, красные цветы и пиковые дамы, наконец, Черт как высшее воплощение чудовищного Зверя, терзающего русскую душу, и самое ужасное, пожалуй, заключается в том, что этот Зверь сочетает в себе Бога и дьявола, святость и мерзость.
Свои письма монахам Кирилло-Белозерского монастыря Иван Грозный подписывал псевдонимом Парфений Уродивый (Юродивый). Государь играл. Государь завидовал юродивым, которых сам Господь избрал для передачи людям своего Слова. Юродивый может говорить правду царям, он может позволить себе непристойности и оскорбления. Юродивый свободен как марионетка, управляемая Богом. А поскольку он сам себе не судья, его свобода – безгранична, если не абсолютна. А в его словах и поступках игра неотличима от жизни всерьез, бред – от пророчества. Своим образом жизни и манерой выражения мыслей он снимает противоречия между Словом и Делом, между Сном и Явью, между Душой и Телом. Юродивых (уродов) на Руси почитали, их боялись, им, наконец, завидовали. Физические их достоинства и изъяны не имели значения, их не было – была душа, захваченная высокой болезнью. Человек становился душой, избавленной от блужданий, безрассудств, страхов и диких вожделений, – становился богом. То есть – la nullité de l’esprit, духовным ничем, духовным ничтожеством. Я думаю, он становился тем ничтожеством, которое имел в виду Фауст, бросивший Мефистофелю: «В твоем ничто я все найду».
Курсив
Сцена суда над Иисусом, противостояние прокуратора Понтия Пилата и Сына Божьего, приговор к казни по требованию Синедриона и народа иудейского – излюбленный сюжет для историков государства и права, которые вот уже которое столетие пытаются установить вину Христа перед иудейской (иерусалимской) общиной, с одной стороны, и перед римским законом – с другой. Иудеи требуют казнить Иисуса, называвшего себя Сыном Божиим, за чудовищное богохульство и в то же время призывают прокуратора наказать «этого человека» за покушение на законную власть Рима, поскольку Он объявляет себя царем иудейским, а таковым тогда являлся только римский цезарь. И в том и в другом случае Христос повинен в покушении на статус-кво. Осторожный администратор, не желающий проливать кровь человека, который с точки зрения права вообще-то не является преступником, Понтий Пилат при этом не хочет конфликта с туземными авторитетами. Истина для него – предмет деликатного торга в рамках римского законодательства и иудейской традиции. Компромиссом между правом и традицией становится жизнь Иисуса, который, однако, «на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине» (Ин, 18, 37) и отвергает саму возможность торга и компромисса в принципе.
Римский прокуратор, скорее скептик и реалист, чем циник, не желает поступаться биографией и карьерой. Он прекрасно понимает, чего стоят провинциальные восточные политиканы с их невротическими претензиями, но при этом он трезво оценивает и реакцию иудейского большинства на решение судьбы одного из потенциальных бунтарей. Иисус, разумеется, не может поступиться верой и судьбой. Понтий Пилат – воплощение морального релятивизма, свойственного тогдашнему латинскому мироощущению, и знаменитый его вопрос: «Что есть истина?» на самом деле лишь риторическое восклицание: «Но ведь мы-то с тобой понимаем, что есть истина!» Последнее слово произносится с легким нажимом и сообщнической улыбкой – этакий интонционный курсив. Жертвоприношение для Пилата – не более чем мертвый ритуал перед лицом молчаливых языческих богов, и ему не понять Бога, заговорившего с людьми.
У Иисуса же все слова – курсивом. Он может быть многословным, он может частить и сбиваться (если верить Иоанну), он может быть напряженно-скупым на слова или и вовсе молчуном (если верить Марку), но он не может пустословить. Понтий Пилат и Иисус говорят на разных языках. На точный – с формально-юридической точки зрения – вопрос прокуратора: «Ты Царь Иудейский?» Иисус отвечает: «Царство Мое не от мира сего». И Пилат в принципе не в состоянии понять, какая бездна истории и какая высота духа вдруг открываются перед ним. Замечу между прочим, что это как раз тот случай, который хорошо известен лингвистам: каждое доказуемое высказывание является истинным, но не каждое истинное высказывание доказуемо. Язык условностей, которым пользуется Пилат, бессилен перед безусловным языком Иисуса.
«В одном – историческом – мире Римлянин послал Галилеянина на крест: такова была его судьба. В другом мире Рим подпал проклятию и крест стал залогом искупления», – комментирует Освальд Шпенглер.
Для Понтия Пилата чрезвычайно важны правила игры, которые он принимает по умолчанию, a priori. Конфликт возникает именно потому, что Иисус вообще не участвует в этой игре. У Него нет роли. Он есть Он. Пилат же есть Прокуратор, Закон, Правило, Порядок. Скандальная подлинность Христа, хочет Он того или нет, противостоит неподлинности всего того, что олицетворяют иудеи и римлянин. Иисус не может не быть Собой, тогда как Пилат может быть таким, а может быть и иным: для иудеев он представитель Рима, в Риме – один из протеже Сеяна, в постели с женой или любовницей – мужчина, в книге – набор знаков. Иисус всегда и всюду – Иисус, Он не бунтарь и не пророк, не учитель и не претендент на Нобелевскую премию мира, Он лишен возможности и способности быть кем бы то ни было, кроме как Иисусом, Спасителем и Спасением. Он одновременно – Смерть, Воскресенье и Жизнь. Не было, нет и никогда не будет такой роли в человечестве. Его невозможно тиражировать. В этом смысле Иисус – «Однажды-и-больше-ни-разу», человек как он есть.
Тот-Кто-Мешает
Если он и попадал на русские иконы, то изографы изображали его только в профиль, как черта, чтобы неосторожный зритель ненароком не встретился с ним взглядом. Впрочем, так же, вслед за Джотто (фреска «Поцелуй Иуды»), поступали и европейские художники, поскольку этика и эстетика являлись нераздельным целым.
Центральный диск последнего круга Дантова Ада называется Джудеккой. Название образовано от имени апостола Иуды Искариота, предавшего Христа. Здесь, в девятом круге, во льдах Коцита, сам Люцифер казнит предателей величества божеского и человеческого – Брута и Кассия, убийц Цезаря, а также Иуду, терзая их в своих трех кровавых пастях.
Переднему не зубы так страшны,
Как когти были, все одну и ту же
Сдирающие кожу со спины.
«Тот, наверху, страдающий всех хуже, —
Промолвил вождь, – Иуда Искарьот;
Внутрь головой и пятками наруже…»
Вот и все, что счел нужным сообщить спутнику Вергилий о величайшем преступнике в христианской истории и в истории христианства. Люцифер непрестанно сдирает кожу с его спины. Данте не комментирует увиденное и услышанное, хотя и находится в самом конце пути через Ад, – гораздо больше внимания он уделяет технике лазания по косматому стану Люцифера и маршруту выхода из преисподней. Поэту нечего сказать об Иуде такого, чего не знал бы читатель, и он ограничивается сухой констатацией факта: предатель получает по заслугам. Что и предполагалось, и в чем никто не сомневался. Читатель воспринимает эти сведения после знакомства со всеми обитателями геенны, поэтому муки Иуды для него – это итог и сумма наказаний, апофеоз безысходности – гораздо большей, чем, например, безысходность мучений Уголино в ледяной яме, где вынужденный детоубийца и людоед обречен вечно мучить того, кто запер его в Башне Глада. Здесь же, на самом дне Ада, царит безмолвие, нарушаемое лишь шумом крыльев дьявола. Мучительное безмолвие – антитеза творящему Слову.
Данте наверняка были хорошо известны апокрифические, легендарные сочинения о жизни Иуды, во множестве ходившие среди его современников. Апокрифы, «отрешенные» сочинения утоляли интерес верующих к деталям биографий Иисуса и Крестителя, Марии и апостолов, наконец, Иуды Искариота. Эти сочинения способствовали утверждению в сознании верующих некоторых устойчивых представлений, клише, что было важно и полезно для находившейся в процессе становления христианской культуры, неуклонно двигавшейся к позднейшему психологизму. Потому-то Церковь и относилась к апокрифической литературе более или менее терпимо, а какие-то произведения даже рекомендовала «для домашнего чтения» (речь не шла, разумеется, о гностических евангелиях). Именно в Средние века сложились стереотипы, закрепившиеся в словосочетаниях-образах «иудин поцелуй», «иудино дерево», «иудин грех». «Иудами» стали называть предателей – первое свидетельство об этом содержится в «Хронике герцогов Нормандских», написанной Бенуа де Сент-Мором примерно в 1175 году. Именно в те времена – в эпоху возникновения первых гетто – евреев стали называть «иудиным племенем», но, уж конечно, не во славу Иуды – четвертого сына Иакова от Лии (этот Иуда и является эпонимом иудеев), а во имя Иуды Искариота Предателя, родившегося в пыльной деревушке Кириаф Иарим к западу от Иерусалима.
Во II–IV веках по Р.Х. актуальнейшей проблемой для лидеров христианских общин стал поиск взаимопонимания, а возможно, и союза с римской властью, в связи с чем были предприняты попытки оправдания Понтия Пилата, представителя этой власти в Иудее. Важно это было и для самих верующих, тяготившихся своей «второсортностью»: римлянин не мог не признать Мессию, которого признавали все, кроме «слепцов» иудеев. Тогда-то и возникли апокрифическое донесение прокуратора Пилата императору Тиберию, «Письмо Пилата императору Клавдию» и евангелие Никодима, которое правильнее было бы назвать евангелием фанатичного антисемитизма. Автор этого евангелия не только нарисовал образ благожелательно расположенного к Христу прокуратора, но и заставил римские военные знамена, которые держали легионеры, склониться перед Иисусом, когда того вели через строй на допрос (только вообразите себе эту сцену из мыльной оперы). Все эти сочинения не были признаны Церковью богодухновенными, однако они сформировали метод и указали дорогу, на которую впоследствии нет-нет да и ступала нога неофита. Не так уж и давно русские читатели встретились на этом пути с романом Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», в котором образ Пилата скроен по рецептам III века по Р.Х. с поправкой на психологизм фельетонной эпохи. Не исключено, что Булгаков (сын профессора Киевской духовной академии по кафедре истории западных вероисповеданий) познакомился с «методом» Никодима по книге профессора Сергея Жебелева «Евангелия канонические и апокрифические», вышедшей в Петрограде в 1919 году.
Апокрифы называют Иуду сыном некоего Рувима-Симона и Цибореи из Иерусалима. В ночь зачатия женщина видит вещий сон: ее сын станет вместилищем всех пороков и причиной гибели иудейского народа. Перепуганные родители укладывают младенца в осмоленную корзину и пускают в море. Волны прибивают корзину к острову Скариот (география здесь того же сорта, что и биография), бездетная царица которого берет мальчика на воспитание. Однако вскоре у нее рождается сын, и Иуда начинает всячески оскорблять и обижать малютку. Выведенная из себя его выходками, царица открывает Иуде, что он всего-навсего приемыш. Стыд, ненависть, ярость толкают Иуду на убийство царевича, после чего он бежит в Иерусалим и поступает на службу к Понтию Пилату. Рядом с дворцом римского прокуратора находится сад Рувима-Симона, где зреют плоды, вызывающие у Пилата вожделение. Будучи не в силах устоять перед искушением, прокуратор посылает дружка Иуду воровать эти плоды. Рувим-Симон ловит парня на месте преступления. Между ними вспыхивает перебранка, переходящая в драку. Иуда убивает отца. Понтий Пилат дарит Иуде всю собственность убитого и женит на вдове. Впоследствии, случайно узнав из причитаний Цибореи правду о своем происхождении, Иуда покидает ее дом и подается к Иисусу, дабы получить от него прощение грехов.
Такова легендарная предыстория евангельских событий, которая стилистически родственна эллинистическому роману, а в сознании русского читателя сближает Софокла с Пушкиным, античную трагедию рока с житием святой Женевьевы…
В канонических евангелиях нет указаний на причины предательства Иуды, если не считать таковыми слова Иоанна «вошел в него сатана» (13,27). Тот же Иоанн (единственный из евангелистов), впрочем, явно отдает предпочтение другой версии, полагая главным мотивом преступления Иудино корыстолюбие.
Имя Иуды переводится как «хвала Господу». Он единственный иудей среди учеников Иисуса, уроженцев Галилеи. Ему поручено ведать расходами апостолов, и, как всякий казначей и бухгалтер, он немножко брюзга и пессимист, жмот и зануда. Когда некая Мария из Вифании помазала ноги Христа драгоценным нардовым миром, Иуда не скрывает своего возмущения мотовкой. Именно этот эпизод традиция связывает с возникновением у Иуды воли к предательству. Именно после этого он вдруг отправляется к первосвященникам и предлагает им свои услуги. На тайной вечере Иисус говорит апостолам, что «один из вас предаст меня», и указывает на предателя, подав Иуде кусок хлеба. «Что делаешь, делай скорее», – призывает Христос, и Иуда послушно покидает вечерю. Многие в Иерусалиме слышали проповеди Иисуса и видели его, поэтому узнать его не составляло труда. Однако наступил вечер, и, чтобы указать страже на Учителя в толпе учеников, Иуда целует его. Это, наверное, самая яркая, самая душераздирающая деталь в евангелиях (впрочем, в евангелии от Иоанна о поцелуе не говорится ни слова).
После гибели Иисуса Иуда раскаивается и возвращает тридцать сребреников: «Согрешил я, предав кровь невинную» (Матфей, 27,4). Евангелисты напоминают о ветхозаветном пророчестве Захарии: «И скажу им: если угодно вам, то дайте Мне плату Мою; если же нет – не давайте; и они отвесят в уплату Мне тридцать сребреников… И взял Я тридцать сребреников и бросил их в дом Господень для горшечника» (Захария, 11, 12–13). Поскольку «проклятые» деньги нельзя было вернуть в храмовую кассу, их выплатили за земельный участок некоего горшечника, на котором и похоронили покончившего с собой Иуду.
Христос, принявший на себя все грехи, все проклятие рода человеческого, в том числе и грех Иуды, погиб на «древе креста». Предавший его – на древе позора (в русском фольклоре эту роль играет дрожащая от пережитого ужаса осина).
Столетиями образ священного предателя оставался для христиан самодостаточным, и лишь в XIX веке появляются первые опыты интерпретации величайшего в истории христианства Преступления, попытки проникнуть в психологию Преступника. Де Куинси полагал, что Иуда вынудил Христа объявить о своей божественности, чтобы вызвать восстание против Рима. Эта версия близка Леониду Андрееву, который в новелле «Иуда Искариот» усматривает мотив предательства в мучительной любви Иуды к Христу, в желании апостола спровоцировать учеников и народ на решительные действия. Профессор Михаил Муретов в серии статей под заголовком «Иуда Предатель» (1905–1906 гг.) рассматривает предательство как результат разочарования иудея, надеявшегося найти в Иисусе грядущего восстановителя Израильского царства, а нашедшего в Нем лишь мечтателя о духовно обновленном царствии Божьем.
Исследователи начала XX века, смущенные контрастом между сравнительной малостью события и тем духовным значением, которое придает ему традиция, выдвинули иную версию: Иуда выдал первосвященникам некие преступные высказывания или тайные криминальные аспекты учения Христа. Версия эта, однако, не имеет опоры в евангелиях.
Наиболее неожиданные и парадоксальные предположения содержатся в новелле Борхеса «Три версии предательства Иуды». Борхес – точнее, герой новеллы – выдвигает следующие гипотезы. Первая: в ответ на жертву Бога некий человек – им оказался Иуда – совершает равноценную жертву (предательство), становясь как бы негативным двойником Христа. Вторая: предательство Иуды – результат сверхаскетического умерщвления и осквернения плоти и духа, результат сверхсмирения. Наконец, третья версия заключается в предположении, что Бог стал человеком полностью, вплоть до низости его, то есть стал Иудой. Таким образом, тайное имя Бога (Шем-Гамфораш) – Иуда Искариот.
Однако гораздо более интересным является сам факт обращения культуры новейшего времени к образу Предателя и попытки его осмысления у границ или даже за пределами религиозной традиции, что вроде бы еще раз свидетельствует если и не о смерти, то о неактуальности понятий «христианская цивилизация», «христианская культура». Иуда стал таким же персонажем культуры, как Христос, Наполеон или Родион Раскольников.
Судя по всему, Борхеса живо интересовала гностическая традиция. Думаю, он не мог не знать о гностической секте каинитов, которые толковали предательство Иуды как выполнение задачи высшего служения, необходимого для искупления мира и предписанного самим Христом. Вторая версия Борхеса явно восходит к ереси гностика Карпократа, мельком упомянутого в новелле. Карпократ полагал, что душа Иисуса освободилась от рабства материи, указав путь к свободе для всех – отрешение от мира, презрение к создавшим мир начальным, низшим духам. Вот что пишет об этом Владимир Соловьев: «По их учению, лучший способ презирать материальный мир – это совершать все возможные плотские грехи, сохраняя свободу духа или бесстрастие, не привязываясь ни к какому отдельному бытию или вещам и внешнюю законность заменяя внутреннею силою веры и любви… необходимо изведать на собственном опыте все возможности греха, чтобы отделаться ото всех и получить свободу». (Странным образом эта мысль созвучна парадоксальному утверждению Лоренцо Валлы: «Разврат и публичные дома много более заслуживают перед родом человеческим, чем набожное целомудрие и воздержанность».)
Иисус Христос «вывел дух из рабства на свободу» (Рай, песнь XXXI). Иуда Искариот сделал свободный выбор, обернувшийся ужасающим крушением личности: рождение свободы ознаменовано грозным указанием на ее пределы. Взирая на Крест, мы не вправе забывать об осине. Однажды Сергей Лёзов дал Христу ошеломляющий глубиной и точностью «псевдоним» – Тот-Кто-Мешает: Иисус и впрямь мешает нам забывать о том, что мы не вправе поступаться своим истинным «я» ради чего бы то ни было, – мешает одним фактом своего существования, выражающимся в Слове (Вести). Это ужасно. Невыносимо. От меня требуется, чтобы я ежемгновенно помнил о смерти и поступал бы так, как если бы через миг мне предстояло умереть. Самое же страшное заключается в том, что требование это исходит не от Чужого, а просто от Другого, в роли которого обычно выступает душа человеческая. Чужого можно обмануть, Другого – никогда. Иуда Искариот не вынес этого. Поэтому он тоже, как мне кажется, может претендовать на имя Тот-Кто-Мешает. Не на славу, нет, – лишь на имя, при упоминании которого картонное пламя истории обжигает всерьез, до волдырей и боли…
Икона и зеркало
...
И сотворил Бог человека по образу Своему,
по образу Божию сотворил его…
Бытие, 1,27.
В 60-е годы Юрий Нагибин, Константин Симонов, Юлиан Семенов и много кто еще клялись именем Хемингуэя, превозносили его метод и не скрывали, что он оказал на них сильное влияние. Недоброжелатели же ставили им это в вину. В 70-е годы недоброжелатели обвиняли Валентина Распутина в том, что его «Прощание с Матерой» – чистое подражание Фолкнеру. В 90-е годы метод «унижения сравнением» получил широчайшее распространение, хотя тогда же стала ясна его произвольность: сравнения говорят больше об эрудиции и круге чтения критика (а чаще – о степени его раздражительности), но мало что дают для понимания творчества Нагибина или Хемингуэя, Распутина или Фолкнера.
Быть может, существует или когда-нибудь будет создан труд, посвященный проблеме творческой оригинальности именно в связи с темой заимствований, влияний и подражаний. Исследователь будет вынужден обратиться к временам, когда истину не открывали, но она – открывалась, а вдохновением было то, что боги вдыхали в поэта, избирая его своим рупором и арфой:
Так ангел Ветхого Завета
искал соперника под стать.
Как арфу, он сжимал атлета,
которого любая жила
струною ангелу служила,
чтоб схваткой гимн на нем сыграть.
Кого тот ангел победил,
тот правым, не гордясь собою,
выходит из такого боя
в сознаньи и в расцвете сил.
Не станет он искать побед.
Он ждет, чтоб высшее начало
его все чаще побеждало,
чтобы расти ему в ответ.
(«Созерцание» Рильке в переводе Пастернака)
Латинский поэт IV века по Р.Х. Авсоний из Бурдигалы (Бордо) сочинил проникнутую любовью поэму об учителях и друзьях, стараясь не пропустить ни одного дорогого имени: Тиберий Виктор Минервий, Латин Алким Алетий, Аттий Патера…
Может быть, годы пройдут —
моему подражая примеру,
Кто-нибудь, нас вспомянув,
все наши тени почтит.
Во времена Авсония в моду вошли центоны – стихи, составленные из полустиший Вергилия, в которые автор не мог, не имел права вставить ни одного слова «от себя» (хотя уж современникам-то Авсония было хорошо известно, что слово «автор», auctor – от латинского augere – «увеличивать, умножать» – было не последним среди величальных титулов императоров, полководцев, преумножавших славу империи и увеличивавших ее владения).
Данте, вовсе не склонный к самоуничижению, почтительно склонялся перед Вергилием, который вел его к «предызбранным вершинам» поэзии об руку с Беатриче и Бернаром Клервоским.
Долгое время оригинальность если и не порицалась, то и не числилась среди достоинств: образ жизни человека Средневековья подчинялся формуле, вынесенной Фомой Кемпийским в заголовок главного его сочинения, которое недаром с 1427 года выдержало более двух тысяч изданий, – «Imitatio Christi» (русский перевод «Подражания Христу» принадлежит Константину Победоносцеву).
Подражание Христу ради достижения идеала Христа противопоставлялось бесцельному обезьянничанью актеров и целило в Лжеца, дьявола, «обезьяну Господа», стремившегося своим подражанием Творцу унизить, обессмыслить, уничтожить творение.
За тысячу лет до Фомы блаженный Августин в «Исповеди» писал об этой ситуации: «Все, кто удаляются от Тебя и поднимаются против Тебя, уподобляются тебе в искаженном виде. Но даже таким уподоблением они свидетельствуют о том, что Ты Творец всего мира, и поэтому уйти от Тебя вообще некуда».
Августин раскаивался в недавней своей приверженности манихейству, когда он, как некий раб, «создавал себе куцее подобие свободы, безнаказанно занимаясь тем, что было запрещено, теша себя тенью и подобием всемогущества… Вот раб, убегающий от господина своего и настигший тень. О тлен, о ужас жизни, о глубина смерти!»
В латинском тексте «Исповеди» тень – umbra. Чтобы заклеймить несовершенное подражание, Августин, блестящий выученик риторов, придумывает нелепому обезьянничанью непереводимый синоним, образованный от слова «тень», – adumbrare.
Прилежное, смиренное и осмысленное копирование образцов служило залогом преемственности в культуре, упрочению традиций жизни in tutissimo liberrimoque circulo rationis (в надежном и независимом круге разума), за пределами которого – мрак безумия и иррациональности (попутное замечание: надежный и независимый круг сегодняшних русских интеллектуалов вряд ли шире того, в котором жили интеллектуалы эпохи «до Данте», то есть эпохи, когда интеллектуалы и народ говорили на разных языках).
Оригинальность не входила в число общепризнанных доблестей (virtu) ренессансной культуры: Альберти и Пико делла Мирандола, Виссарион Никейский и Козимо Медичи были озабочены совершенно другими проблемами. Кому именно подражать – Цицерону с Вергилием или всем хорошим писателям – вот вопрос, на который они пытались ответить. Знаменитая полемика о подражании, развернувшаяся в 1513 году после обмена письмами между Пьетро Бембо и Пико (в ней участвовали Кастельветро, Чинцио, Кальканьини, Риччи, Дельминио, Партенио и другие), была вызвана эстетической революцией, связанной, в том числе, и с признанием национальных языков равными латыни. До этой полемики текст воспринимался главным образом как средоточие потаенных значений, нуждающихся в расшифровке. Пьетро Бембо, не покушаясь в принципе на магию культуры как таковой, первым предложил определять творчество, например Данте или Петрарки, в терминах языка и стиля, литературу – в свойственных ей понятиях. Бембо писал Пико: «Я думаю, что у Бога, Творца всего сущего, есть не только божественная форма справедливости, умеренности и других добродетелей, но также и божественная форма прекрасной литературы, совершенная форма, ее было дано лицезреть – насколько это возможно сделать мыслью – Ксенофонту, Демосфену, в особенности Платону, но прежде всего Цицерону. К этой форме приспосабливали они свои мысли и стиль. Считаю, что и мы должны так поступать, стараться достичь возможно ближе этого идеала красоты». Осваивая античное наследие, гуманисты стремились ответить на вопросы, которые вечность ставила перед их временем, перед историческим человеком.
Мольер, называя себя пчелой, заимствовал у предшественников и современников все, что считал нужным заимствовать. Гёте подарил своему Фаусту песенку Шекспира. Лабрюйер уже названием своего главного труда отсылал к «Характерам» Теофраста…
Проблема возникла в начале XIX века и обрела знакомые нам очертания после Байрона, Гюго, Фихте, Шеллинга. Романтик сам стал «автором» вдохновения, то есть – Богом, Единственным. Романтическое открытие личности вскоре стало общим местом, и после этого любая попытка пренебречь индивидуальностью воспринимается лишь как прием. Однако XX век превратил Единственного в Одинокого. Человек утратил значение, которое ему приписывали творцы Кватроченто, называя его copula mundi – связующим мир звеном.
Когда Габриель Гарсиа Маркес приехал в Советский Союз, его между прочим спросили о влиянии на его творчество Фолкнера, имея в виду, вероятно, повесть «Полковнику никто не пишет» (в рассказах того же времени Маркес, по его же словам, сознательно, на спор с друзьями, подражал Хемингуэю). В ответ автор «Ста лет одиночества», как передают, принялся по памяти цитировать огромные куски из «Братьев Карамазовых». Выходит, что Достоевскому подражать престижнее, чем Фолкнеру, которого в свое время уличали в знакомстве и с Олдингтоном, и с Хаксли, и, наконец, с Джойсом, хотя в этом ряду, похоже, недостает Мелвилла и Твена (сам же Фолкнер в зрелые лета ежегодно перечитывал одну-единственную книгу – «Братьев Карамазовых»).
В 1932 году в разговоре с издателем Гаррисоном Смитом Фолкнер сказал: «Вы знаете, иногда я думаю, что, должно быть, существует своего рода пыльца идей, которая разносится по воздуху и оплодотворяет однородные умы, не имеющие между собою прямого контакта. Разумеется, я слышал о Джойсе. Кто-то рассказал мне о том, что он делает, и, возможно, на меня повлияло услышанное». Таким образом автор «Шума и ярости» попытался откреститься от родства с создателем «Улисса».
На вопросы журналистов об источниках влияния хитроумный Джойс, этот человек-библиотека, отвечал как бы искренне, выстраивая длинные ряды писательских имен, среди которых встречались и мало кому известные, вроде Сенанкура, или даже Лермонтов. Увы, у журналистов не было возможности попытать авторов «Обермана» и «Героя нашего времени», что сами они об этом думают и кто, в свою очередь, повлиял на них.Русская культура с самого начала формировалась под влиянием множества заимствованных с Запада (в том числе из Византии, воспринимавшейся как Запад) идей и форм, поэтому тема «вторичности» не занимала и не могла занимать умы русских интеллектуалов вплоть до начала дебатов по «варяжскому вопросу»: до поры до времени чужое не несло клейма чуждости. Национальная культура совершенно спокойно переварила, при посредничестве сербов и белорусов, франко-итальянскую песнь о Buovo d’Antona, восходящую к известной с XIII века старофранцузской chanson de geste, и пустила в народный обиход в виде повести о Бове-королевиче, где тосканские Lucaffero, Drusiana, Pulicano стали Лукопером, Дружненой и Полканом, a chiarenza – мечом-кладенцом («кгляденцей» белорусской версии сербского перевода с тосканского). Из тюркской Рустемиады пришли Руслан-Еруслан (Рустем), Картаус (Кейкаус) и князь Данила Белый (Белый Див). Греческий «кентаурас», т. е. кентавр, поскакал по пажитям Московии экзотическим Китоврасом. Проблемы, которую можно было бы обозначить оппозицией «imitatio – adumbrare», просто не существовало.
Труды, которые ставят целью доказать, что период до XVIII века вовсе не был в России культурной полупустыней, – напротив, это была эпоха расцвета литературы, философии и т. д., почти не уступающая Ренессансу, – ценны лишь детализацией полупустынного ландшафта и выдают в авторах глубоко укорененное национальное Minderwertigkeitgefühl – чувство собственной неполноценности. Это, разумеется, ложное чувство: римляне пережили эпоху царей, сожрали этрусков, создали республику, покорили Италию, утвердили на Апеннинах могучее государство, прежде чем получили право вписать первую строку в историю своей литературы – латинский перевод «Одиссеи».
Возникновение проблемы оригинальности в русской литературе можно датировать ноябрем 1830 года, когда Пушкин в наброске статьи «О народной драме и о «Марфе Посаднице» М. П. Погодина» назвал Сумарокова «несчастнейшим из подражателей»: «Трагедии его, исполненные противусмыслия, писанные варварским изнеженным языком, нравились двору Елисаветы как новость, как подражание парижским увеселениям».
Сам Пушкин сподобился от раздраженных критиков титула «Байрон для бедных».
В те времена, однако, не считалось зазорным писать стихи «в подражание Такому-то». Это было естественно для культуры, которая только-только осваивалась в формах, заимствованных из западных культур Нового времени. Любовь к Западу стимулировала любовь к России и спасала русских славянофилов от «невроза своеобразия».
Миллионы русских людей столетиями не имели возможностей для активной творческой исторической жизни. Отсутствие социальной, «внешней» жизни компенсировалось интенсивностью жизни внутренней, душевной и духовной, в мистическом единении индивидуальной души с Богом. Герои русской культуры – странник, не имеющий своего дома, отшельник, живущий вне социальных связей, юродивый, не подчиняющийся земным законам. В таком культурном контексте в литературе не могла возникнуть многомерная и самостоятельная личность европейского типа, чья деятельность не нуждалась бы в санкциях извне, сверху. Не могла по тем же причинам возникнуть и развиваться живопись европейского типа. Потому-то такой сенсацией и стало появление первых «парсун» (персон), т. е. живописных портретов светских людей, изображавшихся поначалу на иконных досках: в представлении современников это было равнозначно кощунству, обожествлению человека телесного, явного, вопреки тысячелетней традиции иконы – изображения духовно-символических образов.
Невзирая на реформы Никона – Петра Великого, невзирая на решительную перемену самого образа национальной жизни, в глубинах русского сознания или подсознания сохранился страх вечной души перед физическим воплощением. В зеркале душа видела тело, подчиняющееся законам времени, «мерзкую плоть», вынужденную действовать в мире, захваченном дьяволом (образ из ересей французских каттаров и болгарских богумилов, оказавших, как считают некоторые исследователи, ощутимое влияние на русское православие). В культуре возникает драматическое противоречие между стремлением к вечной оригинальности, точнее, к безликой оригинальности вечности, и столь же сильным стремлением к сохранению мира сложившихся форм, жизнеспособность которых поддерживается простым копированием, воспроизведением с зеркальной точностью. Тяга к зеркалу для русского человека соприродна страху перед зеркалом.Тему подражания, заимствования можно рассматривать в нескольких аспектах. С традиционной точки зрения, в подражании для истинного таланта нет ничего страшного: настоящее дарование, пройдя школу, рано или поздно заговорит собственным голосом, даже если при этом сохранит заимствованные интонации, как это случилось, скажем, с «Моби Диком» Мелвилла, насыщенным массой явных и скрытых цитат из Шекспира. Да и для критиков, если они не впадают в пошлую криминалистику, важнее не уличить писателя в подражательстве или заимствовании, но понять взаимосвязь и динамику «оригинала» и «копии» в контексте всего того, что живо и что мертво в культурной традиции.
Можно взглянуть на проблему и по-иному.
Если мы убеждены в том, что творение вечно и бесконечно, то повторы неизбежны, поскольку в этом случае время – это все времена, а человек – все люди.
Если мы убеждены в том, что мир сотворен Богом и поэтому живет благодаря Его искусству управления, сохранения и развития, то есть если мы убеждены, что мир есть некая грандиозная культура, то подражание и заимствования становятся долгом тех, кого принято называть деятелями культуры, призванными хранить и преумножать. Мы не можем придумать то, чего не существовало бы в сотворенном мире, поэтому наша участь – открывать то, что было, есть и будет. Модель такого поведения содержится в Троице, в христианизированном принципе троичности, зиждущемся и созидающем непрерывность Откровения не только в вечности, но и во времени; личностью и деянием Иисуса – copula mundi – обьединяются Ветхий и Новый Заветы. Образ и Подобие неразрывны (особенно остро это ощущается в иудаизме с его, выражаясь светским языком, фамильярными отношениями между Богом и человеком, свойственными отчасти и православию).
«Иначе говоря, – пишет католик Томас С. Элиот, – существует нечто не зависящее от художника, по отношению к чему он признает свою зависимость, нечто такое, чему он подчиняется, приносит себя в жертву, ибо только так он может добиться индивидуальной своей художественной значимости. Общее для всех наследие и задача, общая для всех, объединяют художников, сознают они это или нет… Я полагаю, что неосознанная общность связывает истинных художников всех времен. А поскольку инстинктивная жажда все расставить по своим местам требовательно побуждает нас не отдавать во власть ненадежного бессознательного все то, что можно попытаться сделать сознательно, нельзя не заключить, что происходящее неосознанно мы можем себе уяснить и сделать своей задачей, если с полным сознанием дела предпримем такую попытку. Разумеется, второразрядный художник не может позволить себе отдаться какому бы то ни было общему делу, ведь главное для него – подчеркнуть все те мелкие особенности, которые выделяют его среди других; служить общему делу, вносить в него свой вклад, отдавать свое в обмен на чужое – это по силам только тем, кто может дать столько, что способен в работе забыть о самом себе».
Неповторимое – мертво.
Чем глубже мы погружаемся в Я, тем вероятнее ветреча с Мы, т. е. с вечной и неизменной человеческой природой, которая для христианина воплощена в Спасителе.
Но что же делать человеку неверующему? Или – что делать верующему человеку в эпоху, когда конец религиозного и научного тоталитаризма очевиден, а универсальные притязания религии и науки бессильны перед натиском нового иррационализма – политического, социального, психологического? Свой рецепт – по видимости, наивный – предложил Достоевский: полюбить жизнь прежде смысла ее, до оценок. Но ведь и Иисус из Назарета, говоривший одними цитатами из Ветхого Завета, призывал не к новой жизни, а – к жизни, которая, быть может, и есть новое copula mundi в обезбоженном мире, стиснутом между тотальным Ничто и тотальным Никто, обладающими химически чистой оригинальностью.
Впрочем, мы можем быть убеждены и в том, что мир не сотворен искусным Богом, но является случайным результатом игры материи и энергии. Это соображение, однако, не отменяет, но даже усиливает культурный смысл наших потуг, при этом придавая им трагический оттенок и побуждая нас со стоической неуклонностью двигаться в том же направлении, «ничем не гордясь, но и не склонив головы» (Кортасар). Иными словами: подражайте, подражайте, подражайте – что-нибудь да останется. Иными словами:Не станет он искать побед.
Он ждет, чтоб высшее начало
его все чаще побеждало,
чтобы расти ему в ответ.
Быть может, драма нашего времени только в том и заключается, что отныне «высшее начало» – не ангел, даже не Бог, но сам человек, впервые оставшийся наедине со своим отражением.




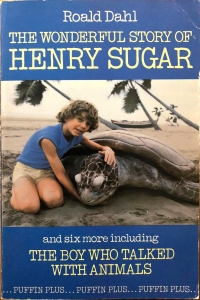
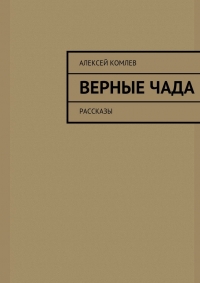



Комментарии к книге «Послание госпоже моей левой руке», Юрий Васильевич Буйда
Всего 0 комментариев