Вячеслав Щепоткин Крик совы перед концом сезона
Щепоткин Вячеслав Иванович — журналист, публицист, прозаик. Живёт и работает в Москве. В «Нашем современнике» печатается не впервые.
В тексте романа сохранена разговорная орфография автора.
Часть первая
Глава первая
— Лыжи в дом не носите, — остановил раскрасневшийся егерь двух охотников, уже поднявшихся было на ступеньки с лыжами в руках. — Отпотеют и плохо завтра пойдут.
— Ты што, Адольф! — вступился за товарищей Нестеренко, чернобровый, с крупными чертами лица молодой мужчина в белом полушубке. — В этой избе тараканы друг к другу примёрзли.
Сам он только что прислонил лыжи к тёмной бревенчатой стене дома и на всякий случай даже воткнул их в снег. Остальные тоже ставили лыжи снаружи, переговаривались о неудачном дне, о вымирающей деревне, где осталось, судя по дымам из труб, пять или шесть жилых изб вперемежку с десятком орошенных, по-старушечьи нахохлившихся под белыми платками снега домов. Некоторые из покинутых изб светлели досками-заколотками. Но на большинстве домов и эти доски посерели, растрескались. Стены раздуло изнутри, как ствол ружья, забитый перед выстрелом грязью. Избы припали, какая на один, а какая сразу на два угла, и казалось, поднавали на них нынешняя обильная зима ещё снега — не выдержат дома, рухнут.
В тексте романа сохранена разговорная орфография автора.
Утром, уходя по сумеркам на лыжах к лесу, городские были возбуждены предстоящей охотой. Поэтому деревню прошли махом, хотя на лыжи становились всего несколько раз в году. Но на обратном пути то один, то другой вдруг приостанавливался, глядел на волны снега, под которыми угадывались основания когда-то существовавших построек, и цепочка людей с ружьями замирала.
Когда подошли к дому, в котором ночевали, тоже покинутому, Нестеренко спросил Адольфа:
— Молодые-то здесь живут?
— Откуда! — удивился егерь, смахивая с валенок широкие охотничьи лыжи. Они покатились, и одна за другой воткнулись в сугроб у стены дома. — Кому она такая жисть нужна? Видел, как мы вчера добирались?
Вчера их сюда от ближайшей деревни, где они оставили свои легковые машины, привезли на тракторной тележке. «Беларусь» качался, как баркас в штормовом море. Мужчины валились друг на друга, холодели от лёгкого страха и ухали в темноте.
— Валерка! — вдруг закричал егерь одному из своих охотников-подручных, который вдалеке что-то рассказывал городскому — мужчине с пышными усами и потным разгорячённым лицом. — Человека остудишь!
Городской снял шапку. От влажных волос шёл пар. Алое солнце садилось сзади них, и казалось, голова городского розовато дымится. На крик егеря они не обратили внимания. Теперь усатый что-то показывал Валерке в поле, и тот, вытянув шею, всматривался вдаль.
— Володя! Волков! — крикнул Нестеренко. — Шапку надень!
— Кабанов, что ль, увидали? — заволновался Адольф. Он был мордаст, с маленькими умными глазками, которые то и дело как бы посмеивались над чем-то. Замусоленные до брони рукава фуфайки были коротки, из них далеко высовывались красные кулаки. Рукавиц егерь не носил и в самый лютый мороз. Знакомясь, приветливо хватал протянутую руку и, пока не заканчивал представление, не отпускал её. А представлялся он концертно. Назвав своё имя, с интересом смотрел в лицо человека. Реакция не заставляла себя ждать. Народ, хотя и давно переживший войну с немцами, хорошо помнил некоего Адольфа. Тем более что в последнее время о нём говорили часто, обсуждая, не Советский ли Союз виноват в начале войны с Германией? Поэтому кто возгласом, кто взглядом выдавали невольное удивление. И тогда егерь, делая вид, будто его не расслышали, громко повторял своё имя. «Адольф! Тёзка Гитлера — знаете такого?» Маленькие глазки посмеивались, но теперь уже с вызовом и настороженно. Люди с наигранной бодростью хлопали егеря по плечу, а через некоторое время замешательство первых минут, в самом деле, забывалось. Однако Нестеренко после знакомства с егерем вдруг подумал, как тяжело, наверное, приходилось Адольфу, когда он был ещё не матёрым мужиком, властным и знающим себе цену, а ранимым мальчишкой послевоенной поры. В народе умеют давать клички, обидные до слёз, а тут само имя звучало хуже клички.
С Адольфом трое городских охотились второй раз. Первый раз — три недели назад, когда кончался отстрел лосей. В прежнем месте, куда компания ездила последние несколько лет, что-то не складывалось. Заболел старший егерь — сипел по телефону, как будто его душили; двое из пятерых не смогли ехать, и тогда Нестеренко, Волков и Фетисов решили открыть новое место. Нестеренкин знакомый дал адрес Адольфа и даже попробовал через какой-то склад, рядом с которым жил егерь, дозвониться до него. Не дозвонился, но Адольф, тем не менее, встретил троих с готовностью — похоже, он был чем-то обязан нестеренкиному знакомому.
Лосей отстреляли легко — их тут было много, а заодно уговорились, что приедут в этот же район за кабаном. «Возьмём, — сказал Адольф. — Только в другом месте».
Прошагав на лыжах километров восемь, сделав два загона, охотники без выстрела вернулись в деревушку, где ночевали. У них оставался ещё один день — последний день охотничьего сезона на кабанов.
Но несмотря на пустые хлопоты, пятеро городских не переживали. Адольф и два местных охотника — не то приятели егеря, не то его помощники — были уверены, что завтра кабана возьмут.
— Мы нынче как на разведку ходили, — сказал егерь Волкову, тому высокому усатому мужчине, оглядываясь на него в дверях избы. Волков повесил ружьё в коридоре, и теперь извивался, чтобы снять патронташ. Нестеренко помог ему. Через распахнутую дверь было видно, как в избе уже выкладывают на стол еду маленький Игорь Николаевич Фетисов и товарищ Волкова, толстый врач Карабанов. Собственно говоря, все пятеро были близкими приятелями, хотя встречались, в основном, на охоте. Жили в одном крупном подмосковном городе, оказавшемся в конгломерате ещё нескольких таких же городов военно-космической ориентации, Фетисов — даже по соседству с инженером-электриком Нестеренко, имели, естественно, каждый своих знакомых и товарищей, но когда приходила трудная минута, вспоминали, прежде всего, о тех, с кем охотились. На них попавший в беду мог рассчитывать, как хромой на посох. При этом помогать старались буднично, избегая пафосных слов. Если появлялась возможность смягчить ситуацию иронией или шуткой, не упускали случая. А в обычной обстановке придумать какой-нибудь «прикол» вообще считалось в порядке вещей. Особенно неистощим был Нестеренко. Сняв с Волкова патронташ, он тут же сунул его вошедшему в коридор пятому охотнику — худощавому мужчине с глубоко запавшими глазами.
— Подержи, Паша, — с тревожным лицом сказал товарищу. — Надо Волкова внести.
Тот молча, с удивлением уставился на чернобрового. Мол, что случилось? Нестеренко озабоченно покачал головой:
— Видишь? Патронташ не может снять. Совсем ослабел парень. А ты, Адольф, валенки с него сними.
Егерь засмеялся и прошёл в избу. Там уже почти был готов стол. Фетисов быстрыми, как у всех маленьких, движениями дорезал хлеб. Один из товарищей Адольфа — Валерка — выкладывал из своего рюкзака варёную лосятину, луковицы, полиэтиленовый пакет с насыпанными туда кубиками сахара. Другой — мрачноватый мужик с красными белками глаз — растапливал печку. Не дожидаясь, когда она даст тепло, сели за шаткий стол и налили, как полагается. Когда все притолкались, Карабанов поднял стакан.
— Выпьем, мужики, за подаренный кабанам лишний день жизни.
Он работал хирургом в городской больнице. Короткие толстые пальцы были цепки, глаза из-под набрякших век смотрели остро.
— Наши от нас не уйдут, — захрустел твёрдым солёным огурцом Адольф. — Не то стреляйте меня завтра замест кабана.
— Ну, если на Володю Волкова иль на Пашу Слепцова выйдут, то не уйдут, — согласился, морщась от водки, Карабанов. — Это такие убивцы.
Голос у него был сиплый — доктор простыл на митинге «Демократической России» недели три назад. Когда трое товарищей ездили на охоту, он лежал с температурой в постели, и хотя недавно вышел на работу, горло не мог вылечить до сих пор. Откусив холодного огурца, закашлялся, отвислые щёки его покраснели, и на большом лбу выступила испарина. Из всей компании одному Фетисову — товароведу универсальной базы — катило под пятьдесят. Остальные были почти ровесники: по 37–38 лет. Но если на большинство людей жизнь ставит свои отметины с мало-мальски подходящей точностью, то в этой компании она кое-что перепутала. Тучный, губастый, с поредевшими темными волосами Карабанов выглядел старше своих лет, а ровеснику доктора — стройному и холёному учителю Волкову — никто не давал даже его возраста.
— Смех смехом, — оживился Волков, вытирая усы, — а в прошлый раз охота накрылась для всей честной компании.
— Испортил он нам всю «малину», Сергей, — сказал Нестеренко Карабанову, показывая пальцем на Волкова. — За двадцать минут уложил двух коров и оставил нас без выстрела…
— Вот видишь, Адольф! Не связывайся с ними. Отдай кабана.
— Отдам. Хоть три. У нас у самих две лицензии не закрыто. Но ведь ты скажи, какая хитрая животная пошла. Сейчас таятся, на кормёжку идут ночью… А вот, скажем, послезавтра уже — иди по лесу, и кабан тебя не боится. Как будто знает, что на них сезон кончился. Пережили опасные дни, и бывший враг — нонешний друг.
— Газеты, наверно, читают, — заявил Нестеренко, ища глазами, обо что бы сорвать металлическую пробку на бутылке с минеральной водой.
— Дёрни об стол, — подсказал Паша Слепцов.
— Нащёт газет — не знаю, — поморщился егерь. — Их если севодня читать — сумашедшим станешь. Я думаю, природа приспосабливается. Выжить-то надо! И среди зверей есть люди. Сображают.
— Не ко всему нужно приспосабливаться, — вдруг раздался невнятный и быстрый говорок Фетисова. — Говорю директору: посадят, дурак. А он уже врагом смотрит.
Все поглядели в сторону Фетисова. Даже Адольф успел заметить, что товаровед — самый незаметный в городской компании. Говорил он мало, едва слышно и торопливо, как человек, давно понявший, что его в любой момент могут перебить, что слушатели тут же повернутся на сильный уверенный голос, мгновенно забыв и о самом Фетисове, и о том, что он говорил. Поэтому Игорь Николаевич особо не встревал в разговоры, никого не перебивал; если между товарищами разгорались страсти, он только стеснительно щурился и время от времени быстрым движением протирал острую лысинку. Уловив сейчас редкую минуту внимания, он заговорил слышнее, однако по-прежнему торопясь.
— Срок годности — он не вечный. Портится товар… Две машины отвезли в лес… Люди видят… но молчат. А на меня смотрит, как на врага народа. Хотя недавно были друзьями.
— Потерпи, Игорь. Скоро будем наводить порядок, — сурово успокоил Нестеренко. — А раньше времени высунешься — голову оторвут.
И добавил остальным, тронув крупные губы улыбкой:
— Шибанёт, как током. Будем мы грудку пепла на охоту носить.
— Ты его слушай, Игорь Николаич, — с иронией подтолкнул Фетисова сухолицый Павел Слепцов, и во впадинах-глазницах колыхнулась нетёплая усмешка. — Где электричество, там Андрей спец.
— А может, как раз не надо слушать, — посерьёзнев, сказал Волков. — Давно пора во весь голос говорить… Называть вещи своими именами. Совсем вразнос дело идёт! Страны ведь, мужики, не останется!
Нестеренко недовольно мотнул головой.
— Хочешь своего человека в пасть кинуть? Сожрут. У демократов острые клыки. Это мы уже видим. Поэтому надо подождать! В дамках тот, кто умеет ждать.
Он замолчал, думая о чём-то явно нездешнем. Потом пристально поглядел на Волкова.
— Плохо, если и ребят не учишь солдатской выдержке. Тебе сам Бог велел делать из них бойцов. Недолго осталось… Скинут «пятнистого». Нельзя больше эту тварь… А пока говорю вам: на-до по-до-ждать!
— Нада, нада, — усмехнулся егерь. — Свет надо включить. Как сычи в темноте сидим.
Тут только заметили, что в избе посумрачнело и в то же время потеплело от печки, распахнутый зев которой багровел тлеющими углями. Адольф поднялся и включил свет. Из-за стола вылез красноглазый мужик. Посмотрел в корзину для дров — она была пустой, пошёл в коридор за поленьями. Волков присел на корточки к печке, подвинул уголёк и осторожно, чтоб не опалить усы, прикурил.
— Я ребят учу языку, — сказал он, вставая. — Французскому языку.
— Хороший язык, — откликнулся Карабанов. — Хотя будущее за английским. Перемены к нам придут с английским языком.
И твёрдым тоном добавил:
— Мы все будем говорить по-английски. Очень скоро.
Слепцов открыл новую бутылку водки и, по-вороньи скосив голову, стал разливать.
— Ф-фу! Мне нравится немецкий.
Наклонился к Нестеренке и неожиданно гаркнул ему в ухо:
— Хэндэ хох!
Тот отшатнулся, едва не упав с табуретки.
— Обалдел, что ль? — замахнулся электрик на товарища. — Хохнуть бы тебе по ушам, да своих нельзя трогать.
— А ты, Валерка, какой язык любишь? — спросил Адольф, и на широком красном лице его огоньками засветились глазки.
— Я уважаю говяжий!
В избе грохнули так, что красноглазый мужик, открывший в этот момент дверь, чуть не выронил корзину с дровами.
— Ну, чего вы? — обиделся Валерка. У него было узкое, как будто пропущенное через валки прокатного стана лицо, над которым дыбились проволочно-жёсткие волосы. — Говяжий с хреном…
— Сам ты хрен, — сквозь смех выговорил егерь. — Ты когда его последний раз ел?
— Давно. Поэтому уважаю.
— Да не об том языке говорят.
— А-а, — смял понятливой улыбкой узкое лицо Валерка. — Эт как у нас на фабрике был поммастера — Альберт. Но мы его звали Федя.
Тут все вообще зашлись от смеха, а Фетисов даже упал на плечо Карабанова.
— Да честно я вам говорю! — сердито крикнул Валерка. — Спросите у Николая.
Но второй подручный егеря только вытирал слёзы и ничего не мог сказать.
— Вот так у нас всё и получается, — успокаиваясь, заговорил Карабанов. — Обещают Альберта — приходит Федя. Не страна, а полное дерьмо.
Нестеренко резко оборвал смех.
— Ты что имеешь в виду? — процедил он, и глаза его, только что блестевшие от веселья, как мокрый чернослив, сухо уставились на доктора. Волков понял: сейчас снова вспыхнет тот обжигающий и неприятный спор, без которого в последнее время редко проходила каждая их встреча, когда они оказывались впятером. Ещё недавно близкие друг другу люди, терпеливые к мнениям и шуткам товарищей, часто соглашавшиеся по поводу больших и малых недостатков советской действительности, они стали быстро раздражаться от самых безобидных по вчерашним меркам оценок и суждений. Когда-то инженер-электрик Нестеренко сравнил их всех с электродами для дуговой сварки. К каждому тянется свой питающий кабель, у каждого гудит свой аппарат, подающий ток. Но если раньше все аппараты были настроены на создание некоей дуги объединения, то теперь словно кто-то специально их разрегулировал, и электрические вспышки чаще не соединяли разное в общее, а с болью прожигали соединительную ткань.
А как неплохо всё начиналось несколько лет назад!
Глава вторая
Появление нового Генерального секретаря Горбачёва каждый из них встретил с интересом. Насторожился только Слепцов. Раза два заговаривал про какой-то знак свыше, но товарищи посмеялись, и он больше этой темы не касался. Согласен был, что новый «вождь» выгодно отличается от прежних: молодой, энергичный, не сидит в Москве, говорит без бумажки — это нравилось. И хотя он говорил те же слова, которые люди давно привыкли пропускать мимо ушей — о развитом социализме, о борьбе с бюрократией и волокитой, об улучшении жизни народа — однако теперь от них повеяло свежестью. У многих даже появилась надежда на скорые перемены, потому что застой последних лет, казалось, проник во все поры жизни.
Тот динамизм советской экономики, науки, общественных отношений, которым было отмечено взлётное время конца 50-х — первой половины 70-х годов, постепенно остывал. Это не означало, что Советский Союз остановился в своём развитии. По многим показателям советская индустрия, опираясь на достаточно развитую науку, шла нога в ногу с лидерами мирового промышленного развития, а кое в чём даже обгоняла их.
Однако развивались разные отрасли неодинаково. Военно-промышленный комплекс и другие наукоёмкие сферы могли состязаться с зарубежьем не только по интеллектуальной насыщенности производства, но и по производительности труда. В других сегментах экономики производительность всё сильней отставала от мировых показателей. Станочный парк устаревал морально и физически, обновление его шло медленно. Ручной, малоэффективный труд преобладал там, где в развитых странах работала современная техника.
В позднебрежневское время были предприняты попытки поднять производительность труда и его эффективность благодаря достижениям научно-технической революции. Но в целом темпы экономического развития всё явнее замедлялись. Причины были разные. И негибкий командно-плановый каркас, где каждой отрасли, заводу, цеху отводились жёсткие рамки, за пределы которых выйти было нельзя. И тотальное распределение ресурсов «от Москвы до самых до окраин», не оставляющее места экономической инициативе. И отсутствие конкуренции как способа предъявить обществу лучший по качеству и эффективный по себестоимости товар.
Причины переплетались одна с другой, усиливали друг друга, порождали новые, те — следующие, и этот ком становился всё тяжелей. Так бывает, когда дети скатывают из влажного снега шар для туловища снеговика и не замечают момента, когда шар уже с большим трудом удаётся сдвинуть с места.
На внутренние причины накладывались внешние. Одной из них стал ввод советских войск в Афганистан в 1979 году.
Афганская война не только сильно испортила имидж СССР в глазах и западных европейцев, и, особенно, мусульманского мира. Она требовала значительных материальных затрат: три-четыре миллиарда долларов сгорали ежегодно в пламени неоднозначно воспринимаемой в народе войны.
Параллельно в это же время Советский Союз стал тратиться на спасение коммунистического режима в Польше. Наделав долгов ради красивой жизни «как на Западе», Польская народная республика в 1981 году должна была заплатить 7 миллиардов долларов в счёт погашения кредитов и 3 с половиной миллиарда — по процентам. Отказ от платежей означал прекращение новых кредитов, а это вело к быстрому и полному разрушению экономики страны. СССР выделил Польше 4 с половиной миллиарда долларов, да ещё дал в долг большое количество нефти, газа, хлопка.
Между тем, самому Советскому Союзу как раз в это время эти миллиарды были очень нужны! Разыграв исламскую карпу, Соединённые Штаты добились от богатейшей Саудовской Аравии не только активной помощи моджахедам в Афганистане, но и её согласия как ведущего члена ОПЕК на резкое снижение стоимости нефти: с 30 долларов за баррель в начале 80-х до 12-ти в 1986 году. Это уменьшало доходы СССР ещё на 10 миллиардов долларов в год.
Но если тяжёлая индустрия, пусть с нарастающим замедлением, всё же справлялась со своими обязанностями, этого нельзя было сказать о сельском хозяйстве, о лёгкой и перерабатывающей промышленности. О тех отраслях, которые должны были в достатке обеспечить страну продовольствием и всевозможными товарами народного потребления. А именно от этих отраслей и, прежде всего, от агропрома зависит каждый день настроение людей, их оценка действий власти.
Сказать, что причиной была нехватка денег или сама колхозно-совхозная форма хозяйствования, нельзя. Для села выделялись большие средства — на строительство производственных и социальных объектов, на закупку техники: тракторов, комбайнов, автомашин. Да и форма хозяйствования показывала далеко не единичные примеры удачной работы. В стране было немало богатейших колхозов и совхозов, где люди жили в достатке, имели хорошее жильё, покупали машины, дорогую бытовую технику, работая при этом весьма эффективно.
Однако общая картина была удручающей. Отчасти сказывались климатические условия — с 1969 года по 1984-й в Советском Союзе было восемь неурожайных лет. Причём три из них шли подряд — 79-й, 80-й и 81-й. Если в 1978 году было собрано 237 миллионов тонн зерна, то в 1984-м — лишь 173 миллиона. Поскольку нормой считается иметь на человека одну тонну зерна в год, а СССР тогда насчитывал 274 миллиона жителей, то видно, какой возник дефицит.
Но природно-климатические факторы были не единственной причиной низкой отдачи сельского хозяйства. Важным тормозом стало отсутствие мобилизующих стимулов работать лучше других. Поэтому, несмотря на вливание огромных денег, сельское хозяйство оставалось малоэффективной отраслью.
Ситуацию усугубляли расхлябанность и массовая безответственность. Лозунг: «Всё вокруг колхозное — всё вокруг моё», если когда-то и заставлял людей беречь общее добро, то никак не во времена «развитого социализма». В эти годы он, наоборот, стал оправданием растащиловки, наплевательского отношения к общим ценностям и результатам коллективного труда. Отсюда брали начало невероятные для других стран потери выращенной продукции. Охотничья компания видела это в разных местах. В Астраханской и Волгоградской областях, куда мужчины ездили на охоту и рыбалку в конце лета, часть помидорных плантаций не успевали убирать до начала озимой пахоты. Чтобы очистить место, бульдозеры гребли красное месиво из помидоров куда придётся. На Ярославщине, в Смоленской и Костромской областях в полях оставался неубранным картофель, а тот, который выкапывали, зачастую лежал в буртах под дождями и снегом.
Собранное и доставленное на базы тоже не всё доходило до потребителя. Здесь также многое сгнивало и выбрасывалось. В итоге в целом по стране пропадала примерно треть овощей, до 40 процентов картофеля. Немало терялось мясной и молочной продукции. А ведь на производство всего этого тратились большие материальные и людские ресурсы.
Положение в сельскохозяйственной отрасли, в производстве товаров народного потребления, в обеспечении людей продуктами и предметами первой необходимости наглядней всего показывало, что река советской экономики кое-где уже не течёт, а превращается в застойное водохранилище. Заработная плата и доходы населения росли, что было несомненным достижением социалистической системы, однако отоварить их, как говорили экономисты, было всё труднее.
И действовали здесь факторы не только экономического характера. Хозяйственное переплеталось с идеологическим, моральное — с безнравственным, целеустремлённое — с наплевательским. Выделить какой-то фактор как главный, отбросив остальные в число второстепенных, было бы не очень правильно. Одно и то же явление в разных обстоятельствах действует по-разному. Для пешехода заноза в пятке — это остановка движения, а для всадника — только боль, когда заденешь. Тем не менее, многие в обществе склонялись к мысли, что переход страны с быстрого бега на шаркающий шаг — это, не в последнюю очередь, результат так называемой кадрово-политической стабильности.
Провозглашённый Леонидом Брежневым вскоре после прихода к власти в 1964 году принцип «бережного отношения к кадрам» встретил одобрение не только у партийно-государственной элиты, но и в народе. Стране надоело вздрагивать от сумасбродных авантюр жирного хитрованца Хрущёва. То он режет существующие хозяйственно-экономические связи и соединяет несоединимое в рамках совнархозов. То в одной области вводит должности двух первых секретарей обкомов: по промышленности и по селу, создавая ситуацию двух медведей в одной берлоге. То привозит из Америки «кукурузную панацею» и заставляет широко её применять. Стараясь угодить импульсивному, раздражительному и всё более раздувающемуся от самовеличия «дорогому Никите Сергеевичу», партийно-хозяйственные клевреты пытались сеять «царицу южных широт» даже за Полярным кругом.
То он бросается на новую борьбу с церковью, дорушивая оставшееся после погрома большевиками-предшественниками. То рубит частные сады, душит свирепыми налогами личные подсобные хозяйства, объявляя всему миру, что в 1980 году в Советском Союзе будет построен коммунизм и частная собственность станет не нужна.
После сумасбродств «колобка в соломенной шляпе» (одна из кличек Хрущёва в народе) весёлое добродушие чернобрового красавца Брежнева наполняло людей оптимизмом, желанием работать с засученными рукавами, но без нервотрёпки. Именно на брежневское время приходится наивысший подъём экономики Советского Союза. Но и тогда же — к концу брежневских лет — начинается его стагнация.
Бережное отношение к кадрам означало долгую их несменяемость. А это, в свою очередь, вело к уверенности, что всё сойдёт с рук. Только какие-то сверхординарные причины могли заставить отступить от этого принципа. Если не раздражаешь вышестоящее руководство критикой и опасными предложениями, не попался с шумным скандалом на «аморалке», берёшь подношения по чину и докладываешь наверх о благополучии на вверенной тебе территории или в отрасли, можешь быть спокойным за своё будущее. Даже если «благополучие» достигнуто путём приписок и статистического обмана, а «опасные предложения» могли бы стать альтернативой каменеющему консерватизму.
Эти правила быстро усвоили на всех этажах государственного здания, дополняя и расцвечивая их местным орнаментом. В республиках Средней Азии партгосноменклатура стала возрождать байство. В Казахстане вспомнили о родоплеменном делении на жузы. В Закавказье и Предкавказье расцвело куначество. Даже в славянской элите, обычно разрозненной, появилось кумовство.
Всё это обильно удобряло почву для коррупции, двойной морали, перерождения. Общество охватили апатия, цинизм и равнодушие, что только усиливало прогрессирующую болезнь экономического и социального организма страны.
В ноябре 1982 года тяжело больной Брежнев умер. Его пост Генерального секретаря ЦК Компартии занял Юрий Андропов. Это с удовлетворением встретили не только здоровые силы в партии, но и большинство народа. Люди ждали перемен и наведения порядка, а кто, как не Андропов, по мнению широких масс, мог лучше других справиться с этим. Пятнадцать лет он возглавлял КГБ СССР, оставив должность Председателя лишь за полгода до смерти Брежнева, а в стране многие с уважением относились к этой структуре.
Уже первые выступления нового руководителя выгодно отличали его от предшественника: ясная, грамотная речь вместо брежневского косноязычия, единственная звезда Героя Соцтруда на костюме вместо иконостаса наград у «дорогого Леонида Ильича», равнодушие к лести и роскоши, нетерпимость к казнокрадству и взяточничеству, честное признание трудностей, в которых оказалась страна, — всё это вскоре увидели и услышали жаждущие перемен люди.
Андропов начал с наведения элементарного порядка и законности. Чтобы поднять трудовую дисциплину, остановить прогулы и опоздания на работу, в городах начались рейды милиции. На дневных сеансах в кинотеатрах, в универмагах, в различных ателье и мастерских у людей проверяли документы, выясняли, где человек должен быть в это время. Прогульщиков охватила паника. Самые злостные из них боялись выйти из дома, но большинство — от греха подальше — перестали прогуливать и опаздывать на работу. Страна подтянулась, побрилась, завязала шнурки и надела галстук.
Кампания по наведению порядка и дисциплины сразу принесла ошеломляющие результаты. Уже за первый квартал 1983 года, то есть через какие-то три-четыре месяца, объём производства в Советском Союзе вырос на 6 процентов. Одно это показало, какие резервы перед тем распылялись.
Одновременно Андропов вернулся к расследованию многих коррупционных дел, связанных с высшей номенклатурой, которые до того вынужден был свернуть по требованию брежневского окружения.
Но он понимал, что эти меры — лишь подступы к более серьёзному лечению государства. Требовались кардинальные перемены в экономике, в организации производства. Сами понятия «перестройка» и «ускорение», сказанные тогда в узком кругу, появились именно в короткий период андроповского руководства страной.
Выход из стагнации Андропов видел в многоукладности экономики. Зная жизнь теневого бизнеса в СССР, изучив открытую экономику восточноевропейских социалистических стран, он видел, что частный сектор может эффективно работать в сфере обслуживания, в лёгкой промышленности, частично — в сельском хозяйстве. И тут ближе всего ему была модель реформ, которая уже осуществлялась Дэн Сяопином в Китае. Смысл китайской модели состоял в том, чтобы, сохраняя политический строй, вести постепенное внедрение рыночных отношений именно в тех отраслях, которые должны обеспечить людей продуктами питания, бытовыми услугами, всей гаммой товаров народного потребления. Причём развиваться рыночная сфера должна под надёжной защитой и при поддержке государства, сурово пресекающего рэкет, казнокрадство и коррупцию.
Некоторые учёные-консультанты предлагали Андропову начать с демократизации политической системы. Но он резко ответил: «Сначала надо накормить и одеть людей».
Понимая, что излечение хронических болезней государства требует времени, он торопился быстрее запустить механизмы экономических перемен. Спешил ещё и потому, что сам был тяжело болен. Вдобавок к давно мучающему его почечному диабету, он в 1981 году в Афганистане заболел азиатским гриппом, который дал осложнения.
Врачи обещали ему 5–6 лет жизни, и Андропов, исходя из этих сроков, составил план реформирования экономики и социальной жизни страны путём широкого внедрения хозрасчётных методов, расширения самостоятельности предприятий при одновременном повышении персональной ответственности и дисциплины.
Но прожить ему удалось недолго. В феврале 1984-го «советский Дэн Сяопин» умер, успев только наметить ориентиры вывода Советского Союза из застоя и кризиса.
Не все жалели об этой потере. За 15 месяцев своего правления Андропов сменил 37 первых секретарей обкомов, 18 союзных министров, провёл чистку партийного и государственного аппарата, органов внутренних дел и госбезопасности. Отказался приближать к себе бывшего посла в Канаде и будущего идеолога демократов Александра Яковлева. Однажды заявил (без подробных объяснений), что тот слишком долго — 10 лет — прожил в капиталистической стране. В другой раз высказался определённее, назвав Яковлева антисоветчиком. Уже к осени 1983 года разочаровался в Горбачёве, которого поначалу выделял за молодость и энергию. Теперь он увидел в нём верхоглядство, амбициозность, любовь к славословию в свой адрес.
Однако в широких массах к смерти Андропова отнеслись по-другому. В России издавна повелось: если внезапно умирает правитель, которого народ отметил уважением, значит, его убили. Именно так многие и расценили смерть Андропова.
Ни предыдущий, ни следующий генсек такой оценки не заслужили. Сменивший Андропова и правивший ещё меньше (11 месяцев) Константин Черненко сразу получил прозвище «живой труп». Он не мог дойти от президиума до трибуны, чтобы не остановиться отдышаться. К избирательной урне для голосования на глазах миллионов телезрителей его вели под руки. Тусклая, бесцветная личность, единственной заслугой которой была близость к Брежневу, словно специально был он вытащен историей для эффектного появления после него Михаила Горбачёва.
Но те надежды, с которыми люди встретили приход к власти Горбачёва, вскоре сменились у кого — тревогой, у кого — раздражением. Шаг за шагом он распылял кредит доверия, и спустя короткое время от первоначального обожания осталась лишь труха. Те, кто требовал демократии, отвергали его за медлительность и нерешительные, на их взгляд, действия по демократизации общества. Разочарованные, они толпами переходили к Ельцину, которому подсказали, на чём можно сыграть, и он обещал демократии сколько угодно.
Коммунисты возненавидели Горбачёва за предательство интересов партии, сдачу позиций и отступление перед экстремистами, назвавшими себя демократами. А основная масса народа, кому, по распространённому тогдашнему выражению, были «до лампочки» и те, и другие, ругала Горбачёва за разрушающуюся на глазах жизнь: дефицит большинства товаров, очереди за всем, что требовалось каждый день.
Больней всего люди реагировали на продуктовый паралич. Еду не покупали, а «доставали», её не продавали, а «выбрасывали». Слова: «Бегите в магазин, там „выбросили“ колбасу (котлеты, сыр, масло, конфеты)» вызывали не радость, а раздражение. Поэтому, прежде чем ответить на вопрос Нестеренко: «Что ты имеешь в виду?», — Карабанов показал рукой на стол:
— Ты посмотри, как мы живём! Достойно это человека? Если б не Пашина «кормушка», не подарки мне от больных и не база Фетисова, мы бы ели сейчас только лосятину с кислой капустой. Вот это я имею в виду. Нашу жизнь… и государство наше… поганое.
В этот момент Фетисов, ещё не остывший от внимания к себе, снова быстро заговорил:
— Машину увезти, сами понимаете, не две палки колбасы списать. А он, дурак, ничё не боится.
— Подожди ты со своей колбасой, — перебил его Нестеренко. — Тут нам доктор опять заведёт про Америку. Он признаёт только одно государство.
Год назад, также зимой, Карабанов улетел с женой в Соединённые Штаты. Перед тем в Союзе побывал двоюродный брат Сергея Марк. За несколько лет до того он с матерью и отцом эмигрировал в Израиль. Но семья Марка, как многие из рвавшихся якобы в «землю обетованную» евреев, даже не тронулась в ту сторону, а повернула в США. Компания, за исключением Волкова, Марка не видела. Однако столько о нём слышала от доктора, что каждый мысленно нарисовал себе его портрет. Для Нестеренки он почему-то был похож на Карабанова — толстый, губастый, только волосы не редеющие, а густые, курчавые.
Вернулся из Штатов Сергей другим человеком.
— Старик! Карабаса нам подменили, — с растерянной усмешкой сказал Нестеренко Волкову после первой же встречи с доктором на весенней охоте. И в его словах было не столько шутки, сколько недоумённей тревоги: как будто доктора действительно в Америке клонировали и прислали лишь внешне похожего на Карабанова человека. Сергей, и до того глядевший на советскую жизнь критически, теперь использовал каждую раздражающую мелочь окружающего бытия, чтобы подчеркнуть уродливое несовершенство страны. Он всё сравнивал с тем, что увидел в Соединённых Штатах сам и что слышал теперь от новых знакомых на собраниях неизвестного ему раньше Института демократизации. Туда его пригласили телефонным звонком сразу после возвращения, и он регулярно ходил в затрапезный «красный уголок» картонажной фабрики, где проводил свои собрания Институт.
На каждом таком собрании выступал какой-нибудь человек, который, как его представляли, только что приехал «оттуда» — из США, Канады, Западной Европы. Однако до Карабанова очередь почему-то всё не доходила, и он понял, что это выступают инструкторы. Они говорили каждый о своём: об использовании забастовок для борьбы против власти всех уровней, о методах агитации в трудовых коллективах и на митингах — оказывалось, приёмы должны быть разными. При этом инструкторы поначалу советовали не призывать открыто к насильственному разрушению советского режима, а давить на болевые точки стремительно ухудшающейся жизни. В первую очередь — на нехватку продуктов и отсутствие товаров первейшей необходимости. «Все революции, — сказал один из „недавно приехавших“, — начинаются из-за голода. Вспомните, как удалось начать Февральскую революцию 1917 года в России! Царская Россия была одной из немногих воюющих стран, где не вводились карточки: продовольствия было достаточно. Но умные люди перекрыли пути доставки продуктов в Петроград, и голодные женщины в очередях раскачали царизм».
Карабанов быстро понял, к чему ведут инструкторы. Некоторое время он колебался — всё же это была его страна, где он родился и вырос, за которую воевал и был ранен его отец, откуда не хотела никуда уезжать его мать — опытный врач-невропатолог. Но слитком многое здесь его уже раздражало, и он принял предлагаемые правила действий.
— Ты оглянись по сторонам, — сказал он электрику, стараясь придать голосу как можно больше товарищеской озабоченности. — Неужель не видишь, Андрей, что всё догнивает? Всё разваливается у этих коммунистов. Ты задел Америку, а я ведь там не видел ни одной очереди. Можешь себе такое представить у нас? Магазины полны товаров и продуктов… На каждом шагу кафе, рестораны. Ты был в Москве в «Макдональдсе» [1]?
— Не попал. Ну, и что? — огрызнулся электрик.
— А-а… Не попал, потому что там тысячи стоят, хотят попробовать американской еды. А в Нью-Йорке этих «Макдональдсов» — на каждом углу. Поэтому нигде нет очередей. Там слова такого не знают. А какой выбор в магазинах! Мы были зимой. Марк живёт под Нью-Йорком. Там не поймёшь, где кончается город, где начинаются пригороды. Везде одинаково яркая реклама, на дорогах светло от фонарей. Не как у нас: с главной улицы свернул — и конец света. Зашли с Верой в небольшой магазин. Сказал ей, чтоб отвернулась от витрины и стала называть продукты, какие может вспомнить. А я смотрел: есть ли они? Ребята! Мы выдохлись на третьем десятке. Увидели всё, что приходило в голову. Даже вишню и клубнику. В январе! А сколько мы с вами всего забыли! Названий не помним, не то что вкуса!
Волков это слышал ещё год назад, когда был у Сергея дома после его приезда из Штатов. Потом — летом на рыбалке, куда они ездили вдвоём. Поэтому с видом причастного к тайне подтолкнул доктора:
— А расскажи, Сергей, про кефиры.
— Э-э, это отдельная песня. Сколько у нас кисломолочных продуктов?
— Ряженка, — с готовностью начал перечислять учитель. — Кефир. Простокваша. Творог.
Подумав, добавил:
— Сметана.
— Всё? А в Америке раз в десять больше. Если не в двадцать. Ты назвал, Володя, сметану. У нас она в единственном виде.
— Если достанешь, — сказал Волков.
— А в американских магазинах и разной жирности, и разного веса…
— Зачем разного-то? — с сомнением в голосе спросил Валерка.
— Кому-то надо триста грамм, другому — двести. А бабке… старушке одинокой, может, хватит маленькой баночки.
Помощники егеря недоверчиво переглянулись. Волков заметил это.
— Ты про кефиры расскажи, — нетерпеливо напомнил он Карабанову.
— А от этого дела мы вообще растерялись. Представьте метров десять — пятнадцать… даже не знаю, как назвать… витрина што ль? Открытая полка, но сзади холод. На полке разные кефиры… йогурт…
— Эт кто такой? — с подозрением спросил Адольф. — Ёгурт?
— Можно сказать: кефир. Одно и то же. Как у Валерки Федя и Альберт. Но этих йогуртов… каких только нет. С вишней. С клубникой. С черникой. С кусочками персика. С шоколадом. Всё открыто. Бери в корзину — и в кассу.
— И не воруют? — хрипло спросил красноглазый мужик.
— Там не украдёшь — весь зал осматривают кинокамеры. Да и зачем, когда всего в избытке.
— Вот чёрт! — воскликнул Валерка. — Почему у нас так нельзя?
Он запустил пальцы в жёсткий вулкан волос над узким лицом, поскрёб в недоумении голову.
— Ёгурды. Мы в сельповский магазин не ходим. Скажи, Николай! Там нечего делать. Мыло дают по карточкам. И то — кусок на месяц. Мыло-то куда исчезло? Эт разве дело? Поедет баба в город — там очереди и пустые магазины.
— Это всё Горбачёв! — грохнул кулаком по столу Нестеренко так, что подпрыгнула тарелка с капустой и огурцами. — Он, тварь, развалил экономику, порядок — всё в стране. При Брежневе жили сытно… Мирно.
— Не считая афганской войны, — холодно бросил доктор.
— А сейчас война по всему Союзу! — рявкнул Нестеренко. — Армяне убивают азербайджанцев. Те — армян. Узбеки — каких-то месхетинцев. В Молдавии — русских. Эт чё такое, ребяты-демократы? Сталина нет на вас! Он бы устроил вам карабах-барабах.
— Во! Поглядите на него! А мы хотим перемен.
— Я недавно был в Рыбинске, — сказал Слепцов. — Там наш завод. Прошёл по магазинам — всё пусто. Хлеб и консервы «Завтрак туриста». Раньше такого не было. Давно туда езжу. Привозил сыры — «ярославский», «пошехонский», «угличский», «костромской». Всё исчезло. За плавленым сырком очередь.
Он замолчал. Затихли и остальные, думая каждый о своём. Волков вдруг вспомнил, как пылал недавно от стыда в кабинете директорши гастронома. Она была матерью его ученика — ленивого и нагловатого подростка. Можно было вызвать её в школу. Но приближался день рождения жены. Попирая гордыню, учитель позвонил в магазин. В жар бросало не только от взглядов всё понимающей, самодовольной женщины, которая, с трудом вынув из кресла глыбу расплывшегося тела, повела его в подсобку. Стыдно было от того, что он действительно забыл названия продуктов. «Што бы вы хотели?» «Колбасу». «Какую?» Он пожал плечами. «А ещё?» «Э-э… колбасу». Женщина снисходительно улыбнулась. «Ну, хорошо, какие у нас есть колбасы, мы подберём. Ещё чево?» Однако Волков ничего не мог вспомнить даже из того небольшого количества названий колбасно-мясных изделий, которые знал по «заказам» Фетисова.
Вспомнив о визите в магазин, он с благодарностью подумал о товароведе — от скольких неудобств избавлял его Игорь Николаевич своей неброской и как бы даже стеснительной поддержкой. Иной сделает на копейку, а будет представлять дело так, словно сотворил грандиозное благо, будто ради этого одолел неимоверные трудности и потому облагодетельствованный им должен помнить это если не всю жизнь, то уж обязательно многие годы.
Игорь Николаевич был для компании вроде камертона миролюбия. Его старались не задевать даже лёгкой иронией, не говоря о грубоватых, порой беспардонных мужских шутках, как это норовили сделать при каждом удобном случае с остальными. Если трогали, то скорее с заботливым добродушием, не переходя грань. На одной из прошлозимних охот лося взяли совсем уж поздно, в сумерках. Стреляли сразу двое: Нестеренко и товаровед. Пока егеря разделывали тушу, Фетисов с беспокойством ходил вокруг. Время от времени взрывал носком валенка снег, словно пытаясь что-то найти.
— Чего потерял? — спросил Нестеренко, закусывая выпитую «на крови» водку.
— Галоша куда-то… Она у меня слабо сидит.
Когда перевернули тушу лося, чтобы снимать шкуру с другой стороны, кто-то из егерей крикнул:
— Э-э! Тут чья-то галоша!
Ядовитый электрик отреагировал мгновенно:
— Это Фетисова! Его смертельное оружие! Он у нас лосей галошами бьёт.
Но товарищи не подхватили шутку Андрея, хотя каждый понимал: случись такое с ним, компания долго бы издевалась над «стрельбой галошами». Хмыкнул только Слепцов, да и тот сразу запнулся. Маленькая фигурка Фетисова в давно приношенном офицерском бушлате, в выцветшей до рыжины ондатровой шапке, с болтающейся на груди муфтой — в ней Игорь Николаевич грел руки, стоя на «номере», — вызывала больше сочувствия, чем смеха.
Выпивая, Фетисов быстро пьянел; глаза начинали слезиться; он, стараясь не привлекать внимания, вытирал их, и чаще рассеянно, нежели с интересом, слушал кипящие споры товарищей.
Однако на этот раз он даже немного подсердился оттого, что ему не давали сказать до конца. Улучив момент в напряжённо-злой тишине, Фетисов быстрым говорком зачастил:
— Говорю ему: плохо кончится. Очень будет плохо. По складам нельзя пройти. Забиты. Одежда всякая… Дублёнки… Костюмы. Обуви под потолок. А продуктов! Некуда ставить. На путях держим… В вагонах.
Все разом повернулись к Фетисову.
— Консервы… банки… Эти можно долго хранить. А скоропортящийся продукт? Масло… сыры. Пока в холодильниках. Колбасы — сервелат, сырокопчёная — могут полежать. Хотя у них тоже срок хранения не вечный. А варёные колбасы? Сосиски… Сардельки… Окорока… грудинка-корейка… карбонат… буженина…
— И это всё у вас есть? — ошарашенно выдавил Нестеренко.
— Девать некуда. Какой-то команды ждёт. А когда она будет? Уже две машины варёных колбас отвезли в лес. Выбросили. Говорю ему: Григорий Евсеич, будешь крайним. С тебя спросят. А он: «Не время пока. Скажут, когда надо. Не одни мы держим. Вокруг Москвы много составов».
В избе стало тихо, как будто из неё все мгновенно исчезли. Только потрескивали горящие дрова в печи. Наконец, учитель, запинаясь, проговорил:
— Игорь, ты… ты понимаешь, что вы делаете?
Он стал доставать сигарету, но пальцы никак не могли её захватить.
— Вы натравливаете голодный народ на власть. Губите страну.
— Правильно делают! — резко, с незнакомым металлом в голосе произнёс Карабанов. — Эта власть уже погубила страну. Осталось подтолкнуть.
Доктор понял, что это и есть реализация того плана, о котором он слыхал летом минувшего года.
Глава третья
Тогда его после очередной встречи в Институте демократизации позвал с собой на «интересное собрание» один из новых знакомых — младший научный сотрудник какого-то НИИ Анатолий Горелик. Горелик был моложе доктора. Лысоватый, с остатками редких светлых волос на темени, с выпуклым лбом и размыто-голубыми глазами, он, казалось, только что был отстиран с моющим средством «Белизна». Своей нездоровой бледностью и слабым телом сутулый Горелик напоминал скорее подростка-домоседа, не знающего улицы, чем активного мужчину митингов и площадей. Но это впечатление было обманчиво. Перед толпой Горелика распрямляло, в слабом голоске появлялась твердь, и какая-то тревожная, фанатичная сила захватывала стоящих рядом людей. Организаторы собраний в Институте называли Горелика «активистом демократического движения со стажем» и новичкам советовали к нему прислушиваться. Но Карабанов, привыкший сам быть не среди последних, с иронией глядел на этого неказистого комиссара нового времени.
— Куда поедем? — спросил он, раздумывая, садиться ли ему в «Жигули» Горелика или пойти на автобус — из школы должна была прийти младшая дочь-пятиклассница, в которой Карабанов не чаял души.
— Давайте, давайте, Сергей Борисыч! К нам приехали из Московской ассоциации избирателей. Собрание… (он глянул на часы) уже идёт.
Их не сразу пропустили в зал, хотя он был заполнен людьми наполовину. Один из двух крепких парней, стоящих возле дверей, куда-то сходил с паспортом Горелика. Вышел человек. «Активист со стажем» показал на доктора: «Это — наш…»
Разговор шёл примерно о том же, о чём говорили в Институте демократизации. Как агитировать? Что обещать? Как преподносить имеющиеся у партократов привилегии: спецполиклиники, казённые загородные дачи, жильё повышенной комфортности.
— Если у директора завода или секретаря горкома партии трёхкомнатная квартира на троих, — говорил тонким женским голосом стоящий рядом с трибуной упитанный мужчина, — найдите конкретную семью простого рабочего, где трое живут в двухкомнатной… А лучше — в однокомнатной. Поднимайте шум о несправедливости… Пусть люди задумаются: нужна ли им такая несправедливая власть?
Однако на том собрании доктор услышал и нечто новое. Из президиума, где сидели три человека, несколько раз прозвучали неожиданные для него слова: «Мы должны захватить власть…»
Собрание вёл невысокий плотный человек с плечами штангиста и круглым лицом простачка.
— У нас есть шансы для победы, — сказал он после выступления очередного активиста из зала. — Нужно ставить на учёт каждого депутата РСФСР. Он должен понять, что если он будет голосовать не так, как скажет Межрегиональная группа, то жить ему в этой стране будет невозможно.
«Ого! — удивился Карабанов. — Вот это демократия! Расстреливать, што ль, будут?»
Горелик провёл доктора поближе к президиуму — свободных мест в зале было много, и тут Карабанов как следует разглядел главного. Это только издалека лицо председателя показалось ему лицом добродушного простачка. Теперь он его увидел другим. Большую круглую голову охватывала шапка коротко стриженных, густых и, видимо, очень жёстких волос — косо падающий на средину низкого лба тёмный клин не сдвигался, даже когда председатель энергично тряс головой. Казалось, какая-то хищная птица распласталась на его голове, сбросила жёсткое крыло на лоб и, вцепившись в голову, не собирается выпускать свою добычу.
— Во время уличных митингов, — заговорил поднявшийся в соседнем ряду парень, — не обойдётся без драк, нарушения общественного порядка. Будет проливаться кровь. Кто защитит наших? Кто будет платить штрафы и защищать в судах?
— Пусть это вас не беспокоит, — заявил сидящий слева от председателя мужчина с длинным, как лошадиная морда, лицом. — У нас есть деньги, чтобы платить штрафы. Есть список 30 адвокатов, которые будут защищать наших людей, попавших к властям.
«Это кто?» — тихо спросил Карабанов Горелика. Тот пожал плечами. «Наверно, какой-то адвокат». «А этот?» — показал доктор на вставшего за столом президиума председателя. «О-о! Это известный экономист… Гаврила …э-э… Маратоныч, кажется. Один из лидеров Межрегиональной депутатской группы. Она сейчас главная сила демократии. На ней держится Ельцин. Подождите. Надо слушать».
В это время председатель подошёл к трибуне и снова заговорил о власти.
— Власть должна перейти к нам. Демократия… Церемониться больше нельзя.
«Да-а… Тебе власть только дай, Макароныч, — опять мысленно усмехнулся доктор. — Служил Гаврила демократом…»
А тот, пренебрежительно вздёргивая верхнюю губу, напористо диктовал:
— Для достижения всеобщего народного возмущения надо довести систему торговли до такого состояния, когда ничего нельзя будет приобрести.
Ничего! Таким образом можно добиться всеобщих забастовок рабочих в Москве и в других городах. Затем ввести карточную систему. Но карточки обеспечивать не полностью. Товаров здесь должно не хватать. Сильно не хватать. Какую-то часть… может, значительную часть товаров направить в кооперативы и продавать по произвольным ценам. Это тоже вызовет возмущение.
«Значит, дела пошли», — подумал доктор, меньше других поражённый сбивчивым рассказом Фетисова. Хотя дефицит уже давно тряс страну, Карабанов относил это на счёт неумелых действий горбачёвской команды. Однако теперь он понял, что, оказывается, активно работали и другие силы. Гордый своим участием в этой большой, невидимой деятельности, он ещё жёстче повторил, глядя на Андрея Нестеренко:
— Пусть быстрей всё развалится. Эта власть уже погубила страну.
— Как говорил лысый вождь большевиков Ленин: чем хуже, тем лучше, — весело добавил Слепцов.
— Да вы что! — закричал Нестеренко. — Вы ж диверсанты, ети вашу мать! Враги народа! Вас расстрелять мало!
— Не преувеличивай, Вольт, нашу роль, — бросил Слепцов, наливая себе в стакан водки. — Мы видим то, что давно разглядели другие: Горбачёв нам послан судьбой. Может, он действительно недоумок, как считают у нас. Но наша публика…
Он перемял тонкие губы не то в улыбке, не то в брезгливости:
— …это особая публика.
Глава четвертая
Слепцов был заместителем главного экономиста на крупном заводе с ничего не говорящим непосвящённому человеку названием. Таких предприятий в Советском Союзе было много. И ни по их «именам» — «Сплав», «Баррикады», «Южное», «Титан», «Рубин» и тому подобные, — ни даже по названиям министерств, к которым они относились, нельзя было определить, какую продукцию они выпускают. Например, ядерную начинку для ракет с атомными боеголовками делало Министерство среднего машиностроения. А было ещё Министерство тяжёлого машиностроения, Министерство общего машиностроения, просто Министерство машиностроения и ещё с десяток подобных ведомств, которые, наряду с гражданской продукцией, выпускали военную.
Завод, где работал Павел Слепцов, создавал системы управления ракетными комплексами и был связан по кооперации почти с тридцатью предприятиями в разных республиках Советского Союза.
Кадры военно-промышленного комплекса, на самом деле, были «особой публикой». Благодаря улучшенному социальному обеспечению — жильём, продуктами, товарами, здравоохранением, отдыхом — сюда отбирались наиболее подготовленные специалисты. На закрытых заводах и в моногородах продолжалось постоянное их обучение. Поэтому даже рабочие были хорошо знакомы со всеми технологическими новшествами советского и зарубежного производства. Это поднимало их в собственных глазах, развивало чувство достоинства, делало людей раскованными и достаточно свободно мыслящими.
Особенно сильно это чувствовалось в инженерно-конструкторской среде, где непрерывно шло соревнование идей, где постоянно сравнивалось «сделанное у нас» с «выпущенным у них».
Приход к власти Горбачёва многие в конструкторских бюро и на предприятиях военно-промышленного комплекса встретили с удовлетворением. Всем надоели шамкающие старцы на трибунах, созданный ими застой последних лет, и потому молодому, улыбчивому генсеку хотелось пожать руку.
Но первоначальная эйфория быстро сменилась настороженностью. Открыв без учета психологии и сформированного за десятилетия менталитета советского человека люки гласности, через которые, вместе с тонкими струйками свежего воздуха, попёрла зловонная жижа яростной критики ВПК, Горбачёв столкнул одну часть народа — миллионы работающих на предприятиях военно-промышленного комплекса, а также тех, кто в той или иной степени имел отношение к обороне страны, с остальным населением.
Одновременно сумбурные и противоречивые, под стать, как стало выясняться, сути самого Горбачёва, планы конверсии и сокращения вооружений ударили по обороноспособности Советского Союза. Слепцов, как многие люди его уровня осведомлённости, наблюдал сначала с изумлением, а потом с опустошённым безразличием за драматической судьбой советского ракетного комплекса «Ока». Созданный в Коломенском КБ машиностроения под руководством академика Сергея Павловича Непобедимого ракетный комплекс был принят на вооружение в 1983 году. В НАТО ему дали имя «Паук». Фрагменты «Оки» делали в разных местах страны. Самоходную пусковую установку и шасси — в Волгограде и Брянске, ракеты — на Боткинском машиностроительном заводе в Удмуртии.
К моменту постановки на боевое дежурство комплекс не имел аналогов в мире. А после оснащения его системой преодоления противоракетной обороны (ПРО) стоящий на вооружении стран НАТО американский противоракетный комплекс «РАТРИОТ» стал, по признанию военных Запада, «абсолютно неэффективным».
В 1987 году на испытания была направлена усовершенствованная пусковая установка «Ока-У». Она отличалась ещё более высокой точностью, стремительной подготовкой к залпу из походного положения и практически полной неуязвимостью ракеты, которая могла нести, кроме обычного, ядерный заряд. Ракета управлялась в течение всего полёта и способна была на ходу перенацеливаться на любой другой объект поражения.
Но испытания из-за вмешательства Горбачёва прекратили. В апреле 1987 года в Москву для переговоров о ликвидации ракет средней и меньшей дальности приехал госсекретарь США Шульц. В эту категорию попадали ракеты с полётом от 1000 до 5500 километров (средняя дальность) и от 500 до 1000 километров (меньшая дальность). Советская «Ока» не подпадала под эти ограничения: её дальность полёта составляла 400 километров. Но американцы хотели во чтобы то ни стало включить в число уничтожаемых и опасную для них «Оку».
Зная, что их в этом поддерживает министр иностранных дел СССР Шеварднадзе, который настойчиво подталкивал к такому же решению генсека, советские военные написали для Горбачёва памятную записку. В ней советовали ни в коем случае не соглашаться на предложения американцев, поскольку это нанесёт урон советской обороноспособности.
О том, что произошло на встрече Горбачёва с Шульцем, через некоторое время стало известно оборонщикам. Шульц сказал, что если генсек согласится включить в Договор ракеты «Ока», он может смело ехать в Вашингтон для подписания документа эпохи. Горбачёв засиял. Ему всё больше нравилось, что каждый его новый шаг руководители западных стран, а от них — пресса преподносят как действия исторического значения. Он немного поколебался, потом заявил: «Договорились».
В осведомлённых кругах передавали последующий разговор Горбачёва с начальником Генштаба маршалом Ахромеевым. Тот спросил генсека, почему он согласился на уничтожение целого класса новейших ракет, ничего не получив взамен? Горбачёв сначала сказал, что забыл о предупреждении военных. Потом признал, что, наверно, совершил ошибку. Однако когда Ахромеев попросил немедленно сообщить Шульцу, пока тот не вылетел из Москвы, о прежней советской позиции, Горбачёв напыжился. По своей хамоватой привычке всех нижестоящих называть на «ты» — чтоб знали дистанцию! — пробормотал маршалу: «Ты предлагаешь мне сказать госсекретарю будто я, Генеральный секретарь, некомпетентен в военных вопросах? Такого не будет».
Возвращаясь из Москвы в Вашингтон, Шульц сказал в самолёте американским журналистам, что включение ракет «Ока» в Договор «было настолько односторонне выгодным для Запада, что он не уверен, смогли бы советские руководители провернуть это, будь в Москве демократический законодательный орган».
Слепцов узнал об этом через несколько месяцев. Всем, кто не соглашался поддержать, по сути, предательское решение Горбачёва, грозили партийными наказаниями, а значит, лишением должности, и потому обсуждение вышло за рамки секретности.
В декабре 1987 года Горбачёв и Рейган подписали Договор. Спустя два года, в 1989-м, было уничтожено более 200 самых неуязвимых советских ракет ближнего радиуса действия.
Американцы не замедлили воспользоваться «подарком недоумка», как стали называть эту историю и её автора ракетостроители. Вскоре после подписания Договора они начали готовить к размещению в Европе свои ракеты «Лэнс-2» с дальностью, превышающей полёт «Оки». Поэтому слова Андрея Нестеренко о диверсантах обидели Слепцова. «Не там, Вольт, ищешь врагов», — с раздражением подумал он. А вслух с вызовом произнёс:
— Власть надо менять! На другую.
— Ну, тебе бы, Паша, на власть обижаться не надо, — заметил Волков. — При другой, не советской, стал бы твой отец генералом? Ходил бы в крестьянах. Быкам хвосты крутил.
— Наполеоновский маршал Мюрат был сыном конюха, — отрезал Слепцов. — В Америке сплошь и рядом президенты из простых. Авраам Линкольн, например, — лесоруб. А мой дед, к твоему сведению, был лесничим. Так что не надо повторять сказку про большие возможности в нашем мире и полное отсутствие их там.
— Когда воздух есть, его не замечаешь. А как полиэтиленовый пакет на голову наденут, сразу вспомнишь. Ты в садик ходил бесплатно? В школе учили бесплатно? Институт закончил — тоже ни рубля?
— Не забудь про музыкальную школу, — со злостью добавил всё ещё потрясённый Нестеренко. — Считай — дали ещё одну специальность. Случись чего, скрипку в руки — и опять сытый.
— За мою специальность не переживай, Вольт. Она всегда будет востребована. Ракеты нужны и коммунистам, и капиталистам. А скрипка… Это прошлая жизнь…
Глава пятая
Отец Павла страстно любил музыку. Самому не удалось выучиться играть — завидовал тем, кто умел. Когда на вечере в пединституте, куда пригласили слушателей военной академии, он услыхал игру на фортепиано белокурой девушки, сразу решил, что именно это его судьба.
Учиться играть на инструменте матери Павла сначала уговаривали. Потом стали заставлять. Он не поддавался. Отец готов был уже согнуть упрямца «через колено», но мама поняла: насильно мил инструмент не будет.
На скрипку младший Слепцов согласился только потому, что не тяжело носить и при нужде легко прятать. Но увлёкся, и когда семья вернулась из Германии в Советский Союз, уже с охотой пошёл в музыкальную школу.
Став взрослым, инструмент почти забросил. Брал в руки, чтобы привлечь очередную девушку или сделать приятное родителям. Несколько раз привозил скрипку на охоту. Это был период, который Нестеренко назвал «охотой на лис». Первым «открыл сезон» Сергей Карабанов. Пряча смущение в серых глазах под набрякшими веками, он неуверенно сказал товарищам, что приедет с женщиной. Бурно возражал только Нестеренко:
— Баба на охоте и на корабле — к беде, — запротестовал электрик, в прошлом матрос Северного флота.
Остальные отнеслись к сообщению доктора кто с интересом, кто безразлично.
После доктора с женщиной появился Волков. Потом Слепцов. Андрей Нестеренко долго был против того, чтобы соединять настоящую охоту с «охотой на лис». Но, в конце концов, сдался и он, высадив однажды из машины высокую, налитую здоровьем шатенку с большой грудью и крутыми бёдрами.
Если Карабанов приезжал на некоторые охоты с одной и той же медсестрой из своей больницы, то другие были не так постоянны. Нестеренко и Волков раза по два привозили новых женщин. Однако со временем снова перенесли «охоту на лис» в городские условия, с удовольствием отдав кухонную работу на базах подругам своих товарищей.
Менял женщин и Павел Слепцов. Но происходило это какими-то «залпами».
На охоте мужчины, как правило, становятся несколько иными, чем в обычной обстановке. За столом, а особенно в бане, мягчают, выплёскивают то, о чём в другое время промолчали бы. К тому же дают о себе знать характеры. Импульсивный и часто открытый Нестеренко мог бесшабашно рассказать о каких-нибудь перипетиях семейной жизни, не видя в этом ничего плохого. Жену он не то чтоб переживательно любил — с годами пылания переходят в ровное горение, — но, как понимали товарищи, был к ней неотделимо привязан. Любовницы только завихряли его чувства, однако доводить отношения до выбора: я или жена — он не позволял.
Доктор в присутствии медсестры Нонны — невысокой, слегка полнеющей, но всё ещё аккуратно сложенной женщины, с чуть выпуклыми зеленоватыми глазами и массивной переносицей, что говорило о буйной страсти, вёл себя то как хозяин и взрослый мужчина, то словно ребёнок. О семье он говорил мало. Но Волков, бывавший у него дома, видел за внешне вежливыми отношениями с женой скрытую холодность и с одной, и с другой стороны.
Учитель так же, как и Нестеренко, ценил свою жену. Она была у него второй — с первой, студенческой, они разошлись быстро, без драм и скандалов, как-то по-товарищески. Может, потому, что не успели родить ребёнка, может, благодаря волковской натуре. Он и до того развода, и позднее сходился с женщинами легко, был с ними дружелюбен, от чего даже после расставаний они сохраняли с ним тёплые, доверительные отношения, нередко рассказывая о своих новых любовниках, советуясь по поводу пикантных ситуаций, которые возникали у них с его «сменщиками».
О делах в семье Слепцова товарищи больше догадывались, чем знали. Скрытный и сдержанный по натуре, он тем более сразу замыкался, едва кто-нибудь, забывшись, спрашивал о семье. Про сына мог скуповато сказать, жене и этого не доставалось.
О том, что Слепцов развёлся, компания долго не подозревала. Лишь появление с Павлом сначала одной женщины, потом — через охоту — другой, за ней — через пару охот — третьей толкнуло бесцеремонного Андрея Нестеренко на расспросы. В биллиардной комнате была только своя компания. Женщины в столовой собирали посуду после ужина. Егеря ушли спать. Слепцов сухо и коротко сказал вроде электрику, а на самом деле всем, потому как остальные тоже заинтересованно смотрели на Павла, что теперь он свободен и звонить ему надо на квартиру родителей.
Потом случился новый «залп». Компания только успевала знакомиться с кратковременными подругами Слепцова — в основном, очень молодыми женщинами. Каждой из них он играл на скрипке свою любимую мелодию из американского фильма «Серенада солнечной долины».
Женщины, не задерживаясь, меняли одна другую, словно Павел хотел кому-то и что-то доказать. Пока однажды с ним не появилась примерно его лет дама — стройная, высокая, с аристократическим лицом и жгуче-чёрными крашеными волосами. Она оказалась однокурсницей Слепцова, которую тот когда-то до потери самообладания любил, да и она была к нему неравнодушна. На последнем курсе стали жить открыто. Его и её родители перезнакомились в ожидании свадьбы. Но вдруг словно смерч подхватил Анну — так звали слепцовскую невесту: и она в считанные дни вышла замуж. Уехала в Саратов с человеком старше неё, родила двоих детей, после чего муж-профессор увлёкся своей аспиранткой.
Анна вернулась с детьми — уже школьниками — к родителям. Случайно на улице встретила Павла. Они просидели на скамейке в осеннем парке до темноты, поскольку идти ни к нему, ни к ней было нельзя. Через некоторое время открывался охотничий сезон, и Слепцов взял Анну с собой.
После этого он приезжал с нею часто, но ни разу не привозил скрипку. Тем более не брал «стонущий инструмент», как его назвал однажды Нестеренко, когда ехал на охоту один.
Со временем товарищи даже подзабыли про «музыкальный довесок» Слепцова, и вот теперь электрик с издёвкой напомнил об этом.
— Жалко, у нас с тобой, Андрей, нет такого же запасного аэродрома, — примиряющее сказал Волков, видя, как ходят скулы у Слепцова. — Пашин талант не одному ему может пригодиться.
Слепцов удовлетворённо покивал, все стали расслабляться, как вдруг Валерка, словно чёрт из-за угла, снова вбросил колючую тревожину.
— Нет, я всё-тки не пойму: почему за границей еда есть, а у нас её нету?
— Потому что диверсанты прячут! — немедленно отреагировал Нестеренко. Оглушённый сообщением Фетисова, он даже табуретку отодвинул от товароведа. Однако и это его не успокоило.
— Теперь вы видите, кто такой «пятнистый» и его твари? Явных врагов не могут арестовать и повесить!
Своё гневное «твари» инженер произнёс с такой яростью, что Волков вдруг подумал: дай Андрею сейчас возможность, он, не колеблясь, уничтожил бы Горбачёва из своего пятизарядного МЦ 21–20 [2].
— Тебе везде мерещатся враги, — отчуждённо бросил Карабанов и, повернувшись к Валерке, пояснил:
— Там — рынок. Поэтому всё есть.
Валерка выдернул пятерню из дыба волос.
— Ну, и что? У нас тоже есть рынок… В Петровске. Скажи, Николай! Раньше хороший был рынок. Сичас, конечно, не то…
Доктор засмеялся.
— Это разные вещи, Валера. Там экономика по-другому построена. У нас из Москвы планируют, сколько кастрюль выпустить в Ташкенте… на авиационном заводе. Вон спроси Пашу! Планируют, сколько ботинок сделать на ленинградской фабрике… и сколько где-нибудь в Харькове. А там каждый хозяин решает сам. Видит, его ботинки разбирают — тут же покупает больше кожи, подошв, шнурков — всё это в свободной продаже. Производители этого добра также реагируют на спрос. Есть потребность — увеличивают производство. Нет — сворачивают. И никаких Госпланов! Никаких планов вообще!
— Ну, это вряд ли, — усомнился Волков. — Планировать всё равно нужно. Сколько подошв делать? Сто или тысячу? Как же без плана?
— Умная рука рынка, Володя, регулирует всё сама. Есть спрос — производитель увеличивает выпуск и поднимает цену. Много предложений — цена сразу падает. А у нас? Ты посмотри хотя бы на бензин. Страна заливается нефтью, гонит за границу — в соцстраны задарма. Настроили перегонных заводов, а бензина нет. Люди ночуют в очередях.
— Да, это сволочизм, — со злостью согласился учитель, вспомнив, как перед охотой метался с канистрами от заправки к заправке. — Совсем разучилось государство управлять.
— Оно и не должно управлять, — заявил доктор. — Доуправлялись!.. Был бы рынок — заправки стояли б на каждом углу.
— И цена бензину — копейки, — добавил Слепцов.
— А кому за ценами следить? Если государство, по-вашему, не должно руководить экономикой, кто будет регулировать всю эту кухню? Количество бензина? Цены на него?
Слепцов снисходительно усмехнулся. Как надоевшему ребёнку, пояснил:
— Рынок, Франк. Только он. Его умная рука.
— Заладил, как попугай: рынок, рынок, — сердито оборвал Слепцова учитель. Он разозлился даже не на кличку, хотя сейчас она, как показалось ему, прозвучала довольно пренебрежительно, и Волков с досадой подумал о том, что Слепцову тоже надо было давно дать какое-нибудь прозвище. Карабанов у них был Карабас. К Нестеренке — за его бурную, словно наэлектризованную энергию, которая иногда, казалось, исходила не только от резких жестов и движений, но даже от черт грубоватого лица, как карта в масть, легла кличка Вольт. Фетисова товарищи, не мудрствуя лукаво, назвали Базой. Учителю ничего лучше не придумали: коль преподаёт французский, значит, Франк. И только с кличкой для Паши Слепцова у компании не получалось — какой-то он был неуловимый. «А надо бы», — подумал Волков, злясь от неприятной ему, враждебной наступательности Карабанова и недобрых реплик Слепцова.
— А если владельцы заправок сговорятся? Установят, какую захотят, цену. Кому тогда жаловаться?
— Паша прав, Володя. Во всём другом… не нашем мире… государство абсолютно не вмешивается в экономические процессы. Их регулирует сам рынок. И никаких планов-Госпланов. Ни маленьких, ни больших.
Сухое лицо Слепцова слегка скривилось, и в глубине провалов-глазниц скользнула заметная усмешка. Он пожал плечами, но ничего не сказал. В отличие от доктора, Павел неплохо знал зарубежную экономику и перемены в ней за последние десятилетия. Свободно владея немецким языком — его он начал учить ещё в детстве, в Германии, где отец долго служил представителем одного из советских министерств, — Павел в институте занялся английским. Работая на заводе, языки не забросил. Теперь мог читать на двух языках даже специальную литературу, не говоря уже о периодических изданиях. Перспективное планирование имелось везде: в работе корпораций, крупных фирм, на уровне государственной власти. Иначе нельзя было двигаться вперёд. Недостаточно поставить цель — надо просчитать и запланировать получение всего необходимого для её достижения.
Больше того. Как раз под влиянием советской плановой системы в развитых капиталистических странах становилось нормой разрабатывать долгосрочные планы, а государственная власть всё активней участвовала в регулировании экономических процессов. Это Павел знал из разных источников, и тут доктор почему-то явно искажал действительность.
Но Слепцов не стал опровергать Карабанова. «Зачем? — подумал он. — Одним обманом меньше, одним — больше. А разъяснять, куда нас несёт, как этого хочет Волков… Кому? Этим мужикам? От них всё равно ничего не зависит. Народ?… Это стадо овец: куда поведут вожаки-бараны, туда побежит и стадо… Карабас пробивается в вожаки. Мы с ним разные, но рядом. Остальные — там… Сзади… Не надо мешать Сергею…»
А Карабанов повёл взглядом по лицам сидящих за шатким столом и вдохновенно заговорил:
— Сегодня у нас с вами январь девяносто первого. Вот если, как задумано… если всё удастся… — он постучал согнутым пальцем по столу, сплюнул — «чтоб не сглазить», — лет через восемь-десять встретимся и не поверим, что была такая жизнь. Игорь ещё не уйдет на пенсию… да она и не нужна ему будет! Наш Фетисов станет хозяином этой базы… ну, тогда её назовут как-нибудь по-другому… Он будет богатым человеком. Продуктов на базе — завались, а мы его ни о чём не просим: не нужны нам к празднику заказы… в магазинах всего полно.
Володя Волков станет директором школы. Дети все сытые, ухоженные… В семьях у них — полный достаток. Бедных в этой стране тогда вообще не будет. Матери не работают — отцовой зарплаты на всё хватает… Даже на будущее откладывают. Сам Володя тоже богатый… как во всём мире. Учитель везде — высокооплачиваемая профессия…
Так будет или по-другому, Карабанов в действительности не знал. Он выполнял рекомендацию, которую слушателям повторяли на каждом собрании в Институте демократизации: «Рисуйте самые яркие картины возможной жизни. Не душите свою фантазию. Абсолютное большинство людей ничего не знают о другом мире. Чем сильней будет отличаться окружающая их жизнь от нарисованной вами, тем больше людей встанут под знамёна кардинальных перемен».
— Ну, про Андрея ничево сказать не могу. Инженеры-электрики нужны будут — это понятно. Хотя Андрей со своими политическими взглядами… Найдёт ли он себе место в новой жизни?
— Найду, найду, не бойсь! — отрезал Нестеренко. — Только Горбачёва надо убрать. От него вся зараза идёт. Не понимает, где должна быть демократия, а где — кулаком стукнуть. Ты, когда делаешь операцию… тобой кто-нибудь командует? Медсестра… Нонна, например. Иль кто другой из рядовых?
— Когда я провожу операцию, я там главный. Меня обязаны слушать все. В человека… в его организм нельзя лезть, кому попало.
— А-а-а, — насмешливо протянул электрик. — А в производство… в тот организм, значит, любой может залезть? Помнишь, мы говорили о выборе директоров?
— И што?
— А то. Их вот не коснулась эта чума (показал на Слепцова и Волкова).
— Нас тоже задела, — усмехнулся учитель. Нестеренко повернулся к нему.
— Задела… Вас задела, а по нашему заводу прокопытила. Карабас тогда уверял, помнишь? «Демократия! Люди перестанут работать из-под палки! Выберут лучших руководителей!» Мне сразу было видно: из той демократии выйдет один бардак. Хорошее дело — контроль народа. Но всякому овощу — свой срок. А главное — умный огородник. Кого можно под шум и гам избрать? Кто больше орёт и обещает все деньги пустить на зарплату. А станки обновлять? А новые технологии? Выбрали. Сидел в профкоме, собирал взносы. До горбачёвской смуты его никто не знал. Потом, оказывается, поездил в Таллин — родня, што ль, у него там? И как подменили мужичишку: стал обещать золотые горы, обвинил Хайруллина — это наш бывший… Не умеет, говорит, работать в условиях перестройки.
Нестеренко нахмурился.
— Рассказывал сказки, как Серёга сейчас. Оказался арап. Всё развалил. Теперь — в российских депутатах. Вертится возле Ельцина.
— Нельзя судить по одному примеру! — резко возразил Карабанов. Его рассердило сравнение с директором — арапом. — Свободный рынок и демократия в управлении — это близнецы-братья. Спросите Пашу!
Электрик махнул рукой и пошёл за бутылкой минеральной воды к старому, дребезжащему холодильнику.
А Слепцов негромко хмыкнул, но вмешиваться опять не стал. Он помнил тот разговор. Его тоже тогда удивила идея Горбачёва «восстановить начала советского самоуправления» через выборность руководителей предприятий. Это отдавало давно забытой анархией первых послереволюционных месяцев, когда управлять ставили не по знаниям и умению, а по классовой принадлежности и выбору толпы. Время показало небольшой эффект от народного признания. Командирами, чаще всего, становились зажигатели масс с лужёной глоткой и подвешенным языком, хотя требовались специалисты.
Ничего подобного не было и за рубежом. Политическая демократия — это одно, а управление экономикой, бизнесом — совсем другое. Здесь царило жёсткое единоначалие. Поэтому Слепцов ещё тогда понял, что Андрей Нестеренко, скорее всего, окажется прав.
Так и случилось. Многие люди, придя на волне демократизации к руководству коллективами, оказались просто демагогами. К тому же нередко — с корыстными целями. Как экономист, Павел знал, что нужно строго соблюдать финансовые пропорции между разными тратами. Непродуманный перекос в одну сторону вызовет болезненное состояние других направлений. В первый год горбачёвского руководства страной предприятиям промышленности из полученной прибыли оставлялось 23 процента средств на развитие производства, а 15 процентов — на экономическое стимулирование, то есть на различные добавки к зарплатам.
Массовое избрание руководителей перевернуло пирамиду наоборот. Идя на поводу «коллективного эгоизма», новые директора переставали думать о завтрашнем дне. Основная масса денег пошла на увеличение зарплат, премий, надбавок. В 1990 году из 43 процентов оставленной на предприятиях прибыли 40 процентов было пущено на экономическое стимулирование. Обновлению и развитию не досталось почти ничего.
Так что доктор снова говорил о том, чего не знал, и Павел впервые почувствовал своё превосходство.
Но остальные с интересом ждали, кому какое будущее предскажет Карабанов.
— А ты кем будешь? — спросил Волков доктора.
— Он тут не останется. Рванёт к Марку, — с сарказмом заявил Нестеренко, садясь на своё место, — за хорошей жизнью.
— Не угадал. Сейчас только дурак поедет отсюда. Наоборот, Марку надо сюда. Когда муть осядет, откроется много любопытного. Самая рыбалка — в мутной воде.
«Значит, действительно Мария сглупила, — подумал Волков. — Говорил ей: остановись… Кто вас трогает? Кому вы нужны? Пятый пункт… Будут еврейские погромы… Какая-то сволочь специально пугала. Ефим — профессор… Сама — в министерстве. Лёвка поступил бы в университет. Упёрлась — поедем в Штаты. Израиль — это повод… Надо, чтобы выпустили. А жить будем в Америке».
Волков вспомнил, как резко, за какие-то месяцы, изменилось поведение Марии. Каждая их очередная тайная встреча всё больше напоминала диспут о положении евреев в Советском Союзе. Мария называла факты притеснения евреев, но почему-то примеры были не из их города, а из других, далёких мест. Где-то какого-то Аркадия Абрамовича уволили с работы. Где-то талантливую Софью Моисеевну не допускали заведовать кафедрой. Волков насмешливо спрашивал: «Почему?» — «Евреи», — отвечала Мария.
Ещё недавно здравомыслящая и весёлая подруга на глазах превращалась в агрессивную, зашоренную и не воспринимающую никаких доводов женщину.
— Кто тебе это внушает? — требовал ответа Волков. — Ты же умная баба, Муся. Сама принимала и увольняла людей. Может, Аркадий Абрамыч — лодырь и ни к чёрту не годится. Если, конечно, он существует вообще. А Софья Моисеевна не доросла… Как твой инспектор Гольдин… Ты сама рассказывала о его амбициях, хотя он ноль.
Мария резко возражала, уверяла, что факты — подлинные, и называл их ей какой-то Александр Викторович.
Взвинченные, они с трудом успокаивались, и заторможенность не сразу уходила даже в постели.
Осенью 1989 года Мария с мужем и сыном уехали из Союза. Но почему-то оказались не в Соединённых Штатах, куда рассчитывали попасть, а в Израиле. Однажды она позвонила ему на работу. Говорить в учительской было неудобно — уроки ещё не начались, и люди не разошлись по классам. Но даже из разговора эзоповым языком Волков понял: Марии очень плохо. «Муся, я могу чем-то помочь?» — спросил он взволнованно. «Нет. Выбор сделан», — сказала женщина. И торопливо добавила: «Целую тебя, Волчок. Будь осторожен. Не наделайте там глупостей. Помните о данайцах…» [3]
Он понял: Мария не рискует что-то сказать по международному телефону из Израиля и предупреждает о чём-то в расчёте на его догадливость. «Что она имела в виду? — думал учитель, слушая новую перебранку Карабанова с электриком. — Ельцинские отряды демократов?»
Андрей напористо спрашивал доктора, то хмуро сдвигая широкие чёрные брови, то ломая в усмешке крупные губы:
— Ты зачем в партию вступал, Карабас? Сделать карьеру? А теперь невыгодно быть в ней? Напринимали таких вот…
— Моя карьера — это мои руки. Больному наплевать — партийные они или беспартийные. Ты спроси в больнице: к кому хотят попасть на операцию? Ко мне, Сергею Борисычу Карабанову. А к Захарову не хотят. И к Радевичу не хотят. Но платят мне, как им! На хрена мне такая система нужна? Я против неё. Система — это советская власть. Поэтому Паша прав: её надо менять.
В действительности Нестеренко правильно понял доктора, и потому Карабанов разозлился. В партию он вступал непросто. Стараясь сделать КПСС партией, прежде всего, рабочих и крестьян, её «кадровики» тормозили расширение рядов за счёт интеллигенции и служащих.
Но как раз эти категории, в отличие от работного люда, активней всего рвались получать партбилеты. Если толкового рабочего надо было усиленно уговаривать вступить в ряды, а он под всякими предлогами увиливал от «лестного» предложения, ибо ничего, кроме потери денег на партвзносы, не приобретал, то интеллигент и служащий знали: благодаря членству в партии гораздо легче сделать карьеру. Поэтому последние, втихаря ехидничая насчёт «разнарядки», тем не менее терпеливо ждали своей очереди, старательно показывая всё это время свою преданность «идеалам коммунизма».
Карабанов вскоре понял, что зря вступил в партию. Он любил реальную работу — операции. В этом он постоянно совершенствовался: много читал, не упускал случая съездить на очередной семинар по хирургии.
Как хорошего молодого специалиста и активного общественника, его стали выделять среди других, исподволь готовя к административному росту. Однако после того как Сергей несколько раз заменил уходившего в отпуск заведующего отделением, он почувствовал: это не его дело. Тем более не возбуждала радости гипотетически возможная должность главврача. Там было много хозяйственных проблем, кадровых коллизий, а в деньгах выигрыш небольшой. Как оперирующий хирург, Карабанов уже имел хорошие связи и достаток.
А вскоре членство в партии стало мешать. Больше того, становилось опасным. Особенно в последнее время, когда КПСС затрещала по швам, как старый мешок. В ней начали появляться какие-то платформы, движения, течения. Чем они отличаются друг от друга, какая группа лучше, Карабанова уже не интересовало. Он догадывался: от многомиллионной партии наверняка останется немного. Останутся такие, как Андрей — полуфанатики и полуслепые. Дальновидные уже начали выходить из КПСС. Шумно вышел из партии Ельцин, за ним последовали другие, норовя обставить свой выход как можно скандальней.
Карабанов тоже собрался было сдать партбилет секретарю парторганизации терапевту Макаркину, но потом решил подождать.
Теперь, после слов электрика, понял, что зря протянул с выходом, — этим он мог бы подтолкнуть колеблющихся в своём отделении.
— Ты прав, Андрей. Мы с партией давно живём разными домами. Пора подавать на развод.
— А-а… развод. Все вы такие… Как вас сейчас называют? Яковлева — хромого беса… Этих — из Межрегиональной группы… которые не вылазят из-за границы. Вы — агенты влияния! Пятая колонна!
— Ну, да, — насмешливо бросил доктор. — Шпионы мы. По-твоему, кто видит безнадёгу строя, значит — враги. А кто без мозгов верит в большие возможности социализма — самые настоящие друзья. Ну, что он сделал такого, чего нет у капитализма? В чём обогнал, уж если так говорить…
— Да хоть в космосе! Американцы обалдели, когда наш спутник полетел. Про Гагарина не говорю… Ты не забывай — двенадцать лет после войны прошло, когда запустили спутник. Полстраны надо было вернуть к жизни. На Америку ни одной бомбы не упало, а у нас до Волги всё было разрушено. Восстановили и попёрли вперёд. Ты — доктор, можешь что-то не знать про ту же энергетику. А у меня батя строил. И сам я, как понимаешь, с этим делом дружу. Мы с шестьдесят второго года по восьмидесятый построили, по-моему, штук пятнадцать только крупных ГЭС. Каждая — мощностью больше тысячи мегаватт. В том числе Братскую — на Ангаре, Красноярскую и Саяно-Шушенскую — на Енисее. Кстати, последняя — самая мощная в мире. Это я тебе говорю о больших, какими может гордиться любая страна. А есть ещё и просто уникальные. У нас, а не где-то, построили Вилюйскую ГЭС — на вечной мерзлоте. Единственную в мире! Представляешь? Рядом с «полюсом холода». А Нурекская ГЭС в Таджикистане! Мы жили там, когда отец её строил. Самая высокая на Земле насыпная плотина — триста метров! И станция мощная: даёт одиннадцать миллиардов киловатт-часов! Почти всю республику обеспечивает. А там, кстати говоря, крупный алюминиевый завод, ему электричества надо много.
— Для меня эти цифры ничего не значат. Аты-баты киловатты…
— Не думал, что ты такой тёмный.
— В самом деле, Андрей. Ты в этом специалист и хочешь, чтоб остальные так же разбирались в твоих делах, — с примирительной улыбкой проговорил Волков. — Я ж тебя не спрашиваю, как будет по-французски… скажем, плотина?
— Ладно. Объясню с другого боку. В сороковом году, перед войной, Советский Союз потреблял пятьдесят миллиардов киловатт-часов электричества. А сейчас — тысячу восемьсот миллиардов. В 33 раза больше! Это тебе не социализм? Все каскады электростанций — на Волге, Днепре, Каме, Ангаре, Енисее — объединили в Единую энергетическую систему. На западе кончают работу, ложатся спать, электричества надо меньше, а на востоке — проснулись и всё включают. Энергия перебрасывается туда. У нас ведь одиннадцать часовых поясов! Можно это сделать, где каждый сам за себя? Без планирования на годы вперёд? Могу тебе другие примеры привести, но ты их знаешь не хуже меня. Только прикидываешься. Смотри, сколько построили алюминиевых заводов. За короткий срок. Да какие заводы! А это — авиация, космонавтика. Теперь мы в лидерах ракетостроения. Наши самолёты — гражданские и военные — покупают десятки стран. Это тебе не социализм?
— Вот на это мы способны, — ухватился доктор. — Самолёты… Танки… А приличную одежду покупаем у загнивающего капиталиста. Хороший магнитофон, телевизор — тоже у него. Еду! — показал на стол, — еду, чёрт возьми, — и ту везём из-за границы! До чего довёл твой социализм — хлеб стали покупать в Штатах, в Канаде! Царская Россия обеспечивала зерном пол-Европы, а мы себя не можем прокормить. Ты только вникни: у нас урожай… мне недавно говорил один человек — тринадцать центнеров с гектара, а в Швеции — сорок девять, в Дании — под шестьдесят. Посмотри на карту: где мы и где они?
Нестеренко неожиданно засмеялся.
— Ты чёй-то? — с подозрением спросил Карабанов. — Забыл географию?
— Не в том дело. Неделю назад меня дядька просвещал. Агроном. Их у нас в родне два агронома. Младший, дядя Вася, ещё и кандидат наук. Живёт на Алтае, к нам приехал после санатория. Отпуска им дают поздно осенью или зимой. Он подлечился и заехал проведать сестру. Мать мою… Я его тоже, когда посидели, повспоминали всю родню, спросил: почему мы хлеб покупаем? И про царскую Россию спросил, сейчас ею со всех сторон тычут в социализм… жизнь была, мол, райская… Он мне рассказал. Я потом своим демократам на заводе — есть у нас прослойка, всё повторил. Сначала насчёт царской России. Да, она продавала много, но это было главное, чем мы могли торговать. Вывозили, а самим не хватало. Урожаи небольшие — семь центнеров на гектар. В одиннадцатом году, как он мне объяснил, тридцать миллионов едва сводили концы с концами, а это пятая часть тогдашнего населения страны. Ну, с той Россией ладно. Спрашиваю про сейчас. Почему покупаем? Почему у нас урожайность маленькая, а у других большая? Повторил почти твои слова. И цифры такие же — их у меня в цехе называл один наш демократ: вы, видать, из одного ручья воду пьёте? Дядь Вася, вижу, расстроился… я не пойму, в чём дело, а он объясняет: полуправда, Андрей, чаще всего, опасней, чем явная ложь.
— И где ж ты в моих словах увидел полуправду? — спросил Карабанов, насмешливо глядя на электрика.
— Во-первых, средняя урожайность у нас другая. Почти двадцать центнеров. А это на треть больше. У тех, действительно, как ты назвал. Но дело совсем не в политическом строе. Несколько лет назад Западная Европа попала в страшную засуху. Дело доходило до голода. И никто не обвинил в этом капитализм. А у нас, как засуха, так виноват строй. Мне дядька столько рассказал, могу всем твоим демократам вправить мозги. Ты ведь, наверно, знаешь, что мы находимся в зоне рискованного земледелия? То засуха, то дожди, то позднее тепло, то ранние холода…
— … то понос, то золотуха, — вставил Слепцов. Это было так неожиданно, что все рассмеялись. Кроме Нестеренко. Он сердито посмотрел на Павла, но не стал отвлекаться. Наоборот, подался к доктору.
— Но известно ли тебе, что вся Западная Европа, а также твои любимые Штаты имеют намного лучшие условия для роста хлебов, чем мы? Больше влаги в нужное время. Дольше тепло… Дания и Швеция, которые ты приводишь в пример, недалеко от Гольфстрима. На юге Швеции, где у них растут хлеба, зимой около нуля. Лето тёплое, но не жаркое. Там виноград выращивают! А теперь сравни это с нашими условиями. На той же широте у нас Сыктывкар, Якутск, Магадан.
Он помолчал, тяжело вздохнул:
— Ну, и порядка больше… Тут я с тобой не спорю. У нас бардака, особенно на селе, всегда хватало. Про сейчас я даже не говорю. Сейчас идёт полная развалюха. Ты вот… Пашка тебе подпевает… Другие, как ты… Может, ещё поактивнее тебя… Сбиваете с панталыку людей… Таким, как они (Нестеренко показал на Валерку с Николаем) вместе с правдой говнеца подкидываете. Люди нюхают дерьмо и от хорошего отворачиваются. А надо в корень, Серёга, глядеть. Корни у нас мощные. Ты видел, как в парках обрезают деревья? Первый год стоят обрубки. Противно глядеть. Потом раз… раз… через год-другой пошло куститься дерево. Пошли новые красивые ветки. Проходит какое-то время — и дерево ещё красивее. А почему? Корни хорошие. На долгую жизнь дерева рассчитаны. Так же и социализм. За ним уход нужен. А вы корни подрубаете, чтобы дерево пустить на дрова. Могу я с тобой согласиться?
Нестеренко налил минеральной воды в свой стакан, вопросительно глянул на Волкова — тот пододвинул свой стакан и кружку Адольфа.
— Пашка говорит: в Америке некоторые президенты — из простых, — отпив воды, сказал электрик. — Не знаю, когда это было. Может, на заре их существования. Сейчас — ты даже сам нам рассказывал — все они крупные богачи. Миллионеры. Ну, это хрен с ними. Я про другое хочу сказать. Каждый ли там может, как у нас, выбиться из грязи в князи? Мы вот приехали к Адольфу пять человек. У кого-нибудь родители богачи? Если не считать Игоря… Извини, Игорёк, — хмуро сказал Нестеренко Фетисову, всё ещё не успокоившись от недавнего рассказа товароведа. Тот стеснительно улыбнулся, понимая товарища. — У него можно допустить в предках богача. А мы-то! Дети и внуки голытьбы, но получили образование, имели возможность сделать карьеру. И таких — десятки миллионов. В моей родне по матери… а семья у деда с бабкой была большая — шесть сыновей и три дочери — все выучились. Бабка только к старости научилась расписываться печатными буквами. Зато два сына — инженеры, два — агрономы. Дядь Вася даже учёный, хотя агроном. Ещё один сын — зоотехник. Шестой — дядя Федя… мама про него много рассказывала — тоже погиб, как старшие два… стал полковником. Перед концом войны погиб. Сгорел в танке. Тётки — одна врач, как ты. Другая — архитектор. Третья — моя мать — инженер-технолог. Про нас — детей, речи нет. Все с образованием. Это разве не социализм? Скажешь, везде в мире такие возможности? В капиталистическом…
— Я не беру дикий мир, — с раздражением заявил Карабанов. Ему не хотелось соглашаться с электриком. Тем более, на глазах всей компании. — Я говорю о цивилизованных странах. Англии… Штатах… Что толку от нашей доступности образования? Там простой работяга получает больше, чем у нас инженер.
Сам доктор ни с кем из иностранных рабочих или специалистов об этом никогда не разговаривал. Он их просто не встречал. Но зато рассказывал Марк, и особенно подробно говорили на встречах в Институте демократизации приехавшие «оттуда» люди.
— Ты б, если там жил…
— Не надо мне там, — отрезал Нестеренко.
— Да тебя и не возьмут. Американский инженер, с такой специальностью, как у тебя… Вас сравнить — принц и нищий. Паша Слепцов. Перед ним там на цырлах ходили бы, а здесь он «кормушке» радуется…
В это время Фетисов, видимо, давно хотевший что-то спросить, наконец, поймал момент:
— Ты про Пашу ничего не сказал, Серёжа. Нагадай ему…
— С Пашей всё будет в порядке.
Карабанов демонстративно отвернулся от электрика.
— Экономист оборонного профиля. Весь западный мир держится на экономистах. Это самые богатые и очень востребованные люди. Правда, не знаю, будут ли тогда нужны твои ракеты, Паша? Хоть ты говоришь — ракеты нужны и коммунистам, и капиталистам, но Советскому Союзу надо разоружаться. Срочно и подчистую. Если у нас победит демократия… А она должна победить… Надо сделать всё, чтоб победила… Тогда оружие станет ненужным. Демократические государства не воюют друг с другом. И к другим не лезут. Надо срочно ликвидировать этого монстра — ВПК! Он грабит народ. Из-за него мы в нищете живём, как в гитлеровской Германии: пушки вместо масла! Штаты тратят на вооружение в пять раз меньше нас. А мы — половину всех доходов страны, и всё равно отстаём в военном отношении.
Бесстрастное лицо Слепцова дёрнулось от удивления, брови взлетели вверх — такого даже он не ожидал. Волков заметил это и тут же вспомнил, что недавно слышал от Павла совсем другие цифры.
Тогда он разозлённый позвонил Слепцову на работу. Они встретились у проходной Пашкиного завода, и едва сели в машину экономиста, Волков сразу задал вопрос, из-за которого в школе разразился скандал.
Глава шестая
Завучем школы Нину Захаровну Овцову назначили полтора года назад. Однако близким она говорила, что назначила себя сама: «Власть в школе валялась. Я её подобрала».
В школах было, как во всей стране. Рушились идеологические и кадровые стереотипы. Традиционно директорами школ ставили членов Компартии — воспитание нового поколения нельзя было отдавать кому попало. Чаще всего это были учителя-историки. Но как раз именно по ним и по их науке пришлись самые жестокие удары перестройки. Объявленная Горбачёвым гласность открыла не только рты, но и тёмные глубины изувеченных душ. Героями толпы, улицы, митингов чаще всего становились те, кто надрывал голоса исключительно в беспощадной критике советского режима. В прошлой жизни государства запрещено было находить хоть одно светлое мгновение. Учебники по истории СССР, и прежде всего — советского периода — устаревали на глазах, не успевая за разоблачениями страны-ГУЛАГа. Учителя вклеивали в них газетные и журнальные вырезки, записи с митинговой информацией, которую бросали в толпу глашатаи, нисколько не заботясь о её достоверности. Те из учителей истории, кто «отставал от времени», уходили сами или их выталкивало «общественное мнение».
Суховатая лицом, плоскогрудая Овцова преподавала химию. Мрачные страницы этой науки были похоронены ещё во тьме Средневековья. Даже печальные судьбы шарлатанов-алхимиков, обещавших королям горы золота из подручных материалов, вроде свинца, и повешенных за обман, закрывала густая пелена времени. Поэтому наука химия к политике давно не имела никакого отношения — вода при всех экономических формациях и политических режимах состояла из водорода и кислорода.
Но саму Нину Захаровну политика захватывала всё сильнее. Она возбуждала её, словно предчувствие близкой постельной страсти, которую не первой молодости женщина в последние годы испытывала с большими перерывами. Когда Овцова начинала говорить о партократах, об их сопротивлении перестройке и демократическим переменам, на её бледно-серых щеках, на лбу и даже на подбородке появлялись алые пятна. Темно-карие глаза за стёклами очков расширялись, и Нина Захаровна чувствовала, что пальцы начинают покалывать какие-то импульсы. После этого ей хотелось схватить противника руками и, не имея другого оружия, хотя бы поцарапать ему лицо.
Завучем школы, где Овцова преподавала химию, а Волков — французский язык, была учительница истории. Она пришла в классы в 1961 году. Новые учебники ещё клеймили культ личности Сталина, а полиграфисты уже готовили книжки о «великом десятилетии дорогого Никиты Сергеевича». После развенчания хрущёвского волюнтаризма, советская история надолго обрела брежневский «верный курс». Его разгром, начатый перестройкой, и определение предыдущего пути как дороги в никуда, сбили с толку миллионы людей. Историки, наравне с партократами, стали «кастой неприкасаемых». Заведующая учебной частью, на которую кто смотрел с сожалением, кто, мстя за прежние строгости, с лёгким злорадством, тяжело заболела. Нина Захаровна, попробовав себя оратором на небольших митингах, пришла к директору. Она назвала усталого от нарастающих хозяйственноэкономических проблем школы пожилого мужчину с печальными глазами партократом, повторила ему слова Горбачёва: «Мы их будем давить сверху, а вы давите снизу», — и потребовала себе должность завуча.
Через некоторое время учительскую было не узнать. Если раньше об уродливых моментах советского режима разговор заводила Овцова, пытаясь втянуть в него других и раскачать консервативно-настороженное сообщество, то теперь ей не надо было выходить вперёд. Три-четыре молодых учительницы, которые ездили с нею на митинги, вместе бывали на каких-то собраниях, первыми начинали обличительный приговор. Оставаться в стороне оказывалось всё труднее. Овцовские демократки прямо обращались к кому-нибудь из коллег: «А вы как думаете?» Не все думали в унисон с ними, и в учительской тут же разгорался идеологический пожар.
Волков обычно садился на своё место в углу — он с армейских лет не любил неприкрытой спины, и чаще полуслушал, чем вникал в истеризм демократии. Овцова старалась его не задевать, а это было своеобразной командой её активисткам.
— Ты нэ панимаешь, пачему к тэбе нэ пристают? — спросил как-то учитель физкультуры Мамедов, с которым у Волкова давно сложились доверительные товарищеские отношения. — Нына Захаровна хочет тэбя.
— Случайно не заболел, Камал Османыч? — с удивлением уставился на него Волков. — Да я лучше хрен на пятаки изрублю, чем лягу с ней. Это при моей-то жене! А вот ты чего теряешься?
— Старая она, Владымир Николаич. Сорок пят будет, — сказал Мамедов, который был лет на десять старше Волкова. — А потом, Нына Захаровна меня нэ любит. Мусульманин. Тэбя любит.
— Брось ерунду. Мусульманин… христианин…
Волков улыбнулся, вспомнив Андрея Нестеренко.
— Как говорит один мой друг: это не имеет никакого полового значения. Скажи, боишься: потом не отпустит.
Овцовой действительно нравился Волков. Высокий — на голову выше не маленькой Нины Захаровны, с волнистыми тёмными волосами, всегда в отглаженном костюме и свежей рубашке («Жена старается», — ревниво отмечала завуч), учитель французского языка выделялся редким для своей среды аристократизмом. Он умел пошутить, но безобидно. Мог твёрдо с кем-то не согласиться, однако собеседник чувствовал, что его мнение уважают. Единственное, что не нравилось Нине Захаровне в Волкове, — его сталинские усы: выпуклые, почти все тёмные и лишь снизу рыжеватые — от сигарет. Заботливость, с которой он ухаживал за ними, настораживала Нину Захаровну, и ей казалось, что Владимир Николаевич не совсем тот, за кого его принимают учителя, подпадая под обаяние тёплого взгляда светло-карих волковских глаз. Один раз она увидела этот взгляд другим — холодным и острым, как осколок тёмного стекла. Тогда, начав очередной разговор о сталинских репрессиях, она рассказала в учительской о родном брате матери, которого Октябрьский переворот 1917 года «сделал человеком». Сначала малограмотный местечковый парень из большой еврейской семьи стал бойцом в охране Троцкого, приводя в исполнение приказы «кровавого Лейбы» «о расстреле каждого десятого в частях», отказывающихся идти на фронт. В конце гражданской войны его назначили комиссаром интернационального отряда, который в составе армии Тухачевского подавлял восстание тамбовских крестьян. «Дядя Фима действовал решительно», — сказала Овцова и не без гордости добавила: «Это — наша семейная черта». В начале 30-х годов строил Беломорканал, получил орден. Его отряд был всё время впереди. «Какой отрад?» — спросил Мамедов. «Ну, не пионерский же», — язвительно заметила учительница географии, которая первой начинала спорить с Ниной Захаровной. Овцова поджала накрашенные губы: «Да, не пионерский. Из врагов народа. А вам, Камал Османыч, пора научиться говорить по-русски. Отрад…» После дядя работал в центральном аппарате ОГПУ. «А в 37-м его, как и миллионы других, расстреляли».
Вот тогда Нина Захаровна увидела тот незнакомый стеклянный взгляд Волкова.
— В чём дело, Владимир Николаевич? Вы не верите в масштаб репрессий? Даже Хрущёв об этом говорил.
— Ну, Хрущёв ещё тот свидетель, — усмехнулся Волков. — Весь облит кровью невинных… Лично сам подписывал документы о расстреле. И не раз в этом деле лез, как говорят у него на Украине, «попэрэд батьки у пэкло». Так што чья бы корова мычала…
Для Волкова с недавних пор Хрущёв стал зловещей фигурой. Раньше он о нём не думал и даже не очень помнил, как тот выглядел. Владимиру было 11 лет, когда «волюнтариста» и «кукурузника» убрали из руководства страной, после чего Хрущёв исчез из всех официальных и пропагандистских упоминаний, словно его никогда не существовало. Поэтому поколение Волкова входило в сознательную жизнь с другими фамилиями руководителей, с другими портретами и славословиями. Если бы не отец, Владимир, может, долго не знал бы, кто был предшественником Брежнева. Отец ненавидел Хрущёва. День, когда того сняли, смутно запомнился Владимиру двумя эпизодами: отец сильно напился, чего с ним не бывало никогда, и несколько раз повторял соседу дяде Васе: «Жалко, оставили живым, скотину. Надо было расстрелять, как он делал».
Потом долгое время никто, с кем Владимир рос, о Хрущёве не говорил и никого он не интересовал.
Пока не началось утро перестройки. Жена Волкова — журналистка — стала приносить разные документы прошлого времени. Её заинтересовало, что было в обвинениях Сталину справедливым, а что, со страху быть разоблачёнными, приписывали ему соратники. Однажды принесла большую папку. Волков, которого до той поры политика занимала от случая к случаю, прочитал выдержки из выступлений, копии писем и телеграмм. И был потрясён. Телеграммами и записками Ленина, который то и дело требовал расстрелять, повесить, предать суду трибунала. Выступлениями крупных деятелей, которые в 30-е годы требовали у Сталина дополнительных рычагов террора.
Особенно поразили его некоторые материалы о Хрущёве. Тот снова становился «героем времени», теперь уже нового времени. Его доклад на XX съезде партии о культе личности Сталина и сталинских репрессиях 1937–1938 годов опять стали поднимать на щит как поступок честного и смелого общественного деятеля. Но из принесённых женой документов, как из сумерек прошлого, вырастал совсем другой его облик. В январе 1936 года, ещё до начала массовых репрессий, он заявляет на пленуме Московского горкома партии: «Арестовано только 308 человек: для нашей московской организации — это мало». Май 1937 года. Пленум МГК партии. Хрущёв требует: «Нужно уничтожать этих негодяев. Уничтожая одного, двух, десяток, мы делаем дело миллионов. Поэтому нужно, чтобы не дрогнула рука, нужно переступить через трупы врагов на благо народа». Июнь 1938 года. Хрущёв всего шесть месяцев работает первым секретарём Компартии Украины. Записка: «Дорогой Иосиф Виссарионович! Украина ежемесячно посылает 17–18 тысяч репрессированных, а Москва утверждает не более 2–3 тысяч. Прошу Вас принять срочные меры. Любящий Вас Н. Хрущёв». Из Москвы телеграмма: «Уймись, дурак! И. Сталин».
Поэтому ссылка Овцовой на Хрущёва и слова о миллионах расстрелянных вывели Волкова из равновесия.
— Откуда вы взяли миллионы расстрелянных? — с раздражением спросил он. — Сейчас открываются новые документы. Количество расстрелянных в 37-м в десятки раз меньше. Вы понимаете: в десятки!
И с грустью добавил:
— Хотя и за одного невинно убитого нельзя простить. Ни в 37-м убитого, ни раньше.
Волков замолчал, пытаясь успокоиться. Так получилось, что буквально несколько дней назад он прочитал о том, как душили крестьянское восстание на Тамбовщине. Отрядами интернационалистов окружали село. Собирали сход. Брали заложников из числа видных людей: священников, учителей, фельдшеров. Отводили два часа на выдачу оружия, скрывающихся повстанцев, их семей. Если выдачи не было, снова собирали сход. На глазах у всех расстреливали заложников. Опять брали новых заложников — и всё повторялось. А летом 1921 года по приказу Тухачевского против крестьян стали применять химическое оружие. Химическими снарядами обстреливали деревни без разбора. От газов больше всего гибли дети, женщины и старики, потому что повстанцы скрывались в лесах.
— Ваш дядя не рассказывал, сколько безвинных было погублено?
В учительской наступила тишина.
— Что вы говорите? — воскликнула, наконец, одна из молодых соратниц Овцовой. — Его же репрессировали до рождения Нины Захаровны!
— Значит, что делал он — это героизм. Не назвал крестьянин своё имя — расстрел прямо на месте… Без суда и следствия. А как с ним поступили — это репрессии? Вы знаете, Нина Захаровна, как душили Тамбовское восстание? Газами душили. Европа осудила применение газов даже на войне. Против иностранных врагов. А тут — против своего народа… Хотя, какого своего… Будущий маршал с интернациональными отрядами… там и ваш дядя был… приказал стрелять химическими снарядами по женщинам и детям. А вы нам преподносите Тухачевского жертвой Сталина…
— Да. Этот зверь Сталин уничтожил цвет народа.
— Должен вам сообщить, что российский цветник начали вырубать намного раньше. Вы слышали, наверно, о расказачивании? В январе девятнадцатого года Свердлов подписал секретную директиву… Она требовала поголовного истребления… Не тараканов… Не мышей… Людей! Казаков!..
— Ужас какой-то! — негромко воскликнула немолодая учительница математики. — Не может быть!
— Может, Анна Петровна… может. Троцкий, выступая на собрании политкомиссаров Южного фронта, заявил: «Уничтожить казачество как таковое, расказачить казачество — вот наш лозунг». Якир, которого сейчас представляют невинной жертвой сталинских репрессий, лично подписал приказ о процентном уничтожении мужского казачьего населения. А вы говорите: не может.
— У вас как в «Памяти» — одни евреи виноваты! — ядовито бросила Овцова.
— Не надо тень на плетень, — строго одёрнул её Волков. — Не надо! Оставьте эти свои штучки. Если критикуют татарина, армянина, азербайджанца — это нормально. Особенно — когда русского… А если еврея, то это антисемитизм. Всякие были. Русский Подтёлков… Русский Сырцов… Этот требовал за каждого убитого красноармейца расстреливать сотню казаков. И других хватало. Латыши… Мадьяры… Даже китайцы… Интернационал… Специально присылали. Мы называем массовое убийство евреев немцами и их пособниками Холокостом. Сочувствуем армянам, которых убивали в Турции в начале XX века. Для армян — это геноцид. Приводятся разные цифры. Кажется, от трёхсот тысяч до полутора миллионов. А как назвать расказачивание, в ходе которого уничтожено около четырёх миллионов человек? Это не Холокост? Не геноцид?
Волков достал пачку сигарет. В учительской, кроме них с Мамедовым, мужчины не бывали. Камал Османович не курил. Поэтому женщины, в большинстве своём незамужние, не только разрешали, а иногда даже просили, чтобы Владимир Николаевич закурил: «Пусть мужским духом запахнет».
Он закурил. Сел в свой угол.
— Я Сталина полностью не оправдываю, Нина Захаровна. Всё, что происходит на корабле — хорошее и плохое, — за всё отвечает капитан. Как сегодня наш Горбачёв. Были невинные жертвы. Я недавно увидел один список. Конюх… Счетовод… Секретарь сельсовета… Самый большой начальник — какой-то деятель из райкомхоза. Но нельзя всё валить только на Сталина! Не он решал судьбу конюха и счетовода, а те, кто были на местах. Вы сослались на свидетельства Хрущёва… Доклад он сделал на съезде… О сталинских репрессиях. А люди ещё тогда знали… не все, конечно, но некоторые знали: там, где был руководителем Хрущёв, там надо было говорить о хрущёвских репрессиях.
Сейчас идут дополнительные проверки того времени. Многие документы Хрущёв приказал уничтожить, когда стал первым секретарём ЦК. Есть живые свидетели этого. Но немало осталось. Не знаю, известно ли вам, что Сталин при подготовке Конституции тридцать шестого года лично вписал в неё статью о выборах депутатов на альтернативной основе. Всех депутатов. От маленьких — до самых больших. Конечно, партийные бонзы испугались. Кто ж их выберет? Такого натворили! Но в открытую выступить против — опасно. Тогда с разных сторон загудели: из центра, мол, не видно, сколько на местах появилось врагов советской власти. Первый секретарь Западно-Сибирского крайкома партии Роберт Эйхе — латыш с двухклассным образованием — предложил для быстрого решения «вражеской» проблемы создать так называемые «тройки». Три человека: партийный секретарь, начальник местного НКВД и прокурор (главный здесь — партийный секретарь) — должны без всяких судов, оперативно принимать решения относительно «врагов народа».
Конечно, «добро» на создание «троек» принимало Политбюро. Каждый расписался персонально. Но откажись Сталин это сделать, ближайший пленум, состоящий из этих «бонз», мог обвинить его в отходе от классовой борьбы и предательстве интересов партии. Какие уж тут выборы на альтернативной основе!
Для Эйхе «враги народа» исчислялись не единицами, а массами. Он ещё в тридцать третьем году в телеграмме Сталину предложил «принять и устроить» в самых гибельных местах Севера «пятьсот тысяч спецпереселенцев».
— Кто эта? — мрачно спросил Мамедов.
— Кулаки в основном… Наверно, и другие «враги народа». А после отправки нескольких эшелонов троцкистов на Колыму он в декабре тридцать шестого года заявил на пленуме ЦК: «Для какого чёрта, товарищи, отправлять таких людей в ссылку? Их нужно расстреливать. Товарищ Сталин, мы поступаем слишком мягко». Это что? Указание Сталина? Или наоборот? Указание Сталину? За один тридцать седьмой год «тройка» под руководством Эйхе репрессировала почти тридцать пять тысяч человек! Вы представьте себе это количество людей! Целый город! Таких же, как мы с вами, людей… Мужчин… Женщин… И три негодяя… три убийцы… этого Эйхе назвали «мясником» — решали в течение нескольких минут судьбу любого из нас. Расстрелять… Отправить на годы в лагеря…
И ваш Хрущёв, Нина Захаровна, когда руководил Москвой и Московской областью, лично участвовал в массовых репрессиях. Его «тройка» в день выносила расстрельные приговоры сотням людей. В день! Сотни жизней! За два года — тридцать шестой и тридцать седьмой — они репрессировали больше пятидесяти пяти тысяч человек.
На закрытом пленуме ЦК в январе тридцать восьмого года Маленков назвал его «перегибщиком». Сказал, что проведённая в Москве проверка исключений из партии и арестов обнаружила: большинство осуждённых вообще не виноваты.
Волков помолчал, раздумывая: надо ли говорить об украинской записке Хрущёва и ответе на неё Сталина — вроде как растерянной показалась ему Овцова. Однако приглядевшись, разобрал: не растерянность это, а кипящая злость. «Ну, чёрт с тобой!» — решил Владимир и, рассказав про украинские «подвиги» Хрущёва, спросил:
— Как вы считаете, такие люди должны понести наказание?
— Конэчно! — заявил вместо завуча Мамедов.
— Настороженный таким невероятным количеством «врагов», Сталин приказал провести массовые проверки. Многих людей освободили. Тех, кто истязал, пытал, кто фабриковал незаконные обвинения, самих привлекли к суду. Жалко, не всегда за их подлинные преступления перед народом… Но возмездие пришло. Эйхе — этого кровавого палача — расстреляли. Других — тоже.
Однако Хрущёв сумел вывернуться. Теперь он — герой. А наказанные убийцы сотен тысяч людей, те, кто сами топтали человеческую суть и плоть, сегодня, благодаря их потомкам, — конешно, никому не хочется иметь предка-палача, — вдруг попали в число жертв сталинских репрессий. Не цирк ли? Спасибо, разумеется, Никите Сергеичу за начало реабилитации безвинно пострадавших. Всем, кого эти эйхи и берии незаконно определили преступниками, надо вернуть честное имя. Но надевать нимб святого на мученика и на мучителя — всё равно, что ставить памятник маньяку Чикатило. В Библии, кажется, сказано: по делам их воздастся им.
Волков затушил сигарету в пепельнице и завернул окурок в тетрадный листок. Его он потом выбрасывал в урну, чтобы не было в учительской запаха старой пепельницы. Кто был в учительской, стали расходиться. Только молодые фурии Нины Захаровны настороженно взглядывали то на Волкова, то на свою предводительницу. Было заметно: она не в себе. Её репутацию изрядно потрепал этот элегантный, успокоившийся уже мужчина.
После того случая Овцова какое-то время не могла смотреть на учителя французского языка. Боялась — сорвётся и вцепится ему в усы. Но постепенно острая злость отошла, пока новые стычки не сделали Волкова главным врагом Нины Захаровны.
В последний раз началось, как это часто стало случаться, с бытовой проблемы. Бухгалтерия снова задержала зарплату, но теперь дольше прежнего. Многим учителям уже едва хватало от получки до аванса, и когда Овцова вошла в учительскую, её сразу спросили о деньгах.
— У меня их нет, — отрезала завуч. — Наши зарплаты съедает это чудовище — советский военно-промышленный комплекс. На один танк дармоеды тратят годовую зарплату школы. Сделали миллион танков, а куда девать — не знают. Говорят, если поставить их друг за другом, можно обогнуть земной шар.
— Да нет! Достанут до Луны, — бросил из своего угла Волков.
— Всё иронизируете, Владимир Николаич? Мы тратим на вооружение в пять раз больше американцев. А зачем? Лишь бы только торговать оружием. Вооружать преступные режимы. Позор! Деньги выше морали! Не зря нас называют «империей зла». С грязным делом — впереди планеты всей. Да что говорить! Безнравственная страна!
На следующей перемене Волков позвонил Слепцову и сразу после уроков поехал к заводу.
— Скажи, Паша, если не секрет, мы действительно тратим на вооружение в пять раз больше американцев? — спросил он, как только сел в машину экономиста.
— С чего ты взял?
— У нас в школе завуч… Ну, совсем затоптала Советский Союз. Бардак, конешно, — трудно спорить. Полный бардак. Добрались уже до зарплаты. Стали задерживать. Но неужели мы, в самом деле, настроили миллион танков и не знаем, куда их девать? Оружия продаём больше всех? Эта сушёная вобла говорит: мы — лидеры грязного дела.
— Скажи вобле: это неправда. Просто ложь. На первом месте по торговле оружием — Соединённые Штаты. Мы отстаём от них. Значительно отстаём. Продаём на шестнадцать-восемнадцать миллиардов долларов в год. Они — на тридцать-тридцать два миллиарда. К тому же в реальности до нас доходит намного меньше. Отдаём в долг. За идею… За бананы-апельсины… Американцы — те умеют считать. Берут деньгами.
Но имей в виду: другие страны тоже торгуют оружием. Англия. Франция. ФРГ. Никто не стесняется этого. А Израиль, по моим сведениям, чуть ли не на втором месте.
— Вот это малыш! — воскликнул удивлённый учитель. — Слушай, поехали ко мне. Я купил новое ружьё.
Пока ехали по разбитым осенним улицам, Павел больше молчал — выбирал дорогу. Когда «Волга» попадала в яму, вздрагивал, морщился, словно от боли. На волковской кухне, рассмотрев хорошую ижевскую «вертикалку» — бокфлинт — отошёл. Снова вернулся к тревожным вопросам товарища.
— Вторая сторона дела, Володя: кому продаётся оружие? Мы тут не ангелы. Папуас скажет: мне нравится социализм — мы ему автомат. Наш автомат Калашникова есть в гербе у нескольких государств. Помог им завоевать независимость.
— Не может быть!
— Да, да. Сам видел. Приезжали покупатели… Но на той стороне… там, где американцы с остальными… Там черти намного почертей наших. Продают оружие и запрещённым странам, и даже против своих законов. Читал про «Иран-контрас»?
Волков неуверенно пожал плечами.
— Громкая была история. Закончилась три года назад. Твоей вобле полезно узнать.
Однако история оказалась занимательной и для Волкова. Слушая Слепцова, он вспомнил, что встречал публикации о ней в разных газетах. Но приученный, как многие в стране (не без воздействия зарубежных радиостанций, умело использующих полуправду советской «беспроблемной» пропаганды), воспринимать критику западного общества скептически, он сейчас с интересом слушал товарища.
Начало той скандальной истории положили события в Иране. В феврале 1979 года проамериканский режим шаха Реза Пехлеви был сброшен, к власти пришёл духовный лидер шиитов аятолла Хомейни. Этот факт заставил задуматься наиболее дальновидных политиков мира. Впервые в новейшей истории всего за несколько месяцев ислам организовал десятки миллионов людей на смену государственного строя.
Но американцы обеспокоились по другой причине. В результате исламской революции США лишились ценного союзника, чья территория примыкала к СССР и откуда они вели активную разведку против Советского Союза.
Одновременно ещё более серьёзные неприятности возникли у США в Центральной Америке. В том же году к власти в Никарагуа после долгой партизанской войны пришёл Сандинистский фронт национального спасения, свергнув американского ставленника, диктатора Сомосу. Сандинисты не скрывали, что придерживаются социалистической ориентации. В Штатах с тревогой увидели призрак «второй Кубы».
В 1980 году на президентских выборах в США победил Рональд Рейган. Он объявил Советский Союз «империей зла», которая только и делает, что вмешивается в дела других государств. Однако сам в сентябре 1983 года подписал секретную директиву, разрешив ЦРУ вести тайные операции по ликвидации сандинистской власти в Никарагуа. Тем самым Рейган и Центральное разведывательное управление нарушали закон США, который прямо запрещал финансировать операции ЦРУ для свержения никарагуанского правительства. То есть вмешиваться в дела другого государства.
Чтобы найти деньги, была придумана многоходовая комбинация с использованием Ирана. В течение предыдущих 25 лет он покупал американское оружие. Часть его устарела, но гораздо больше терялось в боях — Иран вёл долгую, изнурительную войну с Ираком. Новый режим, как и прежний, сильно нуждался в оружии и боеприпасах.
Купить их у американцев было невозможно: исламские власти объявили Соединённые Штаты своим врагом, и США специальным законом наложили эмбарго на поставку вооружений Ирану.
К тому же в 1984 году шиитская группировка «Хизбалла», находящаяся под идеологическим контролем иранских фундаменталистов, захватила в Ливане группу американских заложников. В том числе — резидента ЦРУ в Бейруте Уильяма Бакли. Отношения между двумя странами зашли в тупик.
Выход подсказал Израиль. До исламской революции он активно продавал Ирану оружие, готовил специалистов шахской спецслужбы «Савак». Несмотря на то, что после прихода к власти Хомейни официальные контакты были разорваны, Израиль старался мосты до конца не сжигать. Это пригодилось, когда американцы собрались, благодаря тайной продаже оружия, решить сразу две задачи: получить деньги для поддержки «контрас» (противников сандинистского правительства) и освободить заложников.
Все понимали, что планируемые операции дважды незаконны — нарушался как запрет на финансирование «контрас», так и эмбарго на продажу оружия Ирану. Но цель оправдывала средства. 30 августа 1985 года первая партия из 100 противотанковых ракет «ТОУ» прибыла в Иран. 14 сентября в иранском Тебризе разгрузили ещё 408 американских ракет, доставленных из Израиля. На следующий день на свободу вышел первый заложник. Конвейер заработал.
Операция «Иран-контрас» могла продолжаться долго. Но 5 октября 1986 года над Никарагуа был сбит самолёт. Захваченный лётчик сообщил, что он из отрядов «контрас» и работает на ЦРУ. А вскоре в одной из ливанских газет появились сообщения о продаже оружия Ирану. Скандал стал набирать обороты.
Генеральный прокурор США начал расследование. Рейган открестился: «Я ничего не знал».
— Три года назад в Штатах прошёл суд, — рассказывал Слепцов, поглаживая новое волковское ружьё. — Нескольким участникам операции… там были крупные чины, вплоть до помощников Рейгана… предъявили серьёзные обвинения. Заговор с целью обмана государства. Хищения государственного имущества. Мошенничество, лжесвидетельство… Короче, целый букет. По этим статьям в Штатах могут упрятать надолго. Вплоть до пожизненного… Но все получили только условные сроки.
— Ничего себе! Нравственные ребята. Надо Овцовой рассказать. Пусть порадуется за своих кумиров. А то как перемена, так начинается: «Мы впереди всех… с грязным делом». Наверное, и с расходами так же…
— С какими?
— Она ведь чем добивает наших тёток? Плохо, говорит, мы живём из-за больших расходов на оборону. Милитаристы мы… Тратим в пять раз больше американцев на военные дела. Представляешь? А возразить никто не может. Не знают: так иль не так?
— Не так, Володя. Но власть всё время даёт основания не верить ей. Ну, вот, например, ты поверишь, что в течение последних двадцати лет расходы Советского Союза на оборону остаются почти неизменными? Да за двадцать лет стоимость одних материалов для оружия должна была вырасти в разы! А ведь военная техника всё время усложняется, значит, становится дороже. Зачем людей за дураков держать? Мои ракеты… да, ладно, не буду о них… Наши правители не скрывают… даже гордятся военным паритетом с американцами. Но если паритет, значит, и расходы похожие. А они другие. Намного меньше. Наши идиоты во власти не называют настоящий военный бюджет, и люди думают: ага, выходит, «оборонка» действительно разоряет страну. На самом деле не так. Многие наши разработки дешевле американских аналогов. Мы научились, старик, по важным направлениям обороняться очень экономно. Поэтому даже академик Сахаров признал: нет никаких шансов надеяться, што гонка вооружений истощит материальные и интеллектуальные ресурсы страны, и Советский Союз политически и экономически развалится.
Он помолчал, улыбнулся.
— Правда, мы к тому же умеем прятать военные концы в мирную воду. Но што американская разведка намного преувеличивает наши затраты — это факт. С одной стороны, можно больше денег затребовать у ихнего правительства на оборону. С другой — нашему обывателю есть возможность всучить любые цифры — истины-то никто не знает. Твоя вобла вон какую икру мечет! С чьих-то слов, конечно. А молчание власти только помогает этому.
Волков с нескрываемым удивлением и уважением глядел на Слепцова. Он не представлял Павла таким разговорчивым да ещё и столько знающим.
— Вижу, вижу твой вопрос, — сказал тот с редкой для него веселинкой на худом лице. — Я вам не рассказываю про отца. Генерал, да и всё… А генералы, Володя, разные бывают. Ну, и сам кой чем занимаюсь. Аналитика, старик, интересная вещь. Один в фельетоне видит пример плохой жизни, другой — информацию.
* * *
Утром к учительской Волков подходил с азартным настроением. Он представлял, как ещё до уроков кто-нибудь спросит, будет ли сегодня зарплата, как Нина Захаровна опять скажет о бесстыдстве партократов, живущих за счёт простых учителей, назовёт врагом народа советский военно-промышленный комплекс, и с каким интересом будет потом слушать она и другие преподаватели умные разъяснения учителя французского языка. «Тоже ведь не сладкая жизнь, — думал он об Овцовой. — Мужа давно нет… да и был ли?» Впрочем, допустить, что Нина Захаровна родила дочку без мужа, вне брака, Волков не мог. До горбачёвской поры эта не выделявшаяся в коллективе женщина с удлинённым лицом и столбообразной фигурой, если и выступала на партсобраниях или заседаниях педсовета, то чаще всего с рассуждениями о чистоте взаимоотношений между людьми, о нравственном облике современной молодежи, который её всё больше беспокоил. Так что понятия «Овцова» и «свободная любовь» для многих были несовместимы. «А что муж? — продолжал думать Волков, кивая направо и налево на приветствия учеников. — Может, был какой-нибудь алкоголик. Поэтому и бросила… Теперь надо учить дочь-студентку. Да ещё мать на пенсии. Нет, не сладкая жизнь. А тут ещё я дёргаю…»
Ему стало неловко за свой недавний выпад. Поэтому когда Владимир Николаевич вошёл в учительскую, он был миролюбив, как сотрудник гуманитарной миссии до прибытия в очаг межнационального конфликта. Но его тут же огрели вопросом:
— Вы когда будете извиняться перед Ниной Захаровной?
Две молодые соратницы Овцовой смотрели на него в упор, как на стоящего у расстрельной стенки преступника.
— За што?
— За своё поведение. Вы ещё такой молодой человек, а уже ретроград. Весь народ за демократические перемены, а вы хуже партократа.
— Та-а-к…
Волков начал скручивать правый кончик уса, что было первым признаком раздражения.
— И в чём это проявляется?
От костерка миролюбия уже шло не тепло, а едкий дым.
— А вы не знаете, Владимир Николаевич? — сказала, поднимаясь Овцова. — В стране повсюду отказываются от назначенных руководителей трудовых коллективов. Демократическим путём выбирают из своей среды…
Тех, кто способен быстрее повести людей на слом тоталитарной машины. Меня хотели выдвинуть наши товарищи — Надежда Аркадьевна и Марина Викторовна…
Завуч показала на двух фурий демократии, расстреливающих взглядами учителя французского языка.
— …директор наш — Виктор Петрович — уже устарел. Ему нужна замена. А вы сказали в учительской… Ну, это просто безобразие с вашей стороны!
— А што я сказал?
— Сказали: «Нине Захаровне нельзя давать власть. Она приведёт нас к беде. Она не знает, куда вести».
— А-а, вон вы о чём. Да, я так говорил. Теперь ещё больше в этом убеждён. Для вас нет ничего хорошего в стране, где вы живёте. Мы тоже с ними (Волков показал на задержавшихся у двери двух математичек, физкультурника Мамедова и учительницу географии) далеко не всем довольны. С каждым днём становится хуже. Перестройка превращается в Разломайку. Но мы хотим сохранить страну. А вы — уничтожить.
— Зачем её сохранять — такую уродину? Ни еды, ни свободы, ни красивой одежды. Одни ракеты с танками. Это здание надо сломать. А на его месте построить новый, цивилизованный дом.
Волков нахмурился.
— Один раз уже сломали. До основанья. Ваш дядя постарался. Слава Богу, через дядь прошли. Поднялись… Стали второй державой мира… Теперь племянница бегает с топором. Вы тут говорили нам про танки. Про военно-промышленный комплекс. Призывали равняться на другие страны, которые, вроде бы, в отличие от нас, не торгуют оружием. А на деле-то всё оказывается совершенно не так!
Волков начал увлечённо пересказывать услышанное от Слепцова. Собравшиеся было уходить учителя остановились. Кто-то сел, но другие так и стояли, прижав к груди классные журналы или держа в руках стопку тетрадей. Для большинства это был первый рассказ, который приоткрывал истинное положение в оборонном комплексе Союза и показывал влияние ВПК на экономику страны.
Когда пошло про «Иран-контрас», завуч встала.
— Вы подождите, Нина Захаровна, — остановил её Волков. — Сейчас будет самое интересное.
Он в деталях пересказал эту историю, усиливая, где голосом, где мимикой, отдельные моменты. Не забыл ни про суд, ни про увёртки американского президента Рейгана. А в конце назвал цифры, на сколько продают оружия США и на сколько — Советский Союз.
— Ваши любимые американцы продают в два раза больше. Значит, они в два раза безнравственней нас? А вы заставляете равняться на них. Куда ж вы поведёте с такими знаниями? Израиль — крошечная страна, а по торговле оружием среди первых в мире. Это тоже высокая нравственность?
Все уже не смотрели на Волкова. Глядели на Нину Захаровну. Её лицо было в красных пятнах. Ярко накрашенные губы тряслись, словно их изнутри что-то толкало, пытаясь вырваться наружу. Наконец, завуч не выдержала.
— В-вы… Вы — наха-а-л! — крикнула она, широко открыв рот. И в этот момент, когда ещё звучало яростное «а-а-а», бюгельный зубной протез внезапно выскочил у неё изо рта. Сверкнул возле верхней губы и, если бы не молниеносный взмах завучевой руки, упал бы на пол. Нина Захаровна на лету остановила его ладонью, рывком двинула голову вперёд и почти в воздухе схватила ртом бюгель. «Как щука блесну», — с изумлением подумал Волков. Он не знал об искусственных вставках во рту Нины Захаровны и потому растерянно замолчал, догадываясь, что теперь он для Овцовой ещё больший неприятель. Женщина может многое простить, но только не разоблачение — пусть невольное — её физического недостатка.
— Откуда ваши сведения? — срываясь на визг, крикнула она. — Из КГБ?
— Мои — от советского экономиста. А ваши — из ЦРУ? — с издевательской вежливостью спросил Волков, застёгивая портфель, чтобы идти на урок. В коридоре его догнал Мамедов.
— Ну, тэпер, Владымир Николаич, тэбя достанут. Нына Захаровна будэт твой личный враг. Скушаит.
— Подавится, — спокойно ответил учитель французского и пошёл в класс.
Глава седьмая
С того времени Волков больше не слышал в учительской про безнравственность торговли оружием, про отнимающий у народа деньги военно-промышленный комплекс СССР, про советские траты на вооружение, в пять раз превышающие американские расходы. И вот теперь всё это, почти слово в слово, повторил Карабанов.
— Откуда у тебя такие сведения, Сергей? — насторожился он. — Ты ничего не путаешь?
Ему вдруг показалось, что такие совпадения не случайны. «Как же я не замечал, — хмуро думал он, — организованности всех этих разных акций. Мария сорвалась, как по чьей-то команде. Говорила, их много едет. Сотни тысяч. С „оборонкой“ так же. Будто сигнал дали…»
Действительно, масштабная и агрессивная критика советского ВПК началась словно по чьему-то приказу. Вот когда реальное достижение советской системы — невероятная дешевизна и доступность прессы, благодаря чему она проникала в самые отдалённые уголки страны, — это достижение стало разрушительным инструментом ещё на одном направлении. Многомиллионными тиражами газет и журналов, передачами радио и телевидения на людские массы обрушилась лавина негативной информации о военно-промышленном комплексе Советского Союза. Его ругали за вроде бы недопустимую прожорливость, за неэффективность огромных трат, за низкое качество вооружения. При этом иностранное оружие, и прежде всего — американское, преподносилось как эталон экономичности и более высоких боевых свойств.
Говорить и писать что-либо против этого было равносильно попытке перейти бурную реку по пояс глубиной. Люди легче верили непривычной, отвязной критике, нежели осторожным вразумлениям, принимал их за осточертевшую пропагандистскую полуправду. К тому же в большинство самых тиражных газет и журналов, быстро разбухших как раз благодаря именно такой критике, пробиться с другим мнением стало невозможно. Гласность оказалась односторонней. Люди, называющие себя демократами, в мгновенье ока стали беспощадными цензорами, определив, что свободы слова достойны только те, кто думает так же, как они.
Поскольку никого из представителей ВПК и других государственных структур было не видно и не слышно, то для миллионов людей оборонный комплекс вскоре превратился в личного врага, который только отнимает возможность жить лучше.
Но Волков-то слышал от Слепцова совершенно иное.
— Ты где взял такие данные? — повторил он доктору свой вопрос. — Паша мне недавно рисовал совсем другую картину. А он, как понимаешь, знает дело. Подтверди, Пашка.
Карабанов заёрзал, как мальчишка, которого застали за постыдным делом. Однако быстро взял себя в руки.
— Сейчас об этом на каждом углу говорят. Кончилось время заткнутых ртов. Почему у американцев покупают оружие? Оно лучше нашего. Мы полезли со своим оружием… С армией своей… Советской… в Афганистане получили по зубам, потеряли людей и ушли с позором. Не могли дикий народ придавить! Вот американцы бы с ним разделались за две недели.
— Ай-я-яй, — с издёвкой запричитал Нестеренко. — И тут твои американцы лучше нас. Только почему-то сначала по зубам дали им. Во Вьетнаме. А тоже хотели быстро разделаться с диким народом.
— Наши помогали. Давали ракеты. Самолёты. Сами косили под вьетнамцев.
— А кто помогал душманам в Афганистане? Может, марсиане? Иль всё ж американцы своим оружием и советниками?
— Нашей армии какое ни давай оружие — всё равно толку не будет. Привыкли мясом побеждать, трупами устилать дорогу. Была бы хоть потом польза, а то победители живут хуже побеждённых…
— Ты о чём это? — мгновенно помрачнел Волков. Медленно приподнялся с табуретки и, наклонившись к Сергею через стол, тихо спросил: — Никак всё ещё жалеешь?
Тот отвёл взгляд, и учитель понял, что Карабанов нисколько не образумился после того тяжёлого для них обоих разговора.
* * *
Тогда они возвращались вдвоём на карабановской машине с летней рыбалки. Поездка получилась не за рыбой, а за каким-то радостным отдохновением. Давно оптированный Сергеем пациент вдруг вспомнил про доктора, написал ему на больницу письмо, где рассказал про себя, про свою деревню и пригласил «дня два пожить в лугах». В конце, для большей убедительности, приписал: «Если пожелаете, то не пожалеете».
Они не пожалели. За годы поездок видели много интересных мест, но такой душевной и трогательной красоты, кажется, не встречали. Деревушка из двух десятков старых, однако ещё крепких изб пристроилась на краю обширной неглубокой котловины. В самом низу её блестело озеро. К нему, судя по извилистой ленте берегового кустарника, петляла речушка. Куда из озера вода уходила, и вытекала ли она вообще, издалека понять было трудно. Не считая кустарниковой ленты, весь остальной простор низины занимали луга. Леса, удивительно могутные, малохоженные для обжитой предсеверной России, остановились у краёв котловины, подойдя близко и к деревушке.
Карабановский пациент Николай Петрович встретил их с мягкой простотой, спокойно и без удивления, словно не сомневался в том, что доктор Сергей Борисович обязательно приедет «в луга».
С дороги учитель и доктор жадно накинулись на деревенскую еду — молодую картошку с укропом, на свежие, только что сорванные и ещё колющиеся огурцы, солёные рыжики и жареные подосиновики, а Николай Петрович — на городскую колбасу, мягкий сыр и баловство из фетисовского «заказа» — оливки с лимоном.
Гости поставили на стол три бутылки водки — антиалкогольная горбачёвская кампания провалилась, и теперь спиртное можно было покупать официально, если, конечно, удавалось «достать» — очереди за водкой стали ещё многолюдней и злее. Николай Петрович принёс из погреба самогон — его он гнал до горбачёвской «борьбы», в ходе её и не собирался останавливаться в обозримом будущем.
Напробовавшись того и другого, городские и хозяин вяло побрели к озеру. Недалеко от впадения речушки поставили сеть. После чего учитель и доктор, взяв спиннинги, пошли облавливать берега, а Николай Петрович вернулся в деревню топить баню.
Вечером они млели на тёплых деревянных полках уже немолодой бани, пили самодельный брусничный морс и размякали в горячих запахах распаренной берёзы, можжевельника и зверобоя.
Доктор лениво спрашивал хозяина про самочувствие после операции, тот так же размеренно отвечал, а Волков вполуха слушал их и думал, как хорошо, что у него есть такой товарищ. Он обожал Сергея едва ль не с того раза, когда Карабанов впервые появился в их компании. И хотя в последнее время взгляды их всё чаще расходились, что заставляло Волкова переживать, тепло того большого уважения продолжало быть ощутимым.
Загонные зимние охоты на крупного зверя — лося, оленя, кабана, — как правило, требуют много людей, нужны несколько загонщиков, но ещё больше — стрелков, чтобы охватить вогнутой дугой значительный массив леса. Обычно приезжают уже заранее сколоченные команды — чужих в устоявшийся коллектив берут неохотно. Неизвестно, как люди себя поведут, какой у них опыт, как стреляют.
Но бывает, что приезжают две-три небольших группы. Тогда руководитель охоты — для успеха — соединяет их в одну команду: выход зверя на кого-то из десяти-двенадцати стрелков более гарантирован.
Волковская компания уже начала складываться: вчетвером съездили на несколько охот. Приглядывались друг к другу, пока не знали характеров, манер, житейских привычек каждого, старались быть осмотрительней. Через некоторое время поняли, что вместе им комфортно.
Однажды приехали за лосём. Их четвёрку объединили с пятью незнакомыми охотниками. Как оказалось, там некоторые увиделись впервые.
Охота задалась нелепая. Стрелки из другой команды сначала по зверю промазали. Лось ушёл через «номера». Во втором загоне, организовать который потребовалось много времени, они зверя только ранили. Егеря, ругаясь, пошли по следу, а всем городским велели выходить к оставленным на шоссе машинам.
Короткий зимний день быстро гас. Волковская группа вышла к дороге в сумерках. Остальных не было. Начали сигналить, стрелять. По темноте пришли трое, двое оставались где-то в лесу. Уже егеря вернулись, стали беспокоиться. Наконец, после очередной пущенной ракеты, далеко в лесу раздался выстрел. С фонарями и криками пошли навстречу. Через некоторое время встретились. Карабанов вёз лежащего на лыжах человека. Тащить ему пришлось далеко. Охотник, стоявший на последнем «номере», услыхал карабановское «отбой», но вместо того, чтобы пойти по лыжне вслед за доктором, решил срезать путь. Карабанов думал, что мужчина идёт за ним. Но неожиданно услыхал где-то сбоку, в глубине леса, пронзительный крик. Со страхом повернул на него — крик хоть и стал слабее, но не прекращался. Минут через двадцать увидел человека, который не стоял, не лежал, а словно повис наискосок в воздухе — ноги в снегу, а голова над буреломом.
Оказалось, мужчина попал лыжей в невидимое под снегом нагромождение ломаных стволов. Падая набок, вывернул стопу. Но самое драматичное — острым, как копьё, суком пропорол штанину и проткнул бедро.
Счастье мужика, что услыхал его хирург. Он быстро освободил охотника, снял с себя рубаху, разорвал её и сделал перевязку. Понимая, что самому будет жарко, а раненого надо одеть потеплее — неизвестно, сколько тому придётся лежать на лыжах, — Карабанов натянул на него свой свитер.
Когда их встретила группа мужчин — с егерями отправились Волков и Нестеренко, раненого трясло, а Карабанов дышал, словно загнанный лось. Уже тогда, лет в тридцать, он был заметно толстоват. Нижняя нательная рубашка насквозь промокла, и даже на куртке под мышками выступили влажные пятна.
Возле машин Карабанов умело перебинтовал пострадавшего — только тут все узнали, что он хирург, а затем поехал вместе с раненым в районный городок.
Перед отъездом Волков пригласил доктора на следующую охоту с их компанией — лицензия оставалась неиспользованной. Новые товарищи не возражали.
Постепенно Карабанов стал своим в небольшом охотничьем коллективе. Он много знал в разных областях: от истории и литературы до плотницких дел и собаководства, не говоря, конечно, о медицине. Особенно интересовался политикой — читал не только издаваемое в Советском Союзе, но и привозимое из-за границы. Постоянно слушал «Голос Америки», «Свободную Европу», Би-би-си, «Немецкую волну». Первым приносил кассеты с популярными на Западе исполнителями. Не отказывал товарищам в разных медицинских справках. Несмотря на растущую тучность, был вынослив, когда приходилось далеко идти на лыжах. Стрелял почти, как «снайперы» Волков и Слепцов, а в иронии порой не уступал Андрею Нестеренко.
Правда, ирония эта, особенно по поводу власти, была чем дальше, тем более уничижительной. Остальные тоже поругивали власть, пародировали, кто как умел, речь Брежнева, недобро говорили о дефиците, ёрничали по поводу выборов без выбора — из одного кандидата.
Но у Сергея оценки получались злее, и он не раз говорил, что гримасы системы — это и есть подлинное лицо народа. Каждый народ, повторял доктор, имеет ту власть, которой заслуживает.
С ним в чём-то соглашались, что-то оспаривали. Сначала Андрей Нестеренко. Потом Волков. И если инженер-электрик, двигая бровищами, не очень выбирал слова, то учитель старался обходительно переубедить Сергея. У каждого народа, говорил он, есть подъёмные и провальные периоды. Ни один народ не избежал этого. Но только история покажет, каким в действительности был тот период, который современниками оценивался со знаком плюс или минус.
Когда возвращались с рыбалки, снова зацепили власть и народ. Бензин в карабановских «Жигулях» был на исходе. Пришлось сворачивать к окраине маленького городка. Заправки почему-то ставили в населённых пунктах, а не на трассах, где они были нужнее всего. Причём одна от другой находились так далеко, что люди не рисковали ехать без запаса.
— И как тебе нравится это стадо? — бросил Карабанов, подъезжая к АЗС. К двум колонкам выстроилась большая очередь. Она продвигалась медленно — водители заливали бензин в машины и в канистры. Некоторые пытались словчить — протиснуться вперёд. Их осаживали: с матерщиной, злобными криками.
— Нормальный, не скотский народ давно бы сбросил такую власть, — сказал Карабанов, останавливаясь в конце очереди. — А эти, как рабы, терпят. Нет! У народа с рабьей душой не может быть хорошего будущего.
— Между прочим, этот народ… с рабьей, как ты говоришь душой, спас от рабства и себя, и многие народы Европы, — заметил Волков.
— Да лучше бы он не спасал! — воскликнул доктор, и серые глаза его под набрякшими веками аж потемнели от ярости. — Победители хреновы! — резко показал через стекло на очередь. — С орденами в хлевах. По двадцать-тридцать лет ждут бесплатной квартиры, не могут свободно купить машину. А купят — вот так: в паскудстве. Лучше бы немцы нас победили. Жили б мы сейчас, как они.
Волков на мгновенье окаменел. Потом растерянно спросил:
— Ты… шутишь, Сергей?
Поглядел на товарища. Тот сидел, уставившись на очередь. Учитель с облегчением улыбнулся: конечно, это не всерьёз.
— Ну, и шутки у тебя, Карабас.
— А я не шучу, Володя, — строго сказал Карабанов. — Ты погляди: все побеждённые нами страны живут лучше нас. Япония… Германия… Значит, власть наша ни к чёрту, если почти через полвека разгромленные оказались богаче победителей. Я уж не говорю о Штатах, Англии, Франции… Пусть бы уж нас победили, а не мы.
— Ты вообще-то соображаешь, что говоришь?
Волков стал быстро скручивать кончик уса в острое жало. Недавно ему уже пришлось услышать в одной компании явный намёк на то, что побеждённые живут лучше победителей. Тогда по какому-то поводу собрались выпить коллеги волковской жены Натальи — журналисты. Она уговорила Владимира прийти — ей всегда было уютней, когда рядом сидел красивый, видный, компанейский муж. Журналисты оказались разные. Всех заводил и, похоже, был организатором кареглазый, стройно сложенный мужчина лет за сорок — весельчак и балагур, успевающий увидеть за столом буквально всё. Одному он показывал, что пора налить. Другого поднимал: скажи тост. Третьему напоминал не забыть про женщин — их в компании оказалось две: Наталья и журналистка с Центрального телевидения, которую пригласил заводила-организатор. «Мы у неё выступаем в „Прожекторе перестройки“, — сказала Волкову жена. — С Виктор Сергеичем», — показала она на командира застолья, и Владимир вспомнил, где он видел этого балагура. Виктор Савельев — обозреватель известной газеты, в жизни выглядел несколько иначе, чем на экране, но Волков знал по прежней работе жены на телевидении, что там с каждым выступающим перед эфиром работают гримёры.
В компании был и журналист из Литвы. Как он туда попал, Владимир не понял. Только обратил внимание, что прибалтийский гость несколько раз довольно резко высказался по поводу оккупации. Все решили: имеет в виду немецкую. Однако парень внятно объяснил: он говорит о советской оккупации.
— Если бы остались немцы, мы бы сейчас жили, как в ФРГ.
Кто-то в компании неодобрительно фыркнул, остальные смутились — спорить с почти что иностранцем показалось неудобным. Но тут раздался жёсткий голос Савельева.
— Вы бы лаптями щи хлебали. Если бы остались вообще, как народ. Скажи спасибо, что Союз создал вам промышленность, построил города. Поднял… из грязи в князи.
Литовский журналист встал и, возмущённый, ушёл. А Волков перегнулся через стол и пожал руку Савельеву.
Теперь он снова услышал сожаление о неудавшейся победе немцев. И от кого?
— Может, тебе напомнить, кто я и кто ты? Ну, ладно: я — русский. Глядишь, остался бы жив. Какое-то количество им надо было оставить… Работать на господ… Чистить сапоги. Я бы, может, чистил сапоги их солдатам… офицерам. Но ты же еврей! Или думаешь, что показывали в Освенциме — советская пропаганда? По-твоему, выходит, и Холокост пропаганда? Я бы, может, чистил сапоги. Но той ваксой, которую сделали из тебя!
Потрясённый, Волков замолчал. Он не знал, что говорить. Почему-то вспомнил об отце, который жил с матерью и старшей сестрой в Воронеже. Вот если б ему сказали сейчас такое, как бы он себя повёл?
Отца забрали на войну в 42-м, когда ему исполнилось 18 лет. Попал на Волховский фронт. Во время неудачной попытки советских войск прорвать блокаду Ленинграда в районе Синявинских болот был ранен. Вторую рану получил при освобождении Новгорода зимой 44-го года. Третью — самую тяжёлую — под Берлином. Но пришёл — руки-ноги целы, по мирному времени парень ещё — 21 год. Только серые от проседи виски показывали, как дались старшине Волкову орден Красной Звезды, два — Отечественной войны обеих степеней, медаль «За отвагу» и несколько других наград. Сын его в 37 лет не имел ни одного седого волоса, и выходило, что ранняя седина — не родовая наследственность.
Война долго не отпускала Волкова-старшего. Уже Владимир в школу пошёл — семь лет со смерти Сталина минуло, уже в пионеры приняли, а отец, как выпьет в компании, особенно, если приходил сосед Василий Андреич — тоже бывший фронтовик, так где-то через полчаса-минут через сорок запевает первую из любимых. Позднее Владимир узнал: песня называлась «Марш артиллеристов»:
Артиллеристы, Сталин дал приказ. Артиллеристы, зовёт Отчизна нас. И сотни тысяч батарей, За слёзы наших матерей, За нашу Родину — «Огонь! Огонь!»Отец начинал, а Василий Андреич подхватывал, и тут же плечи мужчин распрямлялись, сами мужики гордо глядели друг на друга, отбивали маршевый ритм, кто кулаком по столу, кто вилкой, и через некоторое время маленькому Вовке хотелось пропечатать перед отцом и дядей Васей настоящий солдатский шаг.
Выпив ещё, и не одну-две стопки, отец вдруг замолкал, выключался из разговора; взгляд останавливался, словно его приковывало к чему-то мощному и тяжёлому, видимому только отцу и только до него доносящему волны излучения. За столом продолжался разнобойный разговор, кто-то кому-то передавал тарелки, кто-то смеялся, и в этой рассыпчатой всеобщей расслабухе вдруг раздавался рыкающий прокашель. Гости поворачивались к хозяину — Николаю Васильевичу Волкову. А он, нахмурившись, опустив голову, будто от большого горя, начинал даже не петь, а вроде как декламировать трудно выговариваемые слова:
Выпьем за тех, кто командовал ротами, Кто замерзал на снегу.Голос его вдруг начинал хрипеть, словно человек действительно промёрз насквозь, и только беспощадная необходимость заставляет действовать.
Кто в Ленинград пробирался болотами, Горло ломая врагу.В речитатив вступал Василий Андреич и, в отличие от Волкова-старшего, уже выводил слова на мелодию:
Выпьем за тех, кто неделями долгими В мёрзлых лежал блиндажах, Бился на Ладоге, дрался на Волхове, Не отступал ни на шаг.Компания напрягалась, люди прекращали разговоры, и последние слова подхватывало большинство:
Выпьем за Родину, выпьем за Сталина! Выпьем и снова нальём.Из всей той суровой песни Владимир помнил лишь часть. Взрослым пытался найти, кто автор и композитор. Спрашивал отца. Тот не знал. А ещё позднее сын понял, что имя Сталина отцовы товарищи-фронтовики и сам он специально возвращали в тексты переделанных песен в знак протеста против хрущёвского развенчания культа личности. Не могли они смириться с тотальным растоптанием имени человека, который был для них знаменем и образцом сурового аскетизма.
Горбачёвская перестройка добавила ветеранам страданий и горечи. Сначала крадучись, потом всё открытее пошли разговоры о том, что война Советского Союза против фашистской Германии была, ну, не то, чтоб уж совсем несправедливой, но вовсе не такой благородной, как её преподносили все десятилетия после Победы. Она, мол, принесла народам Европы не свободу, а порабощение социализмом. Да и победа Советскому Союзу досталась из-за бесчеловечности Сталина и жестокости Жукова слишком дорогой ценой. Надо ли было отдавать жизни, чтоб заменить одну несвободу — фашистскую, на другую — советскую? Ветеранам стали внушать, что никакие они не герои. «Вы на штыках разнесли по миру заразу казарменного социализма, — жалили их горбачёвские „прорабы перестройки“. — За это многие в Европе вас ненавидят, и правильно делают».
Отец не любил писать письма. Не потому, что грамоты у наладчика станков с числовым программным управлением было маловато. Считал, что если рассказывать всё в письмах, реже ездить будет сын. Да и не опишешь всего, что можно сказать. В последний приезд, как раз накануне их летней рыбалки с Карабановым, отец рассказал об инциденте возле проходной его авиационного завода. В некоторых цехах появились новые работники. Сначала пробовали устраивать собрания в цехах в поддержку Горбачёва, перестройки, демократизации. Люди не откликнулись. Потом стали сбивать митинги за проходной. Там уже задерживался кое-какой народ, но большинство проходили мимо.
Перед Днём Победы снова зазывали выходящих со смены рабочих. Николай Васильевич Волков остановился. Думал, начнут, как всегда, поздравлять ветеранов. Привычно разгордился, старым соколом поглядывал на окружающую молодёжь.
Но к его удивлению, первый же оратор стал говорить о том, что хотя воевали советские люди отчаянно и многие сложили головы, только надо ли было делать это? Берлинская стена разрушена, Германия объединяется — ФРГ поглощает социалистическую часть. Богатые немцы дают деньги, чтоб наши войска скорее убрались оттуда. Всё, что сделал Советский Союз, оказалось ненужным. Тогда зачем, спрашивал молодой белобрысый оратор с надутыми, как у хомяка, щеками, надо было отдавать самое ценное — жизнь?
Николай Васильевич пробрался к оратору. «Ты спрашиваешь, зачем мы клали жизни?» Тот весело закивал, радуясь, что его так хорошо понял высокий, седой ветеран. «Во-первых, чтоб получили жизнь наши дети… надеюсь, хорошие люди. А во-вторых, чтоб такое говно, как ты, было кому смывать!»
Последние слова Волков-старший уже выкрикивал в момент удара. Голова белобрысого дёрнулась назад и, если б не стоящие плотно люди, он упал бы на асфальт. Откуда-то появился милиционер. Под негодующие и одобрительные крики ветерана забрали в милицейскую машину.
Никакого административно-уголовного наказания не последовало. Но отцу от этого было не легче. Все дни короткого сыновьего отпуска — после Воронежа Владимир собирался основное время провести у тестя с тёщей в Волгограде — Николай Васильевич переживал случившееся. И не срыв возле проходной волновал отца. Он не мог успокоиться оттого, что «хомячка» поддерживали криками люди.
— Чё такое происходит, Вовка? Куда этот меченый чёрт тащит страну? — говорил он о Горбачёве.
«Действительно, куда?» — тяжело думал Владимир, не глядя на Карабанова, который тоже молча вёл машину. Не мог сам Карабас прийти к этим мыслям. Слишком кощунственны они были для людей даже их поколения. Тем более — для еврея. Кто-то хотел, чтоб они запали в другие головы. Русским… Украинцам… Кавказцам… А зацепили совсем не того.
Он покосился на доктора.
— У тебя отец воевал?
Тот ответил не сразу.
— Воевал.
— А на каком фронте?
— Мне это надо? Достаточно, что остался жив после мясорубки.
— Скажи, Сергей, а как твой отец отнесётся к твоим сожалениям? Мой — я знаю, как. А вот твой?
— Мне это сейчас абсолютно не интересно. Мы по-разному смотрим на некоторые вещи. Он не умеет отбрасывать ненужное.
Доктор помолчал и негромко добавил:
— Совсем не понимает меня… А я — его.
Глава восьмая
Борис Моисеевич Карабанов, действительно, всё меньше понимал сына. Началось это давно, но полный разлад наступил после поездки Сергея в Штаты. Родная сестра карабановской жены Розы Ионовны уехала туда с мужем и сыном до того, как американцы неожиданно и резко притворили свои иммиграционные ворота, оставив в них узкую щель. Сёстры изредка переписывались. Младшая — Рахиль — с вдохновением рассказывала о Нью-Йорке, вблизи которого они поселились в маленьком городке, о людях из еврейской организации, помогающей приезжим, но собственную жизнь почему-то описывала скупо.
Роза Ионовна активно не одобряла отъезд сестры. Борис Моисеевич её поддерживал, но был менее категоричен. «Если людям хочется попробовать новой жизни, пусть пробуют». И только Сергей был полностью на стороне решительной тётки, вырвавшей семью из советской убогости.
После института младший Карабанов мог остаться с родителями в Ленинграде — отец и мать были известными людьми в медицинском мире. Но он выбрал подмосковный город военно-космической ориентации. Сначала — чтобы попробовать самостоятельности. Потом привык. Город был рядом со столицей, почти Москва. Многие ездили туда каждый день на работу; чаще, чем живущие в центре москвичи, бывали в театрах и на концертах, однако при этом возвращались не в московскую толчею и многолюдье, а в тишину и уют умно построенного города среди леса. На некоторые балконы прискальзывали кормиться белки с соседних сосен.
При каждой встрече с родителями разговор обязательно заходил об «американцах». Сергей всё настойчивей отстаивал «тётю Раю» — так в карабановской семье называли Рахиль Ионовну, просил мать в очередном письме обязательно передать привет ей и её мужчинам. Мужчин он добавлял для приличия. Супруг тётки — Семён Ильич — и в Союзе был «при ней», работая юрисконсультом на какой-то мелкой фабрике, и в США, похоже, не смог оторваться от юбки активной жены. Их сына Марка Сергей не особенно помнил: разница между ними была 12 лет. Когда тётка увозила семью, Марк недавно получил паспорт.
После начала перестройки стал писать письма в США и Сергей. Иногда давал понять, что не против бы посмотреть великую страну. Приезд в Союз Марка и его рассказы об американской жизни выбили доктора из колеи. А поездка с женой в Штаты окончательно потрясла Сергея.
Тётка сразу сказала, что в Америке не принято жить у родственников. Она отвела племянника в какой-то невзрачный дом, объяснив, что это хороший отель. Но и тесный номер третьесортной гостиницы с крохотной туалетной комнатой показался ему необычайно роскошным.
Дома у тётки они были с женой только сразу после приезда и в последний день. Даже если бы их захотели здесь оставить, спать пришлось бы в «студии» — так по-американски называлась объединённая кухня-столовая. Две других небольших комнатки занимали Рахиль Ионовна с мужем и Марк со своей женщиной — незарегистрированной женой. Молодые работали на одной автозаправочной станции, но в разных сменах. Марк обслуживал машины, его подруга — водителей, продавая им кофе, «Пепси», сигареты. Поэтому каждый день кто-то один водил родственников по интересующим их местам: магазинам, ресторанчикам «Макдональдс», нью-йоркским улицам.
Хождение по Нью-Йорку ошеломляло Сергея. Всё было не таким, как дома. Множество магазинов с обилием товаров. Заливающий улицы и здания светопад рекламы. Дома-гиганты и дома-карлики, но каждый — со своим лицом. В одном районе он увидел выстроенные в длинную шеренгу двухэтажные, узкие домики, абсолютно одинаковые, с одного строительного конвейера, к тому же поставленные вплотную друг к другу. Однако и эта вытянутая цепь дешёвого жилищного однообразия показалась Карабанову необычно привлекательной.
Однажды у молодых совпала свободная смена. Поехали в Нью-Йорк вчетвером. На какой-то улице встретилась лавочка с надписью: Sex-shop. Марк предложил зайти. Подруга с азартом поддержала его. Сергей догадался, что это такое. Вопросительно посмотрел на жену. Та слегка покраснела, отрицательно покачала головой. «Ну, пусть они погуляют», — сказал Марк про подругу и невестку.
Из лавки Карабанов вышел красный, потный, с блуждающим взглядом и в первую минуту ничего не мог произнести внятного. Пройдя немного, потрясённо выговорил: «Вот это свобода… Каждому по потребности… Никого ни в чём не стесняют».
А когда Марк свозил их с Верой на Брайтон-бич — эту нью-йоркскую колонию советских евреев-эмигрантов на берегу Атлантического океана, Сергей не мог заснуть всю ночь. Перед глазами вставали смешные, завлекательные, раскованные надписи на магазинах и товарах, звучала в ушах смесь русско-одесского говора с английскими вкраплениями. «Ви берёте эту колбасу или мне её отправить туда, откуда она вышла?» «Айм сорри, уважаемый! Спросите у своей бабушки, какую она ела селёдочку в своей молодости. Вот наша такая же. Скушаете вместе с ценником!»
Нью-йоркская неделя так поразила Сергея, что он, вернувшись в Союз, долго не мог освободиться от взволновавших его впечатлений.
Тем неприятнее было увидеть прохладную реакцию родителей на его восторг. «Была уважаемый специалист… Педиатр… А там посуду моет», — с осуждением заметила мать о младшей сестре, когда Сергей рассказал, чем занята тётя Рая. «Что ты хочешь? — откликнулся отец. — Семён без работы. Живут, скорее всего, только на пособие».
Через четыре месяца Борис Моисеевич тоже оказался в Нью-Йорке. Приехав на медицинский симпозиум, он решил, что неприлично быть рядом и не заглянуть к родственникам.
Сергей не сразу увидел его после возвращения. Лишь когда у младшей дочери наступили каникулы, он повёз её в Ленинград.
Дед с бабкой обрадовались внучке. Каждый раз при виде милой девчушки их как будто подменяли. От сдержанности строгих медицинских мэтров ничего не оставалось, когда они поодиночке или вдвоём разговаривали с любимицей семьи. Однако стоило сыну начать по какому-нибудь поводу превозносить американскую жизнь, у родителей сразу менялось настроение.
Перед отъездом из Ленинграда Сергей надумал купить подарки жене и старшей дочери. Через несколько часов ходьбы по городу злой вернулся домой.
— У вас ещё хуже, чем в Москве. Довела страну власть.
— В данном случае ты прав, — мрачно согласился отец. — Довёл Горбачёв. Если бы кто с умом…
— Да как ты не поймёшь! — воскликнул Сергей, перебив отца. — Не в Горбачёве дело! В системе! В строе нашем! Социалистическом… Везде, где капитализм, там человеческая жизнь. Нам нечего предъявить миру. Как в песне известной: балет да ракеты. Правильно сказала Тэтчер: «Верхняя Вольта с ракетами». Чего ни коснись, всё хуже, чем в цивилизованных странах. По сравнению с Европой, я уж не говорю про Америку, зарплаты — нищенские. Квартиры — сплошная убогость. Вы, два известных медика, а живёте в старой трёхкомнатной. Гордитесь: петербургская… Пушкин рядом ходил. Ну, и чёрт с ним, что ходил! Надо сейчас жить! Образование такое, что нигде в других странах с ним не устроиться. Осуждаете тётю Раю — посуду моет. А её, думаю, из-за советского диплома не берут. Не доверяют советскому образованию и нашей медицине. Да и какая у нас медицина!
Сергей с досадой махнул рукой, показывая, что дальше говорить не хочется. Искоса глянул на отца, который, нахмурившись, сидел в кресле рядом с журнальным столиком, заваленным газетами. Именно из-за отца, выписывавшего каждый год пять-шесть газет и несколько журналов, он втянулся в политическое чтение. Здесь, в своей комнате, куда редко заходили родители, начинал он слушать зарубежные радиостанции, постепенно отторгая реалии советской жизни.
— Ну, вот, мама Роза, видишь, какие мы с тобой ущербные, — произнёс отец, поднимаясь из кресла и нависая всем своим крупным телом над сидящим за столом сыном. — Впору проситься к Райке… Мыть с ней посуду на кухне.
Видимо, не зря порой говорят про талантливых людей и их потомков: природа отдыхает на детях. Борис Моисеевич Карабанов был одним из видных кардиологов. После второго ранения в 44-м году (первое получил под Сталинградом) его демобилизовали. На костылях лейтенант Карабанов пришёл в медицинский институт. Практикующим врачом защитил кандидатскую, а затем и докторскую диссертации. Стал профессором, начал преподавать. При этом всё активней стал заниматься исследованиями.
Но сына наука не заинтересовала совсем. Он ездил на семинары и конференции только за знаниями для практики. Считал занятия научными исследованиями никчёмным делом, от которого больших денег не получишь.
Мало похожими они были и внешне: высокий, под метр девяносто, Борис Моисеевич и заметно уступающий ему в росте Сергей. Открытые, немного навыкате карие глаза у отца и серые — в мать, — к тому же под нависающими веками у сына. Рано начавший полнеть, с дрябловатым лицом Сергей и сто килограммов тренированного тела постаревшего отца.
— Рассказали нам с тобой, мама Роза, где хорошая жизнь, а мы-то и не знали, в каком навозе живём. Ни образования. Ни медицины…
У Бориса Моисеевича это была давняя привычка: в присутствии сына называть жену «мама Роза». Когда кто-то, услыхав впервые, удивлялся, отец объяснял: «Цветы люблю… Розы… А наша мама — настоящий цветок. Правда, Серёжа?»
— Только я поражён, что это заявляет мой сын. Образованный. К тому же медик. Неужели тебе неизвестно, что советское здравоохранение считается одним из лучших в мире? Если не самым лучшим! Это признала даже Всемирная организация здравоохранения. Не вся медицина — тут у нас и прорывы есть… значительные прорывы, и есть в чём-то отставание. Но я тебе говорю про здравоохранение как систему охраны здоровья нации. Где ты ещё найдёшь такие масштабы? Мы не так давно начинали почти с нуля. Массовые эпидемии… Ни больниц. Ни врачей в достатке. А сейчас по числу врачей на тысячу жителей — первые в мирю. Поголовная вакцинация. Регулярные обследования населения. Не какой-то группы людей — богатых, избранных, а всех подряд. Рабочих. Студентов. Сельских жителей. Ты не налюбуешься на Соединённые Штаты. А известно ли тебе, уважаемый доктор, что там тридцать миллионов человек до сих пор не имеют возможности получать хоть какое-нибудь бесплатное лечение. До сих пор! И это в конце двадцатого века! Нет денег — иди помирай. А у нас кто-нибудь платит? Каждый, я подчёркиваю, абсолютно каждый, где бы он ни жил — в огромной Москве или маленьком посёлке… в деревушке какой-нибудь — имеет право на бесплатное медицинское обслуживание. И получает его — вот что важно! Везде есть женские консультации. Женщинам — отпуска по беременности и родам. Помнишь, как они называются? Декретные. Потому что советская власть их декретом ввела. Первой в мире. До сих пор это есть далеко не везде. А наши санитарные нормы? Суровые… Но зато берегут здоровье народа. Ты недоволен нашим образованием. А для миллионов людей в других странах оно — эталон. Мечта, к которой хотят стремиться. Думаешь, случайно со всего мира едут учиться в наши институты и университеты? Из Африки едут. Из Южной Америки. Из Азии едут и даже из Европы. В наши, а не в западные.
— Просто у нас дёшево, — заявил Сергей. — Этим и покупаем.
— Нет. Качественно. Я это знаю не только по своему институту… По многим другим вузам… То, что Рахиль Ионовну не берут врачом-педиатром… здесь разные причины. Берегут рабочие места для своих граждан. Не знают уровня квалификации. Но не в последнюю очередь — причины политические. Надо ведь представить Советский Союз слаборазвитым государством, где нет, как ты говоришь, ни хорошего здравоохранения, ни приличного образования. Стараются дискредитировать по любому поводу. Социализм для них — это лютая опасность. Я не беру сегодняшний Советский Союз… Горбачёвский. Хотя и он ещё с большим запасом прочности. Я говорю о политической системе как таковой. С евангельских времён, а может и раньше, люди мечтали об обществе социальной справедливости. Где нет голодных и тех, кто захлёбывается от неисчислимого богатства, где все имеют примерно равные… пусть не чрезмерные, но вполне достойные для плодотворной жизни материальные возможности. Если у одного миллион в кармане, а у другого — вошь на аркане, какое тут равенство? Ты ведь должен знать — мы с тобой не раз говорили, — что только пример Советского Союза, его физическое присутствие в мире заставляло власти капиталистических стран проводить социально-экономические реформы в интересах простого народа. Люди-то смотрят на нас — тамошние люди — и говорят между собой: а почему мы не имеем таких возможностей, как в Советском Союзе? Вот ты называешь зарплаты нищенскими, хотя это не так, но забываешь, что они — только часть оплачиваемых государством благ. Тогда давай всё сложим и посчитаем. Здравоохранение — бесплатно? Да. Для человека бесплатно. Но не для государства. Врачам платить надо. Лекарства выпускать надо. Медицинскую технику делать нужно. Больницы, поликлиники — их ведь строят за государственные деньги. Сложи эти средства и раздели на каждого. Получится ба-а-льшая прибавка к зарплате. Очень хорошая. Образование — тоже бесплатно. Для того, кто учится. А тем, кто учит, платят? Школы, институты строят? Общежития для студентов строят? Да, стипендии маленькие. Надо бы больше. Но сколько платит за благоустроенную жизнь студент? Копейки!
Погляди вокруг! Спокойно погляди… Объективно. За ясли и детский сад сколько вы платили с Верой? Сущую ерунду. Путёвки в санатории и дома отдыха — большинству людей почти бесплатно. Пионерские лагеря для детей — то же самое. Коммунальные услуги. За них мы платим несравнимо меньше, чем за границей. А ведь это тоже добавки к зарплате. Вернее сказать, к доходу человека. Ты не спросил тётю Раю, сколько там платят за квартиру, воду, уборку мусора, свет?
— Ну, да! Приехал племянник узнавать, сколько тётка платит за мусор.
— Зря иронизируешь. Спросил бы — тогда бы, может, что-то понял. Там жильё и коммунальные платежи забирают половину всей зарплаты. А за остальное-то человеку тоже надо платить: за учёбу, за лечение, за транспорт. У нас в аэропортах очереди, толкотня. Безобразие, могу с тобой согласиться. Всё время возмущаюсь. В европейских странах… социалистических… порядка больше. Сам не раз видел. Значит, можно организовать?… И политическая система не мешает. Просто наша власть в этом деле безответственна. Желающих летать всё больше, а вокзалы отстают от потребностей. Но посмотрел бы я, как полетали бы люди, если бы государство специально не держало такую маленькую цену на билеты. Мы ведь не Англия или Швейцария, которые можно за день на машине проехать. У нас шестая часть планеты! От Владивостока до Ленинграда лететь дольше, чем какую-нибудь Данию на велосипеде переехать. Представляешь, сколько должен стоить билет в той рыночной экономике, про которую вы говорите? Один мой пациент… тоже, кстати, по его словам, демократ… Экономист большой… Просвещает меня каждый раз, когда я заставляю его крутить педали велоэргонометра. Называет, какие зарплаты в других странах. Но когда спрашиваю, сколько там платят за социальные блага, хватается за сердце. Вижу: не хочет говорить… Или не знает.
— А мне не нужна забота государства обо мне! Пусть отдадут все заработанные мной деньги, а я уж сам решу, куда и сколько мне платить. Почему за меня кто-то думает? Не надо за меня думать. Не надо за меня решать. На Западе каждый за себя. Вот это и есть свобода. Мы такую тоже будем устанавливать.
— Однако пока получается хаос, — сказала молчавшая до того мать.
— Вы боитесь перемен… Это естественно. Каждый немолодой человек боится перемен, даже если они в итоге приведут к лучшему.
— Я опасаюсь перемен к худшему, — проговорил отец. Подошёл к сидящей жене, приобнял её за плечо. С грустной улыбкой посмотрел на сына.
— Ты помнишь, как мы ездили на юг? Почти каждое лето. Сначала на «Москвиче», потом — на «Волге». Мама Роза — рядом со мной. Ты — сзади. Захочешь спать — оглянемся, а ты спишь… Останавливались ночевать, где глазу приятно. Палатку разберём… Пока мама Роза готовит еду, мы с тобой удочки размотаем и к речке.
Потом — с девчонками твоими… Нашими девочками… Заберём их у вас по пути на юг и также без всякой боязни едем по стране. А теперь что вы устроили-перестроили? Не только на ночь страшно остановиться в лесу… иль возле реки. Днём убивают и грабят. Ты хочешь, чтобы это разрасталось дальше? Врачи стали мыть посуду в забегаловках… Конструкторы пошли торговать барахлом в подземных переходах… Твоя младшая дочь — наша радость — встала на углу… клиента ждать. Ты этого хочешь?
— Ты рисуешь какие-то нереальные картины. Такого не будет никогда. Мы не позволим.
— Кто это «мы»?
— Мы — демократы.
— Серёжа! Вас ведут на поводке идеи. Вы всего лишь отряды политических смертников. Вспомни, чем заканчиваются все революции: Французская… наша Октябрьская. На плечах ослеплённых масс… идея-то хорошая: свобода, равенство, братство… к власти приходят циники и головорезы. Это потом наступает человечный порядок. Да и то не всегда. Вас используют… Бросят в топку разрушения, как вязанки дров. Мы ведь с мамой Розой не слепые и не зашоренные идеологией люди. Видели… Знали, что нужны перемены в стране. Но посмотри, к чему идёт дело! К разгрому не только плохого, но и хорошего.
— Неизбежные издержки любой революции.
— Хватит нам революций! — резко сказал отец. — Эволюция нужна… Умная. Продуманная. Простой мужик, если собирается в незнакомую дорогу… он про неё постарается всё узнать. А этот… пошёл в воду, не зная броду. Теперь захлёбывается. Сам-то ладно, чёрт с ним. Страну топит!
— Утонет всякая дрянь. Хорошее всплывёт. Умным людям много достанется.
Сергей вспомнил слова Марка. «Когда советский режим рухнет, всё окажется бесхозным. Тут, главное, не растеряться».
— Марк на этот случай копит деньги. По-моему, даже матери не даёт. Кстати, работает на заправке, а имеет больше, чем я — врач.
Отец пристально посмотрел на Сергея. Помолчал, словно раздумывая, говорить или нет.
— Марк ворует.
— Ты што говоришь? — с недоумением вскричал Сергей. — Ты понимаешь, што ты говоришь?
Он бросил взгляд на мать, надеясь увидеть осуждение отца. Но та согласно кивнула головой.
— С чево ты взял?
— С его слов. Он в группе наших эмигрантов, которые химичат с бензином. Деталей не понял. Да они мне и не нужны — я ж не следователь… Главное — они нарушают закон.
— Не хотела бы я своего сына видеть за таким делом, — сухо сказала мать. — Раю жалко. Когда-нибудь придёт беда.
— Ну, вы меня напугали, — облегчённо расслабился Сергей. — Думал, чёрт-те что. Надо отвыкать от старого понимания, што хорошо и што плохо. В рыночной жизни вчерашние советские принципы не пригодятся. Отказываться от них надо. Решительно отказываться.
После того разговора он сразу уехал из Ленинграда домой. А вскоре с Волковым отправился по приглашению пациента «в луга». Теперь жалел о своих неосторожных высказываниях. Думал, самый близкий товарищ поймёт и согласится, а он ощетинился, как дикобраз, — даже концы усов заострились. Поэтому, немного помолчав, Карабанов с натужным миролюбием объявил:
— Хотя, может, ты и прав, старик. Рассуждать об этом не время. Мой дед, наверно, не одобрил бы. Меня занесло… забудем об этом…
Однако судя по вырвавшимся за столом словам, Сергей ничего не забыл и, похоже, в другом малолюдье не скрывал прежних сожалений. «Ну, и чёрт с ним! — подумал Волков, опускаясь на табуретку. — Где-нибудь ляпнет — получит по физиономии. Не все будут миндальничать, как я. Непонятно только, почему молчит Слепцов».
— Паша, я штой-то не помню: это ты мне рассказывал про достижения нашей оборонной промышленности, или кто другой? — с иронией спросил учитель. — Если ты, просвети сейчас и всех остальных. А то мужики подумают: у нас, в самом деле, ничего хорошего нет.
— Всё хорошее только у американцев, — вставил Нестеренко, выразительно глянув на Карабанова.
Но Слепцов, словно не слыша Владимира, сосредоточенно резал колбасу из фетисовского «заказа».
— Ты чего молчишь, Пашка? — повысил голос учитель. — Объясни людям, что Карабас с чьих-то слов вешает им лапшу на уши. Или ты с ним согласен?
— Конечно, согласен, — опять вступил электрик. — Если они хотят советскую власть на какую-то другую менять, значит, оба заодно.
— Я тебя не узнаю, Слепцов. Ты когда был честным? Когда мне рассказывал про наши оборонные дела или сейчас?
И видя, что экономист демонстративно не хочет отвечать, Волков, как чужому, протянул:
— Да-а, парень. С тобой на операцию идти рискованно.
— Кончайте галдеть! — пристукнул ладонью по столу Адольф. — В телевизоре сплошная ругань, и вы тут мне митинг развели. На охоту приехали — не на собрание!
— Правильно, Адольф, — быстро согласился Карабанов. — Надо про завтрашний день думать. Сегодня как-то у нас всухую.
Он говорил поспешней, чем всегда, одновременно разливая водку по стаканам.
— Какие завтра будут действия, Адольф?
— Война план покажет, — холодно ответил егерь. Он первый раз охотился с доктором, но уже невзлюбил его. Понял, что этот губастый толстый мужик из тех опасных, которые хотят не ремонтировать жизнь в стране, пока это ещё можно, — аккуратно, с умом, как привык делать это он сам, — а ведут дело к полному разрушению. Егерь за многое винил Горбачёва, плевался, вместе с другими мужиками, когда видел его жену Раису Максимовну, будучи уверенным, как большинство вокруг, что это она командует «пятнистой балаболкой», а рядом настоящего подручного у него нет. Недавно Валерка принёс частушку, и Адольф за вечер — они сидели тогда в этой избе только свои, деревенские — три раза просил Валерку «показать» её:
По России мчится тройка — Мишка, Райка, Перестройка. Водка — десять, мясо — семь, Охерел мужик совсем.Сначала Адольф решил, что хорошим пристяжным Горбачёву будет Ельцин, но вскоре понял, что этот мужик просто хочет отнять у Горбачёва власть, а такие планы всегда приводят к войне и, если за власть дерутся двое в одной стране, — к войне гражданской.
— Давайте выпьем за Адольфа, — сказал Карабанов, почувствовав отношение егеря к себе.
— И за его ребят — Валеру… Николая, — добавил Фетисов.
«Столичная» водка «от Фетисова» шла хорошо. Зная непредсказуемость событий на охоте, Игорь Николаевич, по договорённости с компанией, брал сразу пол-ящика. Водка — это валюта для расплаты. Она же — смазка любого застольного механизма. Вчера, радуясь встрече, взволнованные предстоящей неизвестностью (каждая охота — это неповторимость ситуаций и ощущений), за долгий вечер «усидели» несколько бутылок. И не сказать, чтобы были заметно выпивши — все мужики крепкие, здоровые. Только Фетисов, как всегда, быстро глазками заблестел, да спорили, может, горячей обычного. Но тут уж не поймёшь: в спиртном ли дело или перекосячная жизнь, которую каждый с собой привёз, ярила головы и языки.
Да и как было не злиться всем вместе, без разделения на «демократов» и «ретроградов», когда из традиционного, всегда доступного напитка сделали сначала запретный плод, а затем — трудно досягаемую ценность.
Глава девятая
Через месяц после прихода к власти, в мае 1985 года, Горбачёв объявил о начале борьбы против пьянства и алкоголизма… Это был его первый радикальный шаг, причём в области непростой и весьма чувствительной.
Никто не отрицал очевидной истины: пьянство — зло. Для этого не надо было обращаться к какой-либо статистике. Достаточно оглянуться вокруг. Пили старики, мужики, парни. Пили бабки, тётки, девицы. Водкой обмывали радость и заливали горе. Ею расплачивались за работу и сплачивались после трудового дня. Пил простой люд, интеллигенция, начальники. Пьянство разбивало семьи и преждевременно уносило жизни. От пьянства близких страдали женщины и дети. Алкоголь был причиной многих преступлений. На пьяных парах рос бытовой, производственный и транспортный травматизм.
Другие страны тоже населяли не одни трезвенники. Когда в СССР подняли знамя борьбы с пьянством, каждый чех выпивал по 14 с лишним литров алкоголя в год, венгр — по 13, датчанин — по 12, бельгиец — по 11. В Ирландии на каждого человека старше 15 лет приходилось почти по 12 литров абсолютного алкоголя, столько же — в Германии и Швейцарии, ещё больше — в Португалии (13,4 литра) и Франции (14 литров). Не намного отставали лидеры «цивилизованного мира» — Англия и США — примерно по 9 литров на человека.
Даже там, где в борьбе с пьянством активно участвовало государство, ситуация была далека от сносной. В Финляндии приняли «сухой закон» в 1919 году. Он запрещал производство, ввоз, продажу и даже хранение любого алкоголя. Закон продержался 13 лет. И все эти годы шла ожесточённая борьба между пьющими и стерегущими. Контрабандисты на быстроходных катерах по ночам везли спирт из близкой Эстонии. Дальше шло тайное его распределение. В Финляндии у мужчин появилась мода на сапоги с высокими голенищами — в них удобно было прятать фляжки со спиртом.
В 1943 году ввели «алкогольные карточки». Они строго ограничивали покупку спиртного на одного человека. Тех, кто попал на заметку властям как пьющий, не допускали в магазины. Карточки отменили только через тридцать лет — в 1973 году.
Впрочем, период относительной свободы продержался недолго. В 1977 году полностью запретили рекламу спиртного. Со следующего года магазины, торгующие алкоголем, перестали работать по субботам.
Властям было чего опасаться. По статистике, на каждого жителя страны приходилось в год по 7 с лишним литров алкоголя. Стремление финских мужиков найти где угодно выпивку вошло в пословицы и анекдоты. Когда Советский Союз открыл для финнов кратковременные — на день-два — туристические поездки в Ленинград и Прибалтику, мало какой мужчина возвращался к автобусу, поезду или парому трезвой походкой. «Туристы» уже в первых приграничных городах или в буфетах парома начинали знакомиться со Страной Советов через бутылку водки. Назад многие вели друг друга под руки, а некоторых несли на руках.
Но в СССР, по разным исследованиям, пили больше. Одни называли 11 литров алкоголя в год, другие поднимали до 12–13.
Причины «пьяного половодья» не всегда укладывались в простые и ясные схемы. Немалая часть общества, расшатанная идейно, то и дело испытывающая бытовые трудности, не обременённая жёсткой трудовой дисциплиной, с помощью алкоголя пыталась амортизировать стрессы. Другая часть пила потому, что водка всегда была доступна и недорога. Поднять настроение, повеселиться без больших затрат — это устраивало многих, особенно молодёжь. Третьи пили, не зная, куда девать свободное время. Четвёртые — расслабляясь после тяжёлой физической работы. А кто-то, наоборот, от психологической и моральной усталости.
Торговля алкоголем приносила большие средства в бюджет. Однако потери от пьянства, и это признавалось многими, значительно превышали этот финансовый вклад. Поэтому пьяное половодье надо было осушать. Но как? И тут встаёт извечный вопрос: чем дальновидный политик-стратег отличается от близорукого руководителя-тактика? Тем, что умеет просчитывать не столько ближние, сколько дальние последствия своих решений. Лечить «алкогольную эпидемию» было нужно, только мерами комплексными, а не экстремистскими.
Этого не понял Горбачёв. Купаясь в эйфории от доставшейся ему высшей власти во второй державе мира, он решил, что сложную, неоднозначную проблему можно одолеть нахрапом. А будучи к тому же легко внушаемым человеком, подхватил топор, брошенный ему Егором Лигачёвым. Тот принадлежал к упёртой поросли партийных ортодоксов, полагающих, что только кнутом можно гнать людей в светлое будущее. Остановив производство сомнительных по качеству «плодово-выгодных» (плодово-ягодных) вин и прочей «бормотухи», рыцари трезвости обвально сократили выпуск водки и уж совсем непонятно для чего стали вырубать виноградники. Повсеместно закрывались магазины, торговавшие алкогольными напитками. Уже через три-четыре месяца их число сократилось на 55 процентов. А кое-где на местах пошли ещё дальше: в Белгородской области из 160 магазинов осталось 15, в Астраханской из 118 — 5. Сохранившиеся работали по 3–4 часа в день.
Страна заколыхалась в тысячных очередях. На свадьбах перестали кричать «горько». Поминки, и без того грустные, стали ещё тоскливей от компота в стаканах. Народ массово вспомнил едва теплющиеся в памяти рецепты самогонки. В домах, в квартирах простого люда и даже интеллигенции в почётном тёмном углу встали большие стеклянные бутыли с брагой. Сигналом о её готовности остроумный народ сделал медицинские резиновые перчатки. Натянутые на горловину, они сначала безжизненно висели. По мере созревания браги постепенно наполнялись газами брожения и, наконец, вставали во весь рост, напоминая помахивающую руку. Это называлось: «Привет Горбачёву!»
Резкое сокращение продажи водки в государственной торговле и массовый поворот к самогоноварению породили сразу несколько экономических и социальных проблем. Бюджет страны стал недополучать десятки миллиардов рублей. А они потребовались! Произошла авария на Чернобыльской АЭС, через некоторое время землетрясение в Армении разрушило город Спитак.
Но миллиарды, пройдя мимо бюджета, активно заработали в другом направлении — в создании невиданной до того по масштабам организованной преступности. Водкой торговали таксисты у вокзалов, её выносили с чёрного хода баз и магазинов, подпольно продавали ящиками «нужным» людям. Разумеется, втридорога.
А взрыв самогоноварения быстро создал в стране дефицит сахара и дрожжей. Это, в свою очередь, привело к дефициту кондитерских изделий. К очередям за горьким добавились очереди за сладким. В огромных скоплениях издёрганных людей на все лады кляли «Минерального секретаря», рассказывали злые анекдоты, складывали ядовито-брезгливые частушки:
По талонам горькая, по талонам сладкая.
Што же ты наделала, голова с заплаткою?
Идеологи антиалкогольной борьбы перечисляли положительные результаты кампании: сократился травматизм, меньше стало смертей от водки, вроде бы начало здороветь общество.
Но отрицательных факторов оказалось гораздо больше. Не имея возможности купить нормальный алкоголь, люди обратили внимание на технические жидкости, содержащие спирт: у строителей добывали морилку и политуру; из парфюмерных магазинов исчезли дешёвые одеколоны, туалетная вода, лосьоны; в аптеках сметали настойки лекарственных трав и боярышника. В итоге заметно подскочило число отравлений.
Однако самым трагичным оказался бурный рост токсикомании. Эта беда коснулась многих, но прежде всего захватила молодёжь. Достаточно было нескольких «сеансов», чтобы наступили необратимые последствия. Волковская компания видела это собственными глазами, и теперь, когда кто-нибудь задевал тему токсикомании, в памяти вставал их общий знакомый — Жора Куприянов.
Вчера, уже собираясь спать, Карабанов увидел на окне баллончик из-под «Дихлофоса». Повертел его, понюхал сопло. «Как они этой дрянью дышат?» — спросил вроде сам себя. Но его услыхали. «Не боятся ведь стать идиотами», — откликнулся Волков. «Надо бы Горбачёву показать Жору, — сказал, накрываясь полушубком, Нестеренко. — Каким был и каким стал».
Об этом парне они не могли вспоминать без жгучей горечи. Впервые увидели его на базе одного завода в Ярославской области. Их компанию объединили с группой из пяти заводских охотников. День был удачный — взяли двух лосей. Вечером все собрались за одним столом — «на печёнку». Лидером заводских охотников оказался 25-летний парень. Волковская компания сразу обратила на него внимание. Да и нельзя было его не заметить: ростом выше немаленького Волкова, а у того — 183 сантиметра, с русыми вьющимися волосами, голубоглазый, с прямым носом и припухлыми юношескими губами, которые то и дело трогала добрая улыбка. Он, казалось, пришёл из каких-то былинных историй.
Жора Куприянов, так назвался парень ещё утром, сразу и бесповоротно понравился всем. Видно было, что так же приятен он и своим товарищам: он смешил компанию и сам заразительно смеялся, с уважительным вниманием слушал гостей, с надеждой говорил о Горбачёве. Пил он мало и при каждом удобном моменте с явным теплом рассказывал о жене и маленькой дочери. Три года назад Жора окончил институт и, видимо, был человеком способным, если его уже назначили главным технологом цеха.
В следующий раз волковская компания оказалась на той же базе в разгар горбачёвской борьбы против пьянства. Люди душились в очередях за бутылкой водки, и фетисовские пол-ящика должны были обрадовать егерей и заводских охотников. Жора приехал с другими людьми. Но теперь это был заметно изменившийся человек: русые, недавно густые волосы поредели, под глазами появились полукружья, глаза потускнели, кожа на лице стала пористой.
Когда налили первые стопки, Жора, не дожидаясь остальных, схватил свою и быстро выпил.
— Ты чево какой-то странный? — спросил Нестеренко. — Заболел, што ль?
— А мы нюхаем, — ответил за Жору его сосед, такой же, с нездоровым лицом, парень.
— Водки нет… Вместо неё «Дихлофос».
— Как это нюхаете? — удивился Слепцов. — Это же яд! Мух им травят.
— Изнеженные вы мужики, — грубовато сказал Жора, наливая себе ещё водки. — Вы знаете, как сейчас ребята «ловят кайф»? Раньше пару рюмок выпил — идёшь на дискотеку. Настроение хорошее, всё соображаешь.
Он замолчал, глядя на бутылку и, видимо, прикидывая, удобно ли наливать себе снова.
— Теперь «кайф ловим» с мешком на голове.
— С каким мешком? — не понял Волков.
— С обыкновенным. Полиэтиленовым. Берёшь мешок… ну, обычный пакет… В него брызгаешь «Дихлофос» и — сразу на голову. На шее надо перехватить, штоб «дурь» сразу не ушла.
— Жора! Вы же себя губите! — воскликнул поражённый Нестеренко. — Нет водки — гоните самогон, как другие. Ты посмотри, на кого ты похож!
— Для самогона нужен сахар. Хотя бы конфеты. Некоторые, кто при снабжении, берут карамельки. Говорят, хорошая брага… Но это кто при снабжении…
В третий и последний раз они видели Жору Куприянова вскоре после провала борьбы за трезвость. Почти ничего общего не было между тем жизнерадостным, красивым богатырём, которого они не так давно увидели впервые, и теперешним разрушенным, опустошённым человеком. За столом сидел сильно полысевший, сутулый мужик с ничего не выражающим взглядом пепельно-серых тусклых глаз, с дряблой кожей лица и сомкнутыми полосками губ. Он мало говорил, не сразу реагировал на вопросы. Увидев входящую компанию, вроде обрадовался, но через какое-то время снова потерял интерес ко всему.
Тот, последний Жора всякий раз, когда вспоминали о нём, вызывал в компании не только горечь, но и споры о виновниках этой человеческой трагедии. И снова товарищи расходились во мнениях. Нестеренко винил Горбачёва, доктор со Слепцовым — советскую систему, а Волков и Фетисов — самого Жору.
— Даже в скотских условиях, — сказал как-то учитель, — если у человека есть воля, он останется человеком.
— Откуда ей взяться, этой воле, — усмехнулся Карабанов, — когда народ веками не знал свободы. Пьянство — национальная черта русских. Пили, пьют и будут пить. А советская власть, вдобавок, затянула и других в эту воронку.
— Ты поосторожней, Карабас, с национальными особенностями, — осадил доктора Нестеренко. — Если мы начнём копаться в твоём еврейском народе, то найдём, будь здоров, сколько «пятен на солнце». Лучше не надо брать лопаты. Тем более, неизвестно, с чего ты делаешь такие выводы. К твоему сведению, по потреблению алкоголя на душу населения мы в течение трёх последних столетий были в лидерах трезвости. К началу двадцатого века в Европе меньше России пила только Норвегия. Остальные — больше. Перед первой мировой войной у нас выпивали меньше пяти литров на человека. И всё-таки царь объявил «сухой закон». Между прочим, он действовал и после революции, отменили его только в 1925 году. В этот момент в Советском Союзе потребляли примерно четыре стакана алкогольных напитков на человека в год. А в Германии — около трёх литров. На стаканы — это, сам считай, примерно штук пятнадцать. В Англии — больше шести литров. В Италии — под четырнадцать. Во Франции — восемнадцать литров.
— Где-й-то ты таких цифр накопал? — удивился Волков. — Прямо лектор из общества трезвости.
— Ты угадал. Загнали меня в это общество. Сперва было интересно, но быстро понял, что Горбачёв не учил как следует историю. Иначе подумал бы о результатах. Введённый царём «сухой закон» поначалу отрезвил страну. Представляете, потребление алкоголя сократилось до одного стакана в год! Но потом — две революции, гражданская война. Мужики — и красные, и белые — бросились на самогон, на всякую техническую мутату, где есть спирт. И те же последствия, што сейчас. Только в меньших масштабах. А вот советская власть, Сергей, умело подхватила начатое царём. После отмены «сухого закона» раскрутили бешеную разъяснительную работу, насоздавали чёрт-те сколько «обществ трезвости». Каждый пьющий стал считаться вредителем производства и врагом социализма. Знаю, знаю тебя. Сейчас свернёшь к своим любимым «врагам народа». Не было этого. Зато пьянство круто пошло на убыль. В течение тридцати лет пили меньше, чем до царского «сухого закона». Только к семидесятому году потребление алкоголя выросло примерно до шести с половиной литров на человека. Вот что значит работать головой, а не пятном на голове.
Глава десятая
Эту покинутую избу Адольф, по договорённости с охотником из сельсовета, определил под свою базу. Привёз три железных кровати, с десяток старых матрацев, отжившие в хозяйстве табуретки и стулья. Кто-то из приезжающих сюда начальников переслал егерю газовую плиту и несколько баллонов. Сейчас матрацы горой лежали в дальнем правом углу запустелой горницы. Фетисов разложил штук пять один к одному, снял валенки и лёг, как маленький островок на рябом озере. Спать он не хотел и лёг, чтобы, по давней своей привычке, быть вроде как с товарищами и в то же время не привлекать к себе внимания. В такие минуты ему свободно и ненапряжно думалось, он мысленно с кем-то из них соглашался, а кому-то — опять же мысленно — возражал. И в мыслях у него всё получалось складно. Его никто не перебивал. Ему не надо было торопиться, а поэтому удавалось не спеша убедить товарищей.
Игорь Николаевич как человек мягкий и стеснительный особенно переживал из-за нарастающего разлада в их компании. Он понимал, что каждый из них выражал какое-то одно, важное именно для него представление о нынешней обстановке в стране, о том, как надо поступать, чтобы в итоге было хорошо.
Но индивидуальные позиции его товарищей были в то же время и отражениями самых распространённых в стране взглядов, политических устремлений. По сути дела, каждый представлял определённую часть бурлящего, спорящего, растерянного общества. В Андрее Нестеренко сконцентрировались интересы тех, кто ни при каких обстоятельствах не допускал даже мысли о разрушении советского строя, ликвидации социалистической системы.
Он говорил товарищам, и Фетисов был согласен с ним, что социализм как новое историческое явление далеко не исчерпал себя — он ещё очень молод, способен к различным трансформациям. Да, пришли к застою, затормозили развитие, но это всего лишь болезнь огромного, достаточно мощного организма, и нужен хороший доктор для его лечения. Таким доктором Нестеренко считал Андропова, но тут товаровед мысленно с ним не соглашался. Какой доктор, если лечение начинает с ремня? Короткий период андроповского наведения порядка запомнился Фетисову опасным визитом, когда на базу внезапно приехала большая бригада проверяющих. Неизвестно, чем бы дело кончилось, если б на третий день начала проверки не умер Андропов и бригаду сразу не отозвали.
Но с тем, что Горбачёв, по словам Андрея, оказался не опытным врачом, а хуторским коновалом, Игорь Николаевич был согласен. Это особенно стало видно сейчас — к январю 91-го года.
Позиция Карабанова тоже была ясна и отражала взгляды немалого числа людей: социализм и советская власть себя изжили, нужно возвращаться, как говорил доктор, «в лоно мировой цивилизации». Если отбросить словесные обёртки — к капитализму.
В своих раздумьях Игорь Николаевич не соглашался с этим. Капитализм был для него чем-то таким далёким и давно оставшимся позади, что он не мог даже представить его в обыкновенной жизни. Кроме того, Фетисов иногда приходил к мысли, что именно таких, как доктор, твёрдо убеждённых, агрессивно настроенных против социалистической системы, а значит, против государства в целом, не так уж и много. Большинство — просто попутчики, каждый из которых отрицает не СССР и существующий в нём политический строй, а отдельные его раздражающие элементы. Но недовольные каждый своей частью, они сливались в растущую массу недовольства и, сами того не понимая, усиливали отряд ненавидящих целое.
Таким вот «попутчиком» казался Фетисову Павел Слепцов. Уж ему-то, думал Игорь Николаевич, надо быть ближе к инженеру-электрику, чем к доктору, поскольку всё, что он имел — в самом широком смысле: судьбы отца и матери, собственную материально благополучную жизнь — всё это сотворило социалистическое мироустройство, и вряд ли Павел ясно себе представлял, что будет вместо этого. Да и такой радикал, как Сергей Карабанов, тоже, по наблюдениям Фетисова, смутно понимал, к чему в реальности приведёт демонтаж несущих конструкций государства. Может, и лучше будет та, новая жизнь, думал товаровед, но где гарантии? Сломать-то сломают, а кто будет строить? Ельцин? Когда Фетисов думал о нём, его мутили тяжёлые сомнения. Человек, запросто сменивший одну веру на другую, так же легко переменит её на третью и четвёртую. Остальные, кого слушал Игорь Николаевич, тоже не вызывали доверия. Ему почему-то казалось, что они только умеют говорить лучше партократов, но для серьёзного дела не приспособлены.
Волков был наиболее понятен Фетисову. Прежде всего потому, что сам товаровед, как ему казалось, был таким же. Оба хотели обновления и перемен. Однако не таких, которые сейчас разрывали страну. То, что творилось, уже нельзя было назвать нормальной жизнью. Но ведь всё это сделал Горбачёв, и тут Фетисов снова соглашался с Нестеренко. Из той прежней, догорбачёвской жизни надо было убрать уродливые наросты, капитально отремонтировать экономику, установить ответственный порядок. Как повторял его сын Юрий: «Очистить авгиевы конюшни». Очистить, но не ломать!
Сын Фетисова первым ушёл от семейной традиции — стал юристом. Мужчины в четырёх поколениях занимались торговлей. Прадед, получивший вместе с отцом вольную при Александре Втором, к старости стал небогатым купцом. Дед тоже был купцом, но уже с большим капиталом. Выполнял императорские заказы — снабжал армию перед первой мировой и во время неё.
После Октябрьского переворота был арестован, через некоторое время его отпустили. Но после того как Фаина Каплан ранила Ленина, а начальника Петроградской ЧК Моисея Урицкого застрелил член партии эсеров Леонид Каннегисер, в числе многих заложников, ни за что, просто в знак отмщения, расстреляли и фетисовского деда. Отцу Игоря Николаевича было десять лет.
Он многое помнил из прежней жизни, но только перед смертью, как раз в год «воцарения» Горбачёва, рассказал сыну и дочери историю их деда.
Сам отец закончил кооперативное училище. В Отечественной был на фронте, часто на передовой, доставляя еду в окопы. После войны долго работал в потребкооперации. К торговле вызвал интерес и у сына.
Долгое время свою родословную Игорь Николаевич особо не афишировал. Теперь можно было говорить в открытую. Даже гордиться репрессированным дедом. На этом стали зарабатывать капитал наиболее ушлые и скандальные родственники жертв. Правда, жертв только «сталинского террора». Дальше вглубь времени разоблачители не шли и, как понимал Фетисов, вполне сознательно. Иначе им пришлось бы говорить, что многие жертвы Сталина сами были кровавыми палачами, уничтожившими в период «красного террора» и позднее миллионы людей, и не Божье ли возмездие настигло их спустя двадцать лет? Теперь их родственники мстили советской власти и Сталину, хотя он, по мысли Фетисова, был всего лишь орудием Всевышнего. Мстили с той же кипящей ненавистью, с какой их предки мстили невинным людям только за то, что те были из «другого класса». Наверно, всеми революциями, думал Игорь Николаевич, движет, прежде всего, месть — месть за повешенного брата, за публичное унижение властителем, за отобранную власть, за то, что у одних есть то, чего нет у других. Неужели люди никогда не остановятся? И почему даже близкие становятся врагами? А ведь могут понимать друг друга… могут.
Последняя мысль появилась, когда Фетисов с удивлением прислушался к разговору Нестеренко с Карабановым. Спокойно, словно не они весь вечер нападали друг на друга, электрик и доктор в этот момент обсуждали лаек Адольфа и Валерки. У егеря был крупный, нелюдимый Пират, у Валерки — весёлая, игривая Тайга.
— А ты не смотри, што она ластицца, — говорил Валерка доктору. — Пират, он, конешно, зверь. Но моя по кабану притравлена. Чуть чё — хвать за морду. Вцепицца подсвинку в «пятак» и с куском отлетает. Кажный раз боюсь, не кинулась ба на секача. Тот из неё вмиг двух сделает. Клыками — раз, и на матрас.
Городские, одёрнутые егерем, которому не понравился их «митинг», несколько присмирели и как бы распались на кучки. Доктор с электриком заинтересованно слушали Валерку, а тот, видя их внимание, нёс про Тайгу всякую всячину. Павел Слепцов показывал красноглазому Николаю патроны с пулями «туроинка». Уверял: такие не дают в лесу рикошета. Волков, углублённый в свои мысли, рассеянно пытался попасть кончиком охотничьего ножа в хлебную крошку на столе.
Ему нравились зимние охоты. Темнеет рано, светает поздно. Можно выспаться, если даже засидишься за полночь. Не то что в конце лета — на утиных охотах или весной — на пролёте гуся. И они подолгу сидели зимой за столом. Уже не пили водку. Пили чай. Говорили о женщинах, о работе, о политике. Слушали байки егерей, сами вспоминали бывальщины. Им было так хорошо друг с другом, как только бывает между мужчинами, чувствующими себя братьями. Каждый любил остальных порой сильнее, чем себя, и зачастую удивлялся, как это он когда-то не знал этих дорогих ему людей, а уж тем более не представлял, как он может оказаться без них в будущем. Однажды, в очередной прилив такой нежности, Волков поднялся за столом. Они были одни, без женщин. Сидели расслабленные, просветлённые. Учитель задержался взглядом на каждом. Положив доктору руку на плечо, улыбался Нестеренко, ожидая, что скажет зачем-то поднявшийся их предводитель. Благодушно щурился Карабанов. С другой стороны от электрика к нему клонился маленький Фетисов. Паша Слепцов морщил в довольстве сухое лицо и заранее поднимал стакан, готовый выпить за всё, что произнесёт Волков.
— Ребята, — проговорил взволнованный учитель. — Вы видите, как нам хорошо вместе. Говорят: жизнь иногда разводит даже самых близких людей. Но я не знаю, што должно произойти, штобы развести нас. Мы разные, как цветы на клумбе, и мы едины, как та самая клумба. Я думаю, так будет всегда. И мы всегда будем друг с другом.
Слепцов согласно закивал. Что-то невнятное, но, судя по заблестевшим глазам, доброе пробормотал Фетисов. А Нестеренко, подтянув к себе доктора, громыхнул:
— Мы будем не только стоять рядом друг с другом. Мы будем стариться плечом к плечу.
Но в последнее время прежняя благодать радовала всё реже. От того, что споры то и дело подходили к обрыву конфликта, хотелось быстрее встать и уйти спать. Даже если время было самое развечернее.
После летних сожалений Карабанова о несбывшейся немецкой победе у Волкова как будто что-то треснуло в его отношении к доктору. Он ещё пытался не дать трещине сильно разрастись. Натужно преувеличивал то, в чём был с доктором согласен, и также с усилием преуменьшал их расхождения. Но это давалось всё труднее. Волков понимал: прошлое уходит и, скорее всего, безвозвратно. Они с Сергеем напоминали пассажиров двух поездов, трогающихся со станции в противоположных направлениях. Поезда ещё не набрали скорость, колёса только-только сделали первые обороты, и люди почти напротив друг друга. Но разъезд убыстряется, и уже надо поворачивать головы, чтобы видеть уплывающее лицо.
Владимир был благодарен Карабанову не только за его прошлое бескорыстное товарищество, но и за спасение дочери. Сейчас ей исполнилось тринадцать лет. Красивая, высокая — в отца — девочка-подросток забыла те часы, когда её жизнь висела на волоске. Но Волков помнил всё отчетливо, хотя прошло три года. Никто из врачей, куда дочь ни привозили, не мог определить, почему у неё высокая температура и боли не в том месте живота, где обычно бывает аппендицит. В отчаянии Волков позвонил Сергею домой. Доктора не было — он уехал к родственникам в Ярославль. Жена Карабанова дала их телефон. С какой скоростью мчался Сергей, учитель мог только догадываться. Уже через три часа дочь готовили к операции. У неё оказался атипичный аппендицит. Это Карабанов понял каким-то чутьём, поскольку никакие анализы и экспресс-обследования причины высокой температуры и повышенного содержания лейкоцитов в крови не объясняли. Девочку сразу отвезли в операционную и, как стало ясно, вовремя. Ещё немного — и началось бы бурное заражение организма.
Волков был очень признателен доктору за дочь. Однако прогрессирующая ненависть Карабанова ко всему, что он называл «совковой действительностью», а учитель, морщась, поправлял: «Наша жизнь», в которой для него оставалось немало дорогого, размывала чувство благодарности, вызывала тревогу и отторжение недавно близкого человека.
Учитель тоже хотел перемен и начал созревать к ним едва ли не раньше других. Помогали тому не только собственные наблюдения, но и работа жены-журналистки. Они жили весьма ладно, ещё не утратили желания рассказывать друг другу о своих работах, а главное — с интересом слушать про давно ставших заочно знакомыми учителей, журналистов, хозяйственников и партийных работников.
К делу жены Владимир относился с некоторой внутренней настороженностью, хотя внешне этого старался не показывать. Только подвыпив, иногда с усмешкой говорил: «Как я на тебе, Ташка, женился — ума не приложу! Вы ведь какой, журналисты, народ? На работе врёте, приукрашивая жизнь. Привыкаете к этому… Становится нормой хоть чуть-чуть, но соврать… Выходит, дома за вами надо во все глаза смотреть. Того и гляди обманете».
Заметив, что она вот-вот вспылит, миролюбиво отступал: «Ладно, ладно… Ты у меня не такая». Однако заканчивая критический укол, непременно добавлял: «Но согласись: легче всего изменяют женщины-корреспондентки».
Жена, конечно, не соглашалась: «А ещё учитель! Психолог! Женщины вообще трудней идут на это. Мужчине — что? Встал, отряхнулся, улыбнулся и пошёл. Мужчина изменяет телом. Женщина — душой».
Волков не спорил с этим. За примерами, считал, далеко ходить не надо. Мария каждый раз старалась дольше удержать его, словно боялась потерять что-то такое, без чего ей будет плохо. Он же только чувствовал благодарность, неловкость и желание скорее уехать. Она по-своему ценила мужа, фанатично любила и восторгалась сыном, но если бы Владимир позвал её прийти к нему насовсем, создать их общий дом, каждодневную, неразлучаемую семью, Мария взяла бы только сына и обрубила всё остальное, своё и волковское, что соединяло их с прежними жизнями.
Однако Владимир даже в мыслях такого не представлял. Он возвращался от Марии домой — встречались они обычно у её подруги днём, для этого Мария планировала так называемую «местную командировку» по Москве, а у Волкова оказывалось свободное от уроков время, и первое, что он делал, вернувшись из Москвы, звонил в редакцию жене. Она не всегда была на месте. Но выполнив этот ритуал, Владимир как бы снимал с себя что-то давящее, вызывающее в душе стеснение и неуют.
Вечером же, как кот, ластился к озабоченной, усталой Наталье, не смущаясь дочери, чувственно гладил жену то выше колен, то по округлому, без всяких надетостей под халатом, заду и, двигая усами, нетерпеливо подмаргивал в сторону спальни. Дочь в таких случаях спешно отсылали спать. Телевизор — этот информационный наркотик — досрочно выключали, и вскоре обоим становилось абсолютно безразлично, что там могут говорить, что обещать и чем пугать страну «демократы» с «партократами».
Ещё до конца брежневского правления Волков, благодаря жене, стал глубже узнавать тусклую оборотную сторону однопартийной системы и не самые лучшие качества выращенных ею кадров. Наталья тогда работала редактором на телевидении. Готовила и вела общественно-политические передачи. Их записывали заранее. Когда передача была готова, рабочая группа вместе с участниками садилась её просматривать.
Иногда к этому моменту на студию приезжал Владимир, чтобы отвезти жену домой. И его нередко удивляли партийные функционеры своей оторванностью от жизни. Уже бушевал в Польше независимый профсоюз «Солидарность». Через «голоса» зарубежных радиостанций и даже через «прижатую» советскую печать до людей доходил накал тамошней борьбы, ожесточённая полемика на митингах и в телевизионных выступлениях, а здесь секретари райкомов и горкома читали по бумаге какие-то тусклые тексты, в которых не было ни живой мысли, ни отклика на волнующие общество проблемы. Даже когда Наталья вопросами подводила «собеседника» к какой-нибудь тревожной теме — в стране нарастал дефицит, всё острее чувствовались расхлябанность и моральный разлад — партийные функционеры отделывались банальными штампами и ничего не объясняющими призывами.
Однажды после просмотра записанной передачи Владимир негромко сказал жене:
— Пойдём скорей отсюда. Тут молодые вожди засохли, как старые листья. Ты с ними разучишься говорить.
Он имел в виду молодого секретаря райкома парили, который, с удовольствием дослушав свою тягомотину в передаче, игриво прощался в сторонке с женщинами. Однако слова Волкова он услыхал и понял, о ком речь.
— Вот такие, как вы, всем недовольные, только мешают единству советского общества. Брюзжите… Сеете, где удастся, семена сомнений. Партия знает, што надо делать и как разговаривать с народом.
Волков слегка смутился — он говорил не для всех. Но увёртываться не стал:
— Тогда с ним и надо разговаривать! А вы по бумажке читаете! Учитесь говорить своими словами. Умейте убеждать. Глядишь, пригодится…
— Вы, наверно, из диссидентов, молодой человек? Народ нас всегда понимает. А на таких, как вы, мы оглядываться не намерены.
От слов «молодой человек» Волков вспыхнул. Секретарь, судя по виду, был его ровесником, а может, и моложе.
— Ваше счастье, что пока вам не надо спорить, — сдерживая желание нагрубить, сказал он. — Не надо учиться нормально разговаривать. Но придёт другое время… не дай Бог, как в Польше… и тогда, молодой человек (Волков с издёвкой улыбнулся, выделив интонацией слова «молодой человек»), вы увидите, захотят ли вас слушать люди.
Он пошёл к выходу, зная, что жена идёт за ним. Уже возле дверей услыхал: «Кто этот усатый наглец?» — «Муж нашей редакторши Натальи Волковой. Учитель…» — «А-а… Тогда понятно, от кого в школах безыдейность. Ему жену нельзя доверять, не только детей!»
«Это тебе ничего нельзя доверять, — сердито думал Владимир, заводя машину. — Конфетку в дерьмо превратите!..»
Жена поняла его настроение, молча погладила по руке.
«Нет, какие козлы! — продолжал мысленно возмущаться Волков. — Придумали лозунг: „Спасибо партии и правительству за заботу о советском народе“. Да это вы должны народ благодарить! Ему спасибо, что он вас держит! „Партия знает, что делать…“ Один дурак ляпнет — остальные кивают. Хрущёв обещал коммунизм! Говорил: „В восьмидесятом году советский народ будет жить при коммунизме!“ Глупость городил, а никто ему этого сказать не мог…»
Когда набирающая обороты горбачёвская демократизация толкнула к трибунам сотни новых людей, многие из которых, ещё вчера неизвестные, учились говорить на ходу, Волков слушал их корявые выражения и злорадно вспоминал того секретаря райкома, других таких же надменных партфункционеров. Теперь, неумело огрызающиеся, засвистываемые, они не сходили, а сползали с трибун. Их можно было пожалеть: растерянных, потрясённых такой реакцией народа, который совсем недавно слушал эти же самые речи с каменным молчанием, а сейчас непочтительно кричал и гнал их прочь. Но Волкову, человеку по натуре не злопамятному, этих людей было не жалко. «Ну что, козлы, отсиделись в заповедниках? Ладно, если свою власть потеряете… Как бы не понесла лавина всех подряд…»
Владимир ещё продолжал радоваться нарастающим переменам в общественной жизни, удивлялся новым открытиям в недавней истории государства, но чем дальше, тем сильнее тревожили его развивающиеся события. Первый Съезд народных депутатов СССР, открывшийся в мае 89-го года, благодаря прямым трансляциям по телевидению поразил многих необычным «эффектом присутствия». Миллионы людей как бы сами вошли в зал заседаний, сами соглашались и негодовали, слушая пугающе резкие, до холодка по спине, выступления депутатов, привыкали к новым фамилиям и лицам, понемногу расстёгивая с рожденья надетые мундиры опаски и осторожности.
Но при этом учитель пока ещё смутно, однако чем дальше, тем явственнее начинал догадываться, что появление всё новых и новых экономических и бытовых проблем, которые с каждым днём отвязней критиковали демократы, вовсе не случайно и, тем более, вряд ли закономерно. Если отсутствие в магазинах мяса, колбасы, масла, сахара можно было объяснять неурожаями или неповоротливостью торговли, то чем было оправдать пропажу мыла, сигарет, алюминиевой посуды, телевизоров и многих других, ещё недавно доступных товаров? Теперь приобрести самое необходимое, в том числе простое мыло и водку, можно было из-под прилавка или по талонам, которые народ, вспомнив давнее слово, называл «карточками». Но такого, как говорила Владимиру мать, не было даже во время Великой Отечественной войны. Издёрганная и всё более злеющая страна не знала, что случилось с советской экономикой, куда всё проваливается, где причины нарастающего хаоса.
И только немногие, складывая одно к другому, начинали понимать, что причинами всего этого стали скороспелые, непродуманные, авантюрные решения Горбачёва по перестройке народного хозяйства Советского Союза. Причём решения, следующие одно за другим, порой с разницей в несколько месяцев.
Сначала горбачёвская команда несколькими решениями (первое — в августе 1986 года) отменила государственную монополию на внешнюю торговлю. Право самостоятельно продавать продукцию за рубеж получили десятки министерств и сотни крупных предприятий. А вскоре такое право досталось почему-то и отдельным лицам.
Внешне это выглядело эффектно: Горбачёв снимает «железный занавес» на таком важном, десятилетиями забронированном направлении, тем самым показывая свою приверженность демократии. В действительности же началось не освобождение экономики от «плановых оков», а разрушение давно выстроенного баланса.
Регулируемые государством внутренние цены, рассчитанные на невысокие зарплаты населения, были намного, а порой — в несколько раз ниже стоимости этих же товаров за границей. Поэтому, как только появилась возможность продавать за рубеж продукцию, по сути, без контроля государства, товарный поток с внутреннего рынка повернул на внешний. За границу пошло продовольствие, золото, пушнина, лесоматериалы, удобрения, химтовары и много другой продукции, предназначенной для внутреннего рынка.
В 1987 году был принят Закон о совместных предприятиях. Он создавал льготные условия для экспорта советского сырья, что в сочетании с отменой госмонополии на торговлю усилило отток товаров.
Следом появился Закон о государственном предприятии. Поскольку он предусматривал приоритетное производство продукции, идущей на экспорт, оголение внутреннего рынка получило дополнительный импульс.
Через несколько месяцев приняли Закон о кооперации. Разрушение внутреннего рынка и государственной ответственности пошло шагами Гулливера по стране лилипутов. Хороший, в идеале, замысел, но авантюрно вброшенный в неподготовленную и всё менее управляемую среду породил дополнительные условия не для наполнения рынка товарами, а для роста преступности и теневого бизнеса. Руководители предприятий создавали кооперативы при своих заводах и фабриках, во главе их ставили родственников или других близких людей. Теперь уже не основному производству, а, в первую очередь, кооперативам шло получаемое по фондам дешёвое сырьё, на кооператив работали государственные станки и оборудование, использовались дешевые, благодаря низким государственным ценам, энергоресурсы, а готовая продукция через кооператив или через совместное предприятие, где во главе тоже стояли свои люди, уходила за рубеж. Выгода была фантастической. Многие товары давали на один рубль затрат 50 долларов выручки. Некоторые изделия превращали в лом, чтоб удобней было вывозить (например, алюминиевую посуду), и продавали как дефицитный за рубежом материал.
Советская продукция, зачастую плохо и неброско упакованная, имела, между тем, значительные преимущества на рынке благодаря низкой цене, жёстким государственным стандартам (особенно в пищевой промышленности и аналогичных отраслях) и при этом неплохому качеству. Страна искала импортное, а заграница высасывала советское. В одном только 1990 году за рубеж была вывезена третья часть произведённых в стране потребительских товаров!
Неуправляемые процессы привели к тому, что государственные органы даже не всегда знали, что и куда вывозится. Зимой 1991 года правительство Турции обратилось к премьер-министру СССР Павлову с просьбой организовать на всей территории Турции сеть сервисных станций по обслуживанию советских цветных телевизоров. Их здесь оказалось более миллиона штук. Однако по официальным данным в Турцию из Советского Союза не было продано ни одного (!) телевизора.
Так разрастался дефицит на внутреннем рынке. В начале горбачёвской перестройки в свободной продаже было 1200 наименований товаров. К августу 1988 года их осталось 200. А через четыре месяца — в декабре 1988-го — уже только 100. Куда всё девалось, миллионы советских граждан не понимали. Заводы и фабрики вроде работали, на селе пахали и сеяли, а товарные возможности усыхали, как лужа под жарким солнцем.
И лишь те, кто имел возможность анализировать монбланы статистики, видели, что дефицит создаётся не только благодаря неразумным законам и решениям, но и откровенно противозаконными действиями. Те две трети советской продукции, которые оставались на территории страны после вывоза одной трети за рубеж, далеко не полностью шли в розничную торговлю. Значительное количество товаров сознательно припрятывалось на базах и складах. В 90-м году, как выявила одна из депутатских проверок, их было укрыто на 50 миллиардов рублей.
Припрятанная продукция портилась. Её списывали. Вместе с ней (под видом испорченной) на свалки выбрасывалась уйма добра: колбаса, шоколад, масляная краска, дешёвая обувь, короба с чаем, печенье, тонны других продуктов. В том самом 90-м году вроде бы «сгнило» свыше 1 миллиона тонн мяса, «порвано» 40 миллионов штук шкур скота (а это — обувь, одежда, галантерея), «пропало» 50 процентов (!) собранных овощей и фруктов.
Разумеется, такие изъятия ощутимо усиливали дефицит товаров и особенно продуктов питания. Но раздражение народа, хотя и нарастающее с каждым днём, пока ещё не достигло крайней точки. Требовался детонатор взрыва. И он был найден.
Глава одиннадцатая
Табак и алкоголь — своего рода наркотики. Более слабые по сравнению с настоящими героинами-марихуанами, но всё-таки способные крепко держать человека «на привязи». Шальная кампания по борьбе с пьянством, даже после её негласной фактической отмены, разрушила привычное — по потребности — обеспечение населения спиртным. Водка ушла в разряд дефицита, что вызвало небывалый рост теневого бизнеса и усилило масштабы организованной преступности.
Однако курева это не коснулось. Да и трудно было представить, что кому-то когда-нибудь удастся сбить с ритма такую могучую отрасль, как табачная промышленность. Советский Союз выпускал в год 360 миллиардов штук сигарет и папирос, занимая третье место в мире. Впереди были только США и Китай. Но Штаты «закрывали» потребности половины земного шара, продавая табачные изделия в десятки стран мира, Китай с миллиардом народа сам был крупнейшим «курильщиком» планеты, а советская табачная индустрия обеспечивала, в основном, страну с населением в 290 миллионов человек.
Табачных фабрик в СССР было много. Давая значительные средства в бюджеты, они работали в большинстве союзных республик. В некоторых — не по одной. Но основная масса — в России. Сигарет и папирос (кстати, последние — чисто российское изобретение) выпускалось несколько десятков наименований. По ним можно было узнать историю и географию страны («Октябрь», «Памир», «Казбек», «Север»), крупные города («Москва», «Ленинград», «Ростов», «Минск», «Киiв», «Львiв»), народные праздники («Новогодние», «1 Мая»), получить массу другой информации — от достижений и побед до профессиональных привязанностей.
Различные категории курильщиков могли выбрать сигареты или папиросы, соответствующие своим увлечениям. Одним — «Турист», другим — «Охота», третьим — «Полёт». Для творческих личностей — «Мелодия» и «Лира», для водников — «Речфлот» и «Ракета» с изображением корабля на воздушной подушке, для строителей магистралей и путешественников — «Дорожные».
А кроме того, было немало других названий, имеющих «общенациональную» ориентацию: «Беломорканал», «Союзные», «Астра», «Прима», «Космос», «Друг», «Лайка», «Орбита»…
Курево было разнообразным по сортам табака. От самых лучших Табаков — сухумского, тбилисского, кишинёвского — до грубоватого моршанского. Имелся разброс и в ценах. Одни из наиболее дорогих папирос — «Герцеговина Флор» — стоили 80 копеек, что оправдывалось не только их качеством. Имела значение и легенда: из папирос этой марки Иосиф Сталин собственноручно доставал табак и набивал им трубку.
Но если «Прима» в Калининграде и Таллине стоила 16 копеек, то не намного дороже, несмотря на дальность доставки, она была и во Владивостоке.
В охотничьей компании курили трое: Волков, доктор и электрик. Владимир с детства не только видел отца курящим, но и время от времени слышал запомнившийся тому из дальних послевоенных лет текст какого-то плаката: «На сигареты я не сетую, сам курю и вам советую». Однако, несмотря на призыв и достаточный выбор, отец курил папиросы «Беломорканал».
Когда сын втянулся, табачное предложение стало ещё обильнее. Начались придирчивые сравнивания. Чей «Космос» лучше: московский, ленинградский, ростовский? Или какую «Яву» стоит брать, а какая даром не нужна. Эти популярные сигареты ценой 40 копеек выпускались в Москве. Одна — на фабрике «Ява», другая — на фабрике «Дукат». Каждая «Ява» имела своих приверженцев. Споры переходили в немедленный обмен сигаретами, после чего следовала брезгливая или восторженная мимика, пренебрежительное сплёвыванье или сладостная затяжка. В итоге каждый оставался при своём мнении.
Потом к советскому куреву добавилось заграничное. Эшелоны шли из разных соцстран, но в основном — из Болгарии. Избалованный курящий народ стал ещё больше привередничать. Сравнивая свои и чужие сигареты, давал им ироничные, а иногда уничижительные названия. Вьетнамские сигареты за отвратительный вкус стали именоваться «Портянки Хо Ши Мина». Дешёвый советский «Памир» с изображением одинокого человека с палкой и котомкой — «Нищий в горах». Болгарскую стюардессу обозвали «Стервой», сигареты «Шипка» с обелиском на пачке — «Братской могилой». Произнося «Опал», остряки добавляли: «Покурил и хрен опал».
И никому в голову не могло прийти, что табачное изобилие можно обрушить в один момент.
Однако в августе 1990 года это случилось. В течение нескольких дней во многих городах Советского Союза из продажи полностью исчезло какое-либо курево. Поначалу люди растерялись, решив, что это только у них напортачила торговля. Но когда табачные изделия не появились ни на второй, ни на третий день, люди кинулись скупать всё, что могло напоминать курево. В один миг исчезла с прилавков махорка, которой до этого пересыпали одежду от моли. Скверные корейские сигареты, уценённые перед тем из-за отсутствия спроса, у спекулянтов взлетели в цене и моментально были распроданы. На улицах невозможно было увидеть окурок — «бычок». Ловкие люди собирали окурки и продавали их пол-литровыми банками.
Потом грянули табачные бунты. Разъярённые толпы в Ленинграде перекрыли Невский проспект. В Москве начали переворачивать и жечь киоски.
Погромные настроения усиливало телевидение. Операторы с камерами шли среди толпы. Крупным планом показывали злые лица. На всю страну разносили гневные слова возбуждённых людей. В одном репортаже Карабанов вдруг увидел Горелика. Он шёл впереди толпы. «Мы не позволим так издеваться над нами! — кричал в камеру „комиссар демократии“. — Надо бороться, товарищи! Сегодня партократы лишили нас курева, завтра отнимут всё остальное».
«Он же не курит!» — вспомнил изумлённый Карабанов. Однажды, выходя с очередного собрания в Институте демократизации, доктор предложил «активисту со стажем» сигарету. Тот укоризненно поглядел на соратника. «Не признаю этого варварства. Дым из ноздрей… Ещё пламя изо рта — и Змей Горыныч. Вам тоже советую бросить эту дурную привычку». «Тогда зачем он там? — подумал Карабанов. — А-а… Работа в массах. К ней призывал на том собрании экономист из Межрегиональной группы. Поднимать народ… Некурящий Горелик там, а я опух без курева, но здесь».
Карабанову в самом деле стало казаться, что за последние дни он изменился в лице. Умом доктор понимал, что это не так, но сосущее желание вдохнуть хоть маленькую струйку дыма постоянно вытягивало толстые губы трубочкой.
Как только к табачным отделам магазинов и уличным киоскам выстроились огромные очереди, Сергей позвонил Фетисову. На базе ответили: Игорь Николаевич уехал в отпуск. Про Волкова доктор ещё до кризиса знал: тот в отпуске. У родителей жены на Нижней Волге.
Карабанов позвонил Андрею Нестеренко: нет ли у него какого-нибудь запаса — некоторые курильщики брали сигареты блоками. Электрик обрадовал: приезжай!
— Ну, теперь ты видишь, чего стоит твоя советская власть? — сказал доктор, жадно затягиваясь сигаретным дымом.
— Тут что-то не так, Сергей, — обескуражено ответил Нестеренко. — Похоже, у «пятнистого» совсем выпадают вожжи из рук. Не может быть, штоб курево враз пропало само по себе… Без чьего-то участия и разгильдяйства. Его везде было — море! И вдруг исчезло.
— Вожжи… А там и кнут. Не можешь ты без них.
— Я без порядка не могу, — сердито сдвинул мохнатые брови электрик. — Без нормального порядка. За бардак можно и вожжой по спине… Иль кнутом… если заслужил. У меня такое подозрение, что с табаком — дело нечистое, как будто кто специально организовал.
— Зачем? — с наигранным непониманием спросил доктор.
— Затем… Людей поднять на дыбы.
Нестеренко не подозревал, насколько он близко подошёл к истине: табачный кризис действительно был спланирован и организован.
По давно существующим правилам каждая табачная фабрика в определённое время останавливалась на профилактику. Остановку мелких фабрик рынок обычно не замечал — отсутствие их продукции легко перекрывали другие предприятия. Но одновременное закрытие табачных гигантов не допускалось. Их останавливали на профилактику раз в два года и обязательно в разное время.
Перед этим на складах создавали большой запас болгарских сигарет, который не трогали до периода простоя отечественных фабрик.
Летом 1990 года было сделано иначе. С 8 июля до 5 августа отправили в отпуск весь коллектив ленинградской фабрики имени Клары Цеткин — одной из крупнейших в стране. Через неделю то же сделали и на фабрике имени Урицкого. Её работников отпустили до 19 августа. Два ленинградских табачных гиганта остановились.
Одновременно встали на «профилактику» самые мощные фабрики в Москве: «Ява» и «Дукат». Здесь тоже людей выпроводили в отпуска.
Перестали работать крупные и даже некоторые мелкие предприятия в других городах. За один день из 28 табачных фабрик Российской Федерации были остановлены 26. Табачная промышленность страны замерла.
Положение, хотя бы частично, мог спасти складской запас болгарских сигарет. Но его почти не оказалось — запас начали расходовать ещё в мае.
А на границе Советского Союза, на станции Чоп, остановили несколько эшелонов с болгарскими сигаретами. Они стояли там полторы недели.
Вдобавок ко всему в ту же Болгарию, где сигареты делали с использованием советской папиросной бумаги, её поставки прекратили.
Всего этого оказалось достаточно, чтобы курящая страна взорвалась. Когда у Нестеренко кончился запас, он сам бил кулаком в закрытые окна киосков, ругал вместе со всеми власть. Но если для него власть концентрировалась в лице велеречивого, пустословного Горбачёва, то для многих других она теперь сливалась в некую многопортретную, как на демонстрации, мозаику, при этом вызывающую резкое отторжение и всё более крепнущее чувство, которое можно было выразить одним словом: «Надоело!» Теперь о политике не говорили вслух только глухонемые. Митинги «Демократической России» собирали людские моря, которые отзывчиво колыхались на призывы ораторов отказывать в доверии существующей власти. Даже Волков, который всё бурное бестабачное время пробыл в Волгограде, где, благодаря запасливому тестю, особых перебоев с куревом не почувствовал и все московско-ленинградские страсти видел только по телевизору, вернувшись домой, ощутил заметную перемену в настроениях людей. Теперь и он, как и Андрей Нестеренко, считал Горбачёва главным виновником набирающего темпы разрушения. Поначалу генсек казался ему умным, смелым и могучим капитаном гигантского корабля, который, в отличие от команды-народа, просматривает курс судна далеко вперёд, видя и коварные извилистые проливы, и прикрытые тонким слоем воды смертельные рифы. Теперь же он всё чаще представлялся учителю растерянным мужичишкой, который, приняв большой корабль за привычную для него лодку, то отлетает от штурвала вздыбленного волной судна, то вцепляется в него, не зная, куда лучше крутить штурвал — влево или вправо. Мелкий, тщеславный человечек, самонадеянно поверивший в свои возможности, оказался слабым и недальновидным функционером. Политический капитан стремительно превращался в политическую щепку, захлёстываемую водой, и это понимали уже многие в стране, поворачиваясь к тем, кто всего через 500 дней обещал сытую жизнь, демократию, «как на Западе», и небывалое в истории процветание России.
* * *
После драматичных недель «табачного кризиса» курево стало кое-где появляться. Но прежнего достатка уже не было. Этот специфический дефицит особенно раздражал миллионы курильщиков. За сигаретами и папиросами теперь выстраивались очереди по полкилометра. Зато у спекулянтов — по цене в десять-двенадцать раз дороже — было всё.
Люди не понимали, почему так происходит. Ведь табачные изделия производили не спекулянты, а государственные фабрики, и поступать они должны были, как всегда до этого, в государственную торговлю. Однако до магазинов сигареты с папиросами не доходили, и народ однозначно связывал это с бессилием власти, справедливо считая, что кто-то специально перенаправляет потоки в другие руки и делает это почти в открытую, без всякой боязни наказания.
Намаявшись в очередях, Нестеренко решил бросить курить. Однажды утром смял пустую пачку, выкинул её в мусорное ведро и с того дня не дотронулся до сигарет, хотя первое время, особенно после еды, сильно страдал. Рука сама, автоматически лезла в карман. Спохватившись, Андрей сжимал крупные губы, и пока воля не подавляла мучительный позыв, не давал себе возможности расслабиться.
Осенью, на охоте по зайцу с гончими, и доктор заявил товарищам, что бросает курить, но получалось это у него тяжело. Выпив водки, брал волковскую пачку — тот всегда выкладывал сигареты на стол: вдруг захотят егеря, страстно нюхал её, жмурился от удовольствия, однако под взглядами товарищей — у Волкова жалеющим, у Нестеренко ироничным — возвращал пачку на место. Смущённо оправдывался:
— Во сне вижу, как курю.
Сейчас, взволнованный недавней перепалкой с электриком и особенно неожиданным рассказом Фетисова, который был явно некстати, доктор опять потянулся к волковским сигаретам.
— Бери, бери, — снисходительно сказал Нестеренко. — Пока твои друзья-демократы последнее не спрятали. Сгноят… Потом выбросят на свалку.
После сообщения товароведа Андрей уже не сомневался, что дефицит в стране создают и усиливают специально, чтобы поднять народ против всей государственной системы. Знает ли об этом Горбачёв или его, как глупого котёнка, обводят вокруг пальца, для Нестеренко значения не имело. Теперь он ещё сильнее захотел встретиться с людьми, про которых ему недавно говорил парторг завода Климов. Люди эти, по намёкам Климова, имели связи с окружением Горбачёва. Их целью было убрать «пятнистую балаболку». Сторонников такого замысла, как понимал Андрей, с каждым днём становилось всё больше. Это подтвердил и недавний его разговор с журналистом Савельевым.
Они познакомились во время антиалкогольной кампании. Корреспондент «второй центральной газеты» Виктор Савельев приехал тогда на машиностроительный завод, где работал Нестеренко. В редакции ему поручили написать о заводском обществе трезвости. Председатель общества был в отпуске, и в парткоме рекомендовали поговорить с его заместителем на общественных началах — инженером-энергетиком из сборочного цеха Андреем Нестеренко. Виктор с пониманием встретил начало антиалкогольной борьбы. Однако вскоре увидел, что дело явно идёт не туда. Ожидая прихода Нестеренко, надеялся хоть здесь услышать о хороших результатах.
В тот раз они договорились до того, что серьёзную кампанию Горбачёв начал, не обдумав как следует последствий. Впервые оба засомневались в дальновидности генсека. Расстались, с интересом открыв друг друга.
После той встречи Савельев несколько раз звонил Андрею и трижды приезжал на завод. Нестеренко был для него вроде лакмусовой бумаги. То, в чём Виктор был почти уверен, он дополнительно проверял на Андрее. Постепенно оба стали воспринимать Горбачёва как одного из главных закопёрщиков нарастающих проблем.
— Его надо как можно быстрей лишить власти, — сказал недавно Савельев. — Ребята из «Правды» рассказывают, что их редакцию завалили резолюциями партсобраний. Все требуют сменить Горбачёва.
Андрей был согласен с этим. Уж если индифферентный Фетисов, подумал Нестеренко о товароведе, начинает возмущаться, то другие, более активные, уже знают, что надо делать. «Потерпи, Игорь, — мысленно повторил электрик свой недавний призыв, глядя на свернувшегося клубочком товарища. — Гиря до полу дошла. Часы скоро должны остановиться».
Он встал, чтобы взять с газовой плиты кипящий чайник. Но, возбуждённый, резко задел табуретку, она с грохотом упала на пол. Адольф, который что-то негромко втолковывал красноглазому Николаю, быстро обернулся. И увидел, как Волков вытаскивает из столешницы торчащий нож.
— Ты мне весь стол истыкаешь, Владимир. Будет как решето.
— Не бойся, — ответил за Волкова Нестеренко. — Он больше одной дырки не сделает. Ни на столе, ни… хотя бы вон на стене. В копейку отсюда попадёт.
Егерь недоверчиво посмотрел на Волкова. До стены было далеко.
— Попаду, — спокойно подтвердил учитель. Адольф заколебался, потом глазки его азартно вспыхнули. Он резво подошёл к стене и вилкой вспорол на обоях круг величиной с небольшое яблоко.
— Ну-ка.
— Отойди.
Нож искрой блеснул над столом и через мгновенье вонзился в центр окружности. Егерь раскрыл рот.
— Случайность, — сказал Валерка, с усилием вытаскивая нож, прочно засевший в дереве под несколькими слоями обоев. Волков взял нож, и не успел Валерка опуститься на скамью, как молнийка сверкнула снова и пронзила обои рядом с прежним местом.
— Случаайность, — передразнил егерь. — Поди-ка дай собакам воды… Федя-Альберт.
— Да, о собачках надо позаботиться, — угодливо вставил Карабанов. — Завтра у них последний день. Придётся им поработать. Пошуметь как следует.
— А ктой-то сегодня утром кричал в лесу? — вспомнил Слепцов. — Вроде душили кого. Ты слышал, Адольф?
— Сова.
— Сова? — изменившись в лице, тихо переспросил Павел. — Не может быть… Зимой совы не кричат.
— Говорю тебе: сова! — с упрямым недовольством повторил егерь. Он точно знал, что это была сова, но почему она вдруг подала голос среди зимы, сам не мог понять. Разве что из-за погоды — январь в тот год резко «шатало» из слабых морозов в сильные.
— Может, она есть захотела, — предположил Адольф, мало веря, однако, в собственное объяснение.
— Какое там «есть»? Ты што! При чём тут еда?! — непохоже на себя закричал Слепцов. — Мышь у неё в когтях — та верещит. А сова — тихая птица. Вещая она! Если подала голос — не к добру. Быть беде!
— Брось, Паша, мистику, — остановил товарища Нестеренко. — Всё в приметы веришь. Ты видел, Адольф, как работают советские десантники? Володя был в десантных войсках.
— Хорошо работают.
— Он был в спецназе. В команде особого назначения. Сейчас такие ребята нужны, чтоб наводить порядок. А он взрослым парням рассказывает про мадам и мусью… Эх, Вовик, Вовик! Из них бойцов надо готовить. Страну спасать.
— От кого? — насмешливо спросил Карабанов.
— Да от твоих друзей — демократов. Вы ведь какие демократы? Пока власти нет — зубки в улыбке… обещаете всем свободу и равенство. Но я догадываюсь, что будет, когда захватите власть. Этими зубками всех несогласных изгрызёте в кашу.
— Это не мистика, Андрей, — глухо проговорил Слепцов. Глаза его будто совсем провалились и в глубине сверкали тревожным огнём.
— Ты о чём? — не понял Нестеренко.
— Про сову я… Про сову. Непростая это птица. С глубокой старины люди считают её вестницей несчастий. В древнем Риме сову люто ненавидели. Поймают — и тут же сожгут, а пепел — в реку. А в средневековой Европе совы боялись, считали, что она беду приносит. Мне дед много рассказывал про всякие приметы. Если сова ночью ударится в окно, то дом скоро сгорит или хозяин умрёт.
— Ну, ты даёшь! — поёжился Волков.
— Да-да, Володя, — быстро говорил Слепцов. — Животные и птицы обладают даром предчувствия. Обычные птицы. А сова — необычная. Она лицом на человека похожа. У кого из птиц глаза, как у человека, прямо смотрят? Только у неё. Ты слышал сову в полёте? Никогда! Даже филин, а это большая сова — крылья чуть не полтора метра! — летит бесшумно. Нет, нет, вы зря не верите. Дед рассказывал — он был лесничим… говорил: перед войной некоторые звери и птицы вели себя необычно. Видимо, раньше человека они чувствуют катастрофу.
— Сказки всё это! — не выдержал Нестеренко. — Уж кто бы говорил, а на тебя, Пашка, не похоже. Ты ещё ракеты начни крестить. Приметы какие-то дремучие…
— Такое вполне возможно, — значительно подтвердил Карабанов. — Некоторые учёные пишут — я сам читал, — что если где-то скапливается много страданий, много людского горя, и волны физической боли вырастают в цунами, то первыми улавливают импульсы этой коллективной беды животные и птицы. Не забывайте — перед войной был тридцать седьмой год. Один он чего стоит!
— Тогда сегодня весь лес должен орать, — мгновенно отреагировал Нестеренко. — Погляди, сколько пятнистый принёс горя! Везде конфликты, войны, кровь. При Брежневе мильцанеры в кобурах носили пирожки. Сейчас — не успевают отстреливаться. А тут одна сова ухнула. Правильно Адольф говорит: есть хочется — потому и кричит.
Он на мгновенье задумался:
— А вот насчёт морды… Это интересно! Ты прав, Паша, — весело сказал электрик. — Горбачёв на сову похож… Когда в очках…
— При чём здесь Горбачёв? — недовольно поморщился доктор. — Свихнулся ты на нём.
— На меченого он похож, — волнуясь, проговорил Слепцов. — Моя бабушка, когда увидела, сразу сказала: этот меченый. Родимое пятно на голове — отметка дьявола. Антихриста… От удара копытом сатаны.
— Преступник он, — хмуро бросил Нестеренко — По делам видно. Из самых опасных. Тем пришивают на одежду знак бубнового туза. Спереди — напротив сердца. И сзади тоже — чтобы удобнее было целиться. А у этого — прямо на башке. Издаля можно попасть.
— Я вам говорил… Сразу сказал. Вы тогда обсмеяли меня. Особенно ты, Андрей. Не всё надо сразу обсмеивать. Сам Бог предупреждает: не доверяйте ему. В старину говорили: нельзя верить меченым и рыжим. В приметах иногда запрятана истина.
Глава двенадцатая
В последние годы скрытный Слепцов становился всё более суеверным. Он и раньше не без внимания относился к разного рода предсказаниям, приметам, оккультным явлениям. Пошло это с детства. Каждое лето мальчишкой он приезжал с матерью из Германии, где работал отец, в глухой район Владимирской области — к деду с бабкой. Там учился рыбачить и охотиться, понимать природу — в этом наставником был дед, а от бабушки воспринимал необычные толкования различных явлений. Перед сном она садилась с краешку на его кровать и рассказывала интересные, иногда жутковатые истории про леших, оборотней, русалок, перемешивая реальное со сказочным.
Подрастая, Павел слушал бабушкины рассказы уже с некоторым скепсисом, однако во многие приметы и предсказания постепенно стал верить и сам.
С годами интерес ко всякой ирреальности то угасал, то, благодаря какому-нибудь толчку, вспыхивал. Так было, когда начались разлады с женой. Павел вдруг вспомнил прочитанные перед свадьбой гороскопы. Кто-то привёз из-за границы тоненькую книжечку — в Советском Союзе такое не издавалось, — и компания с любопытством стала примерять на себя незнакомые одежды. Дошла очередь до Слепцова и его девушки. Гороскопы предупреждали, что знаки Зодиака самого Павла и его будущей жены абсолютно несовместимы. Павел тогда самонадеянно усмехнулся. Жгучая обида от внезапного и необъяснимого ухода Анны остывала трудно. На всех молодых женщин он смотрел теперь с недоверием, чуть-чуть брезгливо и высокомерно, не снисходя до различия их индивидуальных особенностей. Это придавало уверенности в своих силах, и Слепцов не сомневался, что их у него хватит, чтобы сотворить из ветреной, пустоватой девушки надёжную, достойную жену.
Однако через несколько лет начал понимать, что это не удалось.
После развода он стал по-другому воспринимать гороскопы, снова обратил внимание на приметы и предсказания, постепенно погрузился в астрологию, которая к тому времени начала выходить из резервации лженаук в хотя и спорную, но все-таки имеющую право на существование дисциплину.
— Это ещё боль-мень серьёзное дело, — сказал как-то Нестеренко, когда Павел в очередной раз заговорил об астрологии и приметах. — А кошки твои — чушь собачья.
Тем не менее, Слепцов оставался верен себе. Он мог долго искать тряпку, чтобы вытереть стол, и никогда не вытирал его бумагой, даже если она была под рукой: «Деньги водиться не будут». Не разрешал свистеть в комнате — опять же деньги просвистишь. Если кто-нибудь рассыпал соль, Павел не находил себе места: будет обязательно ссора. Когда приходилось за чем-то вернуться, он должен был непременно посмотреться в зеркало. Не было зеркала — искал свое отражение в стекле. Однажды Волков едва не врезался в идущую впереди «Волгу» Слепцова — так резко тот затормозил. «В чём дело?» — закричал Владимир, высунув голову в окно. Оказалось, дорогу перебежала чёрная кошка.
После того как Горбачёв стал Генеральным секретарём, Павел некоторое время понервничал. Потом перестал о нём думать — отвлекли другие заботы. С женой отношения портились обвально. Редкий вечер обходился без её истеричных выпадов. В муже её раздражало всё: бесстрастное, сухое лицо, запавшие глаза, не выражающие никаких эмоций даже после упрёков в мужской несостоятельности, какая-то необъяснимая выдержка в разговоре, несмотря на открытое заявление о том, что у неё есть «настоящий друг».
— Другой на твоём месте убил бы меня! — крикнула жена Павлу, когда в запальчивости проговорилась ему о любовнике.
— Я не другой. Живи. И радуйся, если можешь.
Больней всего Слепцову было оттого, что скандалы в соседней комнате слышал десятилетний сын. Павлу, выросшему в любящей, спокойной семье, это разрывало душу. Понимая, что разлом уже не склеить, и желая спасти психику ребёнка, Слепцов не стал удерживать жену, которая собралась переезжать к другому. Но на новом месте у сына не было бы даже отдельной комнаты, и Павел ушёл жить к родителям, оставив квартиру новой семье.
А через некоторое время возник дискомфорт на работе. Главного экономиста завода перевели в министерство. У Павла с ним были хорошие отношения, и Слепцов втайне надеялся, что должность главного предложат ему. «Ну, что ж, что молодой, — думал он. — Сталин назначил Устинова наркомом вооружения СССР в тридцать три года. А мне уже тридцать четыре».
Главного экономиста прислали из Днепропетровска, где делали межконтинентальные баллистические ракеты «Воевода», получившие на Западе название «Сатана». Ему было 59 лет.
Отодвинутая было в сторону личными переживаниями Горбачёв-тревога, вскоре стала снова царапать сознание Слепцова. Теперь даже сильней, чем поначалу. Какие бы действия нового генсека он ни брался анализировать, всё выходило с отрицательным результатом: и неудачная антиалкогольная кампания, и наспех сколоченная, скорее с политическими, чем с экономическими целями, программа конверсии, и объявленный курс на сокращение вооружений.
Завод, где работал Слепцов, не попал под конверсию. Но по другим предприятиям она прошла, как смерч через благоустроенный посёлок. Высокотехнологичные производства аврально переделывали под выпуск кастрюль и сковородок, лопат и гвоздей. Павел понимал: нужны товары народного потребления. Но не такой же ценой!
Особую настороженность к Горбачёву вызывали его решения в оборонной сфере. Одним из таких решений стала ничем не объяснимая сдача американцам ракетного комплекса «Ока». Финал другого проходил на глазах самого Слепцова.
* * *
Об оружии, способном уничтожать противника лучом света на далёком расстоянии, издавна мечтали не только фантасты. После романа Алексея Толстого «Гиперболоид инженера Гарина» казалось, что мечты вот-вот превратятся в реальность. Но до тех пор, пока учёные не создали лазер, «стреляющий луч» воевал лишь на страницах книг.
Зато потом работы по созданию лазерного оружия рванули вскачь. Соединённые Штаты и Советский Союз стремились не только изобрести новые виды боевых лазеров: наземных, корабельных, воздушных, — но и опередить друг друга.
Особенно важным было космическое направление. Тот, кто сумеет раньше другого создать лазерное оружие, действующее в космосе, тот спасёт себя от военных спутников и ракет противника. Не возле земной поверхности, не над городами и оборонными объектами, а далеко за пределами атмосферы могла быть уничтожена несущаяся из космоса опасность.
Пробная пахота на «лазерном поле» началась в СССР в 70-х годах. Работы курировал секретарь ЦК Компартии, ставший затем министром обороны, Дмитрий Федорович Устинов.
Первый наземный лазер Советский Союз построил в Казахстане, вблизи озера Балхаш. В октябре 1983 года его опробовали с максимально щадящими возможностями. Над полигоном Сары-Шаган на высоте нескольких сотен километров пролетал американский космический корабль «Челенджер». Лазер запустили всего лишь в режиме поиска цели, после чего у американцев неожиданно отключилась связь, резко забарахлила аппаратура, а космонавтам на короткое время стало не по себе.
Через год в Министерстве общего машиностроения началось создание космического аппарата «Скиф», оснащённого лазерной пушкой.
Работы шли три года. Товарищи рассказывали Слепцову, что из цехов порой не уходили по полсуток. Но никто не жаловался. Наоборот, чем дальше, тем больше поднималось настроение. По разным признакам: случайным обмолвкам, многозначительным умолчаниям на собраниях специалистов — люди догадывались, что они делают то, чего у американцев пока нет и неизвестно, когда появится. Создавался новый тип космического истребителя. У него было одно очень важное преимущество перед другими видами лазерного оружия — экономичность. Для поражения цели лазерным лучом на расстоянии даже 500–600 километров требовалось огромное количество энергии, а значит, топлива. «Скифу» этого было не нужно. Способный долго летать на низких орбитах, он мог поражать военные спутники противника, догоняя их. Лазерную пушку не надо было делать дальнобойной — хватало двадцати-тридцати километров. «Скиф» обходился и без уникальных суперкомпьютеров — скорости вражеского спутника и догоняющего охотника напоминали бег зайца в голой степи и бросок пикирующего сокола.
Выведение в космическое пространство группировки «Скифов» означало неоспоримую победу Советского Союза в борьбе за ближний космос. В случае начала боевых действий советские «лазерные стрелки» могли быстро ликвидировать все военные спутники противника. И первый шаг к этой потенциальной победе был уже сделан. На космодроме Байконур стояла готовая к старту ракета «Энергия» с пристыкованным к ней 80-тонным истребителем. Ждали торжественного дня: на пуск должен был прибыть Горбачёв.
И он прилетел, но за три дня до старта. Ни основных исполнителей, ни смежников, ни командование Байконура это не насторожило. Решили: у генсека на день пуска могли быть запланированы другие важные дела. Поэтому в просторный конференц-зал космодрома народу набилось битком. Всем было интересно увидеть руководителя страны «вживую», послушать оценку своей работы.
Однако с первых же минут людей охватило недоумение.
— Мы выступаем против гонки вооружений, — заявил Горбачёв. — В том числе в космосе.
У Слепцова похолодело внутри. Эти слова не предвещали ничего хорошего. Он как представитель ведущего ведомства был приглашён на день рождения, а выступление человека с пятном на лысине явно готовило похороны.
— Наши интересы тут совпадают с интересами американского народа… Мы категорически против переноса гонки вооружений в космос…
Павел поглядел на сидящего в президиуме министра общего машиностроения Олега Бакланова. Лицо его было мёртво-бледным, кулаки сжаты так, что побелели костяшки пальцев. Министр сам работал по шестнадцать часов в сутки, требовал чёткости от смежников, лично контролировал наиболее важные поставки. Всё для того, чтобы надёжней закрыть страну от угрозы из космоса. Теперь, после слов Горбачёва, стало ясно, что «Скифы» приговорены к уничтожению.
В назначенный день лазерный истребитель подняли в космос. И тут же повернули его в плотные слои атмосферы, где он сгорел.
* * *
После этого от каждого документа, за которым стоял Горбачёв, от каждого выступления человека с клеймом на лысине Слепцов суеверно ждал неприятностей. И они приходили. Как экономист, Павел понял, какую опасность таит горбачёвское предложение резко уменьшить объём госзаказа на предприятиях. Правительство Рыжкова на 88-й год наметило его сокращение в размере 5-10 процентов. Именно такое количество продукции предполагалось продавать по свободным ценам. Основная же масса считалась заказом государства и обеспечивалась всеми материальными и финансовыми ресурсами. Разумеется, цены на выпускаемую продукцию должны были регулироваться государством. Изучив полученный опыт, правительство намеревалось продолжить снижение объёмов госзаказа, чтобы через несколько лет довести его уровень до оптимального.
Однако на заседании Политбюро Горбачёв настоял на том, чтобы сократить объём госзаказа сразу на одну треть, а для некоторых министерств — на 50–60 процентов. К чему это приведёт в монополизированной экономике, Слепцов представлял. Первым делом монопольные производители поднимут цены на ту продукцию, которая окажется за пределами госзаказа. Благодаря этому получат большую сверхприбыль. Деньги пустят на зарплаты и премии, в результате чего неоправданно быстро, с экономической точки зрения, вырастут доходы работающих в промышленности. Чтобы сократить разрыв между этой частью населения и бюджетниками, потребуются дополнительные траты бюджета, что ещё больше увеличит общую денежную массу в стране, в то время как товарная масса сократится. Немалая часть её уйдёт с внутреннего рынка на внешний. Другую часть снимут с производства как продукцию, хотя и нужную потребителям, но не дающую сверхприбыли. В итоге денег у населения окажется больше, чем товаров.
И всё произошло так, как предполагал Слепцов. В течение десятилетий закрытая экономическая система соблюдала синхронность роста доходов и товарной массы. После вмешательства Горбачёва движение пошло на разных скоростях. Уже в 88-м году вместо намеченного прироста доходов в 10 миллиардов рублей увеличение составило 40 миллиардов, в следующем — 60, а в 1990-м — сто миллиардов рублей.
Внутренний потребительский рынок взорвался. То, что оставалось после вывезенного за границу, припрятанного на базах, испорченного и выброшенного на свалки, всё это моментально сметалось с прилавков. Магазины опустели. С одной стороны, дефицит, с другой — резко выросший объём денег у населения подняли цены, породили невиданного размаха спекуляцию, когда товары из государственной торговли в открытую уходили на рынки и там продавались в несколько раз дороже. Экономическая преступность становилась привычным, ненаказуемым явлением.
Одновременно рушилась одна из главных опор государства — бюджетное равновесие. Последний раз бюджет без дефицита с большим трудом удалось выдержать в 1988 году. Однако уже на следующий год дефицит составил 100 миллиардов рублей. Страна под руководством Горбачёва и подобранной им команды стала быстро скатываться в долговую яму. В начале его правления внешний долг составлял 20 миллиардов долларов, а в конце перевалил за 100 миллиардов. Приняв государство с золотым запасом в 2200 тонн, он за короткий срок уменьшил его до 200 тонн.
Теперь Павел Слепцов больше, чем кто-либо, был уверен в персональной причастности Горбачёва к надлому государства. Здание трещало по всем этажам. Терялось управление экономикой, финансами, денежным обращением, политическими процессами. Люди переставали понимать не только происходящие события, но и друг друга. После разрушения Берлинской стены и начала объединения Германии отец Павла сказал однажды за ужином, что служить больше не хочет и уходит в отставку.
— Ты хорошо подумал? — спросил Павел. — Впереди большие перемены. Такие, как ты, будут на вес золота.
— Жить, наверно, станет трудней, — сказала мать. — Но если ты решил, Вася, я не буду тебя отговаривать. В конце концов, вернусь к репетиторству.
В молодые годы из-за переводов мужа с места на место она подолгу не работала и тогда занималась музыкой с чужими детьми.
— За это не беспокойся, мама. У отца будет хорошая пенсия… Я тоже не два рубля получаю.
Когда мать вышла, Павел снова вернулся к неожиданному намерению отца.
— Мне кажется, ты спешишь. Да, Горбачёв, судя по его делам, ничтожество. Но он разрушает систему, а это главное. Лучшее из всего, что он сделал.
— Ты хоть соображаешь, что говоришь? Система — это социализм.
— Ещё скажи, как Андрей Нестеренко, что он — новое историческое явление, совсем молодое, что способен к различным трансформациям.
— Абсолютно правильно говорит твой Нестеренко. Это тот — с такими бровями?
Отец раздвинутыми пальцами показал над глазами бровищи. Он видел Андрея один раз, мельком, но профессиональная память на лица и особые приметы сработала точно.
— Если для тебя не авторитет твой Нестеренко, то Сахарову-то можешь поверить? Правозащитник… Ваш кумир… Он тоже считает, что социализм можно реформировать. Правда, я бы добавил: осторожно. И с другой головой. Не как у Горбачёва… Социализм, Паша, может быть разным. Я тебе рассказывал про Швецию… Данию. Там тоже социализм. С частной собственностью… С многопартийностью. Не такой, как у нас. На Балканах, в Восточной Европе он был неодинаковым. Возьми Югославию с её моделью «социалистического самоуправления», с разными формами собственности, с широкими рыночными отношениями. Или Венгрия… Там был свой тип социализма. А китайцы! Вот за кого я радуюсь и кого боюсь. Благодаря социализму они через несколько десятилетий станут главным народом земного шара. Первые, на кого положат глаз, будем мы. Наша страна. Если она к тому времени ещё останется.
— От твоих прогнозов, Василий Палыч, мурашки по телу, — сдержанно улыбнулся Павел. Они были похожи. У обоих — глубоко утопленные глаза. Оба худощавы лицом, со впалыми щеками. Когда младшему Слепцову кто-нибудь после долгого невиденья заботливо советовал: «Вам бы отдохнуть, Пал Василич. Похудели как!» — он отвечал: «Это у нас конституция такая. Семейная».
И волосы у обоих были одинаково жидкие. Только у сына тёмные, плохо прикрывающие раннюю плешинку на темени, а у отца — серые от седины, по цвету почти совпадающие с большой лысиной.
— В Европе социализму кранты, — заявил Павел. — «Бархатные революции» сметают его. А китайцы… Эти не скоро выйдут из нищеты. Если вообще когда-нибудь выберутся. Социализм — это равенство в нищете.
— Нет. Это равенство в достижении богатства. Зачем, скажи мне, одному человеку миллиард рублей или, допустим, долларов? Он что — есть их будет? Они ему нужны, чтоб развить талант физика, конструктора, музыканта? Нет, для этого достаточно средств богатого государства, которое будет тратить их на развитие всех своих граждан. Большие деньги нужны, чтоб человеку завидовали. Не его таланту и мастерству, которыми его природа одарила… которые он развил, благодаря заботе государства. А завидовали наворованным деньгам. Предки наворовали или он сам — не имеет значения. Социализм, Паша, это общество социальной справедливости.
— Оно и видно. Особенно сейчас. «Пятнистый», как называет его Андрей, по своему скудоумью открыл все ящики зла.
— Он, конечно, заслуживает участи Чаушеску [4]… Которого, кстати, предал. Да он их всех предал! Как сказал Маркус Вольф… я тебе рассказывал о нём — легендарный руководитель разведки ГДР: «Советский президент продал ГДР за бутерброд с колбасой». А лучше всего разобрались со своим генсеком в Китае: сняли со всех постов… Очень либеральничал, когда надо было власть употребить. Как наш Горбачёв.
Отец помолчал, размешивая сахар в чашке кофе.
— Но, понимаешь, не он один виноват. Посмотри на его окружение. Одни без стержня… без хребта. Другие давно в агентах влияния. Третьи — мелкая пыль, увеличенная микроскопом времени. Мы, конечно, затормозили развитие… Застоялись. Правильно говорят: «застой». Ржавчина пошла по корпусу судна. Но ты знаешь — ты человек заводской, — что есть много способов убрать ржавчину — металл-то у судна толстый. А можно наоборот — усилить процесс коррозии. Вот Горбачёв этим и занялся.
— По неумению?
— Трудно сказать. Я анализировал, как он пришёл к власти. На Западе давно создали отдельную науку для изучения нашей политической элиты — кремлинологию. Только в Соединённых Штатах почти 200 университетов и специальных центров занимаются этим. Изучают характеры, привычки, способы воздействия. Начинают вести перспективных людей издалека, с областного уровня. Пробуют влиять на них. Аккуратно, через дипломатов, прессу, помощников. К наследникам Леонида Ильича стали приглядываться заранее. Выяснили то, что и мы без них знали: Андропов и Черненко долго не протянут, Алиев и Кунаев не подходят. После грузина Сталина, украинцев Хрущёва и Брежнева представители нетитульной нации вряд ли получат высший пост. Надо было искать среди молодых русских. Заслуживающих внимание оставалось двое: Горбачёв и Романов. Я тебе пока не могу сказать о причинах… да и не всё понятно, но поставили они на Горбачёва. Хотя Романов был намного весомее. Он заметно разрешил жилищную проблему в Ленинграде. Благодаря агропромышленным объединениям область хорошо обеспечивала себя продуктами. Андропов забрал его в Москву, сделал куратором ВПК. Это насторожило конкурентов и, прежде всего, Горбачёва. Значит, Романова надо было убрать, а для этого дискредитировать в глазах партии и страны. Помнишь скандальную историю в зарубежной прессе, как секретарь Ленинградского обкома партии Романов якобы устроил свадьбу дочери в Таврическом дворце, взял из Эрмитажа царский сервиз на 144 персоны и что-то из него разбили?
— Да, помню какую-то шумиху. Даже у нас на заводе возмущались.
— Так вот — не было этого! Клевета от первого до последнего слова. Свадьба справлялась на даче, присутствовали всего пятнадцать человек. Никакого сервиза. Сам Романов сильно опоздал. А появилась статья в немецком журнале «Шпигель», после чего на Советский Союз её содержание повторили радиостанции «Свобода» и «Голос Америки». Романов жаловался Андропову, хотел дать публичные объяснения, но тот отмахнулся: «Не обращай внимания. Мы знаем: ничего подобного не было». Кстати, потом Верховный Совет России проверил. Подтвердилось: клевета. Напечатали маленькое опровержение. Но кто у нас читает опровержения? Да и опоздали с ним.
— Хорошо сработали. Только в чью пользу?
— Конечно, не в романовскую. Когда выбирали Генерального секретаря, было два заседания Политбюро. Одно — через два часа после смерти Черненко, как говорится, ещё тело не остыло. На нём троих членов Политбюро не было: Романов отдыхал в Прибалтике, в Соединённых Штатах находился Щербицкий. Когда он узнал о смерти генсека, потребовал от посла немедленной отправки в Союз. В ответ услышал: «Ваше возвращение нежелательно». Представляешь, чьё это должно было быть указание, чтобы так дерзко ответить члену Политбюро! На мой взгляд, только министра иностранных дел Громыко. Он продавливал Горбачёва из личного интереса. Приказ задержать вылет Щербицкого на три дня получил и командир правительственного авиаотряда.
На том экстренном заседании Горбачёва выбрали с перевесом в один голос! Если бы эти двое присутствовали, а все знали, что они голосовали бы против, не бывать бы нашему краснобаю генсеком!
Теперь сам видишь, что творится. Человек тщеславный, он даже не замечает, как его убаюкивают лестью… Щекочут подмышками, чтоб ручонки расслабить… А тем временем эти ручонки аккуратно берут цепкими руками и передвигают их к рычагам разрушения.
— Что ж тогда за система у нас, если его остановить не может?! — воскликнул Павел. — Где партия — руководящая и направляющая сила? Где ваше ведомство? В Америке президентов хоть отстреливают, если нет другой возможности избавиться.
— Я тебе сказал, кто с ним рядом. Он года за три сменил почти 90 процентов областных и республиканских партийных секретарей. А наше ведомство… Крючков, может, был на своём месте, когда руководил внешней разведкой. Сегодня и место другое, и обстановка другая. Тут слюнявым нельзя быть. Думаем, как бы он в опасную минуту не наложил в штаны.
— Тогда тем более эта система не имеет права на существование! Если она неспособна остановить явного своего разрушителя, то зачем ей жить? Пусть придут новые силы. Здоровые. Свежие.
— Это Ельцин здоровая сила? Паша, мы очень хорошо знаем его. Он — алкоголик, а у таких людей психика нарушена. Живёт импульсами… инстинктами… и самый главный из них — быть во власти. Ты думаешь, человек, который приказал снести дом Ипатьева, где расстреляли царскую семью, когда-нибудь искренне пожалеет о сделанном? Привыкший надевать нужную маску, он и сейчас примеряет новую — маску демократа. А под ней всё та же личина — жажда власти. Силы, которые ты называешь здоровыми, погубят Союз. А уж про свежесть их, Павел, лучше не говори. От некоторых такая вонь — не спасает иностранный одеколон. Писали нам на своих… стучали… Осуждали тайно и просили, чтоб никому-никому. Теперь грызут нас… Впрочем, давно известно: сильнее всего предатели ненавидят то, чему недавно служили.
Глава тринадцатая
Павел вспоминал потом, с каким сожалением смотрел на него отец — до такого остро выраженного противостояния они раньше не доходили, умели останавливаться перед невидимыми границами потому, что понимали: переступив их, могут психологически ранить друг друга.
Однако в тот раз Павел уже не мог остановиться. Будь он по натуре другим, хотя бы как Андрей Нестеренко, ему, наверное, было б легче справиться со своими эмоциями и размышлениями, что-то выплеснуть в гневном выкрике, чем-то в разговорах «нагрузить» товарищей.
Но его «застёгнутая» натура всё вбирала в себя и мало что выбрасывала. Поэтому вырвавшиеся протуберанцы страсти, наряду с некоторой горечью от обожжённых отношений с отцом, одновременно влили в душу и какое-то облегчение.
Слепцов хотел нового, как волнующей возможности сбросить старое. Там, в прошлом, останутся мучительные переживания из-за бывшей, и он понимал, что теперь уже навсегда бывшей жены. Он доказал ей, что им могут сильно увлекаться, что женщин — и даже очень молодых — он способен заставить плакать от счастливого удовольствия. В отбрасываемой жизни останется прошлая Анна, а в новую они войдут вместе и обновлёнными. Он станет выездным, они поедут с Анной в Германию. Она объединилась, но поедут они в ФРГ. В ГДР он был… мало что помнил, но думал, что там жизнь, как в СССР. А вот ФРГ! А может, поедут во Францию… Или ещё лучше — в Англию…
В том пока что неизвестном, но наверняка хорошем мире он будет гораздо больше, чем сейчас, востребован со своими способностями экономиста. Да мало ли сколько хорошего откроется в новом мироустройстве!
Каким оно будет в реальности, Павел представлял смутно, видел отдельные размытые клочки. Главные атрибуты социалистической системы, конечно, ликвидируют. Единоначалие Коммунистической партии уже выбросили из Конституции — и правильно сделали. Должна быть многопартийность, как везде. Законы будут принимать демократическим путём, под контролем народа — вон как орут депутаты на своих съездах. Частную собственность разрешат, но только не в тех отраслях, которые отвечают за безопасность страны. Эти трогать нельзя. В торговле — пожалуйста. В бытовом обслуживании — сколько угодно. Пусть частники соревнуются друг с другом. Особенно — в сельском хозяйстве. Не оправдали себя колхозы — об этом то и дело кричит в телевизоре какой-то Черниченко. Уверяет, что всех накормит фермер — тоже частник. Наверное, правильно — в развитых странах колхозов нет.
Остальная жизнь в представлениях Слепцова чаще всего была похожа на привычную, догорбачёвскую. Он, конечно, предполагал, что её обновят, сделают красивей и ярче, наподобие той, которую он видел в иностранных фильмах, в журналах из ФРГ, Англии и США — их по служебной линии получал отец. Чтобы не забывать языки, Павел с удовольствием читал их — даже брать в руки эти красочные вещи было приятно, но всё время чувствовал, что до каких-то глубин той повседневной жизни никак не получается проникнуть. Наверное, потому, что зарубежные издания не считали нужным писать о приземлённых вещах. Всем известные социально-бытовые параметры там уже никого не интересовали. Ведь и те, кого знал Павел здесь, тоже не обращали внимания на устоявшуюся повседневность советской жизни — бесплатное образование и здравоохранение, дешёвый отдых в санаториях и копеечные платы за коммунальные услуги, недорогие поездки на поездах и в самолётах, а видели и критиковали только их недостатки. Вот их-то — эти недостатки, думал Слепцов, и уберёт новая жизнь. Ко всему положительному, что останется от демонтированной советской системы, добавится неизвестное, но обязательно хорошее из нового.
Беспокоило только, что будет с матерью и отцом. Смогут ли они безболезненно врасти в будущий переустроенный мир и не окажутся ли отторгнутыми имплантантами?
А ещё в последнее время Слепцова стала тревожить судьба самого Горбачёва. Павел презирал его. Каждый раз, увидев по телевизору, брезгливо кривился. Но он боялся, что такие люди, как отец и Андрей Нестеренко, а их, догадывался Павел, в стране миллионы, не дадут Горбачёву уничтожить систему, выбросят из власти, как китайцы своего генсека, или пристрелят раньше, чем тот закончит неосознаваемое им дело. Ведь стрелял же недавно в Горбачёва какой-то военный. На этот раз неудачно — сатана сберёг своего «меченого». А если удастся? Андрей, видимо, не зря сказал о мишени на лысине и бубновых тузах на одежде. Тогда новая жизнь, о которой Павел думал постоянно, какой с нарастающим нетерпением ждал, пряча спрессованное желание в бесстрастную оболочку, никогда не появится?
Он враждебно уставился на электрика:
— А почему ты, Вольт, заговорил о мишенях? Сам, что ль, собираешься целиться в горбачёвскую лысину?
Спросил вроде как усмешливо, даже шевельнул губы в улыбке, но из провалов глазниц, словно дула пулемётов из бойниц ДОТа, прицельно глядели чёрные зрачки.
— Возможности нет. Его уберут другие.
— Вообще-то Горбачёв свою роль отыграл, — небрежно бросил Карабанов. — Сегодня он — тормоз демократического обновления. Мечется, как дерьмо в проруби. Ельцин — вот кто истинный лидер: вышел из партии, борется с привилегиями… Настоящий демократ!
Слепцов поджал тонкие губы.
— Он такой же демократ, как Адольф — пана римский.
Ему опять стало тревожно. Почему доктор всё хуже говорит о «меченом» и всё больше хвалит Ельцина? Это не случайно, думал Павел. Значит, демократы сделали ставку на Ельцина и могут сомкнуться с опасными для Слепцова людьми, чтобы убрать Горбачёва.
— Ельцин твой — дуролом. Пусть скажет спасибо Горбачёву — тот ему расчистил дорогу.
— Не надо, не надо, Паша! Спроси народ, кто из них настоящий вождь. Адольфа вон спроси, Валерку с Николаем. Посмотри на Ельцина. Какая у него харизма! Это же глыба. Ты согласен, Адольф? — подался к егерю Карабанов. Тот с прежним отчуждением взглянул на доктора, раздумывая: отвечать этому мужику иль обойдётся? Но вопрос, похоже, задел что-то неуютное в мыслях егеря.
— Харизма-то у него, дай Бог, — раздумчиво проговорил он. — Во какая!
Он подвигал лапами вокруг раскрасневшегося лица.
— Только я што-т большого ума на этой харизме не вижу. Он какой-то… вроде сам не поймёт, куда попал.
Павел мелко засмеялся:
— Да пьёт он, Адольф! По-чёрному. Горбачёв рассказывал по телевизору: зашёл к нему в кабинет Ельцин… с кем-то таким же… Пока хозяина не было, выпили целую бутылку коньяка. Хозяйского. Тот её, видать, припас для большого случая…
— Ну, и вожди у демократов, — усмехнулся Нестеренко. — Не могут выпивку поделить. А взялись за страну.
— Ельцина не равняй! — оборвал Карабанов электрика. — Это тебе не Горбачёв. Тот, конечно, подготовил почву для демократических перемен.
Резво начал пахать… Но в народе говорят правильно: слаб мужик, за юбку держится. Борис Николаич будет порешительней. Он быстро сделает советской империи необходимую хирургическую операцию. Мы поддерживаем суверенитет прибалтийских государств… Отпускаем Грузию… Объявили о нашем суверенитете. Россия стала свободной.
— От кого? — спросил Волков, засовывая нож в висящий на поясе чехол.
— А то ты не знаешь! Нас обирали все республики.
— Надо было всего лишь поправить экономические взаимоотношения, — сказал Нестеренко. — А вы, чтобы вывести клопов из дивана, хотите сжечь дом.
— Быстро… быстро, — проворчал Адольф. — Мой тесть Иван Данилыч — умный был костромской мужик… он в таких случаях предупреждал: «Во всяком деле нужен ум и береж. А то сядешь срать и хрен обсерешь».
— Ф-фу! — брезгливо отшатнулся Слепцов. — Грубо-то как!
— Зато верно! — засмеялся электрик. — Прямо про нашего пятнистого попрыгунчика.
— А ты сам откуда, Адольф? — спросил Волков.
— Из этих вот… независимых мест. В Латвии родился. Когда наши туда в сороковом вошли, мать была беременная. Жила у родителей возля Костромы. Отец — командир. В Риге снял квартиру… это чтоб мать приехала. Чё её понесло — не знаю. Но вскоре я там увидел белый свет.
— Теперь понятно, откуда имя, — догадался учитель. — Сороковой год… Пакт с Германией о ненападении… Гитлер — лучший друг советского народа. Тогда многие назвали ребятишек Адольфами. Но ты не переживай! Это не редкое имя. В Скандинавии короли были Адольфами.
— Я своё отпереживал. А вот как там сейчас будут жить русские — вопрос интересный. Порядочных латышей фашисты задавят — эт я вам гарантирую. Первые, об кого начнут вытирать сапоги, будут русские.
— Борис Николаич не даст, — самоуверенно заявил Карабанов. — Эти государства получают свободу благодаря его поддержке. Да и как он, русский, предаст своих?
— Какие государства! — рявкнул Адольф. От гневного вскрика поднял голову задремавший было Фетисов. Посмотрел на сидящих за столом, ничего не понял и снова откинулся на матрас.
— Там, кроме литовцев, ни у кого государствов никогда не было! Двадцать лет после нашей революции побыли самостоятельными… нищие, босые были, а до того хоть латыши, хоть эстонцы жили в других государствах. Под немцами… Под шведами… В нашей империи.
Такое неожиданное знание егерем истории удивило городских. Появилась мысль, что Адольф говорит об этом не первый раз. А он продолжал удивлять. Вынув из внутреннего кармана куртки несвежий листок бумаги, бережно разгладил его на столе и вперил маленькие глазки в Карабанова.
— Говоришь, получают свободу? Становятся независимыми? Как это им удаётся?
— Обыкновенно, — пожал плечами доктор. — Демократическим путём.
— Ага. Значит, там демократы, а не шпана. Но демократы живут по закону — так вы нам говорите? Ты ведь тоже демократ? А по закону… я тебе сейчас прочитаю закон…
Адольф поднёс листок бумаги к глазам — засиженная мухами лампочка под потолком светила скуповато.
— Закон СССР… Вступил в силу 3 апреля 1990 года. Называется: «О порядке выхода союзной республики из состава СССР». Читаю тебе: «Решение о выходе должно быть принято на республиканском референдуме, и за это должны проголосовать две трети всех избирателей». Понял? Две трети! «По каждой автономии и территории компактного проживания национальностей итоги подводятся отдельно». Если две трети согласны отделиться, Съезд народных депутатов СССР объявляет пятилетний переходный период.
Но это не всё. В последний год переходного периода по требованию одной десятой части избирателей может быть проведён повторный референдум.
На нём надо снова получить две трети голосов за выход. Вот тогда — пожалте брицца. Только приготовьте деньги. В законе написано: «Желающие переехать в Советский Союз из отделяющейся республики могут сделать это за счёт республиканского бюджета».
— Да зачем мне это знать, если народ решил?
— Погоди, парень. Ты вроде демократ, а рассуждаешь, как шпана. Эт какой народ решил? Две трети населения? Нет. Маленькая часть националов. А остальные не народ? Там половина — русские… украинцы… другие люди. И националы не все хотят отделяться. У меня сестра живёт под Ригой. Муж у неё латыш. Их спросили?
— Какой смысл сейчас говорить об этом, Адольф? — вступился за доктора Слепцов. — Они объявили о независимости. Договариваются с правительствами других стран о прямых поставках товаров, топлива — зима ведь.
— Вы кто такие — я не пойму. Грамотные или пеньки? Договариваются… Да пусть говорят хоть… с этими… как они… с марсианами! Горбачёв — он кто? Главный в нашей стране или говно? Останови на границе Советского Союза поезд, посади самолёт с этим грузом не у прибалтов, а в Мордовии. Он чего натворил — этот гондон штопаный? Сейчас националы везде захватят власть…
— Уже захватили, — сумрачно бросил Нестеренко.
— …русских начнут резать, выгонять из домов, а он про демократию трещит. Ты сначала порядок наведи! Придави шпану! Принял закон — заставь его выполнять.
— Как заставить, если народ встаёт стеной? — снова подал голос Карабанов.
— Это не народ…
— А кто ж, по-твоему?
— Шпана. В каждой нации она есть. Немного, но вонючая. Очень хочет власти… и ещё больше — денег. А народ — там… позади шпаны. Живёт себе и не замечает, какой у соседа нос. Вот кого надо спрашивать.
Помощники егеря, судя по всему, были солидарны с Адольфом. Красноглазый Николай то и дело кивал, хмурился, а Валерка попробовал даже вставить какое-то слово, но егерь коротко махнул на него рукой, и тот отстал, положив узкую голову на кулак.
— Теперь что ж, войска посылать? — спросил Слепцов.
— Не хотят добром… по закону… то надо брать палку. А как ещё народ защитить от шпаны?
— В Тбилиси попробовали палкой, — сурово произнёс Карабанов. — В апреле 89-го. После этого Грузия ушла.
И, не скрывая ненависти, продолжал:
— На мирную, тихую демонстрацию налетели убийцы в погонах. С сапёрными лопатками… рубили женщин и детей.
Покосился на Волкова.
— Десантники, между прочим. Кто после этого захочет жить в такой тюрьме народов?
— Ты сам-то хоть пробовал разобраться, что там было? — спросил учитель, трогая кончик уса и тем самым пытаясь справиться с раздражением.
— Зачем? Все газеты рассказали в подробностях. Депутатская комиссия ездила туда. До какого зверства надо было дойти? Десантник гнался за старушкой два километра… Догнал и зарубил лопаткой.
— Неужели ты серьёзно говоришь об этом? — с изумлением спросил Волков. — Веришь в сказку про бабку?
— А почему нет, если приказали убивать?
— Видать, старушка была мастер спорта по бегу, а десантник гнался за ней ползком, — засмеялся Нестеренко.
— Какие ж вы брехливые, демократы! — поморщился Адольф, и большую красную физиономию его искривила гримаса брезгливости.
— И вот так обо всех тбилисских событиях, Адольф, — кивнул Волков егерю. — Я им рассказывал. Моя Ташка туда ездила. Сначала я ей не поверил.
Он повернулся к доктору.
— Я верил больше тебе. И газетам, на которые ты ссылался… «Самые честные! Неподкупные!» Потом понял: там была махровая ложь… Ну, теперь-то ясно — им давали такую установку… Обелять негодяев и мазать дерьмом невиновных. Наталья привезла километры магнитофонных записей… Письменные свидетельства очевидцев… участников событий. Написала большую статью — как было на самом деле. Главный редактор сказал: ещё раз так напишешь — выгоню.
Волков встал, шагнул туда-сюда по избе, чтобы успокоиться.
— Потом я прочитал подробное заключение Генеральной прокуратуры — жена принесла. А вскоре ко мне заехал мой армейский друг — Саша Головацкий. Я после армии пошёл в университет, он — в военное училище. Сейчас, может, подполковник. Тоща, в апреле 89-го, он был майором, в Тбилиси попал как раз перед событиями. Выходил с последними частями из Афгана. Две недели дали отдохнуть — и командировка в Грузию. Он мне много чего рассказал… Майор ГРУ [5], сами понимаете. Заваруху организовали несколько человек. Всех не помню — Чантурия, Церетели, а главный — Гамсахурдия [6]. — он сейчас командует там в Верховном Совете. Эти люди создали каждый свою партию… Ну, какие они партии? Во всех вместе взятых было меньше трёх тысяч человек. Как говорит Адольф: шпана. Но вонючая. Стали разжигать народ. «Долой Советскую власть!», «Выход из состава СССР!» А главное — «Грузия — для грузин!» Нисколько не прячась, орали, что нужно выгнать из Грузии абхазов, осетин, азербайджанцев, армян, греков, русских. Уничтожить автономные образования в Аджарии, Абхазии, Южной Осетии. Люди заволновались. Известно ведь — экономические трудности не так легко возбуждают народ, как это происходит, если задеть национальную струну. Там — как из контрабаса извлечь звук — пальцы разорвёшь. А национальные дела даже не Пашина скрипка. Достаточно дыхнуть на струну, и она зазвенит тревожно.
После открытых шовинистических речей Гамсахурдии — и заметьте: никто его не арестовал, не посадил, — 18 марта в абхазском селе Лыхны собрался 30-тысячный митинг. Люди потребовали придать своей автономной республике статус союзной и войти в состав СССР. Грузию-то националисты обещали из Союза вывести, а что будет потом, абхазы уже услышали. В ответ на решение взбудораженных абхазов Гамсахурдия собрался их громить. Расправу назначили на 9 апреля. Но сначала со своими архаровцами раскочегарили митинг в Тбилиси. До этого они уже пробовали насильно останавливать работу заводов, срывали занятия в школах и вузах, блокировали движение городского транспорта, перекрывали шоссе и железную дорогу. Перед самым 9 апреля толпой из нескольких тысяч человек они пошли к металлургическому заводу в Рустави — задумали остановить его.
— Ты понимаешь, что такое остановить металлургический завод? — воскликнул Нестеренко. — Это ж катастрофа! Там непрерывное производство.
— Догадываюсь… Но рабочие их не пустили. А митинг в Тбилиси возле Дома правительства уже выходил из берегов, становился ожесточённым. Националисты выступали по двадцать-тридцать раз в день. В Генпрокуратуре есть магнитофонные записи этих выступлений, их расшифровка. Наталья получила копии. Я сам читал. Один кричит: «В Грузию должны войти армейские подразделения ООН… Грузия должна войти в НАТО…» Другой призывает: «Не пожалеем пролитой крови…» Как вы понимаете, конечно, не своей… Саша мне показывал фотографии лозунгов: «Долой, советская власть!», «Русские! Вон из Грузии!», «Долой фашистскую армию!», «Давить русских!»
— Ну, что я вам сказал! — заволновался Адольф. Волков согласно покивал, снова взялся закручивать ус.
— Местные власти были в разброде. То и дело связывались с Москвой. Оттуда тоже невнятное. Вы же знаете горбачёвские призывы: «Не надо драматизировать ситуацию». Наконец, решили вытеснить демонстрантов от Дома правительства ОМОНом и солдатами. Вытеснить! Живой цепью! Но гамсахурдиям нужна была кровь. Они подготовили десятки боевиков. Те вооружились цепями, железными прутьями, досками. Достали противогазы, бутылки с зажигательной смесью.
Перед началом операции к митингующим обратился католикос Грузии. Он попросил всех разойтись, чтобы не допустить трагедии. Но один из лидеров-националистов вырвал у него микрофон и призвал митингующих сесть на асфальт. «Сидячих бить не будут». Вы представляете, что происходит, когда на толпу надвигается цепь омоновцев со щитами? Толпа выдавливается, как сметана из дырявого пакета. В разные стороны, куда можно отойти. На площадь выходит несколько улиц. Но большинство из них националисты специально перегородили. Поставили самосвалы с песком и спустили шины. Подогнали автобусы, грузовики с бетонными блоками. Оставался выход на проспект. Я тебе, Сергей, могу показать видеоплёнку — Ташка сделала копию. На плёнке видно, как сзади толпы выстраиваются молодые, спортивной выправки мужики с палками и закрывают людям возможность уйти. А впереди, перед цепью — давка. А в середине, возле ступенек к Дому правительства сидят люди. Женщины. Их усадили негодяи — сидячих, мол, не бьют. Толпу сзади держала одна часть боевиков. Другая начала драку с солдатами и омоновцами. Их били железными прутьями, камнями, резали ножами, кололи заточками. Как бы ты реагировал, когда в твоего товарища всаживают нож?
— Он бы помог… Другому товарищу, — съязвил Нестеренко.
— Перестань! — одёрнул его Волков. — Неумно.
И, немного помолчав, с волнением заговорил:
— Те, кто закрывали выходы с площади, понимали, что произойдёт. Вот они и есть преступники… настоящие виновники тбилисской трагедии! Наталья сфотографировала показания участников. Люди, отступающие перед цепью солдат, пошли по сидящим и упавшим. Все погибшие, а там их было, кажется, восемнадцать, оказались задавленными. Только один мужик ударился головой об асфальт. Ну, этот хотел показать десантнику приёмы самбо… Я читал хвастливые показания тех, кто бил солдат и омоновцев. Один заявил следствию — его я запомнил особенно: попался бы он мне! — «Я лично разломал скамейку и с этим колом пошёл крушить солдатские головы. Ребята расправились с солдатами. Шла драка насмерть». Военных тоже можно понять. У омоновцев щиты разбиты. Морды в крови. Во всех летят булыжники, куски плитки от ступенек. Десантники отбивались лопатками, как теннисными ракетками… А на ступеньках, выше толпы, среди организаторов, стояли московские фотокорреспонденты и люди с видеокамерами. Их пригласили заранее…
Потом писали, что солдаты многих убили сапёрными лопатками. Да ты же сам сейчас сказал об этом, Карабас! Вот люди тебя слушают и думают: значит, правда. Если тако-о-й человек говорит! Однако следствие установило: погибших от лопаток не оказалось вообще. Ни од-но-го! — по слогам произнёс Волков. — Четыре человека получили раны… Лёгкие…
— Я не верю твоей версии! — враждебно заявил доктор. — Это версия одной стороны. Убийц…
— Вот так же говорили те, кто не хотел услышать правды. Кто специально выворачивал шубу наизнанку. Лгали, не боясь наказания. Саша рассказывал, как они отлавливали телеведущего Политовского. Тот встречался только с националистами… с теми, кого надо было судить. Сумели перехватить его в аэропорту. Просили, требовали: выслушайте нас тоже. Мы были здесь… Всё видели… Пообещал… и увильнул, гадёныш. Потом целый час рассказывал по телевизору всей стране о сапёрных лопатках и тысячных жертвах. А когда следователи стали изучать документы — вот где открылось кино! Многих, вроде бы пострадавших, в поликлиниках регистрировали по четыре, по пять и даже по шесть раз. Каждого! Для количества. Сотни две записали на выдуманные адреса.
А насмерть отравленные газом? Я уж не помню, сколько их называли. И в газетах, и в депутатской комиссии… Генпрокуратура собрала всё, что можно. Даже свидетельства иностранных специалистов. И что оказалось? Тоже — ни одного! Как с лопатками. Для того чтоб человек помер от милицейского газа, его надо посадить в глухую комнату в половину нашей избы, заполнить её газом до густоты, — как туман на озере, — и держать там бедолагу четверо суток. Ты где-нибудь об этом читал? Хоть один человек сказал про это по телевизору? Я всё ждал, когда Горбачёв назовёт вещи своими именами. Расскажет правду. А он — снова в кусты. Решил сам хорошо выглядеть, а козлом отпущения сделать армию… генерала Родионова… Ты вот тоже с теми… Получается, на другой стороне баррикад…
Учитель расстроенно замолчал. Ему нелегко было вслух признать очевидную вещь: они с Карабановым становятся противниками. В избе наступила гнетущая тишина. Даже храп Фетисова смолк. Видимо, товаровед повернулся на удобный бок и теперь только посапывал. Обычно он храпел надрывно, с руладами и переливами, и если на какой-нибудь охотничьей базе была возможность, товарищи отправляли его спать в отдельную комнату. «Чёрт-те што, — ворчал Нестеренко. — Как в таком маленьком теле помещается целый оркестр?»
— Ты не веришь моим словам, — сказал Волков, — а я не верю депутатской комиссии. Сначала поверил. Переживал. Но когда Наталья стала показывать документы, был поражён. Она после Тбилиси повернулась к национальным делам. Полезла в карабахскую свару. Я её удерживал. В редакции косятся. Говорят: не туда копаешь. Но ты знаешь мою Ташку… Брестская крепость… Будет стоять до последнего. Пока концы не найдёт. Говорит мне: хочу понять, как народы, столетиями жившие бок о бок, толкнули на убийство друг друга? Кто виноват?
— Ну, и кто? — воззрился на учителя Павел.
— Горбачёв.
— Здрас-сьте! — с сарказмом бросил Карабанов. — И ты туда же!
— Да. Горбачёв. Где лично он, где свита, которую собрал. Уж ты-то, как доктор, знаешь: если болезнь не придушить в самом зародыше, погибнет весь организм. С чего там началось? С писем армян из Нагорно-Карабахской области — она входит в Азербайджан, — чтобы её передали Армении. Говорят, после революции такая идея тоже бродила, но её вместе с носителями утихомирили, и она надолго заглохла. А тут — перестройка, всё можно, почему не попробовать?
Сначала писали одиночки… Как их назвала Наталья: национал-активисты. А в августе 87-го в Москву ушла петиция с десятками тысяч подписей. Ясно же — не сами по себе люди собрались. Выстроились в очередь… требовали бумагу… ручку… С ними очень активно поработали. Организовали сбор, давили на колеблющихся, пугали нежелающих. В области всего 145 тысяч армян! Включая грудных детей. А тут десятки тысяч подписались. Азербайджанцы сперва на это не обращали большого внимания. Если народы территориально вкраплены друг в друга, трения всегда бывают. Даже после начала синхронных митингов и шествий — в Ереване и Карабахе — развитие событий можно было остановить. Но когда уже областной Совет принял решение выйти из Азербайджана и войти в состав Армении, загудели и на той стороне. Стали требовать от властей навести порядок. Активизировались националисты. Шпана, как говорит Адольф.
Надо сказать, армяне действовали напористей. Подключали кого только можно. Своих — за границей, а их диаспора, наверно, не меньше еврейской. Своих — здесь. Советник Горбачёва — какая-то у него фамилия, натощак не выговоришь, — стал везде писать и говорить, что Карабах надо вернуть матери-родине. Значит, Армении. В доказательство — вроде как исторические примеры: что было тыщу лет назад, что — пятьсот. Ну, если такой дорогой все пойдут, не останется ни одного целого государства. Американцев первых надо выселить — заняли чужие земли. Не получая от властей, как местных, так и союзных, разъяснений и наказаний, — да-да, ты не кривись, Карабас! наказания тоже могли остудить — те и другие провокаторы с каждым днём всё опасней раскачивали народ. На первый митинг в азербайджанском Сумгаите пришло человек сорок. Им красочно рассказали, как в Армении и Карабахе убивают мужчин и насилуют азербайджанских женщин. На следующий день собралось уже несколько тысяч возбуждённых людей. Накаляя толпу, организаторы через мегафон выкрикивали проклятья армянам. Баба, второй секретарь горкома партии, вместо того чтоб гасить разгорающийся пожар, плеснула керосина в огонь. Мы требуем, орала она, чтобы армяне покинули Азербайджан.
Ещё через день — опять митинг. На нём народу ещё больше. Когда он кончился, другой секретарь этого же Сумгаитского горкома партии — мужик — поднял азербайджанский флаг и повёл толпу на поиски армян. Это как вам? Да их надо было немедленно арестовать и тут же судить.
— А бабу посадить к мужикам — армянам, — ляпнул Нестеренко. Волков строго, по-учительски, глянул на него.
— Ты не Вольт, Андрей. Ты чёрт.
И продолжал:
— Армяне накаляли обстановку не меньше. Если не больше. Один из лидеров комитета «Карабах» на митинге в Ереване призвал создать отряды, задача которых — изгонять азербайджанцев. «Впервые за эти десятилетия, — кричал он, — нам предоставлена уникальная возможность очистить Армению». Кем предоставлена?
— Ясно кем! — снова вклинился Нестеренко. — Горбачёвым.
Но Волков на этот раз даже не посмотрел в его сторону.
— Я вам назвал несколько фактов. А их сотни. Националисты-провокаторы действовали в открытую и безнаказанно. Безнаказанно! Раскачивали два народа, апеллируя к самым низменным человеческим инстинктам. Взбирались на гребни растущих волн гнева, делали всё, чтобы столкнуть их. Про себя-то знали: перед тем как волны схлестнутся, они успеют нырнуть вниз. На безопасное дно. Они готовы проливать кровь. Но, как и в Тбилиси, не свою.
Им удалось… В азербайджанском Сумгаите, где по общежитиям и митингам ходили, как я прочитал у Натальи в показаниях рабочих алюминиевого завода, «странного вида нездешние люди», начался погром.
И опять же… Если не сумели жёстко предотвратить его, можно было уменьшить число жертв. Некоторые азербайджанцы помогали армянам… Спасали целые семьи. Вот суть народа! А в Москве чесались. С большим опозданием перебросили дивизию внутренних войск. Увидев на месте, что творится, комдив запросил разрешения на адекватные обстановке меры. Специально обученные солдаты могли утихомирить погромщиков в считанные часы. Но ему приказали не применять силу и не забывать, что участники погромов — тоже советские люди. Слова — один в один — из горбачёвского чемодана.
Волков подошёл к столу, взял свою кружку с чаем.
— В этом же духе действовали и дальше. Из нескольких тысяч погромщиков к суду привлекли 94 человека. Представляете? Из тысяч! И то рядовых участников — юнцов. Вместо общего судебного процесса дело разбили на 80 эпизодов. Рассматривали в разных городах. Ни одного подстрекателя из выступавших на митингах, ни одного националиста-идеолога не арестовали. К чему привела горбачёвская трусость, вы теперь видите. Двести тысяч азербайджанцев выгнали из Армении. Люди бросили дома, годами нажитое добро. Что удалось взять, с тем и бежали. А навстречу — армянский поток горя. Этих ещё больше — поскольку в Азербайджане их больше жило. По всей границе между республиками идёт стрельба. Что будет завтра, мы с вами не знаем.
— А ты говоришь, — уставил палец в доктора егерь, — не надо палку. Свободу всем и каждому. Тогда зачем нужна такая власть, если она не может защитить народ от шпаны?
И, прищурив маленькие глазки, ядовито передразнил:
— Демокра-а-тия…
— Ты прав, Адольф. Власть должна иметь твёрдую руку, — согласился с егерем Нестеренко. — Путь к демократии в такой многонациональной стране, как наша, иногда должен проходить через площадь Тяньаньмэнь.
— Это ещё где?
— В Китае. Главная площадь Пекина. Там хотели устроить такой же бардак, как у нас. Вышли студенты… демократы. Кричали: «Долой социализм!» Власти их предупреждали. Требовали разойтись. Те — ноль внимания. Тогда пустили войска… танки.
— Против безоружной молодёжи, — с осуждением сказал доктор.
— Студенты, — усмехнулся Слепцов. — Эти «безоружные» студенты ещё на подходе к площади подбили несколько танков. Погибли военные. Молодые ребята…
Отец рассказывал ему некоторые подробности тех событий. Из разных источников было известно, что уже первыми демонстрациями, которые начались в апреле 1989 года, руководили подготовленные люди. Успех «бархатных революций» в Восточной Европе, порождённых советской перестройкой, пробудил диссидентские импульсы в Китае. Небольшие поначалу группки, видя растерянность властей, стали быстро разрастаться в многотысячные митинги и демонстрации. Поскольку представители власти пробовали разрядить обстановку путём переговоров, организаторы манифестаций решили, что власть совсем слабеет, и начали усиливать давление. Требования выдвигались такие же, как в Советском Союзе и социалистических странах Восточной Европы: демократические преобразования, глубокие перемены в политической системе.
Не получая противодействия, демонстрации ширились, призывы становились всё радикальнее. 15 мая это увидел сам Горбачёв, который прибыл в Китай с визитом.
30 мая власти попробовали мирно вытеснить многотысячную толпу демонстрантов с площади Тяньаньмэнь, но люди стояли стеной, и экипажи бронетехники, не имея приказа действовать решительно, остановились.
3 июня 1989 года на площади собралось полмиллиона демонстрантов. К интеллигенции и студентам добавились крестьяне из ближайших районов, безработная молодёжь, которой к тому времени в Пекине скопилось около миллиона человек. В толпе работали агенты ЦРУ, тайваньских спецслужб. Как отмечали иностранные обозреватели, они раздавали деньги. Специалисты по организации массовых волнений накаляли толпу. Руководители страны приняли решение: в данной ситуации выход один — применить силу. Против выступил Генеральный секретарь Компартии Китая Чжао Цзыян, который лично выходил к митингующим с уговорами.
В ночь с 3 на 4 июня на площадь двинулись войска и танки. Были жертвы. «Бархатная революция» в Китае не удалась. Генерального секретаря ЦК Компартии сняли со всех постов и отправили под домашний арест.
Вспомнив сейчас рассказ отца об этом, Павел пожалел, что невольно стал союзником Андрея. «Твердолобые» могут так же поступить с Горбачёвым. Тогда, может, действительно есть смысл поддерживать Ельцина, как это делает Карабанов, поскольку тот в борьбе с Горбачёвым за власть ещё резвее разрушает систему.
— Значит, если б я крикнул: «Долой социализм!» — меня тоже под танки? — спросил он Нестеренко.
— Для него идея дороже человеческой жизни, — опередив растерявшегося от неожиданного вопроса электрика, заявил Карабанов. — Социализм… коммунизм… Какие-то идейные бредни. Тупиковый путь в сторону от магистральной дороги человечества… Аппендикс, который наконец-то воспалился… Ампутировать его надо… А вы вцепились… сами не уходите и другим не даёте уйти. Социализм… Он никогда и нигде больше не возродится. Эксперименту конец. Идея ваша мертва… хотя ещё огрызается. Но, как говорил Достоевский, ни одна самая лучшая идея не стоит слезы ребёнка.
— А человеческой крови? — раздался от печки голос Волкова, который снова достал из топки уголёк, чтобы прикурить, да так и застыл с ним, дымящимся на поддоне совка. Эти слова, услышанные им впервые года два назад, показались тогда какими-то возвышенными и пронзительно чистыми. Сам он их у Достоевского не встречал, да и читал-то Волков странного писателя — таким он ему показался после нескольких произведений — весьма неохотно.
Однако слова эти, как серебристые колокольчики на рыбалке, вызванивали какие-то надежды, в которые хотелось верить и к каким надо было стремиться.
Правда, когда с митингов и экранов ими стали беспощадно хлестать всю историю страны, представляя её жестокой и бесчеловечной, учитель насторожился: «Как же вас понимать? — думал он о тех, кто произносил постулат нервического писателя и называл себя демократом. — Считаете трагедией единственную слезу обиженного ребёнка и одновременно восторгаетесь людьми, устраивающими кровавые погромы, в которых даже не плачут, а гибнут тысячи детей».
— Ты про какую кровь, Володя? Что имеешь в виду? — спросил доктор.
— Двойную мораль. Идея социализма, как я понял, не стоит слезы ребёнка. А идея национализма? За неё, по-твоему, можно платить слезами и кровью? Когда азербайджанцы бежали через горы из Армении, ты видел по телевизору замёрзших людей? А детей убитых видел? Армянских? Азербайджанских? Или на этих детей ваша мораль не распространяется? Вы поддерживаете националиста Гамсахурдия? А что он целым народам отказывает в праве на существование — абхазам, осетинам — нету, заявляет таких народов, есть только грузины, других в Грузии не должно быть — это-то как?
— Это — фашизм! — убеждённо сказал Нестеренко. — Всякий, кто говорит, что его народ лучше других… что он самый умный… только ему компот, а остальным помои — это фашист. Ничем не лучше немецких. Да и слова-то вон какие похожие: нацист — националист.
Учитель, наконец, прикурил, бросил уголёк обратно в топку.
— Северная Осетия и Абхазия не хотят выходить из СССР. Они готовы отделиться от Грузии и остаться в Союзе. А Гамсахурдия хочет силой оставить их. Вроде как отстаивает территориальную целостность Грузии. Тогда почему власть Союза не имеет права тоже силой сохранять эту самую целостность?
— Не та власть сичас в Союзе, — сказал Валерка, глядя на Адольфа и как бы ища его согласия.
— Эт точно, — покивал тот. — Не повезло нам с правителем.
В этот момент из сеней послышалось грозное рычанье Пирата. Тут же заливисто откликнулась Тайга.
— Што такое? — вскочил Нестеренко. Николай с Валеркой тоже встали. Проснулся Фетисов. Сел на матрасе.
— Уже утро? Иль вы не ложились?
Адольф быстро снял со стены ружьё и вышел в сени. Слышно было, как хлопнула входная дверь на улицу. Через некоторое время егерь вернулся.
— Волк, наверно, близко прошёл. Разоряются деревни… исчезают. Волкам некого бояться. В брошенном селении всегда чёнибудь найдёцца. Среди зверей тоже есть люди. Сображают…
— Зато среди людей появились звери, — с грустью заметил Волков. От того радостного душевного настроения, с которым приехали вчера и с каким начинался сегодняшний день, ничего не осталось. Раздражение и дух какой-то враждебности, казалось, затронули всех. Кроме уснувшего Фетисова, чей громкий храп напомнил людям о времени.
— Давайте-ка спать, — пошёл к кроватям Адольф. Одну со вчерашнего вечера занял он. Две других достались Карабанову и Слепцову. Инженер-электрик и учитель без каких-либо претензий легли спать на матрасах.
Сейчас посередине рябого озерка снова храпел Фетисов. Нестеренко, проходя мимо, толкнул его ногой. Товаровед всхлипнул в храпе, повернулся на бок и затих.
— Быстрей укладывайся, — сказал Андрей Волкову, накрываясь полушубком. — Пока у оркестра перерыв.
Глава четырнадцатая
В остывшей темноте проснулись чуть ли не все разом. Валерка встал первым, зажёг свет и крикнул, щурясь:
— Спать приехали?
На голове его, похоже, ночью кто-то сидел. Лицо сплюснулось сильнее вчерашнего. Жёсткие волосы дыбились вулканом. Глянув на него, Волков вспомнил, как в прошлый приезд Адольф уверял их, что из волос Валерки они делают кивочки для зимних удочек. «Вроде проволоки», — говорил тот, и никто поначалу не заметил хитрой смешинки в маленьких глазках егеря.
Больше по надобности, чем по желанию, пожевали кто что и, не мешкая, стали выходить во двор.
Рассвело ещё не совсем. Близкий снег синел, дальше был серый, но звёзды поблескивали всё слабее, как будто быстро уносились от земли в глубины неба.
— Значит, обстановка такая… рисую обстановку, — придавленным голосом говорил егерь.
Согнувшись в три погибели, он искал карабин на ошейнике крупного Пирата и никак не мог найти. Валерка уже держал на поводке свою лайку Тайгу.
— Пойдём в такое место, где кабаны обязательно есть, — продолжал Адольф снизу. Фуфайка задралась, в сумерках под ней забелела рубаха. Наконец, егерь прицепил поводок и разогнулся.
— С болота будем заходить? — спросил красноглазый Николай.
— Там глянем. Война план покажет, — повторил Адольф, похоже, нравящееся ему выражение.
Цепочка охотников быстро заскользила к чернеющему метрах в трехстах от избы старому амбару. За ним начинался уклон к полю, которое вдалеке мрачной дугой обжимал лес. Вчера охотники за весь день не встретили ни одной свежей кабаньей тропы. Сначала зима была так себе, не поймешь, куда повернёт. Первый снег выпал без холодов, на сырую землю. После этого надолго установились ясные, солнечные морозные дни. Но наконец, снега повалили, и насыпало их к концу сезона столько, что, оступившись с лыж, человек кое-где в лесу проваливался по пояс. В таком пуху даже лоси не бежали — плыли. А кабаны, уйдя в самую гущу непролазного ельника, растаптывали там мягкий снег, подрывали корни и только ночами, да и то не всегда, пробивались в новое, такое же глухое место или на картофельные поля. И хотя с первых дней января установились сверкающе-голубые, звонкие от мороза дни, глубокий снег — эта кабанья погибель — держал зверей в плену.
Ломая путь между поваленными деревьями, охотники углубились в лес. Вдруг Адольф, шедший впереди, замер.
— Вход есть, — изменившимся голосом тихо сообщил он. — Будем делать загон. Кто у вас командир-то?
Карабанов кивком головы показал на Волкова.
— Мы втроем побежим в обхват, а вы — по нашей лыжне. Не гонитесь. Замёрзнете стоять. Нам круг делать большой. И вон оттуда (красной пятерней он показал в глубины леса) пойдём на вас с собаками. А вы расставьтесь, где я лыжей кресты сделаю. Одного назад надо вернуть — к полю ближе.
Лес быстро наливался светом. Тронутый солнцем снег на вершинах елей порозовел.
— Кроме как на вас, им некуда выйти. За вашей спиной лес долгий. Густая сеча. Такая, как впереди. Тут вроде перешейки. Они туда-суда через эту перешейку ходят — в сечу здесь самый короткий путь. А там болото — мы счас краем пройдём. С другой стороны — поле.
Неожиданно глазки егеря язвительно блеснули:
— Ну, глядите у меня. Промажьте кто… скворцы-говорцы.
К полю Владимир вернул Фетисова. На следу поставил Слепцова. Себе взял следующий номер, а на два последующих отправил Карабанова и Нестеренко.
Егерь вытоптал крест возле тесного гурточка усыпанных ёлочек. Но Волкову место не понравилось. Мелькнуло смутное опасенье, что здесь, в случае чего, только запутаешься, а не спрячешься, и он передвинулся на несколько метров назад, к огромной ели. На весь волковский рост ствол её был гладок.
И только сразу над головой охотника начинались мощные нижние ветки. Волков поудобней утоптал снег, огляделся из-под густого навеса. Справа от него заряжал ружьё Карабанов. Дальше, под небольшой ёлкой, замер Нестеренко.
Но самое лучшее место было у Слепцова. По такому снегу зверь обязательно должен пойти своим следом, а на нём стоял жилисто-сухощавый, с острым взглядом запавших глаз экономист, который не знал промашки. Волков передёрнул плечами от зависти, но тут вспомнил, что прошлый раз сам никому не дал поднять ружья. Странная тогда получилась охота. Не успели отойти от деревни, как пущенные вперёд собаки залаяли в ближайшем осиннике. Адольф сорвался с шага, бешено замахал руками: «Отрезать надо! Уйдут в большой лес!» — и понесся параллельно ходу лосей. Все бросились за ним, однако вскоре Адольф оторвался, и лишь один Волков — сказывалась давняя армейская тренированность («десантник сначала бежит, сколько может, а потом — сколько нужно!») — старался догнать егеря, хотя и от него тот уходил всё дальше. Трое лосей бежали редким осинником. Волков видел их. Вдруг они повернули к охотнику, и он окаменел на полушаге, где его застал момент. Даже большого дерева не было рядом. Только две тонких осинки оказались за спиной. По глубокому снегу лоси двигались не быстро. За ними словно плыли собаки, одной лишь яростью выталкивая себя из пуха. Волков медленно поднял ружьё, подпуская переднего зверя, и готовый в любую секунду, если лось увидит его и свернёт, нажать курки. Но крупная корова не замечала стоящего уже в сорока метрах от неё охотника. Пуля вошла в грудь. Корова боком метнулась к осиннику. Волков выстрелил ей вслед. Мгновенно перезарядил ружьё и послал дуплет в третьего зверя, потому что второй лось после выстрела сразу же свернул за коровой. А та была уже в осиннике, но не бежала, а стояла, ворочая головой. Волков снова вогнал патроны и помчал к ней. Он вдруг засомневался в первом выстреле и теперь решил хоть издалека дать дуплет, если корова тронется с места. Но она не двинулась. Волков не пробежал и половины пути — лосиха упала. Собаки налетели на неё сзади, вцепились зубами в шерсть. Корова силилась подняться, однако последние силы быстро покидали её. Волков замахнулся на собак. Тайга отскочила с клоком шерсти в зубах, а Пират, рыча, двинулся на охотника. Тот вдруг остервенился, визгливо вскрикнул, словно терзали его, а не умирающего зверя, и, не помня себя, вскинул ружьё на собаку. Но в этот момент краем глаза увидел, что, огибая его, из осинника по чистому полю бежит один из оставшихся лосей. Он повернулся, двинул стволы ружья на самую оконечность головы и выстрелил. Лося как будто дёрнули за передние ноги назад и одновременно ткнули головой к низу.
Это был прекрасный выстрел, но, вспомнив о нём сейчас, Волков вдруг опять, как в прошлый раз, почувствовал впервые появившуюся тогда пронзительную жалость к загубленной жизни. Зависти к Слепцову уже не было, она истаяла, как горсть снега в воде. Владимир ещё раз, теперь не с поворотом головы, а только движением глаз, обозрел цепь. Люди замерли на местах. Стояла стеклянная морозная тишь. Учитель слегка наклонился вперёд, перенёс центр тяжести на левую ногу и приоткрыл рот. Мысленно усмехнулся: навыки разведчика-спецназовца не забывались. Когда надо прослушать обстановку, а подручных средств нет: сухого бревна, палки, вкопанной в землю, можно было сделать, как он сейчас. Зубы, если полуоткрыт рот, становятся дополнительным проводником звука.
Волков с грустной нежностью вспомнил армейское время, старшину Губанова из донских казаков, которого все они поначалу возненавидели. Глухим баском тот постоянно им внушал: «Оставте свои заповеди десантника на КПП али сбережите их для девушек. „Десантник должон стрелять, как ковбой, и бегать, как его лошадь“. Красиво, но не для нас. Разведчик-диверсант — это вам пять десантников в одном. Надо схомутать ковбоя, взгромоздить на горб его лошадь и пройти незамеченным через всю ихнюю степу… Прерия называется».
Владимир до сих пор помнил, как надо бесшумно ходить в лесу или по мелкой воде, как читать следы (примятая трава направлена в сторону движения), как маскироваться, листья каких деревьев сколько времени сохраняют летом свой цвет (дуб, берёза, липа — до двух дней; осина, орешник чернеют и свёртываются через несколько часов). Дольше всего — до пятнадцати дней, сохраняют естественный цвет камыш, осока, мох. Из деревьев — сосна и ель. «Хорошо учила Советская Армия, — подумал он. — А теперь её топчут на каждом карабановском митинге».
От этой мысли ему стало беспокойно, захотелось, как в разведке, стать незаметнее. Волков согнул еловую лапу, намереваясь без шума оторвать несколько веток, чтобы прикрыть ими светло-рыжую шапку. Но внезапно раздался треск. Слепцов быстро глянул вправо, а Карабанов, поймав волковский взгляд, показал ему кулак. Владимир смущённо улыбнулся и успокаивающе качнул рукой. В этот момент со стороны загонщиков донёсся яростный собачий лай. Волков мгновенно напрягся. Теперь это был сильный настороженный охотник. Всем существом устремлённый в глубину леса, где его сообщники — собаки — обнаружили дикого зверя.
* * *
Но кабан был не один. В ельнике стояло стадо. Матёрый секач, кабан-двухлеток, такая же по возрасту свинья и трое поросят перешли ночью со старого места на новое. Впрочем, и это место было для стада не новым. Здесь кабаны кормились несколько дней назад и ушли, когда почувствовали, что голод уже не утолить. Теперь тот же голод, от которого взрослые всё более свирепели и раздражались, а малыши — слабели, пригнал стадо назад.
Такая пугающе трудная зима была неизвестна даже секачу. Он опускал морду, чуть поворачивал её набок и поддевал клыками перемешанную со снегом землю. Ничего не попадалось. Следом ходили поросята, тыкались носами в следы секача и время от времени тихо взвизгивали.
В густом ельнике становилось всё светлее, и всё яростней рыл чёрно-белое месиво голодный кабан. Зло всхрюкивали двухлеток и свинья. Когда совсем рассвело, секач остановился, последний раз рыкнул, и все замолкли, продолжая, тем не менее, искать пищу. Теперь до сумерек было опасно подавать голос.
Так прошло некоторое время. Вдруг взрослые кабаны услыхали вдалеке треск. Вспугнутые, они разом тревожно всхрюкнули, и этого было достаточно, чтобы их услыхала собака. С накаляющимся от ярости лаем она бросилась в сторону стада. За ней понеслась другая.
Взрослые звери повернули морды на лай, и секач клацнул клыками. Однако через мгновенье в ельнике началось замешательство. Двухлеток и свинья уже один раз уходили от собак, и уводил их секач. Тогда вожак также встал против лая и страшно взревел. Но вдруг грозный рык его надломился, кабан попятился, и молодёжь почувствовала в лае маленьких яростных зверей опасность. А кто, как не секач, десятки раз показывал, что от опасности надо спасаться бегом. Теперешний лай был ещё неистовей прежнего. Двухлеток и свинья повернулись. Перед ними была тропа, по которой они пришли ночью. Но там, куда она вела, звери недавно слышали треск. Взбив копытами землю, двое взрослых прыгнули в снежную нетронутость и побежали к болоту. За ними, утопая в снегу, бросились поросята.
Секач тоже почувствовал опасность в приближающемся лае. Но не собаки пугали его. Вздыбивший загривок, разъярённый, он был страшен. Броситься на них, и враги отбегут. Однако за ними кабан слышал одинокий голос, а эту опасность он уже встречал, когда однажды вслед за криком что-то громко лопнуло, и большая свинья из их стада задёргалась на снегу. Зверь повернулся, и когда за деревьями мелькнули собаки, прыгнул между ночным следом и тропой ушедшего стада. Враги были сзади. Враждебный треск перед этим раздался впереди. Кабан громадными прыжками понёсся на него, быстро уводя собак от опасного голоса.
* * *
Чем ближе накатывалась волна лая, тем беспокойней глядел в лес Волков. Он не мог понять, куда бежит зверь. То ему казалось, что ярость кипит на тропе, и тогда внутри у него всё обмякало, губы трогала беспокойная усмешка, и охотник зло косил глазом влево. То прозвонная лаята вроде бы шла на него, и Волков поднимал на неё ружьё, мышцы плеч туго набухали, а сузившиеся глаза шарили меж освещённых солнцем стволов по заснеженному перелеску.
Вдруг впереди треснуло, хрустнуло, потом зашуршало, как будто сквозь густые заросли тащили брезент, и Волков шагах в двадцати увидел кабана. Зверь тоже заметил охотника. Он на мгновенье замер. Позади него клубились собаки. Остервеневшие от близкого запаха секача, они злобно схватывали красными пастями морозный воздух и, казалось, вырывали куски из пространства, отделяющего их от кабана. Но едва тот повернул обрубленный клин морды, собаки раскатились в стороны. У секача задвигались клыки, и кастаньетный перестук рассыпался по лесу. В этот же миг под елью полыхнуло пламя, грохнул низкий гром, и грудь кабана прожгло. Секач храпко рявкнул. Опасный треск, вспугнувший стадо, был у ели. Зверь прыгнул к дереву.
Волков шатнулся назад. От закрасненного кровью снега кабан пролетел несколько метров; чёрной бомбой пал на ноги и коротко рыкнул. Это будто подстегнуло собак. В два прыжка Пират оказался рядом. К запаху секача примешивался горячий запах крови. Приподняв оскаленную пасть, Пират потянулся к заду зверя, и в эту секунду Волков в упор ещё раз выстрелил в кабана. Тот визгнул, дёрнул головой на охотника, но вдруг мгновенно повернулся и поддел собаку клыками. Пират взлетел в воздух, резко скрутился в клубок, как будто хотел отдохнуть на лету, и, уже падая, выгнулся в обратную сторону. Снег рядом с ним сразу покраснел. Тайга, дёргавшаяся в лае с другой стороны, захрипела, опала на задние лапы. Потом вертнулась, чтоб убежать. Кабан легко метнул тяжёлое тело к ней, лайка пронзительно завизжала, и Волков тут же увидел, как за кособоко ныряющей собакой потянулся кровавый след.
Всё это произошло в какие-то секунды. Волков едва успел переломить ружьё, вытащить гильзу из одного ствола, как секач снова повернулся к нему. Тёмно-бурая морда его была в крови, клыки, каждый длиннее патрона, бешено дробились друг о друга. Всё больше краснел истоптанный снег и вокруг кабана, но Волков вдруг понял, что ружьё зарядить не успеет. Их разделяло несколько шагов — и секунды прыжка. Этого не хватит даже для того, чтобы повернуть лыжи. Кабан захолмил спину, нагнул морду. Не отводя глаз от зверя, Волков инстинктивно покосился влево и увидел, как Слепцов вскидывает ружьё. Учитель понял: это спасенье. Сдвинувшись с намеченного Адольфом места к большой ёлке, он сошёл со стрелковой линии, и теперь Павел, а также Карабанов, могли стрелять в кабана, не опасаясь попасть ни во Владимира, ни друг в друга. Однако, кинув взгляд вправо, он увидел, что доктор даже не поднимает своего ружья. «Что же ты! — мысленно вскричал Волков. — Помоги! Ты ведь можешь!»
После второго выстрела учителя Карабанов решил, что зверь остановлен. Но как только кабан расправился с собаками и приготовился к прыжку на Волкова, доктор сжался от страха. Владимир был обречён. Карабанов видел переломленное ружьё учителя и понял: тому не успеть перезарядить его. Сергей сделал рывок, чтобы вскинуть своё оружие — кабан смотрелся крупной, отчётливой мишенью, но в этот миг вспомнил вчерашний взгляд Волкова, когда тот сказал о баррикадах. Это был взгляд не того человека, который все последние годы обожал Сергея, чаще других признавая его правоту, и которого сам Карабанов любил, как брата. Вчера вместо доброго, порою нежного и покладистого товарища доктор увидел вдруг жёсткого и непримиримого противника, способного, как подумалось Сергею, стать опасным врагом его — карабановского — дела.
Доктор остановил начатое было движение рук и опустил ружьё ещё ниже.
Но и со стороны Слепцова выстрела всё не было. Волков, не отводя глаз от кабана, снова скосил взгляд влево. К его потрясению, Павел тоже опустил стволы книзу. «Что ж они делают? — мелькнуло в мыслях. — Им ведь можно стрелять!»
Прежде чем Владимир увидел, он почувствовал движение кабана. Из бурой шерсти, как угли костра из опаленной травы, на него свирепо глядели красные глазки. У Волкова похолодела кожа под волосами и волосы стали какими-то чужими, словно вмороженными в голову. Он быстро прижал руку к животу, закрываясь от удара, и задел нож, висящий на поясе. Выхватил его и коротко взмахнул рукой. Всё остальное произошло одновременно. Нож почти на всё лезвие вошёл в левый глаз кабана. Секач душераздирающе заверещал и бросился на охотника. Но дикая боль в момент броска заломила ему голову влево, и он, визжа, промчал возле ног человека. Тот успел ткнуть патрон в освободившийся ствол, вскинул ружьё, готовый нажать курок, едва кабан повернётся. Однако зверь пробежал немного. Он вдруг встал, качнулся и рухнул на правый бок. Не спуская глаз с кабана, Волков вдруг зачем-то тронул пальцами лицо, торопко обежал подбородок, усы. Пальцы дрожали, и во рту была пресная сухота. Оторвав, наконец, взгляд от тёмного бугра, Волков глянул в сторону Карабанова с электриком и тут же увидел, как через болото, правее Нестеренко, уходит стадо. Тот, наверное, услыхал какой-то звук, повернулся и поднял ружьё. Но кабаны были далеко.
— Собаки! — крикнул Нестеренко. — Где собаки?
Учитель дрожливо усмехнулся: «Собаки… Отохотились наши собаки… Свободны теперь кабаны…»
— Готоов! — крикнул Слепцов Фетисову. Близко в лесу отозвался Адольф, где-то в стороне — Валерка. Они ещё не знали, что произошло с их собаками, и в гулких голосах слышалась явная радость от удачного завершения охоты.
«Готов», — подумал Волков, трусясь теперь всем телом и от слабости в ногах оседая спиной по стволу. Но вдруг заметил это и зло ощерил крепкие зубы. «Мужик должон стоять до последнего, — вспомнил он слова старшины Губанова. — А настояшшый мужик — дольше последнего».
Владимир пружинисто повернулся к поверженному врагу. Возле секача, потирая ладошки, уже шлёпал лыжами Фетисов.
— Ну, чего тут у вас произошло? — спросил немного запыхавшийся Нестеренко. Со своего места он видел какую-то часть картины. Когда бежал к собравшимся возле туши охотникам, задержался на «номере» Карабанова. Опытным глазом «прострелил» всю ситуацию.
— Ого-го, — покачал головой, глядя на торчащий из зверя нож. — Сурово…
— Кто-то из нас двоих должен был… Получилось, что он, — проговорил Волков.
— За жизнь, старик, надо драться насмерть. А ты почему не стрелял, Сергей?
— Засомневался.
— В чём?
— Ну, мало ли… Там Володя близко стоял.
А сам отвёл глаза, стараясь не встречаться взглядом с Волковым.
— Врёшь, Карабас. У тебя была прекрасная возможность.
— Такая же, как у Слепцова, — опустошённо заметил учитель. — Ты-то почему, Паша, не стрелял? Тебе-то зачем, чтоб меня кабан разделал?
Даже если бы Павла начали пытать, он вряд ли смог бы сейчас внятно объяснить, почему опустил поднятое для выстрела ружьё. В те мгновенья в сознании пронеслись какие-то разрозненные, вроде случайные, но почему-то определённого окраса видения. Улыбающийся, счастливый Владимир и прильнувшая к нему на кухне Наталья, когда Слепцов рассказывал товарищу про оборонный комплекс. Она не всё время была с ними — то и дело уходила к дочери в другую комнату, но каждый раз, возвращаясь на кухню, чтобы налить мужчинам кофе, подложить Павлу печенья, с какими-то словами обязательно старалась или дотронуться до красивых волнистых волос мужа, или погладить его сильное плечо. И тут же в мыслях вставало лицо бывшей жены — брезгливо перекошенное, с ненавидящими зелёными глазами. Потом сын… Мать уводит его за руку к стоящему такси… Сын оборачивается, смотрит непонимающим взглядом на отца, и в глазах его — недетская мука.
— Ему сова на ружьё села, — с насмешкой сказал Нестеренко, который не поверил, что Слепцов имел возможность защитить товарища и не сделал этого. «Наверно, Франк стоял на линии выстрела», — подумал он. А вслух строго произнёс:
— Накаркал ты со своей совой. Чуть было не вышло по твоим приметам.
В этот момент раздался вопль Адольфа. Выйдя из леса, он увидел растерзанного Пирата. А следом заорал Валерка. Тайга была жива. Она лежала вблизи корней вывороченного дерева и зализывала рану на ноге.
После шумных возмущений Адольфа — гибель собаки оказалась для него вроде смерти близкого человека, и причитаний Валерки — его Тайгу Карабанов хорошо перевязал бинтом, который всегда носил с собой, добыча никого не радовала. Пока Николай и Фетисов снимали с кабана шкуру, разделывали тушу на крупные куски, Валерка сходил на лыжах в деревню за трактором, на котором позавчера привёз охотников.
На этом же тракторе, в тележке, он повёз городских к их машинам. Говорить никому ни о чём не хотелось. Перед тем они под руководством Адольфа выкопали в мёрзлой земле могилку для Пирата. Кто был не за рулём — Фетисов и Нестеренко — выпили с егерем и его помощниками.
— Какой работяга был! — не замечая горечи водки, пробормотал Адольф. — По человеческим годам — лет тридцать пять. Самый возраст мужика… Никого не боялся.
— Прости, Адольф. Моя вина. Не взял двумя пулями.
— Его из пушки надо было. Не вини себя, Володя. У-уй, какой надёжник был!
Волков снял с ремня ножны с ножом.
— Возьми. На память.
— Не надо. Я и так не забуду. Сделаю из башки кабана чучелу. А ты оставь. Сезон кончился, но не жисть.
Он хмуро глянул на Слепцова.
— Будем считать, эт самое плохое из предсказаний его совы.
— Да ну его на хрен, с его совой, — положил руку на плечо егерю Нестеренко. Он почему-то вдруг подумал, что обвинение Волковым Слепцова, скорее всего, справедливо. Только непонятно, что случилось с Пашкой? Почему он не стрелял?
— Я тебе достану щенка. От сибирской лайки. Мы ж ещё увидимся?
— Там глянем. Война план покажет.
Часть вторая
Глава первая
Наталья Волкова — тридцатичетырёхлетняя, уверенная в себе женщина, с классической фигурой (рост чуть выше среднего, бёдра шире плеч, груди заметного размера, что вызывало зависть у некоторых тощих её коллег), с лицом, слегка тронутым макияжем, и светло-каштановой причёской, заколотой сзади, отчего открывалась изящная шея, вышла из кабинета главного редактора озадаченная. Она не сразу поняла, что он от неё хочет. Главный сам выбрал избирательный участок, откуда Волкова должна была написать репортаж о голосовании в ходе референдума. Немногими словами Наталья показала атмосферу происходящего на участке, сумела разговорить с десяток человек после их выхода из кабинок — её цепкость не раз выручала редакцию, выбрала из нескольких почти одинаковых мнений самые интересные и при этом уложилась в строгие рамки заданного размера, что особенно требовал соблюдать главный редактор. И вот теперь он сказал, отбросив в сторону прочитанный материал, что это не то, чего от неё ждали.
— Нет реальных людей. Борис Николаич призвал голосовать против сохранения Союза. А у тебя все «за». Мы же знаем: многие обещали поддержать призыв Ельцина. Где они? Мы должны показать их.
— Может, где-то они голосовали «против», Грегор Викторович. Вполне возможно, и на этом участке. Но мне надо было тогда опросить всех. Полторы тысячи.
— Зачем? Ты што — маленькая девочка? Не знаешь, как это делается, и не понимаешь, чево от нас ждут? Активная часть общества не хотела референдума. Консерваторы настояли на нём. Пусть они узнают мнение людей. Не из их «Правды» и «Советской России», а из демократических изданий. Ты не смогла встретиться с противниками Союза. Не спорь, не смогла. Но они там должны быть, и их надо показать. Просто имена. Можно без фамилий… Даже лучше без фамилий. Это будет обобщённый народ.
Наталья вошла в комнату, на дверях которой была прикреплена табличка: «специальные корреспонденты». Таких кабинетов в редакции было два, и нигде рядом с табличкой не значились фамилии спецкоров. В отличие от других комнат, двери которых украшали и должности сотрудников, и их фамилии. Специальные корреспонденты возводились в это звание и выбрасывались из него порой после одной-двух публикаций. Решение принимал быстрый на оценки главный редактор, и приговор обжалованию не подлежал. Низвергнутый сотрудник переселялся вместе со своими блокнотами, магнитофоном и прочим скудным скарбом в большую общую комнату, где сидели, в зависимости от настроений главного редактора и его оценок работы, пять-семь человек.
Волкова, по сравнению с другими, надолго задержалась в кабинете с безымянной табличкой. Дольше неё в этом звании пребывала только Вероника Альбан — соседка Натальи по комнате. В редакции пугливо шептались о причине благосклонности главного редактора к этой тридцатишестилетней незамужней женщине. Любовная связь отбрасывалась абсолютно. Высокий, подтянутый, хотя и стареющий, но всё ещё молодящийся Грегор Викторович Янкин был избалован женскими увлечённостями. А пожив до начала перестройки несколько лет в Праге, где работал в международном (но финансируемом Советским Союзом) журнале социалистической тематики, он узнал, к тому же, утончённость европейской любовности.
Причина благосклонности была в ином. Вероника Альбан — фигурой мужеподобная женщина, с широкими, костистыми плечами, с большими и в любое время года красными кистями длинных рук, имела не только приятное, можно даже сказать — красивое лицо и буйные, от природы вьющиеся волосы, но и хватку пантеры. Она решила женить на себе давнего друга Грегора Викторовича, трижды разведённого, талантливого, пятидесятисемилетнего обозревателя одной из центральных газет. Дело тянулось долго, кандидат в мужья время от времени выскальзывал из цепких объятий Вероники, однако при этом не переставал писать за неё статьи и просить друга о благосклонности.
Сейчас у Альбан с жертвой был период «мира в саванне», когда охотница сыта, а обречённое парнокопытное полагает, что дремлющая на солнце пантера это всего лишь добрая киска.
— Ну, чего Грегор от тебя хочет? — спросила она, увидев сосредоточенное лицо вошедшей соседки. — Не проникла в его великие замыслы?
— Не нашла противников сохранения Союза.
Наталья неохотно полезла в сумку за диктофоном.
— А может, их там действительно нет? — с сомнением проговорила она.
— Значит, надо придумать. Помнишь известное выражение: цель оправдывает средства?
— Да, конечно. Девиз иезуитов.
— Нам с тобой наплевать, чей это девиз. Главное — он сегодня актуален. Если нет противников Союза, мы должны их придумать. Показать другим — вот: смотрите! Вы колеблетесь, боитесь сказать своё решительное слово… А такие люди уже есть. Подтягивайтесь к ним. Как там изрекал любимый автор нашего Грегора?… Ульянов — Ленин… Газета — коллективный организатор? Вот мы и должны организовать. У «совка» особая психология. Верить тому, что написано в газете. Тем более, если критикуется власть.
— Я тебе говорила, Вероника. Не переношу этого слова: «совок». Мерзкое оно. Грязное. Меня лично оскорбляет.
— Забыла, забыла, — усмехнулась Альбан. — Но о цели помню. Сейчас информация становится самым сильным оружием. Мы можем одним сообщением взорвать дремотную обстановку… заставить власть трястись от злости… Пока от злости… Потом — от страха. Но для этого надо белое представить чёрным… И не комплексовать. Я сдала Грегору свой репортаж. В нём только один человек проголосовал за сохранение Союза. Остальные — я придумала пять человек… они у меня — «против». Один — мне самой понравилось — так хорошо говорит: «Пусть разваливается империя. Мы на её обломках выстроим процветающую Россию».
— Это твои мысли?
— Не только. Это идеи Грегора… А у него, думаю, от других…
— Зачем это нужно? Газета всё равно выйдет после референдума. Результаты будут известны без нашего влияния.
Вероника Альбан иногда представлялась, как Ника. Некоторые думали — сокращает имя для удобства. Но Волкова догадалась: соседка любит его больше, чем паспортное. Это было имя древнегреческой богини Победы, и по-мужски сложенная женщина видела в нём перст судьбы. Стараясь следовать предначертанию, Альбан приучила себя говорить громко, с командными интонациями даже там, где требовалось что-то неясно прошептать. При этом последнее слово старалась всегда оставить за собой.
— Во-первых, ты знаешь, мы боремся против референдума с момента решения о нём Съезда народных депутатов СССР. Призыв Ельцина читала? Читала. Союз не нужен. Это — концлагерь народов. Бесконечный Гулаг. И больше всего Советский Союз не нужен России. Русским! Они пострадали от этой политической системы сильнее всех. О чём мы не перестаём говорить и писать. А, во-вторых, чем больше мы покажем противников сохранения Союза, тем больше оснований поставить под сомнение результаты референдума. Партократам надо будет оправдываться. А это ещё один… и о-очень хороший повод не верить власти.
— Чем же тебе так нагадила страна, где ты выросла? — не сдержав раздражения, спросила Наталья. — Я, наоборот, проголосовала за Союз. Империей можно назвать что угодно. Даже Соединённые Штаты. Одного только не понимаю: как нам государство даёт деньги… Даёт, чтобы мы это государство разрушали.
— Поглядела бы я, как ты пожила б на их деньги, — тряхнула чёрной красивой гривой Альбан. — Как бы купила новую машину. Одевала себя… Дочку… Мужа. К счастью, мир не без добрых людей. Нас выписывают не только в Союзе. За границей тоже хотят знать, что здесь происходит. Оттуда идёт информация и… очень большие деньги.
— Значит, мы на чужие деньги роем могилу нашей стране?
— Мы утверждаем гласность! Создаём демократию. Хотим ликвидировать тоталитарный режим. Для этого можно использовать все средства. Думаешь, целые поезда с шахтёрами едут в Москву на деньги этих чумазых шахтёров? А живут они здесь в гостиницах… стучат касками по асфальту — на свои сберкнижки? Они бы с места не тронулись! Им говорят, что надо делать. Дают деньги. Нам помогают построить новое государство. И не важно, чьи это деньги.
Она внимательно поглядела на коллегу.
— Или ты считаешь по-другому?
— Представь себе, по-другому.
Наталья, как все остальные, знала об особых отношениях Альбан с главным редактором. Подозревала, что Вероника информирует друга своей жертвы о разговорах в редакции. Однако её благосклонности, подобно некоторым, не искала. По мелочам умела промолчать, могла ловко, когда считала нужным, уйти от провокационной темы, но, если речь заходила о чём-то принципиальном, не слишком оглядывалась по сторонам. Так происходило уже не раз. Особенно во время тбилисских событий и карабахского конфликта. Дважды Грегор Викторович хотел не только перевести Волкову из специальных корреспондентов, но и выгнать из редакции — его демократические принципы руководства отвергали «излишне гуманные» советские законы о труде. Но что-то всякий раз удерживало Главного. Лишь позднее, как человек проницательный, он понял: останавливало ощущение полной безбоязненности с той стороны. За годы руководства разными коллективами он привык к несопротивляемости человеческого материала, к слегка прикрытой, а чаще откровенной прогнутости. С имеющими власть и сам был таким же. Поэтому, властью располагая, с людьми не церемонился. Причём даже больше, чем это проявлялось по отношению к нему.
А тут была какая-то нетронутая, прямо-таки наивная безбоязненность. Словно у туземца, впервые увидевшего направленную на него винтовку и не подозревающего, что из этой красивой палки может грянуть опасность.
Потом Грегор Викторович с удивлением ощутил и другие импульсы в своём отношении к Волковой. Не понимая почему, он вдруг стал обращать внимание на её фигуру, когда Наталья выходила из кабинета или случайно попадалась на глаза в коридоре редакции. Невольно отводил взгляд, встретившись с её взглядом. Прожжённый циник, ловкий умница и пресытившийся донжуан он даже разозлился на себя однажды, заметив в себе такие перемены. Поразмыслив над происходящим, Грегор Викторович успокоил свои смятения. «Разок возьму, а там сама будет проситься».
Тем не менее, со взятием не получалось. После одного наиболее фривольного словесного приступа — с расспросами о муже, с намёками на свободную любовь, с откровенным приглашением в примыкающую к кабинету «комнату отдыха» и вроде случайную попытку обнять, он вдруг увидел в её вежливо улыбающихся глазах такую брезгливость, что не смог даже достойно выйти из этой ситуации. Только пробормотал: «Иди, иди», и обмякше пал в своё кресло. Его чуть не задушила злость на эту паскудную бабу. «Выгоню!» — решил в тот же вечер.
До самого позднего сна, а засыпал он в последнее время долго и трудно, Грегор Викторович видел в мыслях картины, как он расправится с Волковой. Объявит на заседании редколлегии, что уволил её. Нет, надо не при всех. Надо ей одной это объявить. В своём же кабинете. Увидеть, наконец, испуг на красивом лице, а в тех самых жёлто-карих глазах, где плеснулась брезгливость, готовность сделать всё, чтобы загладить нанесённую обиду.
Однако утром Главный понял: если Наталью уволит, та не пропадёт. Зато он лишится возможности отомстить ей после приручения.
* * *
Но Волкова сама уже не раз подходила к мысли — уйти из этой редакции. Когда-то она очень хотела попасть сюда. Писала в газету, работая на телевидении. Ещё активней стала сотрудничать, оказавшись на короткое время в профсоюзном журнале.
Это было начало крутых перемен. Назначение главным редактором Грегора Викторовича Янкина, в прошлом немного скандального, потом основательно подзабытого журналиста, специализирующегося в последние годы на толковании ленинских работ, быстро изменило тусклую, заурядную газету. Одни считали это заслугой только Грегора Викторовича. Другие, отдавая должное бульдожьей хватке «верного ленинца», его способности выжать из человека всё необходимое для редакции, а главным образом, для себя лично, со снисходительной улыбкой называли иную причину — стечение обстоятельств. Просто Грегор Викторович оказался со своими способностями на нужном месте в нужное время. Для верности этого тезиса советовали оглянуться хотя бы на его недавнюю биографию. Вытащенный перестройкой из забвения, он продолжал с воспалённым энтузиазмом перетолковывать на страницах большой центральной газеты известные строки ленинских работ, доказывая историческую несокрушимость социализма и гениальную проницательность своего кумира. Особой признательности читателей не получил. Если не считать награды Института марксизма-ленинизма в виде отлитого из силумина настольного бюстика вождя мирового пролетариата.
Некоторое время этот бюстик стоял на столе Грегора Викторовича рядом с телефоном АТС-2, так называемой «второй вертушкой». Была ещё одна АТС правительственной связи — «первая вертушка», но к ней имел доступ совсем ограниченный круг лиц. Впрочем, и «вторая» ставилась избранным. Среди аккуратных условий, сдержанно оглашённых кандидатом в главные редакторы, была просьба поставить телефон АТС-2.
На почётном месте бюст Ленина простоял недолго. Сначала Грегор Викторович передвинул его в дальний угол стола — за баррикады из бумаг. Затем спрятал в верхний ящик. А однажды Наталья Волкова, отстаивая свой материал о виновниках карабахского конфликта, вдруг увидела, как Главный вынул бюст из стола и начал разбивать им грецкие орехи. При этом, между рассуждениями о гласности и демократии, пояснил ей, что нижней частью бить нельзя — отколется. Надо головой. «Самая крепкая часть у вождя — голова».
К тому времени Грегор Викторович Янкин окончательно избавился от своих «заблуждений». Перестройка трясла и качала страну, как состав, несущийся неизвестно куда по разбираемым впереди путям. Решив, что в огромном государстве с сильным инерционным сопротивлением крутые реформы можно провести одним махом, Горбачёв отказался от той этапности преобразований, к которой подходил Андропов и какую уже не первый год осуществлял в Китае Дэн Сяопин. Результатом стало быстрое разрушение финансовой системы, экономики, стремительно растущий дефицит самых необходимых товаров, социальное напряжение в обществе.
Видя, что за три с лишним года перестройки жизнь в стране не улучшается, а, наоборот, становится хуже, Горбачёв стал искать виновников и причины. Виноватыми объявил «ретроградов», тормозящих перестройку, а причинами назвал недостаток демократии, гласности и задержку политических реформ.
Это заявление с радостью поддержал Александр Яковлев. Ближайший соратник генсека, он для одних был главный идеолог перестройки, для других — её «серый кардинал».
Спустя некоторое время его назовут иначе: советский Иуда. Но до той поры Александр Николаевич, по сути, второе лицо эпохи перемен. План кардинальных реформ в стране он предложил Горбачёву ещё в 1985 году — сразу после «коронации» нового Генерального секретаря. Тогда Горбачёв сообразил: «Рано пока». Однако поставил Яковлева на очень важную должность: заведовать отделом пропаганды ЦК Компартии. Через несколько месяцев повысил до секретаря Центрального Комитета. Вместе с другим секретарём ЦК — Егором Лигачёвым — поручил отвечать за идеологию, информацию и культуру. «Две руки» генсека недолго трудились согласованно. «Правая» — Лигачёв — сначала втянул Горбачёва в антиалкогольную кампанию. Потом стал раздражать всё более критическим отношением к ходу перестройки, её информационным обеспечением. В то время как другая «рука» набирала силу и влияние, манипулируя выходящей на передний план гласностью.
Первое время гласность воспринималась обществом, как очередная кампания критики отдельных недостатков в отдельных звеньях Системы. Это было привычно и понятно. Даже когда началось сдержанное осуждение предыдущего времени застоя, народ не особенно взволновался. Такое тоже было. Хрущёв критиковал Сталина. Брежнев — Хрущёва. Теперь настала пора пожурить «Бровеносца в потёмках», как в последние годы жизни острословы называли Брежнева.
Однако вскоре картина стала круто меняться. Известно, что народ без истории — стадо. А народ, чья история — жизнь убийц, ублюдков и рабов — стадо злобное и опасное. Средства массовой информации, ещё недавно отстаивающие толерантность, интернационализм, уважение к прошлому страны и отдельным её этапам, вдруг резко поменяли полярность. Даже далёкие от пропаганды люди не могли не заметить, что произошло нечто необычное. В прежней, досоветской истории государства, все известные личности — цари, полководцы, деятели духовности и прогресса — внезапно обрели такие черты нравственного и человеческого разложения, что народу, главным образом, русскому, надо было не гордиться своим прошлым, а стыдиться его. Это и стало откровенно предлагаться со страниц печатных СМИ и телеэкранов.
Но ещё более зловещим начали представлять средства массовой информации весь советский период. Сначала главным врагом был объявлен Сталин. Дескать, он исказил идеи Ленина о настоящем социализме. Его поочерёдно громили сперва хрущёвской «оттепелью», потом нэпом, затем Бухариным, которого показывали фигурой, равной Ленину, и, разумеется, борцом со Сталиным.
Когда экономический, идейный и управленческий демонтаж расшатал страну до треска её несущих конструкций, прикрытия были отброшены. Теперь главным врагом всех народов Советского Союза «демократическая общественность» объявила существующий государственный строй. И уже не скрывая целей, в открытую заговорила о необходимости «разрушить советскую империю».
Наталье Волковой с каждым месяцем работать становилось трудней. Приезжая домой, она рассказывала Владимиру про свои споры на «летучках», всё более частые разногласия с ответственным секретарём и главным редактором. Муж стал заметно политизированным, ругал, почти словами Нестеренко, демократов, предлагал бросить эту газету. Чтобы успокоить его, Наталья соглашалась. Но сама понимала, что выбор у неё небольшой. Средства массовой информации, имевшие всего несколько лет назад одинаковый политический окрас, теперь чётко разделились по своим идейным и целевым пристрастиям. Это определяло людской интерес к ним, уровень их популярности. В большинстве газет и журналов коммунистической ориентации, несмотря на резко изменившуюся обстановку, царила прежняя мундирная застёгнутость на все пуговицы, преснота языка и манеры изложения, какая-то, по едкой оценке Владимира, «стреноженность хромой лошади».
Под стать своей прессе было и большинство партийных функционеров. Слушая их, Наталья чувствовала тревогу. Эти люди, похоже, не знали, как бороться и за что именно. Они не наступали, а оборонялись. Всё, что могли предложить — был горбачёвский «социализм с человеческим лицом». Однако ставший к этому времени сомнительным лозунг дискредитированного политика, с огромным напором, умело и беспощадно рвали в клочья средства массовой информации другой политической стороны. Той, где оказалась сама Волкова, и агрессивная отвязность которой становилась явно угрожающей.
Как могло произойти, думала Наталья, что за короткий срок в стране появилась совершенно иная, чем прежде, журналистика? Откуда взялись все эти люди, которых вчера никто не знал, а сегодня их фамилии известны миллионам? Не завезли ведь из других стран? И не вырастили ускоренно в специальных школах?
Не завезли, мысленно отвечала она себе, зная многих журналистов лично. Так же, как сама Наталья, они и раньше работали в тех же газетах и журналах, на том самом телевидении и радио, откуда разносятся их слова сегодня. Тогда чем объяснить такую метаморфозу? Размышляя над этим, Волкова приходила к однозначному ответу. Провозгласив гласность, как оружие перестройки, Горбачёв снова не просчитал возможных последствий.
Глава вторая
Сам термин «гласность» был придуман совсем не Горбачёвым и даже не Яковлевым. Он появился в России ещё при Александре Втором и относился больше к государственному управлению. К прессе получил отношение перед Октябрьским переворотом 1917 года. После чего кричавшие громче всех о свободе слова большевики немедленно уничтожили многоголосие, и на протяжении десятилетий тысячи «рупоров» говорили одним голосом. Поэтому появившаяся возможность критиковать недостатки на работе, проблемы повседневной жизни и даже действия властей была встречена огромным большинством людей как освежающий дождь в душный день.
Особенно послабление диктата обрадовало журналистов. Абсолютное большинство их не были ни диссидентами, ни тем более ярыми антисоветчиками. Понимая своё призвание, как борьбу за улучшение жизни в стране, защиту несправедливо обиженных, критику бюрократии и партийной косности, они постоянно наталкивались на противодействие и запреты говорить даже не в полный, а хотя бы вполовину голоса. Причём запреты эти, порой абсурдные, исходили не только от каких-то далёких, неведомых цензоров. Незадолго до смерти Брежнева на телевидение, где работала Наталья Волкова, прислали нового главного редактора. Приятный лицом, со вкусом одетый сорокалетний мужчина пришёл из отдела пропаганды горкома партии. Первое, что запретил употреблять в передачах, было слово: «по-прежнему». Особенно — в сочетании с какими-либо недостатками. Стали допытываться: почему? Объяснил: можем бросить тень на Леонида Ильича. Скажет участник передачи: «по-прежнему плохо работает баня номер два», а у народа — ассоциация с фамилией Генерального секретаря.
Страдая и раздражаясь от всевозможных запретов, которые создавали «зоны вне критики», а по сути усиливали недоверие к официальной пропаганде даже, когда она говорила правду, журналисты, как никто другой, встретили новое явление с энтузиазмом. И настолько поверили в это лекарство оздоровления, что иногда слово «гласность» стали писать с большой буквы.
— Мы с вами, Наталья, вроде Диогенов, — сказал как-то Волковой журналист из большой центральной газеты Виктор Савельев, с которым она постоянно встречалась на разных мероприятиях. — Только тот днём ходил с фонарём… Искал хорошего человека… А мы в сумерках… перед рассветом… Несём каждый по баночке с керосином. Потом туда вставят фитилёк… Зажгут… Я даже вижу эти тысячи людей с огоньками в руках… Идут цепочкой… друг за другом. Разные. Но больше всего нас — журналистов. Каждый несёт свою баночку, штобы осветить дорогу к новой жизни.
Если б об этом сказал кто другой, Наталья сочла слова слишком выспренними. Но Виктора она знала, по нынешним спрессованным временам, очень давно. Сначала только читала его статьи в популярной газете, где Савельев работал. Потом познакомились на заседании какого-то «общества трезвости» — тогда только начинала разворачиваться антиалкогольная кампания. Позднее встречались на других мероприятиях. Несколько раз оба участвовали в передаче Центрального телевидения «Прожектор перестройки», куда их приглашали, как известных журналистов.
Савельев был из тех, кто искренне хотел обновления страны и кто страстно поверил в это с приходом Горбачёва. Его, как многих журналистов, не устраивала политическая фальшь общественного устройства, цензурный пресс, заставляющий замалчивать широко известные в народе негативные процессы, одним из которых стало перерождение партийной номенклатуры, особенно в кавказских и среднеазиатских республиках. Разве это выборы? — думал он, когда писал репортаж о выдвижении единственного кандидата и о голосовании за него одного. Почему люди сами не могут назвать тех, кому доверяют, и не выбрать из нескольких лучшего?
А то, что стало открываться во властной среде некоторых национальных республик, было не менее жутко, чем преступления мафии в многосерийном итальянском фильме «Спрут», показанном на советском телевидении в 1986 году. Это Савельев сам узнал, начав, как журналист, расследование теневой, преступной жизни национал-партократов в Южном Казахстане. При обыске у одного из первых секретарей райкома партии нашли в трёхлитровых банках полтора миллиона рублей, сто килограммов конфет и несколько ящиков чая, который к тому времени уже сгнил от долгого хранения.
В другой области на юге Казахстана, первый секретарь обкома партии — Герой Социалистического Труда, кавалер пяти орденов Ленина, прославленный в фильмах и брошюрах, по оперативным данным, получил взяток почти на два миллиона рублей.
Этот секретарь обкома был вершиной местной пирамиды. Своего рода преступным «авторитетом», под крылом которого криминал захватил все важные отрасли.
Особенно бурно разрослось беззаконие в сфере высшего образования. Ректор местного института, почти не скрываясь, брал взятки за поступление в вуз людей определённой категории. Это была молодёжь из одного с ним жуза — так называются у казахов крупные объединения родов. Всего их три — Старший жуз, охватывающий территорию как раз Южного Казахстана, Средний и Младший. Ректор принимал в студенты молодых людей, не способных, как потом выяснилось, подтвердить свои знания даже за восьмой-девятый классы.
Тем не менее, они становились студентами, с помощью взяток «переходили» с курса на курс, а «закончив» таким способом институт, занимали руководящие должности и выгодные места, оттесняя людей, не принадлежащих к клану.
Статья Савельева об опасном для многонационального государства явлении, которому он дал имя «национал-протекционизм», вызвала множество писем и звонков. Люди подтверждали, что и в других республиках происходит нечто подобное. Поэтому для Виктора было естественным, что в начале перестройки он оказался энергичным сторонником горбачёвских реформ.
Но он же потом, первым в редакции, публично заявил о необходимости критического взгляда на действия Горбачёва после трёх лет его преобразований. Съездив незадолго перед тем с одним из руководителей редакции в командировку в Китай, Виктор был поражён темпами нарастающих там перемен. О том, какой нищей и разорённой была страна при маоистах, до прихода к руководству Дэн Сяопина, он много читал не только в открытой советской прессе, но и в изданиях ТАСС для «ограниченного круга». Теперь увидел гигантскую стройку и немало такого, чему мог позавидовать Советский Союз. Новые широкие автострады — пока ещё полупустые, но готовые к росту автомобилизации. Высотные здания, как в западных городах. Японские телевизоры китайского производства. Строящиеся автомобильные заводы. Магазины, полные китайских продуктов и с большинством промышленных товаров своего производства. «Социализм с китайской спецификой» быстро поднимал огромную отсталую страну, если ещё не на экономические вершины, то уже на явно различимые холмы благополучия.
А горбачёвская перестройка делала наоборот. И потому, выступая на еженедельной редакционной «летучке», Савельев сказал:
— Сегодня мы видим: пока наш лидер вроде бы не плох. Но это не значит, што всё, што он делает сейчас, а тем более станет делать в будущем, абсолютно хорошо. И если мы не будем бороться за то, штобы говорить критические слова лидеру партии, может оказаться, што кто-нибудь из сидящих здесь доживёт до того дня, когда снова надо будет критиковать ушедшего в мир иной, но допустившего очередную порцию ошибок. Штобы человек не сбивался с пути (а любой лидер — тоже человек), надо постоянно зажигать «фонари критической острастки». А уж про критику правительства и говорить не стоит! Она нужна и обществу, и правительству.
Савельев знал: в редакции не он один думает так же. Но тон в большом коллективе задавали осторожные. Раньше они были осторожны относительно Брежнева. Хвалили написанные за него книги, старались не отстать от «первой» центральной газеты в публикации снимков с очередным награждением престарелого генсека, не вставали, а вскакивали на редакционных партсобраниях, когда предлагалось «избрать почётный президиум в составе Политбюро во главе с товарищем Леонидом Ильичом Брежневым». Савельева особенно удивляла нелепая конструкция фразы: «с товарищем Леонидом Ильичом».
Теперь они держали нос по новому ветру, не дозволяя усомниться в правильности действий Горбачёва. И самым изощрённым обладателем «политического обоняния» был один из четырёх заместителей главного редактора сорокадвухлетний Никита Бандарух.
— Мне кажется, это легкомысленный призыв: давайте критиковать Горбачёва и прочих руководителей, — сказал он осуждающим тоном. — Давайте сражаться за дело — тем самым мы будем противостоять людям, которые делу мешают.
— Интересно, как можно противостоять кому-то, не называя его? — спросил, не вставая с места Савельев. — Опять безликие виноваты?
Заместитель главного даже не посмотрел в его сторону. Продолжал для всех:
— И потом — будем реалистами: во-первых, мы ещё не достигли такой степени гласности, когда такое можно, а, во-вторых, в нынешней ситуации наскоками на лидеров мы не поможем, а помешаем перестройке.
Никита Семёнович Бандарух был родом из маленького городка на самом западе Западной Украины. О его прежних работах знали немного. Называли разные газеты. Известно, что какое-то время был корреспондентом в небольшой, но важной европейской стране. Говорил он негромко, вкрадчиво. Улыбался, не раскрывая рта — только растягивал сжатые губы. При этом глаза — чёрные, с маленькими ресницами на веках, оставались настороженными, словно человек боялся что-то выдать. Товарищ Савельева по бане и биллиарду, сам недавно возглавлявший ту газету, откуда пришёл Бандарух, однажды в большом подпитии рассказал Виктору, что лично подписывал своё согласие Комитету госбезопасности СССР об открытии корпункта в маленькой, но важной стране, для возможного прибытия туда их человека в качестве корреспондента газеты.
Стал ли этим человеком Бандарух или кто другой, Савельеву было безразлично. Разведки всех стран мира использовали «крышу» журналистики для своих сотрудников. Виктор сам был знаком с некоторыми зарубежными корреспондентами их газеты, про которых знал, что эти обаятельные, коммуникабельные парни, способные встретить и угостить, интересно показать спецкору из Москвы страну пребывания, чаще пишут в «контору глубокого бурения», чем в редакцию.
В Бандарухе Савельева раздражали два качества — открытая неприязнь к каждой статье, где говорилось о проблемах русских, и флюгерное мастерство в точности показывать направление властного ветра. На той «летучке», где выступил Савельев, обозреватель вышедших номеров газеты критиковал материал, автор которого назвал тревожный факт, но не стал его анализировать.
— В корреспонденции приведена интересная статистика. В Советском Союзе увеличивается выпуск стиральных машин. Мы производим их больше, чем США. А в продаже их нет. Я, как потребитель, прочитав этот материал, вправе спросить: кто врёт? Статистика или газета? А если не врут, то где стиральные машины? Их оставляют на заводе? Вывозят за границу?
Обозреватель взял со стола, где были разложены газеты, какой-то лист бумаги.
— Вот пишет в редакцию сталевар с «Уралмаша». Удивляется, што происходит в торговле. «Три года назад телевизорами были заставлены полки магазинов. Сейчас их нет. Тогда, может, надо ввести талоны на них», — предлагает читатель.
— Мало ли што могут предложить нам читатели, — аккуратно заявил Бандарух. Он вёл «летучку», как заместитель главного редактора, и комментировал каждое выступление.
— Давайте дождёмся 19-й партконференции. Там Михаил Сергеевич скажет, што нам делать. Это будет, я уверен, новая серьёзная программа нашей партии. Выверенная. Обдуманная. Её тогда и надо будет поддержать письмами читателей.
* * *
В Советском Союзе все государственные решения стратегического характера начинали исполняться только после обсуждения и одобрения их единственной правящей партией, руководящая роль которой была отражена даже в Конституции страны. Самые главные документы принимались на съездах КПСС. Между съездами тоже могли быть приняты масштабные решения. Их «узаконивал» на своих пленумах Центральный комитет. Он считался расширенным рабочим органом партии и собирался по необходимости, в отличие от постоянно действующих Секретариата и Политбюро.
В Уставе была также предусмотрена возможность созывать Всесоюзные партийные конференции — нечто вроде уменьшенного съезда, но этим с 1941 года ни разу не пользовались.
Через три года после начала перестройки многие почувствовали: ситуация в стране даже по сравнению с предыдущим временем стала хуже. Видел это и Горбачёв. Сопротивление нарастало. И хотя он сменил уже три четверти первых секретарей областных и республиканских комитетов партии, вновь приходящие, в большинстве своём, уже не так восторженно слушали генсека и глядели на него. Горбачёв понял: то, о чём ему сначала осторожно, потом всё настойчивей говорил Яковлев, пора начинать делать.
— Демократизация политической системы, — в очередной раз негромко внушал Яковлев, заглядывая сбоку в лицо генсека, — придаст новый импульс перестройке.
Они шли по коридору в кабинет Горбачёва, и Яковлев, стараясь не отставать от быстро идущего руководителя, хромал сильнее обычного. Он презирал этого импульсивного, много говорящего, но нерешительного человека. Иногда Александру Николаевичу казалось, что Горбачёв вот-вот «сорвётся с катушек», как говорили у него на родине — в Ярославской области, где он начинал свою партийную карьеру, и повернёт к «правым». К этому мастодонту Лигачёву, мрачным военным, к вежливому, но коварному председателю КГБ Крючкову. О последнем — Яковлев не мог думать без внутренней дрожи. Так и виделся ему в сухой улыбке Крючкова какой-то вопрос, который тот не может пока задать из-за субординации.
— Вы уже много сделали, Михаил Сергеич, — продолжал «серый кардинал» и, увидев, что на лице Горбачёва появилась довольная улыбка, тоже улыбнулся своим мыслям. — Место в истории вам заготовлено… Его никто никогда не займёт. Реформа этой… нашей политической системы давно назрела — вы сами не раз говорили об этом.
— Съезд надо ждать. Без съезда такие решения невозможны. А он не скоро.
— Зачем съезд, Михаил Сергеич? Устав разрешает быстро собрать конференцию. Со времени Сталина их не проводили. Брежнев однажды хотел, но почему-то передумал. А вы и здесь будете новатором.
19-я партконференция начала работать в последних числах июня 1988 года. Грегор Викторович Янкин тоже был делегатом. Но не от Москвы. Он знал: если ото всех живущих здесь партийных функционеров и правительственных чиновников, народных артистов и писателей, главных редакторов центральных СМИ и академиков избирать нужное количество делегатов, получится сильный столичный «перекос». Поэтому многих москвичей вкрапляли в делегации из других мест.
Грегор Викторович стал делегатом от одной из областей Узбекистана. Он не очень хотел, чтобы его фамилия связывалась с этой среднеазиатской республикой. Там следователи Генпрокуратуры раскручивали «хлопковое дело» с масштабными приписками и взятками. Нити вели к руководителям республики.
Янкин был уверен, что его не только тут могли бы назвать своим делегатом на конференцию. Заиметь короткие отношения с главным редактором самой скандальной и популярной газеты, тем самым в какой-то мере обезопасив себя, захотели бы руководители многих областей. Однако в Аппарате ЦК решили, что полезней «повязать» его именно с Узбекистаном.
О чём будет доклад Горбачёва, Грегор Викторович знал. Накануне конференции ему подробно рассказывал Яковлев, какую трансформацию политической системы они наметили с Генеральным секретарём. При этом Александр Николаевич всячески давал понять, что все идеи принадлежат Горбачёву, а он только с ними согласен. Однако Янкин поверил бы в это три года назад, когда впервые увидел Яковлева не по телевизору, а прямо перед собой — в его кабинете. Тогда новый куратор советской пропаганды предложил ему стать главным редактором тусклой газеты, на страницах которой, как он сказал, «дохли мухи от скуки». Теперь Грегор Викторович был вхож во многие кабинеты, в том числе самые высокие, имел везде информаторов, и как одарённый от природы аналитическим умом, редкой наблюдательностью, а также приобретённым умением лавировать, видел, что Александр Николаевич лукавит. Он не раз встречался с Яковлевым на людях и один на один, внимательно вслушивался в его бубнящий голос, стараясь проникнуть сначала в то, что говорил Идеолог перестройки, а позднее в то, что недоговаривал «серый кардинал». В паре с Горбачёвым Яковлев был ведущим, но никоим образом этого не показывал. Наоборот, всячески подчёркивал, что он только исполнитель горбачёвских замыслов. Намеченная реформа политической системы, как её представил Янкину Александр Николаевич, вызвала у главного редактора смятение. Даже ему, сделавшему при поддержке Яковлева, газету форпостом резкой критики советского строя, показалось, что реформа будет иметь разрушительные последствия, приведёт к потере управления всем государственным организмом. Неужели этого не поймут делегаты?
Он слушал Горбачёва, исподволь оглядывая людей. Лица были сосредоточенные, восторженные, настороженные. Не было только сонно-равнодушных, какие он видел раньше на подобных партийных сборах.
Да и могло ли быть иначе? Генеральный секретарь партии резко критиковал свою партию за, что она захватила все рычаги управления — от высших до самых малых, подмяла под себя Советы, принимает решения, но при этом ни за что не отвечает, и такая окостенелая конструкция тормозит перестройку, нужно новое мышление, сказал Горбачёв, и Грегор Викторович снова вздрогнул, как это у него непроизвольно получалось, когда он слышал неграмотные выражения генсека. «Мыши у тебя в голове бегают, — подумал Янкин. — А кота хорошего нет».
Горбачёв предложил отделить партийные органы от советских и первым секретарям избираться в председатели Советов. Одновременно реформировать государственную власть. Для этого по-новому — на альтернативной основе — провести выборы всех Советов — от районных до Верховных в республиках и Верховного в Союзе.
Поскольку Грегор Викторович об этих намерениях знал заранее, он, не отвлекаясь, наблюдал за реакцией той части зала, которую мог охватить взглядом. Восторженных лиц стало меньше. Они ещё попадались, но это, скорее, были те, кто ради интереса готов был на любые перемены, чем бы они ни кончились. Зато настороженных прибавилось. И, похоже, не только среди партфункционеров. Янкин глядел на них, и ему казалось, что он читает их мысли. Обновляться, конечно, надо. Может, это действительно выведет перестройку из штопора. Правда, пока все перемены вели к худшему. Альтернативные выборы… Кто на них победит? Безответственные крикуны? А спросят с руководителя, как бы он ни назывался — председатель Совета… первый секретарь.
Вместе с тем Янкин заметил, что с некоторых лиц настороженность уходит и вместо неё появляется привычное спокойствие. «Думают, очередная болтовня. Пока примут законы о выборах, пока всё утрясут и согласуют, немало утечёт воды. А в ней многое утонет. Может, и самый главный…»
Неожиданно он обратил внимание на странное поведение Горбачёва. Работа конференции заканчивалась. Делегаты устали от непривычного напряжения. Впервые с партийного сбора такого уровня шла прямая трансляция по телевидению. В течение нескольких дней страна и делегаты были свидетелями и участниками резких публичных споров. Теперь надо было подводить итоги, и делегаты дружно голосовали за все резолюции подряд. За реформу политической системы. За борьбу с бюрократией. За усиление гласности, хотя и нынешний её уровень уже вызывал у многих тревогу.
Горбачёв должен быть доволен. Он произнёс заключительную речь. Отметил историческое значение конференции. Упомянул Ельцина, который просил политической реабилитации после снятия его с поста первого секретаря Московского горкома партии, но большинство, чувствуя настрой генсека, снова обрушились на опального функционера. И в те минуты, когда все ожидали объявления о закрытии конференции, Горбачёв вдруг поднялся за столом президиума, быстро достал из левого внутреннего кармана пиджака какую-то бумажку и, переминаясь с ноги на ногу, с явным волнением произнёс:
— Давайте не будем откладывать реформу политической системы надолго и примем ещё одну, краткую резолюцию.
Уже расслабившиеся делегаты не сразу поняли, о чем речь. Никакой дополнительной резолюции у них на руках не было. А Горбачёв скороговоркой прочитал по бумажке текст, где главными были два пункта. Первое. До конца года провести реорганизацию партийного аппарата. И второе. На ближайшей, осенней сессии Верховного Совета СССР принять законы по перестройке советского аппарата, внести изменения в Конституцию страны, а также организовать выборы по-новому и уже в апреле 1989 года провести Съезд народных депутатов, на котором создать новые органы государственной власти.
Не давая никому опомниться, начал голосование:
— Кто за? Кто против? Воздержался? Принимается единогласно.
Зал оцепенел. Ни аплодисментов, ни весёлых возгласов по поводу конца работы. Только шум откидываемых сидений и негромкий ропот расходящихся людей.
Вспоминая потом этот момент, Янкин всякий раз удивлялся лёгкости, с которой Горбачёву удалось получить право на кардинальные перемены. Привыкшие подчиняться партийным руководителям и верить им на слово, делегаты своими мандатами узаконили путь в неизвестное будущее, которое никто даже толком не обсудил, не говоря о том, что никто не просчитал и последствий.
Глава третья
— Привет демократам! — услыхала Наталья знакомый мужской голос и повернулась на него. К ней, обогнув группу депутатов, шёл Савельев. Худощавый, стремительный в движении, Виктор издалека махал ей рукой и белозубо улыбался.
— Здрасьте! — кивнула она, обрадовавшись возможности избавиться от своего собеседника. Стоящий рядом член «Демократической России» Сергей Юзенков насупился. Он ещё не всё сказал на диктофон Волковой о своей поездке в Эстонию, где вместе с тамошними депутатами выступал на митингах в поддержку их решения выйти из состава СССР.
Фактически республика уже считала себя свободной. В ночь с 12 на 13 января 1991 года Председатель Верховного Совета РСФСР Ельцин подписал в Таллине договоры с руководителями Эстонии, Латвии и Литвы о признании их независимости. Подписал от имени России, хотя огромная, бурлящая, растерянная Федерация такого поручения ему не давала. Не поручал этого и президент Советского Союза — мечущийся словоблуд Горбачёв. Ему только рассказали, что событие происходило глубокой ночью в старинном дворце на Тоомпеа, где когда-то сидели наместники российского императора, а потом — парламент советской республики.
— Вы тоже на съезд, Виктор Сергеич?
При посторонних Наталья иногда называла Савельева по имени-отчеству. Из уважения. Он был старше её лет на десять.
— Тоже, тоже. Как он пройдёт без меня? Особенно внеочередной.
— Без вас, конечно, российские депутаты ничего не решат, — заметил Юзенков. Произнёс это с некоторой иронией, но не слишком вызывающе. Он знал, что Савельев известный и влиятельный в депутатской среде журналист. При его поддержке через газету, а особенно через «Телемосты с избирателями», которые Савельев вёл на главном телеканале страны, десятка два кандидатов стали народными депутатами СССР. Сразу после выборов он собрал в редакции несколько заметных новичков, чтобы за «круглым столом» обсудить их возможные действия на предстоящем Первом съезде.
Юзенкову рассказывали, что именно с той встречи, где были Гавриил Попов, Тельман Гдлян, Святослав Фёдоров и ещё три человека, ведёт свою историю Межрегиональная группа союзных депутатов. Она быстро стала заметной силой и через год активно поддержала демократических кандидатов теперь уже в российский парламент. В том числе его — Сергея Юзенкова — бывшего майора, бывшего политработника воинской пожарной части, а теперь не последнего человека среди демократов. Поэтому в приветствии Савельева он услышал только уважение к себе и ничего больше.
Но Виктор в последнее время слово «демократ» всё чаще произносил с издевательским оттенком. Он даже знал, когда впервые пошатнулось очарование этого слова. Как ни абсурдно было для него, коррозия началась с Первого съезда народных депутатов СССР. А ведь именно этого съезда Савельев не только с нетерпением ждал, но и, в силу своих возможностей, приближал. Раскраивая время между газетой, телевидением, митингами, собраниями избирателей и встречами с кандидатами, Виктор энергично поддерживал тех, кто называл себя демократами и кого он сам таковыми считал.
Особенно среди них выделял Ельцина. Даже внешний вид этого высокого, издалека красивого мужчины с седой прядью на голове и трубным голосом говорил людям о сильной натуре.
На Ельцина Савельев обратил внимание, когда тот стал первым секретарём Московского горкома партии. В газетах заговорили о необычном руководителе. Ездит вместе с простым народом в городском транспорте. Внезапно заявляется в магазины и лично проверяет, какой товар припрятан. Трясёт московскую партийную и хозяйственную мафию. Снимает одного за другим секретарей райкомов. Рубит сплеча правду-матку заевшимся чиновникам.
Это очень нравилось народной массе. И для Савельева он тоже стал надеждой обновления.
Потом — невнятные пересуды о выступлении Ельцина на пленуме ЦК и снятие его со всех постов. За что? Чем не угодил Горбачёву? Наверняка критиковал власть и получил за это по голове. А раз так, значит, наш человек. Бунтарь и народный заступник.
Настоящая же всесоюзная известность Ельцина впервые окатила в дни 19-й партконференции. Благодаря прямой трансляции по телевидению его выступление слушали миллионы. Он обвинил власть в массовой коррупции и в отрыве от нужд народа. Если у нас чего-то не хватает, заявлял он, то нехватку должны чувствовать все без исключения. «За 70 лет мы не решили главных вопросов — накормить и одеть народ, обеспечить сферу услуг, решить социальные вопросы».
По сути, он выражал мысли огромного количества людей. И они ответили ему признанием. В Госстрой СССР, куда был «сослан» Ельцин после московского горкома, мешками шли письма. «Опальному бунтарю» звонили со всех концов страны.
Неудивительно, что начавшаяся вскоре избирательная кампания сделала Ельцина символом демократии и главным кандидатом в народные депутаты СССР. За него самозабвенно агитировали тысячи людей. Написанными от руки листовками была оклеена вся Москва, где баллотировался Ельцин. Незамысловатые тексты выдавали искреннюю веру народа в своего заступника. Однажды, выходя поздно вечером из редакции, Савельев увидел, как худая, не по холоду одетая женщина клеит на стене лист бумаги. Виктор остановился. Черным фломастером было написано:
Чешет коррупция лысое темя.
Пьют валидол с коньяком бюрократы.
Это ж какое, товарищи, время!
Ельцин с триумфом идёт в депутаты.
— Нельзя валидол запивать коньяком, — сказал он активистке.
— Это нам нельзя. А им всё можно.
На выборах Ельцин легко, как волкодав котёнка, раздавил выдвинутого горбачёвцами директора московского завода. Люди вложили в него все свои надежды на перемены в жизни.
Ещё выше поднялась волна экзальтации, когда Ельцин необычным способом оказался в Верховном Совете СССР, куда стремились попасть многие из 2250 депутатов. Своё место, после активной обработки ельцинскими сторонниками, ему отдал омский юрист Алексей Казанник. С этого времени Савельев стал ещё пристальней наблюдать за Ельциным.
Правда, сначала внимание от партийного бунтаря отвлекли другие демократы. Прямые трансляции со съезда, не отрываясь, смотрела вся страна. Виктора поражало происходящее на глазах пробуждение народа. Фамилии новых людей, ещё позавчера неизвестные, вчера с непривычки трудно выговариваемые, поскольку многие были нерусскими, сегодня «отскакивали от зубов» спорщиков, словно много лет знакомые. Откуда-то из недр многомиллионной человеческой массы, до недавней поры сливающейся в одно большое лицо по имени «советский народ», вдруг вышли, выпрыгнули, вытолкнулись индивидуальные лица, с разными голосами и со своими словами. Резкие, критичные выступления депутатов обсуждали в цехах и школах, на кухнях и в конструкторских бюро. Завернув однажды к знакомой пивнушке, Савельев с изумлением замер на подходе. Было тепло. Люди выходили из душного помещения и устраивались за уличными столиками. Но обычного гомона не было слышно. Всё перекрывали голоса из радиоприёмника, стоящего на одном столе. Отпивая пиво и стараясь не шуметь, мужики слушали трансляцию со съезда народных депутатов.
— Рабы встают с колен! — заявил на «планёрке» очередного номера Савельев, возмутившись намерением Бандаруха убрать из его отчёта все острые выражения депутатов.
— Да, да, — тихо, с гнусавинкой произнёс заместитель главного редактора. — Только кто им это позволяет? Михаил Сергеевич. А они его — без всякого уважения. Давайте не будем дискредитировать власть.
Но власть трудно было дискредитировать больше, чем это делала она сама. По Узбекистану прокатились погромы турок-месхетинцев, и никто за них не ответил. Когда депутаты спросили горбачёвского ставленника — Председателя Совета Национальностей Верховного Совета СССР Рафика Нишанова — узбека и недавнего руководителя республики, что там в действительности произошло, он с фальшивой восточной улыбкой, но при холодном взгляде объявил: «Ничего особенного. Из-за клубнички подрались на базаре».
А в это время тысячи беженцев — впервые после Отечественной войны, искали спасения в соседних республиках и требовали помощи от Центра.
Никто не ответил по-настоящему и за карабахскую трагедию. Нацисты обеих сторон переводили стрелки друг на друга, а потом сообща — на Центр.
Центр, то есть Горбачёв, был действительно виноват. Самонадеянный болтун и недалёкий управитель, делая очередной шаг, совершенно не представлял, куда вляпывается, и чем после этого запахнет в стране. Во время пока ещё мирного карабахского напряжения он приехал в редакцию центральной газеты, где работал Савельев. В кабинет главного редактора пригласили всего несколько человек. В том числе — Виктора, как парламентского обозревателя. Горбачёв с отработанным пафосом, словно рядом и напротив сидело не с десяток слушателей, а была многолюдная аудитория, заговорил об успехах перестройки. Дождавшись подходящего момента, первый заместитель главного редактора спросил о Карабахе. Он был родом из Тбилиси, и происходящее на Кавказе сильно тревожило этого человека, в венах которого текла польская, грузинская, еврейская, русская и ещё какая-то кровь.
— Интеллигенция мутит воду, — сказал Горбачёв. — Знаю их всех. Зорий Балаян… Сильва Капутикян… К ним пристраиваются другие…
Савельев сидел напротив генсека. Их разделял неширокий стол. Виктор впервые увидел Горбачёва так близко. Взгляд невольно задержался на родимом пятне. «Действительно, меченый», — подумал он и почему-то без всякого волнения сказал:
— Михаил Сергеевич, если вы знаете, кто раздувает карабахский пожар, назовите их публично. Пусть народы узнают, кто толкает их в беду. Вот где нужна гласность!
Горбачёв снисходительно окинул Савельева взглядом.
— Ты ничего не понимаешь. Нельзя усугублять ситуацию.
Через некоторое время ситуация взорвалась. Десятки тысяч простых людей оказались жертвами национал-амбиций ненаказанных экстремистов и политической близорукости человека, олицетворявшего власть в стране.
Впоследствии Виктор не раз встречал генсека лицом к лицу в перерывах на съездах народных депутатов. Однажды, споря с кем-то о Ельцине, не заметил подошедшего сзади Горбачёва. «Всё митингуешь?» После чего главный редактор велел Виктору вести себя аккуратней и не настраивать депутатов в пользу Ельцина.
Но Савельев не мог с этим согласиться. Наблюдая за действиями Горбачёва, он видел, как власть всё сильнее перекашивает в сторону Яковлева. Даже если бы «серый кардинал» не имел второй по влиянию должности в партии, его могуществу вполне могло хватить одного оружия — гласности. Хотя гласность продолжала ассоциироваться с Горбачёвым, многие начали понимать, что это оружие давно перехватил Яковлев и с каждым днём расширял его убойную силу. Особенно после 19-й партконференции, для которой он подготовил специальную резолюцию. И тем самым оградил себя от любых попыток усомниться в правильности использования этого оружия массового поражения. Яковлев лично подбирал руководителей газет и журналов. С ним согласовывались самые разгромные публикации и видеоматериалы. Под лозунгами борьбы за демократию, за ликвидацию «белых пятен» в советской истории и за свободу слова, «хромой бес», как его однажды в разговорю с Савельевым назвал Андрей Нестеренко, повернул всю разгромную мощь подконтрольных ему средств массовой информации против той самой социалистической Системы, которой, за хорошие деньги и блага, служил несколько десятилетий своей жизни и за любое покушение на которую жёстко карал сомневающихся.
Размышляя над ситуацией, Виктор пришёл к мысли, что выправить образовавшийся перекос в сторону Яковлева можно лишь одним способом. Дать Горбачёву второе «крыло». И стать им мог Ельцин. Бесшабашный «саблеруб», смелый и вроде бы нормально понимающий демократию борец за необходимые обновления, Ельцин уравновесил бы разрушительное влияние «хромого беса» на теряющего ориентиры Горбачёва. А для этого надо было сделать так, чтобы Ельцин занял единственное, остающееся пока что вакантным, важное место в иерархии высшей власти страны — пост председателя Комитета конституционного надзора СССР. Именно должность сурового надзирателя за соблюдением Конституции лучше всего подходила, на взгляд Виктора, для Ельцина, а главное — очень нужна была для государства.
Но чтобы «взгромоздить» бунтаря на такую труднодоступную высоту, требовалось подготовить депутатов, которые должны на Съезде утвердить предложенную кем-то кандидатуру.
Первым делом Савельев взялся за «своих». Человек десять согласились с его доводами. Однако другие повели разговор уклончиво. Кто он такой — этот Ельцин? Мы его мало знаем. Не использует ли очень влиятельную должность для иных целей? А с депутатом из Удмуртии Виталием Соловьёвым Виктор почти рассорился. До того момента ему казалось, что успел неплохо узнать этого рослого, немногословного мужчину с привлекательным волевым лицом и светло-русыми волнистыми волосами. Соловьёв больше слушал журналиста, чем говорил сам. В тот раз он тоже долго не перебивал Виктора, энергично внушавшего депутату, какой надёжный человек Ельцин, как он будет противостоять влиянию Яковлева и при этом полезно воздействовать на Горбачёва. Когда журналист приостановился, Соловьёв коротко сказал:
— Я не буду его поддерживать ни в чём.
— Ты што, Виталий, в своём уме? Ельцин из тех, на кого только и можно опереться.
— Приглядись повнимательней, Виктор. Он фальшивый человек. Ему нельзя давать власть.
«Что за люди приходят в депутаты! — с огорчением подумал Савельев. — Не способны разглядеть перспективного политика».
Без энтузиазма отнёсся к предложению Виктора митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий. Журналист некоторое время колебался: как обратиться к духовному лицу? Как все: «Ваше Высокопреосвященство»? Или, не напрягая себя, по имени-отчеству. Знакомый с биографиями всех депутатов, он знал, что митрополит в миру — Алексей Михайлович Ридигер. Поэтому с некоторым волнением начал:
— Вы меня извините, пожалуйста, Алексей Михайлович. Я человек светский, журналист… Можно мне так к вам обратиться?
— Можно, можно, — улыбнулся митрополит.
— Вам, наверно, известно, что в Верховном Совете готовится закон о Комитете конституционного надзора СССР. Его примут, и встанет вопрос о председателе. Есть разные предложения. Одна из кандидатур — Ельцин. Как вы к нему относитесь?
Благообразное лицо Алексия почти не изменилось. Только немного сдержанней стал взгляд, и в глазах появилась озабоченность.
— Церковь долго испытывала трудности. Она много пережила. Сейчас положение несколько меняется… Меняется к лучшему. Нам не хотелось бы снова потерять приобретённое. А политика… Политика всегда занимает чью-то сторону. Нам, наверно, не пристало втягиваться в политику. Это не дело Церкви…
Савельев не знал, что в эти дни в высшем руководстве Церкви идёт никому не видимая в светском обществе борьба за то, кто станет новым Патриархом. Прежний Патриарх Пимен умер 3 мая 1990 года, и на главный церковный пост претендовали несколько человек. В том числе — митрополит Алексий.
Тем не менее, Виктор понял: этот седобородый, крупнолицый человек в белом клобуке на голове и со значком народного депутата СССР на рясе не хочет ввязываться в опасную для Церкви борьбу между разными жерновами власти.
Настороженно отнёсся к предложению Савельева и главный редактор журнала «Огонёк» Витаний Коротич. Послушав рассказ Виктора о Ельцине, задал единственный вопрос:
— А он не антисемит?
Савельев с удивлением пожал плечами. Интересовать могло, что угодно. Но почему это для Коротича оказалось самым важным?
— Вроде нет, — в раздумье сказал Виктор. И мысленно перебрав в памяти окружение Ельцина, уже уверенней заявил:
— Нет, разумеется. Какой он антисемит, если рядом столько евреев!
Агитируя депутатов, Савельев в то же время не забывал о Ельцине. Как он сам-то отнесётся к идее журналиста? Наконец, Виктор решил, что пора переговорить с кандидатом. После одного из заседаний Съезда народных депутатов СССР догнал идущего к Боровицким воротам Кремля Ельцина. Тот шёл со своим идеологом — бывшим журналистом из «Правды» Полтораниным. Савельев знал его. Сначала заочно — оба работали какое-то время в Казахстане от разных газет. Потом вместе оказались в Москве. Когда Ельцина поставили первым секретарём Московского горкома партии, он уговорил Полторанина возглавить городскую газету. После снятия Ельцина не у дел оказался и его пресс-идеолог. Это развязало ему руки. Полторанин стал лепить из Ельцина народного героя. Поскольку никто не знал, что в действительности говорил московский секретарь на том пленуме ЦК, где его отстранили от должности, Полторанин сочинил фальшивое выступление своего патрона и начал распространять несуществующую речь. «Подмётная грамота» оказалась как нельзя кстати. Те, кто читал текст, видели, что Ельцин критикует Горбачёва, коррупцию в высших эшелонах власти, выступает против привилегий партийного аппарата. Пересказывая прочитанное, люди добавляли своё. Особенно популярными становились критические слова, якобы, сказанные Ельциным о жене Горбачёва — Раисе Максимовне. Живёт, мол, она, как королева. Тратит народные деньги на дорогие украшения и наряды, а Михаил Сергеевич только потакает ей во всём и руководит страной по указаниям жены.
Придуманная Полтораниным речь сделала Ельцина популярным борцом за справедливость. А выступление на 19-й партконференции к тому же добавило трагических красок в ореол жертвенности. После чего народ на руках внёс Ельцина в депутатскую власть.
Однако не согласись романтик-демократ Казанник уступить ему своё место, о чём его усиленно просили сторонники Бориса Николаевича, Ельцин просто затерялся бы среди двух с лишним тысяч депутатов. Став членом Верховного Совета и возглавив комитет по строительству, он приблизился на несколько ступенек к солнцу власти. Теперь, как рассчитывал Савельев, Ельцин мог сменить малозначительный комитет в парламенте на куда более серьёзный. И не только для него. Факты посягательства на Конституцию страны становились угрожающими, а Горбачёв, словно парализуемый, не предпринимал решительных противодействий.
— Борис Николаич, минутку!
Вместо Ельцина обернулся Полторанин. Виктор ещё не знал, что правое ухо у Ельцина не слышит совсем и говорить надо громче.
— А-а, Витя! — широко улыбнулся Полторанин, плотный пятидесятилетний сибиряк, не на много уступающий Ельцину в росте. — Хочешь сделать с Борис Николаичем материал? Но в вашей газете его всё равно не дадут.
— Нет, я по другому поводу. Помнишь, я говорил тебе о противовесе Яковлеву? Ты не спрашивал шефа, как он отнесётся к этой идее?
— Закрутился, старик… А спроси его прямо сейчас!
Ельцин обратил внимание на Савельева, сунул на ходу руку.
— Борис Николаич, есть одна идея, — сказал Виктор, пожав твёрдую ладонь. — Можно сильно повлиять на Горбачёва.
— Как? — остановился Ельцин.
— Стать председателем Комитета конституционного надзора СССР. Сейчас ваш строительный комитет… Конечно, он важный в Верховном Совете… Но по сравнению с надзорным, извините… А там вы всех расставите по своим местам. Конституция — это священная корова. Основной закон! Кто нарушил его… высунул голову за рамки — бац! Гильотина закона отрубает голову.
Ельцин хрипло рассмеялся.
— Интересно! Хорошо. Но перекроют… Своих заставят лечь… эта… на амбразуру.
— А мы других поднимем!
Полторанин тоже загорелся.
— А што, Борис Николаич! Демократия получит ха-ароший инструмент. Неплохая мысль у Савельева.
Ельцин заинтересованно посмотрел на Виктора, мощно вдохнул воздух. Было начало июня. В Александровском саду цвела сирень, и её тонкий волнующий запах доходил до Боровицких ворот. Савельев расслабил галстук — ко второй половине дня становилось жарко, приветливо улыбался, однако при этом внимательно следил за Ельциным. А тот вдруг нахмурился и, словно преодолевая какую-то преграду, разочарованно сказал:
— Это ж значок надо будет сдавать.
— Какой значок? — не понял Савельев.
— Вот этот, — бережно тронул Ельцин красный эмалированный значок на лацкане пиджака. — А что получу взамен? В любой момент переизберут.
— Ну, зачем же так? — протянул Виктор. Он ещё не знал, должен ли будет депутат, избираемый председателем этого комитета, слагать с себя полномочия народного избранника. Закон пока готовился, и рассматривались разные предложения. В том числе — недопустимость членства в других организациях. Но даже в этом случае Председатель Комитета конституционного надзора СССР оказывался по влиянию выше всех вместе взятых депутатов в Верховном Совете, не говоря про какой-то Комитет по строительству и архитектуре.
Однако Ельцин уже потерял интерес к предложению Савельева. Во-первых, как догадался Виктор, тот сообразил, что это не его стихия. Ему нужно было поле для более простых решений. А, во-вторых, синица власти в руках была важнее журавля неопределённости в небе. И хотя неприязнь к Горбачёву он даже не скрывал, выходить на опасную конфронтацию «бунтарь» побоялся.
Расстроенный Савельев первый раз поглядел на Ельцина с разочарованием. Однако этот незначительный эпизод оказался тем камнем, который впоследствии толкнул лавину. Отметаемые им прежде критические факты и нехорошая молва о «былинном герое» стали через некоторое время восприниматься по-другому. Имея множество знакомых в разных учреждениях и структурах — от редакций до правоохранительных органов — Виктор в новом свете увидел и состоявшееся вскоре американское путешествие Ельцина, и его последующее падение с моста в подмосковном дачном посёлке, и слова о приверженности демократии. Когда по телевидению показали сюжет с пьяным Ельциным в США, Савельев сразу поверил, что это был никакой не монтаж, как кричали всюду ельцинисты и уверял сам Борис Николаевич, а всего лишь деталь большой зарубежной пьянки «подающего надежды» противника Горбачёва. И толкнули его в речушку вовсе не политические противники, а ревнивый соперник ельцинской «дамы сердца», о чём Виктору говорили люди, проводившие расследование.
Встретившись с несколькими уральцами, Савельев узнал немало поразительного из свердловской жизни Ельцина. О его наследственном алкоголизме. О демонстративной способности пить водку сразу из горлышек двух бутылок. О жестокости и мстительном характере первого секретаря обкома партии.
«И это у нас такие демократы?» — удивлялся через некоторое время Савельев, думая уже не только о Ельцине, но и о других людях, присвоивших себе ко многому обязывающее звание. Требуют свободы для себя, однако не признают свободы других. Критикуют слова Горького: «Если враг не сдаётся, его уничтожают», а сами готовы разорвать любого, кто выступает против их убеждений. «Да какие там убеждения! — мысленно возмущался Савельев. — Набор несвязных фраз и обкусанных мыслей». Ему не раз говорили с неудовольствием близкие ельцинские сподвижники о том, что «у Бориса Николаевича нет никакой экономической и политической программы». Только призывы ограничить власть Центра.
Разговаривая с людьми, объявившими себя демократами, наблюдая за их реакцией на происходящее, Виктор, чем дальше, тем больше убеждался в том, что люди эти имели самое смутное представление о настоящей, подлинной демократии. А главное — они и не собирались быть такими, на кого вроде бы должны ориентироваться в своём поведении, в отношении к носителям других взглядов и мнений. Отечественные демократы признавали только свои методы борьбы с несогласными. Методы убеждения через уничтожение. Поэтому между ними и теми, чьё наименование они брали, было столько же сходства, сколько между мухой и орлом. У той и другого есть крылья, у обоих есть глаза, оба летают, но на этом общее и заканчивается. Объединительное слово «демократы», которое приняла на себя разношёрстная публика, было всего-навсего самоназванием. Таким же, какое брали себе предки нынешних народов, чтобы отличаться от соседей, и которое сегодня не имеет никакого отношения к первоначальному смыслу. Албанцы сами себя называют «шкиптар». Дословно переводится, как «горные орлы». И даже если предки человека последние лет двести прожили в городе, если он в горах никогда не бывал, он всё равно «шкиптар». Одна из ветвей американских индейцев апачей называет себя «пятнистый сверху народ». У сегодняшнего потомка этого народа, ставшего врачом или адвокатом, если и появляется пятно сверху на одежде, то разве что от сока или вина. Самоназвание другого племени переводится, как «народ дикобраза, сидящего сверху». Где сейчас найдёшь дикобраза, да ещё посадишь его сверху, трудно сказать. Однако люди по традиции продолжают называть себя так.
Но они хоть имеют кровное, родовое отношение к давнему самоназванию, думал Савельев. А наши «демократы» взяли только имя, отбросив суть. И под этот широкозахватный щит втягиваются новые и новые люди.
После Первого съезда народных депутатов СССР, который начался со скандалов в прямом эфире о разгоне митинга в Тбилиси, об оккупации Прибалтики, о пакте Молотова-Риббентропа, «демократическое тесто» стало расти, как на дрожжах. Многие сообразили: чем громче крик, тем больше шансов выбраться из тьмы вчерашней неизвестности. А иногда — единственная защита от заслуженной тюрьмы. Надо только объявить себя демократом, расклеить листовки с извещением об этом событии и всеми действиями, всем видом своим изображать «демократическую народность». В те дни, недели и месяцы «опрощение» стало важным условием получить поддержку масс. Следователи Генпрокуратуры Иванов и Гдлян за свои «разоблачения узбекско-кремлёвской мафии» триумфально вошли в народные депутаты СССР. Но вскоре эта площадка политической надежности заколыхалась под героями, как зыбкое болото. По жалобам десятков незаконно оболганных, истязаемых, как в гестапо, людей начались серьёзные проверки. Перед следователями-демократами вместо парламентской скамьи замаячили тюремные нары. И тогда «гонимые» обратились к народу. Опубликовали в газетах манифест, который заканчивался требованием «сбросить ненавистную, антизаконную политическую клику, ведущую страну к социальной катастрофе». А чтобы прямой призыв к свержению государственной власти, караемый по закону тюрьмой, выглядел спасением не самих себя, а страдающего народа, был использован известный с древнейших времён способ. Предстать перед массами в образе «простых людей из толпы», обобранных властью до нитки. Однажды Савельев сам увидел этот спектакль. Собрав в редакции несколько народных депутатов СССР, он с интересом наблюдал за Тельманом Гдляном. Невысокий, худощавый армянин во время своего нервного, экспрессивного выступления то и дело приподнимался на носки, как будто хотел взлететь. «Чево он прыгает?» — подумал Виктор и, опустив взгляд, замер: тёмные полуботинки Гдляна были перевязаны светлыми бечёвками. «У него нет денег купить новую обувь? — удивился Савельев. — Нет возможности отремонтировать эту?» И только приглядевшись к демонстративно бросающимся в глаза завязкам, понял: идёт игра на публику.
Такой же приём использовали и другие лидеры демократических сил. В тесных пиджачках, которые давно были приготовлены на выброс, в стоптанных ботинках и кое-как повязанных галстуках — некогда красоваться, брат — они старались выделиться на митингах и собраниях среди нормальной опрятности оппонентов. Некоторые, больших лет граждане, рассчитывая привлечь внимание молодёжи, одевались под юнцов. Напяливали куртки и джинсы «варёнки», объёмные свитера с откидными воротниками. Народным массам должно было быть видно, что за их нужды борются люди из их же среды. Не имеющие денег на богатую, как у власти, одежду. Не располагающие современными техническими возможностями агитировать за себя и за своих демократических кандидатов.
В ходе избирательных кампаний Савельев обратил внимание на большое количество рукописных листовок с броскими, иногда остроумными, чаще — сердитыми в адрес власти призывами. Они были написаны фломастерами, маркерами, порой даже авторучками. Словно простые люди — на кухнях, в комнатах коммунальных квартир, в учительских, на кульманах в каких-нибудь НИИ — писали с утра до ночи призывы. Это создавало впечатление «народной агитации» с участием многотысячных масс, ибо всем было ясно: возможности одного-двух-трёх человек, какими бы они ни были активными, ограничены.
Но однажды, случайно приглядевшись к листовкам, Виктор с удивлением заметил, что вся агитационная «народность», оказывается, отпечатана на ротаторах и ротапринтах. А эта техника, как ему было известно, может выдавать от 5 до 9 тысяч экземпляров в час.
Впрочем, на это уже не обращали внимания. Разношёрстное демократическое сообщество быстро росло и пополнялось людьми, зачастую совершенно чуждыми друг другу. Сторонники более эволюционного перехода к демократии оказывались в одной колонне с озлобленными неудачниками, уязвлёнными себялюбцами, мстительными завистниками, которых прибавлялось в геометрической прогрессии. Демократы-романтики с ужасом смотрели на стремительный разлив моря нетерпимости, шарахались от своих вроде бы идейных собратьев, которые в беспощадности к инакомыслию не уступали большевикам Октябрьского переворота. Эти масс-демократы были как термиты, готовые броситься с острыми клешнями — резцами на всё, что окажется на пути. На военно-промышленный комплекс, на советскую систему, на Горбачёва, друг на друга. Причём друг друга грызли насмерть, словно верующие одной религиозной конфессии, но разных течений.
Пока термитная масса грызла разнонаправленно, толку от неё было немного. Требовалось объединить челюсти-резцы под одним лидером и направить колонны на главные столпы. В коллективном руководстве Межрегиональной группы это понимали, но договориться между собой не получалось. Экономист Попов презирал партократа Ельцина. Академик Сахаров недолюбливал обоих. Ректор историко-архивного института Афанасьев критически смотрел на всех.
После внезапной смерти Сахарова организаторы термитных колонн решили, что надо делать ставку на Ельцина. Он был популярнее всех. Ему создавали образ самого большого демократа, борца с привилегиями и выразителя народных чаяний. При этом, что не укладывалось в пастораль, тщательно скрывали. Тому самому народу показывали скромного лидера, который идёт не через привилегированный депутатский зал в аэропорту, а как все, через обычный выход; возится с обыкновенным «Москвичом» в окружении простой советской семьи; ходит в рядовую поликлинику и ест, как плоть от плоти народа, колбасу за два двадцать. На самом деле это была пропагандистская ложь. Не только «Москвича» — никакой другой машины Ельцин водить не умел и в них не разбирался. Его всегда возили, на столы ставили продукты, недоступные миллионам людей, особенно в дни искусственно создаваемого голода, а где находится обычная поликлиника, он не представлял.
Но об этом знали немногие и даже, если бы они стали рассказывать обо всех «несоответствиях» реальной жизни Ельцина его сказочному образу, большинство народа не поверило бы. Настолько разительным становился контраст между слабовольным болтуном Горбачёвым и решительным демократом Ельциным.
Особенно после выборов народных депутатов РСФСР весной 1990 года. Во многих округах победили демократы. Сам Ельцин легко и убедительно выиграл борьбу в Свердловске — набрал 84 процента голосов. Открывалась дорога к власти. Пока над Россией. Но всё чуть было не сорвалось. Прояви Горбачёв немного больше дальновидности и меньше беспечности, не быть бы Ельцину Председателем Верховного Совета РСФСР.
Съезд народных депутатов России открылся в Кремле 16 мая. Савельев каждый день приходил туда, чтобы дать репортаж в номер. И возвращался в редакцию растерянный — писать было не о чем. В зале творилось что-то невообразимое. Самые отвязные, взяв на вооружение опыт первого дня работы Съезда союзных депутатов, когда трибуна захватывалась явочным порядком, пытались повторить то же самое в новых условиях, чтобы сделать своё заявление. Их оттаскивали, не пускали. В проходах поставили микрофоны. Кому-то удавалось пробиться к ним, однако никто никого не слушал. Находящиеся в зале вскакивали с мест, орали что есть мочи какие-то лозунги, призывы, осуждения. Каждый считал только свою идею правильной и только свою кандидатуру достойной. Тысяча с лишним депутатов представляли собой хаотичную, абсолютно неуправляемую массу совершенно разнородных людей.
Не подобрав достойных соперников Ельцину, Горбачёв улетел в Канаду. За границей он уже давно чувствовал себя уютней, чем в мятущейся, управляемой другими людьми родной стране. Но и в этих условиях Ельцин победил с большим трудом. Через две недели митинговых страстей, тайной обработки депутатов, обнадёживающих посулов оппонентам, не с первого, а с третьего раза, он набрал всего на четыре голоса больше необходимого минимума и был избран Председателем Верховного Совета РСФСР.
С момента избрания главой российского парламента Ельцин стал как бы официальным знаменем демократических отрядов. Их вожаком и тараном, которым они пробивали стены советской крепости. Он был им нужен.
Без него масс-демократы рассыпались бы на множество грызущих друг друга термитов.
Но и они ему были нужны. Без них вождь остался бы никчемным одиночкой, а таран — бесполезным бревном. Именно в этот период началась активная работа всех тех, кто понял, что в борьбе с Горбачёвым за власть Ельцин пойдёт на что угодно, а потому его нужно поддерживать любыми способами.
12 июня 1990 года митингующий Первый съезд народных депутатов РСФСР под председательством Ельцина принял Декларацию о суверенитете России. Это стало сигналом для других. Не только союзных, но и автономных республик. И даже автономных округов. Все торопились объявить о независимости и проглотить суверенитета как можно больше.
Съезд союзных депутатов принимает решение провести в марте 91-го года Референдум о сохранении СССР — Ельцин призывает бойкотировать его. Союзные депутаты избирают Горбачёва Президентом страны — демократы в российском парламенте, с подачи Ельцина, поднимают волну о необходимости поста Президента в РСФСР.
И вот для этого, сразу после Референдума, они созывают свой внеочередной съезд, на котором Савельев встретился с Натальей Волковой и демократом Юзенковым.
Глава четвёртая
— Ну, што наша демократия вещает вам, Наташа? — показал Виктор на диктофон, который Волкова держала в руках. — Рассказывает, как устроить профсоюз советских президентов?
— Какой профсоюз? Ерунду вы говорите, — обиделся Юзенков. Он был худощав, темноволос, со следами плохо вылеченного фурункулёза на щеках и прямом лбу, отчего лицо походило на иссечённую крупной дробью мишень.
— А как же! Сейчас вы придумаете президента России. За вами побегут остальные. Представляете, Наташа: президент Тувы! Триста тысяч населения — пол-московского района. Или Чукотки президент. Всю страну можно уместить в трёх домах на Ленинском проспекте. Зато каждому — министра иностранных дел, охрану, армию… Одних персональных самолётов — пол-«Аэрофлота».
Савельев вперил злой взгляд в юзенковскую «мишень».
— Вы чево творите, орлы с каржиными [7]перьями? Страну хотите совсем разорвать? Вам референдум не указ? Вы же любите ссылаться на народ. Вот он сказал вам своё слово. Подавляющее большинство за Союз, а вы ему — Декларацию о суверенитете России. Остальные, дескать, пошли все вон!
— Хватит грабить Россию! — вскричал Юзенков. — Мы производим 61 процент национального дохода СССР, а по уровню потребления занимаем последнее место. Лучше нас живут все республики.
— Это правильно, — сказал Савельев. — Я вам даже могу добавить фактов. Подоходный налог из России весь уходит в союзный бюджет, а Грузия, Литва, Эстония, Латвия всё оставляют себе. Большинство республик производят меньше, потребляют больше. У той же Грузии потребление в четыре раза больше, чем она производит. У прибалтов этот показатель не намного ниже. Потому они и живут лучше. В том числе за счёт России. В наших сёлах на каждые 10 тысяч гектаров пашни — не просто территории, а пашни, отметьте себе! — дорог с твёрдым покрытием около 12 километров, а в Прибалтике 70 с лишним.
— Ну, вот! Вы сами подтверждаете нашу правоту. Только так и надо было поступить.
— Да нет, не так. Горбачёву нужно было, когда он имел почти стопроцентную поддержку всей страны, поправить законами эту политику.
— Сейчас, наверно, поздно об этом говорить, — с сожалением заметила Наталья. — Сергей Николаич рассказывал мне, как он ездил в Эстонию. Там после признания Ельциным их независимости прыгают от радости.
— А при чём здесь Ельцин? Есть союзный закон о порядке выхода.
— Да не будут они на него оглядываться! — сказал Юзенков, помахав рукой кому-то из депутатов. Народу прибывало, вестибюль опять гудел, как во время Первого съезда. — В Таллине только об этом и говорили. Они считают нас оккупантами и хотят быстрее отвалить из империи.
— А вот хрена им! Простите, Наташа… Кто-й-то сейчас говорил, что Россию обирают? Уж будьте тогда последовательны. Вы пустили зятя в дом, накупили ему мебели… телевизор японский достали — вам привезли за большие деньги из-за границы. От себя отрывали… Считали: одна ведь семья. А он вдруг решил уйти и всё на него потраченное забрать с собой.
— Будьте благороднее, — засмеялся Юзенков. — Это компенсация за нашу оккупацию.
— Ну-ка, ну-ка, — включила диктофон Наталья. — Расскажите нам про оккупацию, после которой захватчик беднеет, а жертва богатеет.
— Лучше я вам расскажу, Наташа. А заодно нашему демократическому деятелю. Может, пригодится, когда снова поедет туда. В последнее время пришлось стать экономистом — полмесяца работал с тремя профессорами. Очень дотошные люди. Так вот… Сергей… Николаич? (Виктор вопросительно поглядел на Юзенкова. Тот снисходительно кивнул) За сорок пять лет нашей «оккупации» — я это слово, как вы догадываетесь, беру в кавычки, объём выпуска продукции в Эстонии вырос в 55 раз. Вы себе как-нибудь представляете эту разницу, Сергей Николаич? 55 раз! Ваши прибалтийские… ну, уж не знаю, как сказать: друзья? коллеги? соратники? с холодной чопорностью вам говорят — это чтоб вы прониклись к ним доверием — будто в двадцатых-тридцатых годах в этих независимых странах существовала высокоразвитая рыночная экономика. Стопроцентная брехня! Промышленность Эстонии и Латвии, а они были более развиты, чем Литва, не достигла даже уровня 1913 года! В сороковом году, когда они вошли в состав СССР, объём машиностроительной продукции Латвии составлял всего 40 процентов от тринадцатого года! А что у нас уже было к этому времени, помните? Хотя бы по книжкам. Из общей казны, а в основном, как вы правильно говорите, за счёт России, в сельское хозяйство одной только Эстонии было вложено 6 миллиардов рублей. Подчёркиваю вам: только в сельское хозяйство 6 миллиардов!
«Оккупанты» за четыре с половиной десятилетия — срок-то, в общем, небольшой — построили в Эстонии электростанции, различные заводы, дороги, аэродромы, корабли. Да что там мелочиться — глубоководный Новоталлинский порт обошёлся советскому бюджету — вы сейчас предпочитаете считать в американских рублях — в 6 миллиардов долларов!
Савельев снова, как неделю назад, разволновался. Тогда он потребовал обсудить на редколлегии подготовленную им статью трёх авторов. Это были неизвестные ему профессора из Института экономики, что, впрочем, для Виктора не имело никакого значения — за последние годы все ныне известные вышли из вчерашних неизвестных.
Сначала был телефонный звонок. Мужчина представился, назвал все свои звания. Ровным голосом сказал, что сегодня пресса обсуждает только решения прибалтийских республик о выходе из состава СССР, но никто не говорит о правовой стороне этого дела и, тем более, об экономической ответственности. А в действительности всё не так просто, сказал профессор. Мы с коллегами проанализировали экономические и социальные аспекты пребывания Литвы, Латвии, Эстонии в составе Советского Союза и полагаем, что общество должно знать об этом.
Савельев с удовлетворением ухватился за предложение, поехал в институт. Авторами оказались приятные люди. Это был микроинтернационал. Лидировал в троице пятидесятилетний выходец из Эстонии — невысокий лысоватый мужчина с живыми карими глазами Илья Рувимович Гольдман. «Пристяжными», но со своими чётко выраженными позициями, были его молодые коллеги — украинец из Чернигова Василий Игнатьевич Петренко и чистейший «русак» из Костромской области Сергей Иванович Смирнов.
Виктор прочитал написанное ими и попросил переделать. Авторы очень резко критиковали национальную политику Горбачёва, а это, знал Савельев, было абсолютно непроходимо в газете. «Главное — экономика, — сказал он, — на неё надо напирать».
После этого они ещё встречались в институте и дважды в редакции. Профессора курили сигарету за сигаретой, в кабинете было дымно, чего Савельев не выносил, хотя сам курил тоже. «Вы, как три паровоза Черепанова», — морщился он, открывая форточку и дверь. «Паровозы» не обращали внимания и шумно отстаивали свои цифры, доставая из портфелей статистические справочники, какие-то монографии и книги на разных языках. Наконец, статья была готова. Савельев назвал её «Сколько будет стоить нам развод устроить?»
Насколько знал Виктор, и это подтверждали авторы, никто ещё в советской прессе такого анализа не делал. Профессора подробно рассказывали о том, как, благодаря включению в общероссийский рынок, стала развиваться в конце XIX — начале XX веков промышленность будущих Эстонии и Латвии, как потом резко деградировала их экономика в период независимости — в 20-30-е годы, и какие вливания получили три прибалтийские республики за советское время.
Делая поправки на особенности советского ценообразования, закрытость внутреннего рынка, специфику финансовой системы СССР, авторы убедительно показывали, за счёт чего создавалось отличающееся от других благополучие прибалтийских республик. Согласно перспективному планированию, большинство созданных здесь отраслей подпадали под особую государственную протекцию, а значит, имели определённые преференции. У произведённой тут продукции была более высокая стоимость по сравнению с заниженными ценами на сырьё, которое поставлялось для её выпуска. Благодаря этому национальный доход прибалтийских республик создавался за счёт присвоения части национального дохода других республик страны. И составляло это, например, для Латвии полтора миллиарда рублей в год, или больше пятой части всего произведённого ею национального дохода.
Поэтому в Прибалтике жили богаче, что видно было даже по такому показателю, как размеры банковских вкладов. Авторы приводили цифры, и они сильно отличались от общесоюзных.
Отдельная главка рассказывала о построенном здесь за короткий советский период. Сначала этот раздел занимал много места, но профессора согласились с Виктором, что всё не назовешь — газета не брошюра, и оставили только крупное.
Особенно любопытными были сведения по Литве. Если на латвийских и эстонских территориях ещё при царской России существовала некоторая промышленность, то Литва до 1940 года была почти полностью аграрной. На 3-миллионное население приходилось 40 тысяч рабочих. Крупными предприятиями считались три фабрики: чулочная, табачная и спичечная. На остальных кустарных производствах работало самое большее по пять человек.
Один абзац Виктор хотел вычеркнуть, но по настоянию авторов оставил. Они приводили свидетельство бывшего президента Литвы Казиса Гринюса, который в 1939 году обследовал 150 крестьянских хозяйств. По его словам, 76 процентов крестьян носили деревянные башмаки и только два процента — кожаные ботинки. Всего один процент женщин имели ночные рубашки, почти пятая часть обследованных женщин не пользовались мылом, в 95 семьях из 150 обнаружены паразиты.
Тот же бывший президент писал, что в Литве у 150 тысяч человек — туберкулёз, почти 80 процентов детей больны рахитом, смертность превышает рождаемость.
Эти свидетельства, настаивали профессора, лучше покажут, какой скачок сделала Литва за короткий советский период.
Действительно, сравнить было с чем. «Оккупанты» построили десятки крупнейших предприятий, создали надёжную транспортную инфраструктуру, преобразовали сельское хозяйство, выстроили материальную базу для социальной и культурной сферы, вкладывая во всё это громадные деньги. Республика постоянно получала из союзного бюджета примерно в 3 раза больше капитальных вложений, чем ведущие области Российской Федерации. Только за 15 лет — с 70-го по 85-й годы — Литве было выделено на мелиорацию почти столько же средств (свыше 1 миллиарда рублей), сколько соседней Белоруссии, хотя та в три с лишним раза больше. В советские годы была построена паромная переправа из Клайпеды в Германию стоимостью примерно в 3 миллиарда долларов. Открыт аэропорт под Шауляем (один миллиард долларов). Это не говоря о Мажейкском нефтеперерабатывающем заводе, мощной Литовской ГРЭС с городом поблизости и, наконец, Игналинской атомной электростанции. Её сначала намечалось построить в Белоруссии. Выбрали Литву. Станция оказала огромное влияние на экономическую и социальную жизнь республики. Производство электроэнергии по сравнению с 1940 годом выросло в 258 раз. Это позволило полностью электрифицировать все города и населённые пункты, вплоть до хуторов. Механизация сельского хозяйства приблизилась к уровню развитых европейских стран.
На фоне свидетельства президента досоветской Литвы впечатляюще смотрелись данные о современном состоянии науки, культуры, социальной сферы. По количеству студентов на 10 тысяч жителей Литва шла впереди Японии, Англии, ФРГ. Появились новые театры, которые получили красивые современные здания. Архитектурная раскованность в застройке городов и посёлков привлекала внимание специалистов из других республик.
Такие же перемены во всех областях жизни произошли за 45 лет и в двух других республиках. Перед вступлением в Советский Союз главным экспортом Прибалтики были масло, яйца и лесоматериалы, поскольку иных видов продукции не существовало. То немногое, что выпускалось из промышленного до революции, в годы независимости, за неимением сырья и спроса, зачахло.
Образованием могли воспользоваться немногие. В сороковом году в Латвии на 10 тысяч человек населения насчитывался 51 студент. Через сорок пять лет, в середине восьмидесятых — 180. В течение двух десятилетий независимости в той же Латвии работало всего 8 тысяч специалистов с высшим образованием. В начале восьмидесятых вузы республики каждый год выпускали по 7 тысяч специалистов.
Поскольку прибалтийские республики, писали авторы, решили выйти из состава СССР, надо сесть, всё посчитать, определить, кто, кому, сколько должен, и цивилизованно развестись.
При этом не забыть и другие вложения. В 1939 году Советский Союз передал Литве Виленский край, входивший до революции в состав России, а потом оккупированный Польшей. В том же году Германия захватила Клайпеду, переименовала в Мемель и включила этот порт, с прилегающими территориями, в состав Кенигсбергского округа. Весной 45-го после тяжёлых боёв и больших потерь советские войска выбили немцев отсюда. По логике даже не оккупантов, а нормальных победителей Мемель-Клайпеду требовалось присоединить к Калининградской области России. Но правительство СССР отдало политую кровью советских солдат землю Литве. Благодаря таким добавкам площадь республики значительно увеличилась.
В статье трёх профессоров был ещё один пассаж, который, по мнению Савельева, мог вызвать сопротивление Бандаруха. Авторы резко оценивали сравнения прибалтийскими национал-экстремистами «советской оккупации» с фашистской и намерение устроить для СССР «второй Нюрнбергский процесс» за расправы над якобы мирными жителями, к которым они относили вооружённое подполье. Отвергая эти обвинения, профессора, в свою очередь, приводили факты другого рода, которые старательно замалчивали национал-демократы. А именно — уничтожение здесь евреев во время войны.
— Зачем нам с вами это в данной статье? — обвёл Савельев авторучкой весь кусок в гранках, где говорилось о Холокосте в Прибалтике. — Утяжеляем статью… Лишний повод для зацепки. И опять уходим от экономики. Лучше вернуться к этому отдельно.
— Без этого нельзя, Виктор Сергеич, — покачал головой Гольдман. — Люди должны знать прошлое сегодняшней демократии, которая выдвигает обвинения Советскому Союзу. Страны Балтии показали мрачный рекорд. Эстония стала единственной европейской страной, которая отрапортовала Гимлеру, что в короткий срок полностью «очистилась от евреев». «Очистку» проводила неонацистская эстонская организация «Омакайтсе», что переводится, как «Самозащита». Сначала уничтожили местных евреев, потом — в концлагерях — привезённых из разных стран.
Но особенно постарались Литва и Латвия. Тут от коренного еврейского населения осталась одна десятая часть. В то время как в Бельгии и Нидерландах, где тоже был «новый порядок», евреев уцелело больше. В Нидерландах — около четверти, в Бельгии — свыше половины.
— Почему такая разница? — удивился Савельев.
— Другое отношение местного населения, — ответил за коллегу Сергей Иванович Смирнов.
— Да, это стало важным фактором, — подтвердил Гольдман. — Здесь расправы с евреями начали не команды немцев, а Фронт литовских активистов. Самый кровавый погром произошёл в Каунасе. Он начался 24 июня — ещё до вступления немцев в город. Убийства продолжались несколько дней и в разных местах. Во двор одного гаража литовцы в гражданской одежде, с белыми повязками на рукавах и с винтовками, согнали несколько десятков евреев. Поставили группой. По одному стали подводить к молодому парню с ломом в руках. Тот с размаху бил ломом по затылку. Человек замертво падал. Стоящие поблизости литовцы, среди которых были женщины и дети, после каждого удара ломом аплодировали.
— Невероятно, — проговорил потрясённый Савельев.
— Это свидетельства немцев, Виктор Сергеич. Другую часть обречённых убивали иным способом. Вставляли в глотку водяные шланги, и напор воды разрывал человека. Когда всё было кончено, молодой парень положил лом и пошёл за аккордеоном. Встав на гору тел, он заиграл литовский национальный гимн. Толпа дружно запела его.
Профессор Гольдман разволновался. Некоторое время он молча смотрел на обведённый Савельевым кусок текста в гранках. Потом заговорил снова:
— Только за первые пять месяцев фашистской оккупации в Литве убили около 220 тысяч еврейских мужчин, женщин, детей. А всего было уничтожено 95 процентов живших здесь до войны евреев.
Поэтому люди должны знать, что было. И про полицейские батальоны, активно сотрудничающие с гитлеровцами, и про сформированную в Эстонии дивизию СС. Всё надо знать, Виктор Сергеич. В Литве угрожают людям, которые были связаны с НКВД и КГБ. А в руководстве «Саюдиса» их немало. Кто такой глава «Саюдиса» Ландсбергис? Невероятно тёмная лошадка! Отец работал в пронацистском правительстве Литвы. Подписал благодарственное письмо Гитлеру. Бежал с немцами в Германию. В конце пятидесятых вернулся в Литву. Вроде бы должен быть судим. Но ему вернули дом, дали персональную пенсию. За что такие блага вместо виселицы? Говорят, работал на НКВД. И сын — это широко обсуждается в Литве — был давно завербован Комитетом госбезопасности. Люди обвиняют его… считают: «закладывал» товарищей и соратников. «Саюдисты» об этом наглухо молчат, а Советскому Союзу, посмотрите, будут выставлять счета. Горбачёв, если так дальше дело пойдёт, чего доброго согласится. Доигрался, дрянь, в бескрайнюю демократию.
— Ладно. Попробуем оставить.
Савельев, как полагалось по технологии, отдал статью ответственному секретарю Захарченко. Через час тот позвонил по внутреннему телефону.
— Витя, спустись.
В кабинете Захарченко был Бандарух. Он курировал отделы внутренней политики.
— Где вы раскопали, Виктор Сергеич, этих мракобесов? — тускло спросил Бандарух. — Их рассуждения подходят для реакционных изданий. Посоветуйте им отнести свои мрачные причитания куда-нибудь, вроде «Советской России», или в прохановский «День».
— Против чево протестуют твои авторы, старик? — по-свойски улыбнулся Захарченко. — Против демократии. Против естественного права на национальное самоопределение. Ты же сам говорил — я хорошо помню твою потрясную фразу: рабы встают с колен! Вот они и встали. А теперь тебе это не нравится.
— Не нравится пожар, который разжигают в сухом лесу. Там што начинает твориться — в этих национальных самоопределениях? Всех, кто другой нации, под корень? Русских… Украинцев… Евреев… Боюсь, скоро надо будет говорить иначе: когда с колен встают рабы, живут, кто делают гробы.
— Оставьте ваши сомнительные афоризмы, — повысил голос Бандарух. — Статья у нас не пойдёт.
— Тогда я требую обсудить её на редколлегии.
Савельев хорошо знал свою редакцию. Когда-то слывшая прогрессивной и даже либеральной, она к концу перестроечных лет стала напоминать корову на льду. Одной ногой опиралась на горбачёвское словоблудие, и хотя многие журналисты понимали, что это зыбкая опора, сдвинуться, из-за въевшейся привычки подчиняться, не имели решительности. Другой ногой пыталась нащупать твердь в нарастающем ельцинском максимализме, опасаясь при этом провалиться сквозь разрушаемую структуру льда. Третьим копытом традиционно, только теперь с большим сладострастием, била по антисемитизму, усматривая его даже в доказательной критике жулика с еврейской фамилией. И только четвёртая нога устраивалась, кажется, надёжнее всех. Её агенты, получая тайно в конвертах деньги, а на ухо конфиденциальную информацию, стали активно внедрять в сознание массового читателя положительные сведения о близком приходе финансового мессии — Международного валютного фонда, и о спасении им страдающих советских граждан.
Обсуждение статьи на редколлегии оказалось похожим на игру в одни ворота. Савельев защищал их, а выступающие старались забить мяч. На этот раз две коровьи ноги — «горбачёвская» и «ельцинская» — действовали согласованно. Бандарух, как куратор направления, сказал, что процессы, идущие сейчас в прибалтийских и других союзных республиках, соответствуют положительным оценкам Михаила Сергеевича «о росте национального самосознания у всех наций и народностей страны». Говоря это, он, прежде всего, имел в виду свою Украину. Перехват власти «Рухом» волновал и радовал его, но Никита Семёнович строго контролировал себя.
Куратор экономических отделов Даниэль Родригес — главный демократ редакции, высказался против публикации с другой стороны.
— Борис Николаевич поддержал стремление граждан прибалтийских республик к самостоятельной жизни. Чево мы боимся? Дайте людям самим определить свою судьбу.
На замечание Савельева, что авторы выступают не против этого — они за цивилизованный развод, «дитя республиканской Испании», как называли Родригеса в редакции, поскольку его привезли в Союз с тысячами других испанских ребятишек после тамошней гражданской войны, со вздохом ответил:
— Пусть уйдут с любовью. Деньги будем считать потом.
Но откровенней всех проявила позицию радикальной группы обозревательница отдела школ и вузов Окунева. Она не была членом редколлегии, однако потребовала у главного редактора, «в соответствии с демократическими нормами», права высказаться. Главный был человеком мягким, интеллигентным. Его большая эрудиция, разносторонняя образованность, английский лоск в одежде — в молодости работал корреспондентом ТАСС в Великобритании — вызывали уважение. Но этих прекрасных качеств вполне хватало для другого времени. Времени необсуждаемых решений. Когда наступила пора горластых циников, агрессивных большевиков-демократов и слизняковости привычной власти, ценным стало другое качество. Твёрдость. Причём, не ломовая, а гибкая твёрдость клинка.
У главного редактора, как стал замечать Савельев, этой твёрдости не оказалось. Он полагал, что уступки отвязным наступателям — есть необходимая толерантность, а мягкость пластилина то же, что и доброта. Поэтому требование Окуневой он принял, как меньшее из возможных зол.
— Сначала я думала: зря мы тратим время на обсуждение статьи, — сказала она. — Реакционеры, русские шовинисты хотят снова вернуть страну в Гулаг — это видно невооружённым глазом. Поэтому разговор с ними должен быть короткий.
— К стенке авторов, — подсказал Виктор.
— Это ваши методы, Савельев! Ведь статью-то принесли вы! Значит, вы согласны с авторами. А что они предлагают? Обобрать и без того пострадавшие народы Прибалтики. После недавней нашей публикации из Эстонии, где мы критиковали лидеров «народного фронта», я получила оттуда несколько писем. Все они касаются русского населения. «Разве мы вас звали? — спрашивают люди. — Почему вы навязываете нам свои проблемы?». И действительно. Мы почему-то хотим, чтобы чехи, венгры и поляки озаботились участью войск, которые мы наконец-то выводим, чтобы они ещё платили. И от прибалтов требуем сочувствия прямым потомкам оккупантов. Тем, чьи дети в военной форме недавно расстреляли мирных граждан в Вильнюсе при штурме телебашни.
Вера Григорьевна Окунева — невысокая, давно потерявшая стройность фигуры женщина, была в том возрасте, который можно определить, только заглянув тайком в паспорт. Одни давали ей «сорок с копейками», другие — «пятьдесят с хвостом». Когда она следила за собой: красила волосы, работала личным гримёром, надевала туфли на высоких каблуках — вполне сходила за подругу молодости. Если наступал период депрессии и разочарования, эта кое-как причёсанная тётка, в разношенных башмаках, с отвислой нижней челюстью становилась явной роднёй старости. Однако и в том, и в другом её состоянии одно не менялось на лице Окуневой — мерцающий злой требовательностью взгляд.
— Теперь я поняла, для чего мы обсуждаем эту статью, — сказала она и повернулась к главному редактору. — Её публиковать нельзя — ежу понятно. Но нам несут такие предложения, и мы, к сожалению, можем не уследить, как под прикрытием плюрализма мнений, свободы слова некоторые наши коллеги протащат свои антидемократические, шовинистические взгляды.
Это было как бы указание главному, на что ориентироваться. Но Савельев решил, что хотя главный хорошо знает его позицию, поскольку с критикой межнациональных отношений и разрушительного курса Горбачёва Виктор выступал теперь едва ли не на каждой «летучке», он должен попытаться отстоять предложения профессоров-государственников.
— По поводу вывода наших войск. Хотя об этом в статье не говорится — это из другой оперы, но музыка одна. Я категорически против поспешного вывода войск из тех мест, где они квартируют. Да что я! Сотни тысяч людей не могут понять такого холуйства наших вождей перед… не знаю даже перед кем — ведь не американцы же требуют этого? К слову, об американцах. Они даже с Франко заключали соглашения о военных базах, а уж его-то режим сами испанцы признали диктаторским. Штаты свой персонал и свои базы выводят десятилетиями. Одну дивизию выводят несколько лет! А тут бросили всё и в считанные месяцы бежать. А куда бежать? А где жить? А где материалы брать? Вот какие вопросы надо задавать Шеварднадзе и его патрону Горбачёву. И, думаю, эти вопросы люди вправе задать. Теперь о статье и Прибалтике. Каждый из нас был там, и не по разу. Европа — да и только! А какой она была совсем недавно? Это што — им с неба упало? Они готовятся выставлять нам счета. Учитывают, как мне сказали, всё. От экологии до репрессированных людей. А мы-то што? Их экономисты называют какие-то бешеные цифры. Вроде как десятки миллиардов долларов. Наши тоже посчитали.
— И прослезились, — ехидно вставил Захарченко.
— Это они прослезятся. Двести с лишним миллиардов долларов составляют наши затраты! По самым скромным подсчётам. А нас призывают некоторые сердобольные (Савельев показал пальцем на Окуневу) забыть это, и к тому же быстрей выгнать оттуда… нет, не только русских! Всех русскоязычных. По-вашему, это правильно, госпожа Окунева — мне трудно вас назвать «товарищ»: Латвия — для латышей? Тогда почему в других республиках не могут потребовать такого же? Нас вот здесь сколько? Одиннадцать человек. Насколько мне известно, четверо русских. Украинцы. Армянин. Поляк. Евреи. Вот вы, еврейка, согласны с лозунгом молдавских националистов: «Русских — за Днестр, евреев — в Днестр»? Или с другим там же: «Утопим русских в крови евреев!» А как бы восприняли лозунг: «Россия — для русских!»? Ведь «Грузия — для грузин!» вас устраивает, «Латвия — для латышей!» — даже в радость. А «Россия — для русских!» как?
— Вам надо в общество «Память»!
— А вам в общество нацистов! Гитлеровских!
— Перестаньте, Виктор Сергеич, — муркнул со своего места главный.
— Да вы просто «памятник», Савельев! — закричала Окунева.
— Да, я — памятник, — насмешливо бросил ей Виктор. — Памятник интернационализму и объективности.
И сурово добавил:
— А вы будете памятником разрушения страны!
После такого скандального обсуждения статья, конечно, не была напечатана, и теперь Савельев пересказывал факты из неё при каждом удобном случае. Наталья Волкова не заметила, что диктофон у неё включен:
— Ой, я ж у вас не спросила разрешения! — смутилась она.
— Ничего страшного, — отмахнулся Виктор. — Дадите рядом с восторгами Сергея Николаича. Читателям будет интересно узнать, как на чужом горбу в рай едут. И как Ельцин помнит об интересах обираемой России.
— Он помнит! — с вызовом сказал Юзенков. — Только власти у него не хватает. Вот изберём президентом… Тогда посмотрите.
Глава пятая
Нестеренко выполнил обещание. Он вёз Адольфу отличного трёхмесячного щенка русско-европейской лайки. Ездил за ним в Вологодскую область. Чёрно-белый крепыш с весёлыми глазами то спокойно лежал на заднем сиденье «Жигулей», то спрыгивал на пол, и тогда Волков, который сидел пассажиром рядом с электриком, пропускал назад руку, ловил щенка за холку и устраивал у себя на коленях. Зимой учитель возил Андрея на своей машине. Теперь тот делал ответный ход.
— Ну, до чево ж хорош, стервец, — с улыбкой ерошил Волков шерсть щенка, подносил его треугольную морду почти к усам, разглядывая карие живые глаза. — Как его зовут?
— В паспорте есть имя. Какой-то… Забыл. Родословная хорошая. Но я его назвал Пират.
Нестеренко на этот раз сначала написал Адольфу письмо о том, что взял щенка, потом — перед поездкой — созвонился через склад, рядом с которым егерь жил, и теперь они ехали на весеннюю охоту ожидаемыми гостями. Ехали на трёх машинах: электрик с учителем, Слепцов взял в свою «Волгу» Карабанова. А третью машину вёл Савельев.
После тех журналистских посиделок, где Виктор резко одёрнул литовского коллегу за «советскую оккупацию», Волков стал читать все его материалы в газете. Про телевидение говорить нечего. Даже если б учитель не хотел, он бы всё равно слушал Савельева — тот вёл передачи вместе с его женой.
Однажды Виктор пригласил Наталью с мужем к себе домой — на московскую элитную окраину. Пока женщины готовили стол — женой Савельева оказалась приятная, круглолицая дама, с весёлым прищуром зеленоватых глаз, мужчины ходили от одной книжной полки к другой и обсуждали библиотеку хозяина.
Вдруг учитель увидел на корешке одной книги надпись: «Русская охота в русской литературе».
— Нравится читать? — показал на книгу.
— Не только. Охотиться тоже.
— Да? — удивился Волков. — Вы ездите на охоту? Или — по бутылкам, как некоторые любят…
— Перед вами, между прочим, почётный охотник. Я много писал об этом. После статьи «Право на выстрел» появились новые правила. Но как можно писать о том, чево не знаешь?
— В таком случае мы с вами, Виктор, родственные души.
— Ну? Тоже охотник?
Женщины по очереди звали своих мужей, однако те лишь отмахивались: «Сейчас, сейчас…» У Савельева оказалось три ружья. В том числе немецкий «Меркель».
За столом мужчины то и дело съезжали на тему охоты, вызывая иронию жён. Наконец, вышли на балкон покурить и тут дали волю своим познаниям. Как взять на «профиля» гуся. Какая дробь лучше для вальдшнепа. Из чего сделать «настоящий» манок на рябчика. Перешли на «ты».
— Слушай, давай-ка бросим на «вы», — сказал Савельев. — Тоже мне — английские лорды! Нормальные мужики. Считай, ровесники.
— Согласен, — подал руку Владимир.
Потом они встретились у Волковых — на дне рождения Натальи. Ей Савельевы подарили французские духи «Фиджи» — самые популярные в ту пору у советских женщин, а хозяину Виктор привёз манок на рябчика, сделанный вологодским егерем из косточки тетерева. Волков не удержался, тут же в прихожей опробовал его. Все оглянулись на тонкий свист.
— Теперь он меня будет так подзывать, — улыбнулась Наталья.
Когда Нестеренко с Волковым стали договариваться о поездке на весеннюю охоту, учитель сказал, что хочет пригласить одного знакомого журналиста.
— Што за человек? — насторожился электрик. — Некоторых писак я бы повесил на одном дереве с «хромым бесом».
— Этот — нормальный. Виктор Савельев… Может, слышал? Или читал. Он в газете… На телевидении. Свой человек.
— Савельев? — с удивлением переспросил Нестеренко. — Дак я ж его знаю! Давно, кстати, знаю. И ты, оказывается, тоже? Откуда? Ну, и чудеса! А он што, охотник?
— Ещё какой!
Теперь они на трёх машинах подъезжали к маленькой деревушке Марьино, где их ждал Адольф со своими помощниками.
Возле большой, крепкой избы увидели знакомый трактор «Беларусь» с тележкой и «уазик». Сообразили: надо сюда. Нестеренко посигналил. На высокое крыльцо из избы вышел Адольф. За ним в дверях показался немолодой мужик, похожий узким лицом на Валерку. Как оказалось, его брат.
— А-а! Вот и наши демократы! — расплылся в улыбке егерь.
— Не вали всех в одну кучу, — радостно раскинул руки Нестеренко, готовясь обнять идущего от избы Адольфа. — У нас каждой твари по паре.
Егерь обхватил Андрея, потом потискал Волкова. Всё так же улыбаясь, но уже с кислинкой, пожал руки Карабанову и Слепцову. Когда подошёл Савельев, учитель сказал Адольфу:
— А это наш новый товарищ. Виктор зовут.
— А старый где?
— В больнице Игорь Николаич. С сердцем. Жизнь довела.
— Нового-то я вроде где-то видел, — пожимая руку Савельеву, сказал егерь. — Адольф.
Журналист никак не отреагировал на имя егеря, а Волков подтвердил:
— Вполне возможно. По телевизору.
— А-а… То-то я думаю: лицо знакомое. Ну, где зверь, Андрей?
Нестеренко взял щенка из машины. От избы подошли Валерка, его брат и красноглазый Николай. Тоже поздоровались.
— Хорош! — принял щенка Адольф. — Ничё не могу сказать. А глаза, глаза… Нет, есть люди среди зверей. Глянь, как умно смотрит! Имя-то у него уже имеется?
— Конечно. Пират.
В маленьких глазках Адольфа колыхнулась грусть, но щенок лизнул ему руку, и егерь мягко улыбнулся.
В горнице большой избы-пятистенки уже была приготовлена для гостей еда. На большой сковороде ещё дышала теплом жареная картошка, в тарелках высились солёные огурцы, домашние маринованные помидоры, квашеная капуста. На двух блюдцах розовел кабаний бекон, шпигованный чесноком.
— На чём остановимся? — спросил Адольф, когда все выпили по второму разу и ещё резвей, чем после первой стопки, накинулись на еду.
— А што у нас есть? — спросил Волков, поддевая вилкой пластинку сала.
— У нас есть всё! — самодовольно заявил Валерка. Егерь строго глянул на него.
— Смотря чего тебе, Владимир, хочется. За деревней… на просеках — вальдшнеп. Этот, конечно, вечером. А для утра другое… Километров шесть отцуда — тока! Три хороших тока. Косачи ведут разговор — издаля слышно.
— Гусь есть, Адольф? — спросил Карабанов. Когда учитель позвонил ему насчёт охоты, он дёрнулся, чтоб отказаться. Саднило воспоминание о последнем дне зимнего сезона. Что-то поганенькое всплывало каждый раз в ощущениях, и доктору не сразу удавалось растворить эту муть в других мыслях. Но голос товарища был такой искренний и душевный, что Сергей с благодарностью согласился.
— Есть и гусь, — с едва уловимой прохладцей сказал егерь. — Но туда надо ехать часа три. Дорога — ни в транду, ни в Красну Армию. Одни ямы. Зато хороший пролёт. А-агромная котловина, в середине — ба-альшая вода… Разливается речка и заливает… как бы сказать… наверно гектар двадцать низины. Вечером, потемну, гусь падает на воду. А утром подымается на поля. Вокруг котловины поля. Тоже краёв не видать. Он там днём кормится.
— Интересно, интересно, — оживился Нестеренко. Чёрные глаза заблестели, брови вздёрнулись над ними, словно крылья. — А как насчёт селезня с подсадной?
— И это есть, Андрей, — с явным желанием угодить электрику ответил Адольф. — У Митрия не подсадная, а Людмила Зыкина. Голос — за версту слышно. Я бы, будь селезнем, не пролетел мимо.
Валеркин брат Дмитрий согласно покивал. То ли подтверждая, что его подсадная утка голосиста, как великая певица, то ли — не сомневаясь в возможностях Адольфа.
— Давайте начнём с вальдшнепа, — сказал Волков. — Я понял: тут близко.
— Это на вечер. Севодня, — согласился егерь. — А на утрянку куда?
— Я бы пошёл на тетерева, — заявил Савельев.
— Я тоже, — присоединился Волков. — Давно не был на току.
— Мы на «Волге» к гусю проедем? — спросил молчавший всё это время Слепцов.
— Попробовать можно, — в раздумье сказал егерь. — Только имейте ввиду: у меня на всех Сусаниных не хватит. Валерка поведёт на тока. Мы с Митрием берём Андрея на селезня. Остаётся Николай… Ты в семибратовских разливах дорогу найдёшь? — спросил он молча жующего помощника. Тот с набитым ртом неуверенно пожал плечами.
— Понятно. Тогда беру команду на себя. Гуся пока оставим. Может, на воскресенье. Трое — с Валеркой. Двое — с нами. А там глянем. Война план покажет.
Когда солнце опустилось за тёмные ветки ещё безлистных деревенских лип, городские и егерь вышли из избы. Валерка с братом и Николай оставались в хате. Перед выходом Адольф остерёг троицу:
— Вы тут глядите… С водкой-то.
— А чё пить-то? — придуряясь, показал Валерка на несколько бутылок. — Раньше было — да!
— Всё мало? Жадный становишься. Тебе б за копейку — канарейку… И штоб пела басом. Смотри у меня! — строго закончил Адольф.
Дойдя до леса, все разошлись по просекам и полянам. Возвращаться надо было в темноте. Поэтому Адольф велел ориентироваться на дорогу.
Нестеренко не стал уходить далеко. Вальдшнепиная «тяга» его волновала меньше других охот. А Волков с журналистом ушли дальше остальных, увидели хорошую просеку и остановились на ней.
— Разбежимся иль как? — спросил учитель. Он чувствовал себя ответственным за Виктора и, не зная опытности Савельева, хотел подстраховать его.
— Пройду немного дальше, — сказал тот.
Волков остался один. Вложил в оба ствола патроны с мелкой дробью и затих, провожая взглядом удаляющегося напарника.
Метров через сто Виктор обернулся. Учитель помахал рукой, показав, где он есть. «Хорошая выучка», — подумал Савельев о Волкове и решил, что дальше идти не стоит.
Он сошёл с середины просеки к ближайшим кустам, зная, что в сумерках его куртка цвета прелой листвы будет незаметна на их фоне. Зарядил любимый «Меркель» и стал слушать. Весенний птичий оркестр, разноголосый, пока Савельев шёл, сейчас начал быстро собирать инструменты. Через некоторое время в лесу уже раздавался единственный звонкий голос. Немного погодя, стих и он.
От бурой земли пахло стылой сыростью. Апрель, как всегда капризный в подмосковной и предсеверной России, на этот раз превзошёл себя. Накануне открытия охоты южные ветры нагрели воздух до 19 градусов, и даже громыхнула первая весенняя гроза. А потом задуло из Арктики и температура за одну ночь упала до минусовой. Через сутки ветры снова поменялись. Иней на деревьях и проводах исчез, в воздухе не как прежде, но всё же потеплело, и озябшая было природа снова заволновалась от пробуждения любви. «Зачем я тут стою? — неожиданно подумал Виктор. — Сейчас вальдшнеп полетит искать подругу… Она радостно запрыгает навстречу его призыву, а я — свинцом по любви…»
Он вдруг вспомнил Наталью Волкову, и ему стало тепло во влажном холоде угасающего вечера. Савельев сразу обратил внимание на эту молодую красивую женщину. Сначала выделял, как приятную разговорщицу, с которой находилось всё больше общего в оценках людей и событий. Позднее стал радоваться даже мимоходным встречам. Со временем понял, что к ней его тянет, как к женщине. Сделал несколько скорее инстинктивных, чем продуманных, движений. Из тех, которые почти всегда приводили к ответным реакциям.
Но тут ответа не почувствовал. И остановился. Как оказалось, вовремя. К этому моменту познакомился с её мужем. Стал узнавать его раз от разу лучше, и теперь был доволен. О таком понятии, как совесть, в его среде нередко говорили с небрежением, однако Виктор в душе радовался, что мог спокойно глядеть в глаза обоим Волковым.
Вдруг в стороне учителя громыхнул выстрел. Савельев мгновенно перехватил ружьё и впился взглядом в сереющую полосу неба над просекой. Там было пусто. Зато справа от себя Виктор услыхал приближающийся характерный звук токующего в полёте вальдшнепа. Сначала издалека послышалось что-то вроде резкого циканья. Когда вальдшнеп подлетел ближе, стали различаться другие звуки. Теперь они походили на искажённое тихое хрюканье.
Вальдшнеп «тянул» — не быстро летел — над верхушками деревьев у противоположной стороны просеки. Виктор знал, как заставить его свернуть — пробовал не однажды и получалось. Надо подбросить по невысокой дуге шапку, варежку, кусок коры. Заметив это, вальдшнеп круто свернёт к тому месту, где упала «обманка». Так подскакивает самочка, услышав голос потенциального любовника.
Виктор медленно стал поднимать руку к старой ондатровой шапке. Она была точь-в-точь «вальдшнепиной» расцветки — бурая, с тёмными пятнами, кое-где выцветшая от долгой носки. Но когда пальцы уже дотронулись до шапки, вальдшнеп снова разлил над просекой страстный призыв. Савельев представил себе, как этот крылатый комок любви, с длинным тонким клювом и сдвинутыми назад чёрными бусинками глаз, бросится к падающей шапке, как вслед за тем его тельце разорвут дробины, посланные им — сильным мужчиной, и, увидев всё это почти наяву, резко опустил руку. «Лети, дружище, — подумал с нежностью. — Ищи свою подругу».
Но остальные охотники оказались не такими сентиментальными. Снова выстрелил Волков. Несколько раз грохнуло в других местах леса — видимо, началась «высыпка» вальдшнепов. Да и Савельев теперь жалел об упущенной возможности. Подождав ещё немного и видя, что сумерки переходят в ночь, он двинулся по просеке к Владимиру.
В деревню охотники вернулись в полной темноте. Луна ещё не вышла. С трудом различая дорогу, то один, то другой хлюпали сапогами в лужах. Не входя в избу, в сенях разулись.
— Кто отличился? — громко спросил Валерка, когда все шестеро затеснили прихожую.
— Они из общества охраны животных, — съязвил Адольф. — Только Андрей показал, как надо. Трёх взял.
— А нас ты зря туда записал, — возразил Волков. — У Паши с Карабасом по одному. У меня тоже. Вот Виктору не повезло. Но это ж не в магазине «Дары природы».
— Где ты такой магазин нашёл? — буркнул Карабанов. — Все остальные скоро надо будет закрывать.
— Но «тяга» была… была, — сказал Волков, отводя разговор в сторону. Он увидел, как нахмурился Нестеренко, готовый отреагировать на слова доктора. — Теперь главное — «утрянка». Времени-то у нас, я думаю, Адольф, не много?
— Поесть — и скоро собираться, — сказал егерь, усаживаясь за стол. — До токов идти да идти. Ну, мы с Митрием на «уазике» за селезнем. Кто с тобой ещё, Андрей? — глянул он снизу вверх на подходившего электрика. Тот пожал плечами.
— Я поеду, — сказал Карабанов. Нестеренко согласно кивнул, хотя после той зимней охоты отчуждение к доктору так до конца и не растаяло. Если бы не Владимир, электрик вряд ли решился снова позвать Сергея. Но учитель не случайно стал у них лидером. Он умел прощать сам и ненавязчиво подталкивал к этому других.
— А ты, Паша? — спросил Волков сосредоточенно молчащего Слепцова.
— Возьмёте — пойду с вами.
— Ну, разобрались, слава Богу, — с удовлетворением заметил егерь. — Все при деле.
— За это не мешает налить! — тут же взялся за бутылку Валерка.
— Ох ты, шнырла, — осуждающе покачал головой Адольф. — Портишься прям на глазах. Как демократ.
— А чем тебе плохие демократы? Я — за них. С ними веселей. Круши всё подряд — потом разберёмся.
Нестеренко с удивлением посмотрел на Валерку: что случилось с мужиком? Поставил в ряд стопки — свою, Волкова, журналиста и красноглазого Николая. Усмехнулся:
— Давай наливай, демократ голожопый. Думаешь, кто был ничем, тот станет всем? Вас опять на фу-фу берут. Получишь — от сапога подмётку.
— Да ну его, Андрей! — махнул рукой Адольф. — Разошёлся, как вшивый по бане. Болтает — не знай чево. Давайте, как принято — на кровях. Почин есть.
Все с удовольствием выпили, разговорились. Городские, оторванные несколько месяцев от природы, были возбуждены. С теплом в глазах слушали егеря и его подручных, вспоминали острые моменты вечерней «тяги», и каждый нетерпеливо ждал теперь уже утренних волнений.
Глава шестая
В первом часу ночи Валерка вывел свою троицу из избы. Команда Адольфа, благодаря «уазику», могла отправляться позднее.
Луна уже поднялась высоко. На чёрной грязной дороге хорошо были видны лужи, глубокие колеи, заполненные водой. Мужчины сначала рванули бодро, время от времени возбуждённо переговариваясь. Но налипающая на сапоги грязь постепенно делала шаги короче, а вместо разговоров теперь изредка слышались матерщинные реплики.
Примерно через час Валерка остановил подопечных.
— Всё. Дальше дорога не нужна. Пойдём по полю. Там есть сарай. В нём перекантуемся.
По непаханому полю идти стало легче. Вскоре в лунном свете увидели продолговатый сарай. Полуприкрытая воротина вросла в землю. Валерка осветил фонарём угол с набросанной соломой.
— Тут можно жить, — негромко хэкнул учитель, укладывая рядом ружьё, а под голову рюкзак.
— Только свежеповато, как на улице, — заметил Савельев.
— Дак вон дыра на крыше, — показал лучом фонарика в дальнюю противоположную сторону Валерка. — Держали когда-то лошадей…
— Теперь — мышей, — так же тихо, как остальные, проговорил Слепцов.
Охотники ещё какое-то время поворочались, делая каждый себе удобное гнездо в соломе, и затихли.
— Смотрите не засните, — строго, как детям, за которыми надо следить, сказал Валерка. Однако через несколько минут сам засопел, потом отвернулся от Савельева, возле которого лежал, и беззвучно уснул. «Командир хренов», — с иронией подумал Виктор. Глянул на светящийся циферблат часов — их он надевал только на охоту и рыбалку. Было полтретьего. Выход к шалашам через час.
«Интересно, как тут сделаны шалаши? — подумал Савельев. — Листвы ещё нет. Значит, прикрыты ёлками. А делать это надо заранее. Птицы должны привыкнуть».
Он вспомнил осенние охоты в Вологодской области. У поезда его встречал директор хозяйства. Вечером также выпивали-говорили, а ночью егерь вёз на машине к месту охоты. В октябре тетерева вылетают из чащи леса к убранным полям. Прежде чем спуститься на землю, обсаживают выступающие на опушку берёзы. Клюют почки, греются на солнце. Особенно любят «островки» деревьев, которые немного удалены от леса и поля. Здесь, под деревьями, егерь заранее ставил шалаш, а на толстых ветвях крепил чучела тетеревов.
Несколько раз Виктор попадал на хорошие охоты. К чучелам садилось по двадцать-тридцать тетеревов. Одним выстрелом удавалось взять даже по две птицы. С шумом, ломая сучки, они падали на землю, остальные взлетали, а через некоторое время к чучелам садились новые косачи.
От этих приятных воспоминаний сознание стало плавиться и Виктор начал засыпать. Сколько времени прошло, он не заметил. Вдруг в сарае что-то зашумело, захлопали крылья. Савельев сразу не понял: во сне это или наяву?
— Кто тут? — спросонья сел на соломе Валерка. В дальней части сарая, где была провалена крыша, снова что-то зашуршало, и через мгновенье снаружи донёсся жутковатый звук. Словно кто-то гукнул в длинный отрезок водопроводной трубы: «у-у — ху-у-у».
— Фу! Сова, падла, — сказал, успокаиваясь, Валерка. — Напугала. А вы чё, уснули?
— Нет, стерегли тебя, — насмешливо ответил Савельев.
— Сова? Опять сова?
Павел Слепцов с тревогой быстро поднялся на ноги. Учитель снизу, с соломенного логова, увидел, как на фоне провала в крыше, обозначенного мерцающими звёздами, появилась голова товарища, закрыла большую часть их, образовав чёрный круг, обрамлённый сверкающими блёстками. «Чёрная дыра», — подумал Волков с каким-то суеверным страхом.
— Ну, и што сова? — потянулся в темноте на соломе Савельев. — Наверно, по привычке залетела сюда за мышонком. А тут наш Валерий всхрапнул. Сова поняла: место занято.
— Ты с этим не шути, — недовольно проговорил Валерка. Похоже, ему не понравился намёк на сон. — Зимой она наделала делов. Ни с того, ни с сего заорала в лесу. Зимой! — ты понял? Когда все молчат.
Он включил фонарик, чтобы осветить часы.
— О-о! Пора собираться. По темноте надо залезть в шалаши.
Оказалось, идти придётся на два тока. Один — поблизости, другой — километра за полтора от него.
— Первым прилетает токовик. Старый тетерев. Его стрелять нельзя. Развалится весь ток.
— Знаем, знаем, — сказал Савельев.
— Ну, глядите.
В лунной ночи довольно быстро дошли до первого шалаша. Здесь, как заранее было условлено, остались Волков и журналист. Чтобы не застыть на холодной сырой земле, оба прихватили из сарая по охапке соломы. Постелили на ветки, а сверху Савельев положил непромокаемый плащ. Легли рядом, рассчитывая потом распределить зоны выстрела.
— Курить охота, — прошептал Виктор.
— Нельзя, ты што!
— Да эт я так, — тихо засмеялся Савельев. Умолк. Потом шёпотом спросил:
— А чёй-т они из-за совы расстроились?
— Пашка боится. Говорит: беду принесёт. Стой! Помолчи.
Едва они затихли, как издалека донеслось негромкое бормотанье. Волков подтолкнул напарника: слышишь?
Луна начинала бледнеть, но светила всё ещё ясно. Сквозь ветки шалаша Владимир оглядел территорию, где предстояла битва за любовь. Это был пологий косогор, понижающийся, видимо, к сухому болоту: деревья в той стороне стояли редкие — больше торчало кустарника. А слева и справа к поляне-косогору приближался лес. Оттуда, с левой стороны, снова послышалось бормотанье.
«Начинается!» — с волнением подумал учитель. И только он это мысленно определил, как от тёмного леса к середине косогора с шумным хлопаньем крыльев подлетела большая птица. Едва опустившись, тетерев сразу забормотал. Потом пробежал несколько шагов, огляделся и завёл вторую часть своей песни.
Если первая напоминала грубое воркованье голубя и передать её буквами было нельзя, то вторая представляла из себя весьма различимые слоги, которые Волков не раз воспроизводил, рассказывая знакомым об этой волнующей охоте. «Чуфф-фы-ы», — выводил крупный старый косач, вызывая на поляну тетёрок, а заодно оповещая других крылатых мужиков о своём появлении на току.
И сигнал был принят. С разных сторон захлопали крылья. Один за другим на косогор-поляну устремились сначала матёрые тетерева, затем — молодые сменщики ветеранов любви. В рассветной ясности уже можно было различить некоторые детали их нарядов. Главный цвет в одежде — чёрный. Но он имел оттенки. На голове и шее — чернота со сталистым отливом. Возле хвоста — синие перья. Крылья пересекали белые полосы — словно перевязи у офицеров прежних эпох. Возле глаз — ярко красные полукружья, которые охотники называют бровями.
Увидев главного токовика, навстречу ему бросился такой же крупный тетерев. Те, что прилетели следом, тоже разбились на пары. Опустив крылья и распушив веером поднятые кверху хвосты, дуэлянты бросались друг на друга, подскакивали вверх, сшибались, затем расходились, вытягивали шеи параллельно земле, громко «чуфыкали» и снова неслись навстречу один другому.
Захваченные этой картиной охотники сначала даже забыли о ружьях. Опомнились, взглядами показали друг другу, кто какую птицу берёт, и синхронно выстрелили. Стая с шумом поднялась в разные стороны. На земле остались лежать три тетерева — у кого-то из двоих выстрел оказался наиболее удачным.
Солнце ещё не взошло. Тетерева могли вернуться на ток. Поэтому напарники решили не выходить из шалаша.
Однако через некоторое время полыхнули выстрелы в той стороне, куда ушли Валерка со Слепцовым. А спустя минут сорок показались они сами.
— Всё. Охоте конец, — с неудовольствием сказал Савельев и полез из шалаша. Подобрав добычу, компаньоны закурили. Край неба за высохшим болотом и редколесьем тронула алость. Словно там пролили сильно разбавленный вишнёвый сок, и он стал растекаться не сверху вниз, как по законам земного тяготения, а, наоборот, снизу вверх. Теплый дым от сигарет в безветренном холодном воздухе поднимался вяло и неуверенно маленькими облачками.
— Сколько я таких зорь встретил, а двух одинаковых не видел, — задумчиво проговорил Савельев.
— И что удивительно, — согласился учитель, — в одном и том же разные люди видят каждый своё. Вот она — человеческая неповторимость.
Подошли Валерка со Слепцовым. Тоже с добычей. Пока возвращались в деревню, Валерка раза два с восхищением вспоминал, как стрелял Павел.
— Влёт, ты представляешь? — оборачивался он к Волкову. — Из шалаша! Там развернуться негде, а он — влёт. Сквозь ветки. Нет, я б так не смог. Видать, тоже с тобой был в диверсантах?
— Хватит тебе, — сказал, наконец, Слепцов.
А учитель почему-то вспомнил зимний день, готового к прыжку кабана и опустившего ружьё экономиста.
* * *
В деревне они оказались первыми. Часа через полтора приехала команда Адольфа. «Тетеревятники» до этого времени только выпили из термоса чаю и теперь, голодные, подгоняли остальных.
В избе как-то незаметно появилась тихая, немолодая женщина с печальным лицом. Робко поздоровалась, стала накрывать на стол. Волков ещё вчера обратил внимание на порядок и прибранность в доме. С Валеркиным братом это не вязалось. Лохматый, давно не стриженный, с щетиной на узком длинном лице, которое перерезал большой рот, он, как уловил учитель из слов Валерки, вроде бы жил один. А тут, оказывается, была хозяйка. Учитель хотел пригласить её за стол, но решил, что пока не надо лезть со своим уставом в чужой монастырь.
— Севодня, ребяты, мы все отличились, — сказал Адольф, поднимая стопку. — Андрей, если б не увезти его, перебил ба всех селезней. Ну, тех, конешно, можно. Тех мужиков, в отличие от двуногих — большой перевес над бабами. Вот он, — показал егерь на Карабанова, — тоже молодец. А про вас — у меня выраженьев нету. Скоко косачей завалили! Поэтому — за нас с вами и за хрен с ними.
На этот раз продуктовое участие городских было скромней — сказывалось отсутствие Игоря Николаевича с его заказами. К тому же в заводской «кормушке» Слепцова — закрытом буфете для руководства, выбор тоже резко сократился. Тем не менее, для деревенских и эта скудость выглядела роскошью. Когда тихая женщина принесла на одной тарелке нарезанный финский сервелат, на другой — выложенную из банки и тоже порезанную датскую ветчину, а на столе уже стояли открытые шпроты и исландская селёдка в винном соусе, суетной Валерка не удержался:
— А говорят, в городе голодают.
— Всё в жизни относительно, Валера, — заметил Савельев. — Энгельс писал: когда мы с Марксом голодали, то брали корзину пива, свиной окорок и уезжали в лес.
— Вона как! Я бы согласился, — сказал Валерка.
— Дмитрий, пригласи хозяйку. Пусть посидит, — предложил Волков. — С мужем. С гостями.
— Не муж он ей, — снова встрял Валерка. — Беженка она. Из Молдавии.
— Чё ты прыгаешь, как блоха на зеркале? — не зло, но всё же с неудовольствием проговорил Дмитрий. — Валентина! Иди к нам! Гости зовут.
Женщина, робко улыбаясь, села возле подвинувшегося Дмитрия. Ей поставили стопку.
— Давайте выпьем за то, — сказал лохматый хозяин, — штоб Валентина прижилась у нас. Тут у ей сестра. Можно сказать: родина. А тем гадам — ни дна, ни покрышки.
Посидев немного, Валентина ушла из избы совсем. «Потом приду, уберу», — сказала Дмитрию.
После её ухода Нестеренко спросил хозяина:
— Давно она здесь?
— Полгода. Начала вон, вишь, улыбаться. Когда прибежала, каменная была. Про молдаванов и сейчас, как услышит, трясётся. У ей в Рыбнице — есть такой город в Приднестровье…
— Знаем, знаем, — сразу став внимательным, сказал Савельев.
— …там старшая дочка с мужем. А она — сама Валентина — жила с младшей где-й-то на молдавской стороне. В селе. Ну, там сёлы-то не такие, как у нас. Дома каменные… богатые. У ей, говорит, был всё жа плохонький. Муж умер, а без мужика как строиться? И девчонка ещё молода. Школу, последний класс кончала. Молдаваны вроде как давно стали притеснять. Вскоре после начала перестройки. К русским пристают. Гонят их. Дальше — больше. Говорить русские должны только по-молдавански. Писать — по-ихнему. Кто по-русски скажет — по морде. Бить стали.
— Вот што стервец, наделал! — бросил вилку Нестеренко. — Горбачёв этот!
— А прошлой осенью девчонку поймали, изнасиловали. Да ещё натворили с ней всякого. Она под утро, считай, приползла домой. Потеряла сознание. Валентина — на почту. Прозвонилась старшей дочке. Та с мужем приехала на машине. Не пускали! Кой-как прорвались. Забрали девчонку — молдаваны-то в больницу не берут. Сама тоже с ними — с дочкой и зятем. Там девочка и померла.
— Сволочи! — мрачно проговорил Волков.
— Валентине после этого жисть не жисть. А тут звонют соседи… Молдаваны, между прочим. Тоже всякие там есть. Молодняк ихний… которых на автобусах возили на митинги… в этот… как он… Кишинёв — порывались дом поджечь. Приежжай, говорят, Валентина. Когда хозяйка дома, не решатся. Она через силу приехала. А два дня прошло — ночью дом подожгли. Успела ток документы схватить и кой-чево из барахла спасла. Еле-еле не помешалась. Вот прибежала суда… к сестре. Она старше Валентины. Намного будет старше. Через избу от нас. Приходит иной раз, когда попрошу. Моя-то пять лет, как померла. Дочка — вон Валерка ездиет к ней — давно уж в городе.
Дмитрий замолчал. Молчали и остальные. Сказать, были потрясены — вряд ли. Деревенские эту историю знали, а городские теперь каждый день слышали, читали, видели по телевизору слёзы, крики, буйство толп, и если раньше душу переворачивала капля людской беды, то теперь душа иногда переходила через ручьи беды, не замочив ноги. Только когда чьё-то горе возникало рядом, на расстоянии вытянутой руки, то оно могло обжечь ещё не покрывшуюся коростой часть души.
— Издержки национального пробуждения, — сказал со вздохом Карабанов. — Прибалты. Молдавия. Грузия. Все империи проходят через это, если в них силой согнали разные народы.
— Вы, наверно, плохо знаете историю, Сергей, — заметил Савельев. — Это Грузию-то Россия силой пригнала? Грузины несколько раз сами, я вам подчёркиваю — сами! просили принять их в российское подданство. Если б не Россия, грузинский народ мог просто-напросто исчезнуть. Как инки. Как ацтеки. Вы такие народы сейчас знаете? А они были. Персия и Османская империя — мусульманские державы — рвали в клочки маленькие грузинские царства. После их захвата грузин ждала ассимиляция и уничтожение христианской религии. Поэтому задолго до Георгиевского трактата — его заключили при Екатерине Второй, грузинские цари просились под защиту православного государства. Первый раз обратились ещё в 1586 году, к сыну Ивана Грозного — Фёдору Ивановичу, чтобы он «принял их народ в своё подданство и спас их жизнь и душу». Георгиевский трактат признавал Грузию вассалом российской короны. Но грузинский царь Георгий XII, отправляя в 1800 году послов к Павлу I, велел отдать царство своё «в полную его власть и на полное его попечение». Это я вам цитирую документ. И Павел подписал манифест о присоединении Грузии к России. Однако через несколько месяцев молодые советники Александра I, ну, вы знаете — так называемый «Негласный комитет», вроде недавнего президентского Совета при Горбачёве, стали убеждать нового императора отказаться от присоединения Грузии. Зачем, мол, России лишние заботы? Дразнить врагов — Персию и Османскую Турцию… Александр не согласился. Я читал в его манифесте, почему Россия берёт на себя «бремя управления»: «Не для приращения сил, не для корысти, не для распространения пределов и так уже обширнейшей в свете империи…» А для спасения народа-единоверца. Так што, дорогой товарищ-барин, никто Грузию силой не тянул. А сколько дала Россия той уйме народов и народцев, которых объединила в одно разноцветное государство! Культуру у всех сохранила. Языки все сохранила. Многим даже письменность создала. Якуты ещё в девятнадцатом веке получили письменность. А другие северные народцы обрели её в советское время. За такую веротерпимость и, как сейчас становится модным слово, — толерантность, русских надо хоть раз в неделю благодарить. Я вам напомнил об инках и ацтеках. Из них испанцы сделали человеческий фарш. Никаких следов, кроме пирамид, не оставили. Историки разных национальностей называют уничтожение коренного населения Америки «Американским холокостом». Приводят разные данные. Самые распространённые такие: до прихода европейцев было 15 миллионов индейцев, к началу двадцатого века осталось 237 тысяч. Сохранились документы о нечеловеческих зверствах «цивилизованных» европейцев. Включая письменные свидетельства о том, как кормили индейскими детьми собак. Есть даже старинная гравюра об этом.
А про североамериканских индейцев вам напомнить? Где их великие территории? Их культура? Язык? Где вообще упоминание о них? Только в книгах Майн Рида? А русский язык — мне лично говорил видный казахский писатель — вывел сотни всяких сочинителей, даже из микроскопических по численности народцев, на мировую арену. Издали его на казахском, сколько народу прочитало? Десять тысяч? Ну, сто! А переведённого на русский сразу узнают миллионы.
Толерантность у русских в крови. Есенин в 16 лет написал такие слова: «Затерялась Русь в мордве и чуди…» Это значит, за тысячу лет мы вобрали в себя гены множества народов. Потому и терпимы ко многим. А надо бы иногда вести себя жёстче. Злее надо быть! Улыбнуться и придушить гнусь. Вы смотрите, што творится в Молдавии! Преследуют русских, украинцев, евреев, гагаузов. Нашего собкора избили — он сказал, што за некоторые лозунги на митингах надо привлекать к уголовной ответственности. А лозунги какие? «Чемодан — вокзал — Россия», «Молдавия — для молдаван», «Русских — за Днестр, евреев — в Днестр». Это же призыв к убийствам!
— Чёрт-те што происходит, — расстроенно сказал Нестеренко. — Совсем недавно представить такое было нельзя. Отец строил ГЭС в Таджикистане… его послали, как наладчика оборудования… мы там жили. Мама — она инженер-технолог… работы по специальности сначала не было… работала недолго на почте. Мы с сестрёнкой Надькой — в школе. Я-то уже лоб — лет тринадцать, четырнадцать, а сестра — только в первых классах. У нас двор был — дома небольшие, двухэтажные, стояли буквой «П»… При каждом — два-три виноградных куста… летом — тень до второго этажа. Так вот, в одном нашем дворе — дети семидесяти национальностей! Я не округляю… когда взрослым стал, уехали оттуда… уже учился в институте — для интереса посчитал. Семьдесят! Про некоторые национальности раньше даже не слыхал. Кумыки… Даргинцы… Таты… Ассирийцы… Кого только не было! И ни одного конфликта на национальной почве. По другим поводам дрались — пацаны ведь! Но штобы национальность задеть — не помню. Отцы-матери могли хорошо уши накрутить. А сейчас какие вещи творятся? Не та национальность — убирайся вон.
— Ну, што можно сделать, если поднялся народ? — пожал плечами Карабанов. Развитие событий его радовало, и спорить ему не хотелось. — Вы же видите: инициатива идёт снизу. Сами массы создали «народные фронты» и добиваются национального освобождения. Вся Восточная Европа уже сбросила ярмо казарменного социализма. Очередь за нами.
— Неужели вы так наивны, Сергей? — удивился журналист. — Тогда хоть нас не считайте такими. Самый активный народ из этих «фронтов» находится в американском ЦРУ, израильском «Моссаде», в английских и германских спецслужбах. Как всю контрабанду у Ильфа и Петрова делали в Одессе, на Малой Арнаутской, так и бульон для всех «народных фронтов» варится в недрах иностранных разведок. Разливают его профессионалы. А помогают, между прочим, наши «агенты влияния».
Услышав это, Слепцов напрягся. Об участии зарубежных спецслужб в дестабилизации обстановки в Советском Союзе они недавно снова спорили с отцом. Не ребёнок и не далёкий от реалий жизни «ботаник», а специалист с высоким уровнем допуска к секретам, Павел понимал, что противостоящие государства всегда и всеми способами стараются ослабить друг друга. Но он считал, что противники демократических перемен, стремясь сохранить изжившую себя систему, сильно преувеличивали размах тайного наступления на Советский Союз. И среди этих людей был его отец.
Глава седьмая
В тот вечер Павел приехал домой к родителям с Анной. Они догадывались, что у сына кто-то есть, но кто — не знали. А он не говорил, что это была давно известная им, когда-то едва не ставшая снохой, Анна. Теперь решил заново познакомить их.
Часа два прошли незаметно. Василий Павлович остроумно развлекал молодую статную женщину, незаметно процеживая вопросами её прежнюю жизнь. Мать Павла с теплом и одновременно со скрытым, чуть-чуть настороженным любопытством изучала в своё время несостоявшуюся, а сейчас, кажется, возможную сноху. Сын только недавно начал отходить от разных переживаний, и матери приятно было видеть, как он светлеет лицом, слушая разговор Анны с отцом.
После того, как Павел отвёз подругу домой и вернулся к родителям, он понял: будут вопросы. Уж слишком заинтересованно глядела мать. Да и отец, выйдя из кабинета, хитровато прищурил глубоко запавшие глаза.
— Пока ничево не знаю, — сразу заявил Павел. — Можете не беспокоиться.
— Жизнь уж больно шаткая, Паша, — немного потускнела мать. — Надо за што-то держаться. Хорошая семья, она во все времена — надёжная опора.
— Пусть думает сам, — повернулся, чтоб уходить в кабинет, отец. — Может, правильно не торопится. Скоро будет большая разруха. Работают сразу со всех сторон. Человек не то што семью, себя прокормить не сможет.
— Опять ты винишь только внешние силы, — проговорил Павел, идя за отцом в его кабинет. — Идейные диверсанты… Заговор капиталистов… У нас система вся сгнила! Изнутри прогнило.
— Системы, которые вы делаете — они гнилые? Плохо управляют ракетами?
— Ну, што ты равняешь? — удивился Павел. — До наших систем им тянуться и тянуться. Но это разные вещи.
— Нет, не разные. Там, где пока ещё порядок, там мы лучше других. Но скоро и вам перекроют кислород. Сократят финансирование. А может, совсем его прекратят. Кто-нибудь из недоумков скажет: денег у государства нет. Хотя в действительности — всё это реализация давно разработанных планов. Зина! — громко позвал отец жену. — Сделай мне кофе! Ты кофе будешь? — спросил он Павла. Тот кивнул. — Мать, две чашки!
— Я уверен: изберём Ельцина президентом — он наведёт порядок, — твёрдо заявил Павел.
— Не для того его надувают, штобы позволить остановить разрушение. Им не нужен Советский Союз. Единственное, што пока тревожит — ядерное оружие должно быть под контролем. Я, конешно, не считаю, што во всём виноваты только наши коллеги за «бугром». Тут как с человеческим организмом. Здоровый он — никакая зараза к нему не пристанет. А наш — больной, расшатан. Любой чих со стороны вызывает новое воспаление. И никаких сомнений у меня нет: главный разрушитель организма — Горбачёв.
Генерал задумался. В последнее время он наблюдал за Горбачёвым только с профессиональной точки зрения. Во время отдыхов на Северном Кавказе выстраивал контакты с людьми, работающими в Ставропольском управлении КГБ. Возвращаясь в Москву, на нейтральных территориях сходился с теми, кто знал Горбачёва раньше. Копил сведения аккуратно, не привлекая внимания, поскольку был хорошо осведомлён, что всякий интерес к «чужой делянке» даже со стороны своих кадровых сотрудников вызывал у коллег в «конторе глубокого бурения» настороженность. Взвешивал факты, сопоставлял их, и, как у художника, складывающего кусочки смальты, из-под рук постепенно выходит мозаичная картина, так у него, опытного аналитика, вырисовывался всё более ясный психологический и поведенческий портрет Генсека — Президента. При этом те детали биографии, которые для другого человека не имели значения, здесь оказывались знаковыми и определяющими, как очертания фундамента будущего дома. В комсомольской юности Горбачёв участвовал в художественной самодеятельности. Те, кто его видели тогда, утверждали, будто в сценках он умел моментально изображать диаметрально противоположных персонажей. Мастерство перевоплощения было настолько поразительным, что некоторые не сомневались в большом артистическом будущем Мишки Горбачёва.
Этот артистизм пригодился ему в политике. Каждый, кто общался с Горбачёвым, видел его разным и в то же время в чём-то одинаковым. Он был увёртлив с элементами откровенной лживости и тут же мог изящно одеть ложь во фрак полупристойности. Был грубым матерщинником и приветливым обаяшкой. Располагал к себе бесконечным потоком слов и отталкивал их звонкой пустотой. Он был, как гранёный стакан, каждая грань которого выкрашена отдельной краской. При этом краска была замешана на чём-то вроде ртути — так порой неуловимо переливались цвета.
Но, как у стакана главным свойством был объём, так у Горбачёва главной его сутью была непомерная, бесконечная влюблённость в себя, вера атеиста в обожествлённое своё предназначение. Только сносного фундамента для этого не имелось. Всё самомнение держалось на зыбком, как плывун, песке апломба.
Отец хотел, чтобы Павел понял его тревогу и не обольщался ни насчёт Горбачёва, ни насчёт Ельцина.
— Он провинциальный интриган — наш Президент, — сказал Василий Павлович. — При этом я нисколько не хочу обидеть провинциалов вообще. Как раз из них, в большинстве своём, хоть у нас, хоть в других странах, пополняется государственная, культурная и прочая элита. Не зря говорят: великие люди рождаются в провинциях, а умирают в столицах. Но некоторые, даже попав по воле случая в элиту, остаются глубокими провинциалами. Вот наш — такой. Слабовольный, неискренний, недалёкий и вообще — мелкомасштабный. А мнит из себя великого. Он думает всех обвести вокруг пальца, а его самого за палец водят. Смотри, как отбирает у Горбачёва власть Ельцин! Вот кто беда для страны. Генсек мог много раз приручить Ельцина, использовать его властолюбие в своих целях, в конце концов, дезавуировать вырастающего громилу. Фактов — на десятерых хватит. Не сумел. Жидковат и глуповат. А Ельцин, считай, выхватил государственную авторучку у самонадеянного нашего трепача, превратил её в суверенитетный лом и крушит им остатки целого.
Но я ещё раз, Павел, хочу тебе сказать: если б не было активной работы иностранных спецслужб, то не было бы такой глубины развала. Они не прекращали этой работы все последние десятилетия. Андропов ещё в 77-м году секретной запиской информировал Цека партии о главных её направлениях. Он тогда официально предупреждал, что американская разведка ведёт масштабную и активную вербовку агентов влияния из наших граждан. Не считаясь с затратами, ищет людей, которые по своим личным и деловым качествам смогут потом занять высокие административные должности. Их собираются обучать и постепенно продвигать в сферы управления политикой, экономикой и наукой.
А через четыре года, вскоре после прихода к власти Рейгана, началось масштабное наступление на нашу советскую систему. Тогдашний директор ЦРУ Уильям Кейси в первом своём докладе президенту представил не только подробные сведения о состоянии обороны Советского Союза, его экономике, золотовалютных запасах, но и самые секретные материалы о завербованных людях, а также об агентах влияния в наших государственных структурах. Кейси сказал президенту: «Наступила благоприятная ситуация для нанесения ущерба Советам. Мы можем ввергнуть в полный хаос их экономику, взять под контроль и оказывать влияние на развитие событий в обществе и государстве. Нужны тайные операции, которые организуют движение сопротивления. Эти методы могут дать больше результатов, чем снаряды и спутники».
Рейган прислушался к рекомендациям Кейси и других руководителей спецслужб. Через два года — в 83-м, он подписал секретную директиву, которая определила стратегическую цель США. Она называлась: «фундаментальное изменение советской системы». Главным здесь было создание «внутренних оппозиционных сил». Для этого уже в первые два года федеральный бюджет выделял по сто пятьдесят миллионов долларов. Из них, обрати внимание, восемьдесят пять миллионов шло на подготовку кадров для будущих оппозиционных движений, на оплату услуг агентов влияния, на их поездки за границу.
— Нашли на што тратить, — поморщился Павел. — Агенты влияния… Нестеренко называет агентом влияния Карабанова. Если все такие, как Сергей, то не в коня корм. Ну да, он не перестаёт хвалить американскую жизнь, но ведь он там был. На кого он может повлиять — доктор городской больницы?
— Да хоть на тебя. На вашего учителя. На Андрея бровастого.
— Ну, на меня где сядешь, там и слезешь! — вспыхнул Павел. — А остальные тоже не мальчики. Особенно Вольт… Камень… валун.
— С паршивой овцы хоть шерсти клок. Тем более доктор городской больницы. Через его руки и разговоры проходит много людей.
Василий Павлович аккуратно отпил глоток кофе.
— Такой интенсивной работы иностранных разведок на территории нашей страны не было, наверно, со времён Гражданской войны. Агентуру не пробует заслать только самый ленивый. С мусульманами, кроме традиционных британцев и американцев, работают под разными прикрытиями специалисты из мусульманских стран. С молдаванами — румыны и более дальние европейцы. С прибалтами — весь букет из Старого и Нового света. Недавно я прочитал записки одного нашего разведчика, долго работавшего в ЦРУ. Его выдал кто-то из перебежчиков. Он говорит, что в СССР ещё несколько лет назад работало больше шпионов ЦРУ, чем за всю историю этого ведомства. Доступ к секретам нашей страны был просто невероятный. Ты знаешь, шпионов в разведках мира называют «кротами». Так вот эти «кроты» прорыли ходы во всех отраслях, из-за чего советская система, по его остроумному определению, была похожа на кусок швейцарского сыра. Шпион сидел на шпионе. В сфере обороны, экономики, науки, государственного управления. Проникли в КГБ, ГРУ, Кремль, научно-исследовательские институты.
— А ваши-то люди где? — удивился Павел. — Разучились «кротов» и мышей ловить?
— Ловим. Берём количество и качество. Несколько лет назад основательно порвали их сеть. Взяли десятки агентов. Не только новичков. Некоторых — со стажем в двадцать-тридцать лет. К сожалению, работали и в наших органах. В разведке. В контрразведке. Об этом писали… Мы тоже с тобой говорили. Их фамилии сейчас известны. Но есть ещё один пласт, и наши чувствуют, что здесь их тормозят. Причём сверху тормозят. Самый главный.
— Крючков?
— Есть поглавней Крючкова.
Павел догадался, что отец имеет в виду Горбачёва.
— Недавно Крючков пришёл к нему с серьёзными материалами по поводу разветвлённой сети агентов влияния. Сам понимаешь, наши профессионалы работали не один день. Из материалов следовало, что цель этих людей — ликвидация существующего государственного строя. Крючков пришёл за разрешением продолжить разработку, поскольку следы вели к очень известным личностям. Пришёл не мальчишка с улицы, не сплетник, которому кто-то что-то нашептал. Его можно подозревать в недостатке жёсткости и решительности — не Бонапарт, конечно, и не Жуков. Кабинетный аналитик. Но до того, как стать председателем КГБ, он четырнадцать лет руководил нашей внешней разведкой — одной из лучших в мире. Это о чём-то говорит? И пришёл не к Мишке-соседу пива выпить. Пришёл к президенту страны, которая уже крошится. Горбачёв отбросил досье и запретил вести дальнейшую разработку сильно засвеченных людей. А половина ельцинского окружения, если не больше… самые агрессивные депутаты — союзные и российские — из этих списков. Они ездят в Штаты, ФРГ, в Англию, как на заработки. Потом здесь отрабатывают полученное. Раньше контактов советских людей с иностранцами было мало — согласен с тобой, может это не совсем хорошо.
— Это совсем плохо.
— Ладно, ладно. Теперь каждый едет, куда хочет. По вызову… по приглашению… Но едут-то не рабочие и не крестьяне. Кому они нужны? Их не приглашают за счёт принимающей стороны. Приглашают тех… делают вызовы, встречают в аэропортах, поят-кормят бесплатно… тех зовут, кто подаёт надежды, как возможный организатор масс, кто будет потом проводить в своей стране, то есть у нас, политику борющихся с нами государств. Ты, наверно, не знаешь… к сожалению, многие тоже не знают, что американским конгрессменам запрещено получать подарки ценой больше 50 долларов. Они не должны позволять кому-то — хоть раз! оплатить их проезд на самолёте иль в поезде. Не имеют права жить в гостиницах за чужой счёт. Это считается нарушением парламентской этики и рассматривается как подкуп американского государственного деятеля. Конгрессмена могут лишить мандата.
А что творят наши депутаты из Межрегиональной группы и «Демократической России»? Летят-едут за счёт иностранных организаций. Живут и кормятся за деньги принимающих структур. Да ещё берут наличными. Им, разумеется, говорят, что это гонорар. За выступление в каком-нибудь институте… Вроде «института Крибла»… Слыхал про такой?
— Нет.
— Но по размеру гонорар похож на взятку, а по существу — на подкуп. Пять тысяч долларов за полчаса. Или семь тысяч… А потом — часы занятий с опытными инструкторами. «Институт Крибла» поработал в Венгрии и Польше. Результаты известны. Теперь развернулся у нас. Знаешь его задачи? Подбирать в СССР людей, недовольных существующим строем. Его представители ходят на митинги, смотрят телевизор, слушают, кто что говорит. Наиболее перспективных приглашают, учат, как организовывать оппозиционные структуры. Потом помогают объединяться в массовые движения. Роберт Крибл не скрывает цели. По его же собственным словам, он хочет «посвятить свою энергию развалу Советской империи». Как тебе эта цель? По законам Соединённых Штатов любая политическая или общественная организация, если она ставит задачу разрушения целостности США, объявляется антиконституционной, и на этом ей приходит конец. Учредители и организаторы преследуются в уголовном порядке.
А Горбачёв сдал криблам Восточную Европу и теперь готовит к этому Союз. Как малыша конфеткой, купили нобелевским лауреатством. Присудили Нобелевскую премию мира! Сияет дурачок с конфеткой. Вместо того, чтобы принять жёсткие меры против агентуры, оберегает её. Боится, как бы она не обратилась за помощью к своим учителям и хозяевам. Те сразу поднимут крик: «В Советском Союзе душат демократию!», «КГБ возрождает тридцать седьмой год!» Для Горбачёва самое страшное — потерять популярность на Западе. В своей стране его ненавидят — и патриоты, и демократы, и просто народ без политической окраски — это он переживёт. Им должны восторгаться на Западе. Поэтому у нас одни ученики криблов призывают разрушить государство с парламентских трибун, а другие — готовят к этому массы. Смотри: опять начались шахтёрские забастовки. Теперь — с политическими требованиями. Думаешь, без участия подготовленных организаторов? Как бы не так! Один не вылазит из Израиля. Другие — из Штатов. Сейчас они здесь. Потому что нужны.
— Но, чёрт возьми, отец! Разве можно так жить, как живут шахтёры? Недавно прочитал: им мыла негде купить! Грязные… чёрные, как негры, идут домой. Власть сама делает всё возможное, штобы оттолкнуть народ от себя.
— Тут ты прав, — помрачнев, согласился Василий Павлович. — У нас власть то и дело своими действиями отталкивает народ. И толкает к тем, кто не пожалеет потом ни народа, ни страны.
— Никакие агенты столько не натворят, — осуждающе проговорил Павел, — сколько сделали партократы во власти. Это ведь против них поднимаются люди в республиках. Я вот хожу на митинги — меня разве шпионы в спину толкают?
— Не знаю, кто толкает тебя — может твой доктор, может амбиции. У каждого свои причины. Но на то и профессионалы, штобы частное объединить в общее. Несколько человек могут быть абсолютно разными по образованию, возрасту, привычкам, вкусам. Вроде ничего объединяющего! Кроме одного фактора: работающей поблизости от их дома фабрики. Одному не нравится шум. Другого — расстраивает вид фабричных корпусов из окна квартиры… Третий боится за ребёнка — запахи производства могут повлиять на его здоровье. У четвёртого-пятого свои причины для недовольства фабрикой. Но есть шестой… Его наставникам не нужна продукция этого предприятия. Она — оборонного значения. Если производство ликвидировать, можно получить некое преимущество. Бороться за ликвидацию фабрики, как предприятия ВПК, шансов победить немного. Нужна более благородная причина. Экология! Борьба за улучшение экологии может привести к закрытию предприятия. На этой платформе объединяются все недовольные фабрикой. И хотя причины недовольства у всех разные, цель сходится.
Особенно хорошо получается, если человеку какой-то национальности раз за разом внушать, будто его проблемы идут от людей другой нации, которые захватили его землю, построили зловредную фабрику и вообще являются оккупантами.
А ведь именно так начинали формироваться «народные фронты» в Прибалтике и других республиках. Ты, может быть, не знаешь — на первые экологические митинги в Литве, Эстонии, Латвии приходило по десять — двенадцать человек. Всего! Но когда из-за границы начали приезжать специально подготовленные эмигранты — наши люди знали их, только не было команды вмешиваться… вот тогда из искр стало заниматься пламя.
— Мне кажется, отец, ты сильно преувеличиваешь значение разных этих сил, — усмехнулся Павел. — Эмигранты… Агенты влияния… Над нашей политической системой висит рок. Она была зачата в грехе… в крови. И вот теперь всё возвращается к исходной точке. К тому началу. Тогда судьба выбрала царя — слабого, безвольного, нерешительного. Теперь она вытащила из колоды Горбачёва. Такой же пустой. Так же нет воли. Да она и не должна быть у человека, чья высшая задача — разрушить всё, на чём держится Система.
— Мне жалко тебя, — сказал отец, вставая, чтобы отнести пустую чашку. — Ты не видишь беды за ближайшим углом.
— А я думаю, ты сильно сгущаешь краски.
* * *
Тогда они с отцом опять расстались раздражённые друг другом, и вот теперь слова нового охотника, приглашённого Волковым в их команду, напомнили Слепцову об этом.
— Вы же прогрессивный человек, Виктор, — сказал он. — Я читал вас… Слушал по телевизору. Вы сами призывали к переменам. А теперь хотите остановить их? Вернуться в отвратительную недавнюю жизнь? Похоже, вас всё в ней устраивало, если вы так недовольны демократией.
Волков и Нестеренко с изумлением уставились на Слепцова. Чтобы Павел выдал зараз такую длинную речь — это было редкостью. Да и сам экономист, закончив осуждение журналиста, вроде как скис. Насупился, глаза совсем ушли в провалы. Однако Савельев, не зная Павла, на это не обратил внимания. Он передал Адольфу налитую Валеркой стопку, следующую поставил перед собой и спокойно сказал:
— Мне много чево не нравилось и не нравится в нашей стране. Например, я ненавижу советскую домостроительную архитектуру. Прежде всего — за внешний вид. Это не дома для жилья людей, а какие-то тюремные бараки, где отбывают срок. Человек должен с детства, с рожденья видеть вокруг себя красивое. В том числе — архитектуру. А што он видит, когда идёт в садик? Унылые, однообразные, какие-то ублюдочные панельные коробки. Каждая похожа на соседнюю, та — на следующую… Ужас! В них не только по пьянке запутаешься, как в «Иронии судьбы». Трезвый дорогу не найдёт к своему дому. Разве среди этого убожества может эстетически развиваться человек? В Касабланке, когда мы там были — это в Марокко город, сопровождающая дама рассказывала, будто одно время указом ихнего короля запрещалось строить новые здания, если они похожи на существующие. И добавляла: архитектору отрубали голову.
— Ни хрена себе! — воскликнул Нестеренко. — И што — все непохожие?
— Ну, я думаю — это не так. Есть кварталы, где дома действительно разные. А на окраинах — всего хватает. Но сам подход меня устраивает.
— Давайте-ка выпьем за всё хорошее, — сказал Адольф, с улыбкой глянув в угол избы, где лежал щенок. — А то водка прокиснет.
Выпили. Стали закусывать.
— Это насчёт того, што нравится — не нравится, — проговорил, дожёвывая, Савельев. — Мне не нравилась избирательная система. Собственно, выборов-то и не было. Я выступал против отсутствия политической состязательности. Когда правит одна партия, больше возможностей для злоупотреблений со стороны её ставленников во власти. Надо иметь такого лидера, штоб сам был кристально честный, другим не давал зарываться и видел жизнь на десятилетия вперёд.
— Как Сталин, — заявил Нестеренко. — После смерти оставил подшитые валенки и 137 рублей на книжке. А страну с атомной бомбой.
Все разом посмотрели на него, и по взглядам каждого было видно, как они отнеслись к реплике Андрея: от явно ненавистного у Карабанова до сочувственного у деревенских.
— Но уж, конешно, не как Горбачёв, — сказал Савельев. — Так што меня далеко не всё устраивало. Власть переставала чувствовать народ. Не помню, у кого-то хорошо сказано: «Вышли мы все из народа. Как нам вернуться в него?» В партийных верхах разрасталась мафия… Особенно в республиках… Вот ей, этой мафии, не нужно было обновление социализма. И, насколько хватало моих возможностей — они, правда, тогда были не очень велики, я старался об этом говорить. Только при этом выступал — и сейчас выступаю! — не за разрушение всего нашего здания, а за его ремонт. В чём-то даже за капитальный ремонт. Но не за снос! Фундамент у здания хороший. А сейчас вовсю идёт разрушение. Национально-партийная мафия и стала главным агентом влияния. Я понимаю, што вы солидарны с товарищем (он показал на Карабанова) в оценке прибалтийских и других суверенитетов. Ну, как же! Право республик на отделение. Демократический принцип. Главные демократы земли — Соединённые Штаты поддерживают это. А вы знаете, из-за чево началась у них кровопролитная гражданская война в девятнадцатом веке?
— Это знает каждый школьник, — бросил доктор, обиженный тем, что Савельев не назвал его по имени, а просто показал пальцем. — Демократы — северяне пошли освобождать рабов на Юге.
— Вы спросите об этом у их школьников. Они вам точнее скажут. Одиннадцать южных штатов провозгласили суверенитет, а президент Авраам Линкольн расценил это, как мятеж. Нарушение территориальной целостности. Освобождение рабов сюда вплели намно-о-го позднее. Южане вышли из Союза штатов, создали свою Конфедерацию, приняли Конституцию, образовали собственное правительство и определили столицу. Разве не имели права? Сорок процентов общей территории, население девять миллионов — по тем временам и уровню заселённости это могло быть крупное государство. Но ради восстановления целостности Союза Линкольн начал войну. Между прочим, самую кровавую в истории этой страны. Около миллиона погибших и раненых. Зато сохранил государство.
— Да-а. Это не «пятнистый», — с огорчением сказал Нестеренко.
— И сейчас попробуй там кто-нибудь заговорить об отделении. Сепаратизм — самая осуждаемая федеральной властью тема. Индейцы лет тридцать назад хотели на своих исконных землях провозгласить нечто вроде республики. Выйти из состава США. Их убедили, што этого делать нельзя. Автоматами убеждали.
— А кто такие агенты влияния, Виктор? — спросил Адольф, обратив к журналисту большую, раскрасневшуюся от тепла и выпитого физиономию. Он, похоже, продолжал политически развиваться и не мог оставить невыясненным для себя незнакомый термин. — Зимой Андрей о них говорил. Теперь вот ты. Эт кто такие? Шпионы?
— Ну, да. Вроде Валерки иль Николая, — с насмешкой вставил раньше Савельева доктор. Он почувствовал в этом моложавом, может чуть старше его самого, мужчине с небольшим капризным подбородком и пристальным взглядом светло-карих глаз явного противника и внутренне ощетинился. — А вообще, Адольф, — это выдумки кэгэбэшников.
В Савельеве странным образом уживались порой несовместимые человеческие свойства. Он мог быть простецким, своим в доску мужиком, доступным, не чванливым, сразу начинающим общаться на «ты» с любым человеком, независимо от социального статуса, если человек ему нравился, и вместе с тем — держать дистанцию, не идти на тёплый контакт с людьми, с которыми, казалось, был «одного поля ягода». При этом нисколько не переживал от того, что может выглядеть в их глазах высокомерным и даже надменным.
— Ты его не слушай, Адольф, — показал на Карабанова Савельев. — Это не так. Товарищ заводит рака за камень. Никакие это не выдумки. К сожалению, самая реальная опасность. Шпиона, рано или поздно, можно поймать с поличным. А этого даже разоблачить трудно. Агент влияния — это человек, который занимает, как правило, заметную должность в государственных органах управления, в руководстве важными структурами, является общественно значимой личностью. Он даже может не красть секретов. Его задача другая — воздействовать на сознание своих сограждан в нужном для враждебного государства направлении. Мнение этих людей влияет на настроение общества. К ним прислушиваются, а если человек к тому же руководитель, выполняют его указания.
Некоторых агентов влияния готовят издалека. Иногда, с молодых лет. При этом тщательно анализируют его психологические и деловые возможности. Помогают карьерному росту.
В закрытых обществах агенту влияния работать трудней. Его особое мнение, идущее вразрез с общепринятым, довольно быстро становится заметным, привлекает внимание разного рода аналитиков. А в такой обстановке, как сейчас — сплошная лафа. Кипит гласность, каждый может выразить своё мнение. О стране, о её политике, о прошлом, о том, как должна поступить власть в том или ином случае.
Только при этом иногда возникает вопрос: его ли эти мысли? Или кем-то внушённые и он выступает в роли ретранслятора чужих идей.
Некоторые не понимают этого. Их, как говорится, используют втёмную. Но большинство прекрасно знают, что делают. В Союзе с ними встречаются и ведут соответствующие беседы на посольских приёмах. Лучше, когда встречи удаётся организовать на каких-то нейтральных мероприятиях. Однако сейчас наиболее активная работа переместилась за границу. Если это политики, вроде сегодняшних депутатов, их приглашают от имени различных общественных организаций. Если учёные, то могут использоваться зарубежные форумы, научные семинары. Там легче не только донести до конкретного человека нужную информацию, определить задание и методы его исполнения, но и материально поощрить пропагандиста иностранной тайной политики.
— Всё это бездоказательный разговор! — прервал Савельева Карабанов. Большой лоб его покрыла лёгкая испарина, щёки обвисли, но серые глаза смотрели холодно-сталисто. — Никакой конкретики. Может, вот их, — показал на сидящих близко друг от друга егеря и его помощников, — такая лекция убедит. А для меня — пустой звук. Фактов нет. И быть их не может.
— Будут факты, будут. Хотя лучше б их не было.
— Нашего Карабаса, Витя, никакие факты не убедят, — сказал Нестеренко. — Всё советское, даже если оно белое, для него обязательно будет чёрным. Потому что не американское.
— Не приставай, Андрюха, к Сергею, — остановил электрика Волков. — Пусть Виктор говорит.
— Товарищ хочет конкретики, — повысил голос Савельев, — она есть. Но сначала ещё несколько общих, как тут сказано, рассуждений. Может, для них (тоже показал на Адольфа с деревенскими). А может, и другим будет полезно. Очень ценны в качестве агентов влияния интеллигенты, деятели культуры, популярные журналисты и особенно — руководители средств массовой информации. От них — от последних — зависит, что опубликовать и показать, кому предоставить слово, которое, как известно, самое мощное оружие. Ещё древние говорили: словом можно любить и словом можно вылечить. Недаром в Евангелии от Иоанна сказано: «В начале было Слово…» То есть, предтечей всех дел — хороших и плохих — является Слово. И вот тут мы с вами подходим к главному оружию агентов влияния — Слову. С чего, например, начался карабахский конфликт? Со слов, кому исторически принадлежит земля. Именно слова националистов и провокаторов стали первопричиной тектонических сдвигов в отношениях двух народов: армян и азербайджанцев. А как сейчас взрывают тамошнюю обстановку агрессивные слова Старовойтовой о том, что Карабах, являющийся административной частью Азербайджана, на самом деле — исконная территория армян! Вот он пример реальной работы агента влияния.
— Это толстожопая такая баба? — изобразил Адольф руками очень большой объём.
— Она. Одна из главных разжигателей пожара в Закавказье. Первый раз появилась в Нагорном Карабахе в 84-м году. В экспедиции с американцами. Спустя некоторое время заговорила. И сразу с определённым акцентом. В феврале 89-го написала в одном журнале, что Нахичеванская АССР, расположенная в сердце Армении, подчинена Азербайджану, хотя не имеет с ним общей границы. Это как надо было понимать?
— Как тонкий намёк на толстые обстоятельства, — брякнул Валерка.
— Ещё какие толстые! Армяне на «ура» внесли её в народные депутаты СССР. Своих кандидатов завалили, а Старовойтову избрали. Козе понятно, где больше стратегической выгоды! То ли армянин станет выдвигать территориальные претензии к соседнему народу. То ли русская депутатка, ну, правда, не совсем русская, но, по крайней мере, не армянка, будет рупором экстремистов. Она им сразу же и стала.
Савельев вспомнил эпизод двухлетней давности. Тогда, весной 1989 года он отправился в Ленинград. После двух организованных им встреч вновь избранных народных депутатов СССР — сначала в редакции своей газеты, потом — у профессора-офтальмолога Святослава Фёдорова в его Центре «Микрохирургия глаза», куда собралось уже не шесть, а двенадцать избранников, он ехал в «северную столицу», чтобы участвовать в первой такой же встрече ленинградских депутатов. В вагоне увидел Михаила Полторанина. Попросились у проводницы в пустое купе. Выпили за начало дороги коньяку и заговорили о депутатах. Виктор ещё был увлечён Ельциным, но какие-то подспудные, интуитивные ощущения уже начинали его беспокоить. И связано это было с тем, на кого опирался Ельцин, к кому он наклонял слышащее ухо. «Мне кажется, с ним надо быть осторожней, Миша. Он не тот человек, какой нужен демократии. Погляди на его окружение. Сплошные экстремисты. Бурбулис — этот марксист с физиономией средневекового монаха-иезуита. Вчера служил одной церкви, сегодня — другой. Дай ему волю — недавних товарищей, не дрогнув, сожжёт на костре. Я уж не беру Старовойтову — вот провокаторша! Не зря говорят: скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». «Ты што, старик! — бурно возразил Полторанин. — Вы все плохо знаете Борис Николаича. Это — настоящий демократ! Почему к нему тянутся такие разные люди? Потому што сам он разный. Он — их человек. А как отделить, Витя, мусор от хорошего, когда в водоворот тянет всё подряд? Недавно я услыхал, как Старовойтову назвали „цинковой леди“. Косит под Тэтчер. Но не тот металл. Она поставила на армянских националистов. Её там, как ты знаешь, избрали депутатом. Теперь их агент. Когда меня, после снятия Ельцина, убрали из „Московской правды“, я съездил от АПН в командировку в Армению и Азербайджан. Написал несколько статей. Показал, что бучу затевают армяне. Мне говорили: она кипятком в сортире брызгала — в такой была злости. А когда стали депутатами, нашла меня на съезде. Такой тенденциозности я, кажется, никогда не встречал. Она даже не допускала мысли выслушать азербайджанских историков и учёных». «Может, не понимала, куда её кривая выведет?» — спросил Савельев. «Нет, старик! Такие люди понимают, что делают. Она ведь стопроцентный агент влияния! Только неизвестно, чей больше».
С того разговора прошло всего два года, а Савельеву сейчас показалось, будто происходило это несколько лет назад — так много всякого случилось за столь короткое время. Вскоре после поездки в Ленинград он стал продвигать Ельцина в председатели Комитета конституционного надзора СССР. Не сложилось. Полторанин потом это объяснил намерением Ельцина «получить гораздо больше». Чего больше, Савельев тогда не понял. Однако дальнейшие события стали кое-что объяснять. Верховный Совет Союза не без труда принял закон о Конституционном надзоре. Против него протестовали депутаты из Прибалтики. Они понимали, что новый орган может пресечь их сепаратистские намерения. Но выступали против и межрегионалы. В том числе Ельцин. Получалось, что он заодно с разрушителями, вроде Старовойтовой, которая прямо сталкивала две республики, и уже не собирался защищать Конституцию союзного государства? Это ещё больше удивило Савельева. И вот теперь он, по сути дела, рассказывал людям о своём собственном прозрении, о той науке, которую преподносила стремительно меняющаяся жизнь.
— Вы ж понимаете, вооружённый конфликт между Арменией и Азербайджаном — это удар по Союзу, — хмуро сказал Виктор. — Люди думают: если государственная власть в Москве не может навести порядок на окраинах, то зачем нам такое государство? А разные «мыслители» — агенты ещё активней подсказывают: правильно, правильно думаете. Теперь боритесь за независимость. Когда в Карабахе армяне подняли возню, азербайджанцы тоже решили, что они не пальцем деланные. Быстро появился «народный фронт», на митингах заорали активисты. Всё получалось вроде бы стихийно… Народ как будто сам поднялся… Только на площадях Баку, над толпами азербайджанцев, почему-то стали развеваться флаги соседней Турции. Другого государства! Это как? Случайно в магазины завезли?
Поэтому не будьте, Сергей, наивны. Агенты влияния иногда ходят рядом. Недавно в редакции разругались с товарищем. Именитый журналист. Очень одарённый. Только талант его в последние годы стал заметно поворачивать в сторону интересов других стран. Последний случай нас совсем развёл. На Украине тоже громко заговорили о самостийности. Националисты не скрывают, что будут требовать убрать из Севастополя Черноморский флот. Жители Крыма, предвидя развитие событий, провели свой референдум. Раньше всесоюзного. Почти поголовно проголосовали за воссоздание Крымской республики и вхождение её в состав Российской Федерации, если Украина будет настаивать на выводе флота. Как можно России, если, конечно, произойдёт это сумасшествие — разделение страны! — остаться без флота на таком стратегически важном море?
А мой коллега пишет одну за другой несколько заметок, где называет глупцами тех, кто настаивает на сохранении флота. Высмеивает их — это ведь легко делать, когда знаешь, что тебе не могут тут же ответить. Словами… Или по морде кулаком… Выводит чуть ли не дебилами и пытается доказать, что Чёрное море сейчас потеряло своё геостратегическое значение. «Кому она нужна — эта грязная лужа? — вроде как с недоумением спрашивает он. — Надо отдать её тем, кто захочет с нею возиться». И повторяет из заметки в заметку: «Чёрное море — грязная лужа. Россия должна отказаться от неё».
— Ничё себе! — поразился Нестеренко. — Он сам-то не дурак, случайно?
— Нет, он умный, Андрей. И хорошо осведомлённый. Горбачёв уже развалил Варшавский блок. Болгария, Румыния выходят на свои политические фарватеры. А они — черноморские страны. Куда повернут?
— Болгария-то ясно куда, — сказал Адольф. — Братья — славяне. Россия спасла их от турок.
— Да нет, не ясно. Болгария в Первую мировую воевала на стороне Германии. Против нас. И во Второй — была с немцами. Всё зависит, Адольф, не от народа, а от политиков. Какую песню они запоют, такую и народ будет подтягивать.
Но эти страны могут оказаться, скорее всего, плацдармом. Турция — вот растущий, непростой сосед. Мы её долго не замечали. Знали, конечно, што член НАТО… Об интересах к нашему Закавказью тоже знали. С её территории шла всякая разведка против нас. А в военном отношении она особо не интересовала.
— Хотя в Отечественную был момент, когда мы Турцию боялись, — заметил Волков. — Если бы немцы взяли Сталинград, турки готовы были перейти границу. Мне тесть — он волгоградский — рассказывал.
— Да, было такое. Потом ситуация изменилась. А вот сейчас Турция быстро становится сильной военной страной. Я спросил товарища: знает ли он об этом? Знает ли, что турецкая армия — вторая по численности в Европе? Что Турция и покупает самое современное американское вооружение, и выпускает своё? Что её флот скоро может стать самым сильным не только на Чёрном море? Наконец, известно ли ему не очень скрываемое политиками этой страны стремление сделать Турцию такой же великой мировой державой, какой была Османская империя, и при этом вернуть многие прежние земли, включая Крым? «К чему ты призываешь? — спросил я его. — Чтобы мы оставили Чёрное море и отдали „эту грязную лужу“ другим государствам? Их флотам и армиям? Чтобы ушли отовсюду и сжались до размеров России Смутного времени? Ты этого хочешь?» — в упор спросил я его. Он заявил, что это — его точка зрения, она имеет право на жизнь и, слава Богу, демократия даёт возможность не скрывать своих взглядов. Сейчас это главный аргумент всех агентов влияния: «Я так вижу!» Может, это действительно его искренняя позиция. Может, не враг он, а заблуждается. Вполне возможно, пройдёт время, и он поймёт, что ошибался. Но станет ли от этого легче сотням тысяч… миллионам людей, которые поверили в прозорливость известного человека и не приняли необходимых мер самообороны?
Савельев замолчал, потянулся к тарелке с грибами. Не сговариваясь, городские охотники старались не особо налегать на деликатесную еду — пусть деревенские побалуются, думал каждый. Зато солёные грибы, а Дмитрий выставил три вида их в разных тарелках: черные грузди, рыжики и опята, квашеная капуста — порубленная и разрезанный пополам вилок, мочёные яблоки, сало — мраморное, с розовым отливом, и жареная картошка на огромной сковороде — эту еду под монолог Савельева все уминали с большой охотой.
Виктор тоже, наконец, решил дорваться. Пока он ел, Адольф с интересом глядел на журналиста, подавляя мучивший его — это было хорошо видно по красной физиономии егеря — какой-то вопрос. Едва Савельев приостановился, Адольф подался к нему.
— Скажи мне, я правильно понимаю, што теперь за Союз можно быть спокойней? После референдума… Люди в большинстве — за его сохранение. Ну, кто не хотел участвовать, с теми можно разбираться. Вон как тот американский президент сделал. А говорят — там демократы. За таких демократов и я б пошёл. Вместе с Валеркой. Да, Валерк?
— Я за нынешних.
— Ну, и дурак. А с Союзом, Виктор, будет нормально?
— Вообще, воля народа — это высший закон. Нарушить его нельзя. Теперь многое зависит от Горбачёва.
— Больше от Ельцина, — сказал Карабанов. — Он настоящий лидер России. Призвал не поддерживать референдум, и многие не пошли. Призвал голосовать «против», и двадцать один миллион российских избирателей поставили «нет» в своих бюллетенях.
— Зато восемьдесят миллионов сказали «да», — перебил Адольф, снова удивив всех своей политической продвинутостью. — Один к четырём.
— Примерно как здесь у нас, — слабо проговорил Слепцов. Сказал это совсем тихо, словно про себя, но Волков услыхал.
— Что ты имеешь в виду? — с подозрением спросил он.
— Он говорит, что из девяти, сидящих тут, двое голосовали «против», — заявил Карабанов.
Все, кроме Слепцова, уставились на доктора.
— Вы с Пашкой голосовали против сохранения Советского Союза? — с нарастающим изумлением спросил Волков. — Зачем?
— А то непонятно, зачем! — вместо доктора воскликнул Нестеренко. — Сделать из нас ещё один американский штат!
Электрик в злости, не дожидаясь никого, допил, что оставалось в его стопке, и вылез из-за стола. Он не мог сидеть рядом с Карабановым. Лежавший в углу горницы на подстилке щенок подбежал к Андрею. Встал на задние лапы, передними начал царапать грубую штанину. Нестеренко наклонился, взял его на руки.
— С Карабасом давно всё ясно, — сказал электрик в сторону стола. — Но ты-то, Пашка, куда лезешь? Родина, какая б ни была больная — её лечить надо… она ж ведь для нас своя. Эт для него (показал одной рукой на доктора, другой прижимая щенка) родина, наверно, везде. А тебе от неё отказываться — эт как от матери отказаться. Нам надо быстрей от пятнистой сволочи освободиться — вот самое первое, што надо сделать. От него все напасти. От его умишка маленького. А ты помогаешь тем, кто хочет сжечь дом, чтобы вывести из него несколько тараканов.
— Дом этот уже не спасти, Андрей, — сказал Слепцов, поднимая глаза-провалы на рослого Нестеренко — Такая у него судьба. Есть космическая предопределённость. Не случайно появился Горбачёв. Не случайно из-под него выбивает стул Ельцин.
— Опять ты про свои приметы! — скривился инженер-электрик. — Кошки… собаки… Сова, которая орала зимой… Судьбы людей решают земные силы! Были б в 85-м поумней те, кто тогда в Политбюро, они могли бы заранее разглядеть этого вертлявого недоноска. А будь посмелей, кто с ним рядом сейчас, мы бы уже давно пролили слёзы из-за преждевременной утраты. Горькие… Но с радостью. Нету, нету настоящих людей!
— Потому и нету, што судьба. Вы ведь никто не знаете… Даже не заметили, как на следующий день после избрания Ельцина главным в России — председателем Верховного Совета — в Москве произошло землетрясение. Думаешь, это случайность? А про сову… Сегодня ночью — вон они свидетели — нам опять явилась сова. И опять жутко кричала.
Мужики переглянулись. От слов Слепцова дохнуло каким-то мистическим холодом. Только Савельев, словно не слыша экономиста, хрустел вилковой капустой, щурил от удовольствия глаза и сквозь прищур наблюдал за щенком в руках Андрея Нестеренко. Ему нравился этот надёжный и, кажется, прочный характером мужчина. Они встречались неоднократно. Сначала реже, потом обоим встречаться стало интересней. Удивительно только, что почему-то оба ни разу не зацепили тему охоты. Видимо, сходные переживания за то, что происходило в стране, отодвигали на периферию интересов это волнительное для каждого увлечение. Поэтому, едва Волков сказал электрику, что хочет пригласить Савельева на охоту, как Нестеренко тут же позвонил журналисту. «Ты чево молчал, старик, што мы из одного племени?»
«Об этом мог спросить и я, — радостно выкрикнул Савельев. — Но теперь вдвойне приятно. В политике всегда нужен свой человек с ружьём».
— Про то землетрясение в Москве известно, — сказал Савельев, вытирая вынутой из нагрудного кармана тряпочкой губы. — По-моему, даже наша газета дала об этом информацию. Но люди не обратили внимания. Эпицентр был где-то в Карпатах. К нам докатилась затухающая волна. С таким же успехом его могли считать своим в Калуге… в Туле… во Владимире. Разрушительных землетрясений здесь в принципе не может быть. Они происходят на стыках тектонических плит, когда одна наползает на другую. А Москва стоит почти на середине плиты. Скажу вам больше. Каждый день на планете происходит около тысячи землетрясений. Но никто их не ощущает. Поэтому связывать землетрясения с грядущими государственными катаклизмами — это, знаете ли, Павел, из области фантазии. Даже катастрофические — не оказываются предвестниками ближайших бед. Ну, што такого эпохально страшного произошло после ашхабадского землетрясения в 1948-м году? Или после ташкентского в 1966-м? Ровным счётом ничево! А ведь они относятся к очень разрушительным.
До Москвы не раз доходили волны сильных землетрясений. Я читал у Карамзина в его «Истории государства Российского» о двух «землетрусах» в XV веке. Думали, конец света. Разрушения были, последствия — нет. В 1802 году, осенью, Москву тряхнуло. Пять баллов. Треснула только стена какого-то погреба. Если говорить о заметных последствиях, то напугался трёхлетний Саша Пушкин. Он гулял в это время с няней в саду.
В наше время Москву тоже, бывало, трясло. Последний раз — все, наверно, помните — в 1977-м. Докатилась волна от Бухареста. Там — разрушения, у нас только качались люстры, падала посуда. И каких-то масштабных потрясений я не помню. Наоборот. Советский Союз выходил на вершину своего могущества.
Поэтому не природные явления предвещают беду, а люди, их действия. Такие действия, как ваши, Павел! Вместе с товарищем Сергеем. Вы добавили тротила разрушителям Союза. И мне, извините, не хочется стоять плечом к плечу на охоте с людьми, которые намерены взорвать мой дом.
Савельев встал и пошёл в сени. Там была его куртка, ружьё и сапоги.
Глава восьмая
Яковлев дочитал последнюю страницу довольно обширного документа. Собственно, это был не один документ, а подборка врачебных и аналитических сведений о здоровье Ельцина. Материалы пришли из КГБ. Он их не запрашивал, но в Комитете знали об отношении Яковлева к председателю Верховного Совета России Ельцину и, видимо, решили подключить Александра Николаевича к обузданию разбушевавшегося оппозиционера. «Архитектор перестройки» мрачно покивал своим мыслям, закрыл папку. «Странно, — думал он, — кто не знает, видят богатыря, здорового физически и вообще…»
Подборка документов должна была порадовать Горбачёва. После провозглашения суверенитета России началась «война законов». Ельцин призывал не выполнять союзные, а признавать только российские. Как это можно было сделать, никто не знал. Хаос в государственной и экономической жизни получил дополнительное ускорение.
Затем Ельцин открыто заявил о своих претензиях на власть и потребовал отставки Горбачёва.
Александр Николаевич поднял трубку прямого телефона с Президентом. «Могу зайти?» — «Заходи».
Горбачёв почти всех называл на «ты». Что это было? Стремление показать доверие, продемонстрировать близость, которой собеседник должен был дорожить? Или означало барское высокомерие, прикрываемое вроде бы народной простотой?
«Серого кардинала» он тоже звал, как всех, на «ты», хотя относился, особенно раньше, с явным пиететом.
Как обычно, хромая сильнее, чем всегда, когда спешил — в приёмной Президента сидели люди, и его нельзя было задерживать долго, Яковлев прошел к столу Горбачёва.
— Любопытный материал, Михаил Сергеич.
Горбачёв открыл обложку, пробежал взглядом несколько страниц. Читал он быстро, как все документы. Там говорилось о длительных — на несколько недель — запоях, о попытках самоубийства, о разрушенном из-за пьянства здоровье. Михаил Сергеевич всё это знал. Ещё зимой 85-го года, незадолго до его избрания Генеральным секретарём, когда зашла речь о переводе первого секретаря Свердловского обкома партии Ельцина на работу в ЦК, председатель КГБ Чебриков информировал узкий «ареопаг», что делать этого нельзя. Ельцин — тяжело больной человек, скоро могут быть проблемы. Из-за систематического, ставшего хронической болезнью, пьянства сильно подорвано сердце, разрушается печень и, что отмечалось особо, в состоянии алкогольного опьянения способен на неадекватные поступки.
Доклад председателя Комитета госбезопасности был рутинной процедурой. Существовало правило: при выдвижении человека на более высокий партийный пост принимать во внимание и сведения по линии КГБ. Поэтому различная информация, связанная, в том числе, с поведением партноменклатуры, чекистам поступала. Тем более, когда шила в мешке, как говорили в народе, утаить было нельзя. О пьянстве Ельцина и его «неадекватных поступках» в Свердловской области знали. Не все осмеливались рассказывать, помня мстительный, беспощадный характер Бориса Николаевича, но некоторые дикие выходки получали огласку.
В гараже каждого крупного обкома партии, кроме чёрных «Волг» для руководства и «Чайки» для первого секретаря, имелся представительский «ЗиЛ». На тот случай, если в область приедет кто-то из руководителей страны или близких по статусу чиновников.
Но в Свердловске, кроме этого, был и так называемый «царский поезд». Область большая, на машине не объедешь. А на поезде, да ещё в окружении заглядывающих в рот подчинённых, можно осматривать владения со всеми удобствами, с кухней на колёсах и ящиками спиртного.
Однажды зимой «царский поезд» двинулся из Свердловска на север области в городок Ивдель. Расстояние — полтысячи километров. Долго, с остановками ехали туда. Первый секретарь встречался с местным активом, кого-то хвалил, но больше ругал. Это он делать умел, «размазывая» человека до состояния прострации. Из Ивделя повернули назад, к столице Урала.
Ельцин пил, начиная с утра. Сопровождающие должны были тоже участвовать. В какой-то момент первый обратил внимание, что не пьёт один из заведующих отделом. «Налить ему!» — скомандовал Ельцин. Завотделом в ужасе стал отказываться. Он видел, что шеф закипает яростью, но выпить не мог — у него ещё не утихла боль в печени. «Высадить из поезда!» — приказал первый секретарь обкома.
Бедолагу ссадили на занесённую снегом обочину пути, и он пошёл по шпалам.
На его счастье через пять километров показался полустанок. А Ельцин даже не вспомнил о своей выходке.
Горбачёв в раздражении отодвинул досье. «Чёрт-те што за народ у нас! Алкоголик, двух слов связать не может, а ему в рот глядят». Он вспомнил, как первый раз увидел Ельцина невменяемо пьяным. Это была весна 85-го года. Полмесяца назад Михаил Сергеевич стал Генеральным секретарём. В Москве проходила сессия Верховного Совета СССР. По номенклатурной иерархии все первые секретари обкомов избирались депутатами. Горбачёв посидел недолго в зале заседаний и вышел, чтобы уехать из Кремля на Старую площадь. Там, в Центральном Комитете, было по горло срочных дел — Генсек готовился к своему первому пленуму. Апрельскому.
Уже уходя по коридору, услыхал сзади лёгкий шум. Обернулся. Из зала под руки выводили пьяного Ельцина. Он дёргался, видимо, хотел вернуться назад. Один из сопровождающих, увидав Горбачёва, смутился. «С нашим первым такое случается. Иногда перехватит лишнего… Но потом — ничево…».
Какое оно, это «ничево», теперь Генсеку было известно. А ведь его предупреждал и. В декабре того же 95-го года Горбачёв вызвал к себе Председателя Совета Министров Рыжкова. Он хорошо узнал этого человека во время совместной работы в комиссии по модернизации страны, которая была создана распоряжением Андропова. Придя к власти, сразу назначил главой правительства. Теперь хотел посоветоваться.
В кабинете Генсека был Лигачёв. Михаил Сергеевич сказал:
— Настало время менять руководство Москвы. Вместо Гришина нужен крепкий и боевой товарищ. Мы с Егором обсуждаем возможную кандидатуру. Наше мнение: Ельцин. Ты его знаешь по Свердловску.
— Да, знаю, — согласился Рыжков. — Поэтому считаю: он абсолютно не годится для этой роли. Речь идёт об огромной столичной организации, где сосредоточена масса заводских рабочих и основная научная и творческая элита страны. Ельцин по натуре своей разрушитель. Наломает дров, вот увидите! Ему противопоказана большая власть. Вы сделали уже одну ошибку, переведя его в ЦК из Свердловска. Не делайте ещё одну, роковую.
Лигачёв заявил:
— Да, я содействовал его переводу в Москву. Я был в Свердловске. Мне понравилась его работа.
Рыжков расстроился:
— Я вас не убедил, и вы ещё пожалеете о таком шаге. Когда-нибудь будете локти кусать, но будет поздно.
Не послушал своего премьера Горбачёв. Отмахнулся и от других серьёзных оценок. Во время октябрьского пленума 87-го года в перерыве к Генсеку подошёл руководитель кремлёвской медицинской службы, главный кардиолог страны, академик Чазов. Он только что слышал, как Ельцина жёстко критиковали участники пленума. Поэтому с профессиональной тревогой наблюдал за самим Ельциным. Сломленным голосом тот трудно выговаривал, что «в целом с оценкой согласен. Суровая школа, конечно, для меня сегодня. Я подвёл Центральный Комитет, выступив сегодня. Это ошибка».
Незадолго перед тем Евгений Иванович уже имел с Ельциным дело. Первый секретарь Московского горкома произвёл на него тяжкое впечатление. Эмоциональный, раздражённый, с частыми вегетативными и гипертоническими кризами. Но самое главное, как отметил Чазов, он стал злоупотреблять успокаивающими и снотворными средствами, увлекаться алкоголем. Надо было что-то делать.
Кардиолог обратился за помощью к психиатру. К самому лучшему, на его взгляд, — члену-корреспонденту Академии медицинских наук Рубену Наджарову. Консилиум признал у Ельцина не только зависимость от алкоголя и обезболивающих средств, но и некоторые настораживающие особенности психики. Однако тот резко отверг предложения врачей. «Я совершенно здоров и в ваших рекомендациях не нуждаюсь».
Теперь, остановив Горбачёва, Евгений Иванович сказал ему: «Я сегодня невольно вспомнил медицинский консилиум по Ельцину. Были отмечены особенности его нервно-психического статуса — доминирование таких черт характера, как непредсказуемость и властная амбициозность».
Горбачёв промолчал. А через три недели на пленуме Московского горкома Ельцин сам подтвердил заключения врачей: «В последнее время сработало одно из главных моих личных качеств — это амбиция, о чём говорили сегодня. Я пытался с ней бороться, но, к сожалению, безуспешно… Я потерял как коммунист политическое лицо руководителя. Я очень виновен перед горкомом партии и, конечно, я очень виновен перед Михаилом Сергеевичем Горбачёвым, авторитет которого так высок в нашей стране, во всём мире…»
После октябрьского пленума 87-го года у Генсека был разговор и с Громыко. Зубр советской дипломатии поинтересовался: какова дальнейшая судьба Ельцина? Услышав в ответ, что надо найти ему работу, предложил «отправить послом куда-нибудь подальше от нашей страны». Горбачёв не согласился, однако при этом пообещал: «В политику я его не пущу».
Теперь, похоже, скоро сам Ельцин будет решать: кого пускать, а кого не пускать в политику, подумал Горбачёв, глядя на лежащее перед ним досье.
Яковлев ждал решения. Наконец, спросил:
— Што делать, Михаил Сергеич?
— А што хочешь, то и делай. Хочешь — отдай Ельцину.
Яковлев удивился, но не подал виду. Захромал к себе. Из кабинета позвонил по ВЧ Ельцину, сказал, что приедет. Тот буркнул что-то вроде: «Приезжайте», и положил трубку. В красивом, как белый корабль, здании верховной власти Российской Федерации было, в отличие от прежнего времени, людно и шумно. Александр Николаевич поднялся на лифте, вошёл к Ельцину. Кивнул. Тот с неприязнью посмотрел на главного идеолога. Они ненавидели друг друга и оба знали об этом. Ельцин невзлюбил Яковлева со времени своего короткого руководства Московским горкомом партии. Стараясь всколыхнуть московское болото, как он называл городскую мафиозно спаянную власть, свердловский провинциал начал будоражить застой с помощью прессы. Главным орудием стала газета «Московская правда». Но очень скоро и его ставленник Полторанин, и сам Ельцин почувствовали жёсткое сопротивление. Однажды Полторанина вместе с другими главными редакторами центральных газет вызвали на совещание в Политбюро ЦК партии. Покритиковали одно, другое издание, а потом обрушились на «Московскую правду». Резче всех выступали оба идеолога: Лигачёв и Яковлев.
— Это не газета! — гремел Лигачёв. — Это антипартийное безобразие! Такие надо закрывать к чёртовой матери!
Идеолог — интеллектуал Яковлев, в отличие от своего простоватого напарника, дал образную оценку ельцинской газете.
— «Московская правда», как крыса, подгрызает коммунистические основы. Даже затрагивает Владимира Ильича Ленина… С этим мириться мы не должны.
Все понимали: это порка не столько Полторанина, сколько Ельцина.
Потом Яковлев, вместе с другими, громил Ельцина на октябрьском пленуме ЦК партии. «Выступление ошибочно политически и несостоятельно нравственно… Это упоение псевдореволюционной фразой, упоение собственной личностью… Здесь у нас прозвучало, к большому сожалению, самое откровенное капитулянтство перед трудностями, когда человек решил поставить свои амбиции, личные капризы выше партийных дел». Затем была травля Ельцина подконтрольными Яковлеву средствами массовой информации. После каждого очередного критического удара Ельцин темнел лицом, скрипел стиснутыми зубами, словно хотел их сгрызть, и некоторым его приближённым казалось, что, появись в этот момент поблизости Яковлев, рослый, как медведь, Ельцин задушил бы рыхлого телом, хромого идеолога собственными руками.
Но и Александр Николаевич платил своему ненавистнику той же монетой. Ещё до получения этого досье он немало знал о тёмных сторонах ельцинской жизни. Его осведомители, а лучшими информаторами чаще всего являются журналисты, рассказывали Яковлеву о показушных «хождениях Ельцина в народ». Проехав утром две-три остановки в набитом людьми городском автобусе, бросив несколько фраз о недопустимости транспортных привилегий для власти, «когда так страдает народ», московский городской вождь выходил из автобуса и, дождавшись, когда тот уедет, садился в подъезжающий персональный лимузин.
Такие же спектакли устраивались из посещения какого-нибудь магазина или рабочей столовой на заводе. Яковлев давно понял, что для Ельцина главное, как говорят в народе, хорошо показаться. Он мог извратить истину и соврать кому угодно. Когда вышла книжка Ельцина «Исповедь на заданную тему», Александр Николаевич сразу прочитал её. При этом сделал немало отметок синим карандашом. Это были места, где рассказанное было полнейшей неправдой, и Яковлев знал об этом не по чьим-то сообщениям, а лично сам, как участник и свидетель.
Описывая события осени 87-го года после своего сумбурного и нисколько не революционного выступления на октябрьском пленуме ЦК, Ельцин об одном умалчивал, другое искажал. Не говорил о том, что сначала просил отставки, потом каялся на заседании Политбюро, чтобы остаться во главе Московского горкома партии. А неожиданное заболевание 9 ноября преподнёс так: «С сильным приступом головной и сердечной боли меня увезли в больницу».
Но Яковлев знал, что увезли его совсем по другой причине. Утром 9 ноября, в первый рабочий день после праздников, из Московского горкома позвонили Лигачёву и сказали, что кто-то из сотрудников зашёл в комнату отдыха при кабинете первого секретаря и увидел окровавленного Ельцина. Он был без сознания, с большими канцелярскими ножницами в руке.
Срочно собрали внеочередное заседание Политбюро. Ведь не каждый день кандидаты в члены ПБ пытаются покончить с собой. Да ещё таким экзотическим способом. Или это симуляция? Своего рода шантаж?
Стали разбираться. Выяснилось, что последнее время Ельцин был подавлен, замкнут. Главная причина — критика на пленуме. К тому же, Горбачёв и некоторые другие члены Политбюро впервые не прислали поздравительных открыток с праздником 7 ноября. Видимо, произошёл психологический надлом. Это внешне Борис Николаевич производил впечатление могучей натуры, а, как показывали приоткрывающиеся факты, буйное, «без тормозов», пьянство делало его человеком с резкими перепадами настроения, способным на импульсивные поступки, как относительно других, так и в отношении себя.
Но даже не это было главным в искажении подлинных событий. Как ни скрывалась попытка суицида с помощью ножниц, слух, однако, пополз. А он мог представить Ельцина в глазах народа совсем не героем. И тогда несостоявшийся самоубийца запустил ложную версию. Будто шёл он ночью по Москве. На него напали два хулигана. Он их, конечно, раскидал, но удар ножом получил.
Таких «фантазий» в ельцинской книжке Яковлев нашёл несколько. Ещё больше их обнаружили земляки председателя Верховного Совета России. Поэтому в Свердловске её назвали «Ложь на заданную тему». Кое-кто жалел, что когда-то поддерживал Ельцина в карьере. Особенно — бывший первый секретарь Свердловского обкома партии Яков Петрович Рябов. Именно он сначала поставил Ельцина директором домостроительного комбината, потом сделал заведующим строительным отделом обкома, после — вторым секретарём, а когда уходил на повышение в Москву, убедил Брежнева передать руководство областью своему протеже.
В 1989 году, в Париже, Яковлев по поручению Горбачёва стал расспрашивать советского посла во Франции Рябова, что он думает о Ельцине? Яков Петрович теперь думал о своём выдвиженце очень плохо. Все недостатки его характера — неуживчивого, мстительного, грубого, которые он видел на протяжении многих лет, пока «тянул» Ельцина, в новой обстановке начинали раскрываться ещё заметнее.
— Человеку такого склада нельзя давать в руки высшую власть, — сказал он. — Тем более, верховную власть.
«Архитектор перестройки» согласно покивал, однако про себя брезгливо подумал: «Был бы ты прозорливей и твёрже, не сожалел бы сейчас вместе с другими».
По существу, Рябов был главным виновником поднятия Ельцина из неразличимой людской массы по ступеням власти. Разные люди, знающие Ельцина, кто со студенческой поры, кто позднее, рассказывали ему, какой это «ходок по трупам». Он выслушивал их, читал «мораль» своему любимцу. Тот хмурился, отводил глаза, обещал исправиться и здесь же пробовал выяснить, кто информировал. У Рябова были все возможности остановить Ельцина там, внизу, но ему нравилось, что растущий работник готов был расшибиться в лепёшку ради выполнения заданий и продвижения вверх. Расшибиться сам и сделать то же с другими.
Вскоре после того разговора с Рябовым в Париже Яковлев узнал о скандальных выходках Ельцина во время его поездки в Соединённые Штаты. Источников было слишком много, чтобы сомневаться в их достоверности. Американские телеканалы, радиостанции, газеты рассказывали не только о критике «партийным оппозиционером» Ельциным советского лидера Горбачёва. Они показывали его пьяным на встречах. Яковлеву сообщили, что все видеоматериалы о поездке есть в Гостелерадио СССР. «Серый кардинал» посоветовал Горбачёву показать отдельные фрагменты по Центральному телевидению. Тот позвонил председателю Гостелерадио Леониду Кравченко. Выбрали один эпизод — начало встречи в университете Джона Гопкинса. Советский оппозиционер был настолько невменяем, что его пришлось держать с боков и сзади, а вскоре увести совсем.
После показа эпизода сторонники Ельцина в Верховном Совете подняли гвалт. Объявили, что это — провокация, цель которой опорочить Бориса Николаевича. Один депутат, работавший до избрания в маленькой районной газетке, с видом знатока сообщил, что на телевидении был сделан монтаж. Движения и речь Ельцина специально замедлили, чтобы изобразить его пьяным. В спешном порядке создали депутатскую комиссию, которая отправилась в Комитет по телевидению и радиовещанию. Там членам комиссии объяснили, что пока никто в мире не изобрел способа так работать с видеоплёнкой. Показали «исходники» — запись передач американских телеканалов. Удручённые депутаты извинились и собрались уходить. Но Леонид Кравченко достал из сейфа ещё несколько кассет.
— Мы могли бы показать и это, — сказал он. — То, што увидели миллионы американцев.
Помощники председателя включили видеомагнитофон. На экране появились красивые девушки, солидные мужчины, дама с букетом цветов. Неподалёку стояли два внушительных автомобиля. Американский корреспондент начал репортаж. Один из депутатов, знающий английский язык, стал переводить. Журналист говорил о том, что он стоит на взлётном поле одного из двух аэропортов города Балтимор. Сейчас сюда прибывает из Нью-Йорка на частном самолёте Дэвида Рокфеллера-старшего лидер оппозиционной группы депутатов из советского парламента Борис Ельцин. Его встречают руководители университета Джона Гопкинса, а также участницы конкурса красоты штата Мэриленд.
Вот самолёт садится… Приближается к нашей группе. Он остановился. По трапу спускается Борис Ельцин. Сейчас подойдёт к встречающим… Будет приветствовать их…
Камера продолжала показывать советского гостя, но корреспондент внезапно замолчал. И было отчего. Ельцин, не глядя на встречающую делегацию, прошёл по взлётно-посадочной полосе к хвосту самолёта и, повернувшись ко всем спиной, стал мочиться на задние колёса. Все стояли потрясённые. Хозяева и свита Ельцина не знали, как себя вести.
Закончив «мокрое дело», Ельцин подошёл к группе встречающих, молча пожал руки профессорам и чиновникам, взял букет у женщины и сел в автомобиль.
— Это, по-вашему, тоже монтаж? — спросил Кравченко прибывших с ревизией депутатов. — Здесь только часть того, што увидели люди в Америке. Мы могли показать. Но мне стыдно за свою страну.
Когда Яковлеву рассказали об увиденном на телевидении, он при людях едва сдержал гнев. После ухода информаторов дал волю чувствам. Александр Николаевич тепло относился к Соединённым Штатам со времени своей стажировки в Колумбийском университете в конце 50-х годов. Однако никому, даже близким, этого не показывал. Любил скрытно, глубоко, и потому выходка пьяного Ельцина в аэропорту Балтимора оскорбила дорогую ему страну так же сильно, как если бы сидящий сейчас перед ним насупившийся человек плюнул самому «серому кардиналу» в лицо.
Не говоря ни слова, Яковлев положил на стол толстую папку. Ельцин открыл её, начал листать и быстро закрыл. Уронил трясущиеся руки на папку. Молча впился взглядом в тяжёлое бульдожье лицо горбачёвского «духовника». «Что ещё принёс с собой этот хромой чёрт? Что они задумали дальше?»
Яковлев также молча смотрел на посеревшего Ельцина. Он — интеллектуал, академик, свой в кругах творческой интеллигенции, только благодаря многолетней тренировке лица не показывал, как презирает Ельцина. Человека, не знающего, что такое чтение книг. По интеллекту так и оставшегося директором домостроительного комбината. Вруна с изворотливым, непредсказуемым характером, который сейчас растерянно думает, как действовать дальше. Яковлев злорадно представил его чувства, главным среди которых был страх. Впереди — выборы президента России. Ельцин мечтает об этой вершине власти. Достаточно передать в средства массовой информации часть документов, и они навсегда похоронят надежды. «Цикл запоя до 6 недель. Резко слабеет воля. В этом состоянии легко поддаётся на любые уговоры».
«Серый кардинал» хотел сказать что-нибудь такое обидное, что проникло бы в душу этому грубому алкоголику с перебитым носом, поднятому народной антилюбовью к Горбачёву на большую вершину власти. Но понял: самое лучшее — оставить его в тревоге.
— Велели передать.
Кто велел: Горбачёв? КГБ? — разъяснять не стал. Повернулся и, припадая на негнущуюся в колене правую ногу, пошёл из ельцинского кабинета.
Глава девятая
В зале прилёта аэропорта Домодедово было жарко. Наталья увидела, наконец, свою сумку на багажном транспортёре. Люди хмуро толкали друг друга, потели от тяжести чемоданов и спешили к быстро набухающей очереди возле единственного узкого выхода. «Неужели нельзя сделать по-человечески? — думала молодая женщина, издалека высматривая за стеклянной перегородкой мужа. — Открыли бы несколько выходов. Ведь никаких затрат. А людям — удобней. Прав, наверно, Грегор. Эта система отвёрнута от человека».
Разглядела возвышающегося над толпой Владимира. Радостно замахала рукой. Зная, как стало совсем муторно добираться из аэропорта сначала до Москвы, потом — до их дома, он приехал на своей машине встретить жену из командировки.
За три дня в Иркутске Наталья чаще погружалась в тревогу и беспокойство, чем поднималась к приятным эмоциям. Из приятного — съездила на Байкал. Здесь была впервые. Хотела почувствовать планетарный масштаб. Всё-таки самое глубокое озеро на земле, вмещает пятую часть пресной воды земного шара. Но даже в мыслях увидеть этот объём, как ни старалась, не смогла. И площадь (сказали, что Байкал равен государству Бельгия) не вдохновила. Когда плыла на катере, впереди — да, видела воду до горизонта. Однако близость берегов — правый совсем рядом, левый — хоть в дымке, тем не менее, различимый, напоминала, что это озеро.
Зато чистота воды поразила. Волковой с гордостью объяснили: весной дно просматривается до сорокаметровой глубины. Сколько метров было под остановившимся катером, никто не мерил, но журналистке почему-то показалось, что она смотрит вниз с крыши многоэтажного дома.
В командировку Наталья поехала по личному заданию Янкина. Из Иркутска пришло письмо от лидера местной организации «Демократической России». Он писал, что «в свете предложения Бориса Николаевича Ельцина, брать суверенитета, кто сколько может проглотить» его организация выступает за образование Сибирской республики с правом выхода из Советского Союза и России. Однако местные партократы не дают реализовать инициативу демократической общественности.
Когда Волкова, сидя в кабинете главного, дочитала письмо (Янкин находил разные способы, чтобы задержать Наталью возле себя), ей показалось, что писал не совсем нормальный человек. Она сказала об этом шефу. Тот быстро вышагнул из-за стола, в обычной своей манере начал махать руками (в редакции говорили: Грегор включил ветряную мельницу) и сердито заговорил:
— Ты ничево не понимаешь. Сколько я буду учить тебя плаванию в политическом бассейне? Горбачёв хочет новым Союзным договором выбить козыри у Ельцина. Договор подпишут не только союзные республики. Автономные — тоже. Где больше всего автономий? В РСФСР. Значит, Ельцин останется с клочками из областей. А если ещё области начнут выходить? Борис Николаичу придётся идти на «мировую» с Горбачёвым.
«Что-то не вяжутся у Грегора концы с концами, — подумала тогда Волкова. — То говорит нам, что Горбачёв — списанный актив и надо ставить на Ельцина. То придумал какой-то новый финт».
Инициатора создания Сибирской республики Наталья нашла в Доме культуры железнодорожников. Мужчина лет пятидесяти вёл кружок бальных танцев. Журналистке показалось, что он слишком толстоват для такой подвижной работы. Под трикотажной тенниской заметно выделялись груди. Полный зад и большие бёдра очень туго обтягивали джинсы. Однако двигался он в изящной, женского размера обуви резво.
Наталья представилась. Назвался и он — голосом тонким, мальчишеским. Волкова про себя удивилась. В лидере демократов всё было из разных людей: возраст, комплекция, женственные ступни и голос подростка.
— Вы хотите стать Ельциным, Альберт Станиславович? В своей Сибирской республике?
Три дня назад, 12 июня 1991 года, прошли выборы президента РСФСР. В них победил Ельцин.
Преподаватель танцев жеманно улыбнулся:
— Сейчас уже не против.
— А когда возражали?
— Сказать, што сильно возражал — нет. Наружу не показывал. Внутри сомневался. Предложение было лестное. Но мне без всяких… этих… говорят: сначала надо республику. Должность — потом. Я человек, конешно, видный… В нашем отделении двадцать восемь активных членов «Демроссии»… Ну, и поддерживают… На митинг придёте, там вы…
— А кто предложил? — перебила Наталья, ухватившись за сказанное вскользь слово. — Вы говорите: было предложение. От кого?
Альберт Станиславович решил, что с этой корреспонденткой можно быть откровенным. Она приехала именно из той газеты, главному редактору которой советовали написать гости из Москвы.
— Идея родилась, можно говорить, в массах. У меня. Приехали два товарища из Москвы. Из «Демроссии». Мы позвали их поддержать нас против местных партократов. Провели хороший митинг. Много пришло. Стали готовить забастовку на авиазаводе. Центр совсем забросил нашу область. Совсем, вы понимаете? Мы не чувствуем, што живём в одной стране. Хоть бы отделиться куда. Один товарищ говорит: «А зачем вам эта страна? Вы можете быть самостоятельными». «Как это?» — спрашиваю я его. Очень интересно мне стало. Другой достаёт папочку с бумагами и объясняет, што надо делать. Подробно рассказал. С примерами из истории… Австро-Венгерская империя какая большая была! А теперь вместо неё одной… сейчас вспомню… десять, кажется, государств.
— И кто же войдёт в вашу Сибирскую республику?
— Ну, это вопрос обсуждаемый, — снова ломуче засмеялся бальный сепаратист. — Омская, Новосибирская, Томская, Кемеровская области. Наша, разумеется. Потом Якутия.
— Якутия уже республика.
— А-а, действительно. Мы это учтём.
— Вам не кажется, што республика получается не совсем обычная? Области, которые вы назвали, отделены от вас Красноярским краем. Его почему-то не берёте. Также, как Алтайский край.
Альберт Станиславович потускнел.
— На Алтае сильны коммуняки. С ними говорить бесполезно. А в Красноярском…
Он скромно потупился:
— Там свои кандидаты… Ну, как вам объяснить? Надеюсь, вы понимаете.
Наталья попросила устроить встречу с другими активистами. Разговаривала сначала по одному, потом сразу со всеми шестью сторонниками создания республики. От её вопросов они нервничали, много курили. Учитель бальных танцев вскакивал, частил короткими шажочками к шкафу, доставал нужную бумагу и, запинаясь в незнакомом тексте, старался помочь товарищам. Однажды Наталья не выдержала:
— Што вы всё бегаете, Альберт Станиславович? Возьмите, какие там материалы у вас есть, и сядьте.
Сепаратист вильнул толстым задом, насупился и сел.
Следующий день Волкова потратила на разговоры в горсовете, съездила на авиационный завод, к железнодорожникам. Везде про замысел создания Сибирской республики, а тем более — о её выходе из Союза и России — слушали с удивлением и подозрением. Репутация газеты, от которой приехала корреспондентка, на периферии для многих была нехорошей. Поэтому собеседники не исключали какой-нибудь провокации. На авиазаводе директор прямо спросил: «А не вы ли привезли эту чушь? Потом выдадите за намерение наших людей».
— Представляешь, Володь! — воскликнула Наталья, закончив рассказывать мужу о встречах в Иркутске. — Эта местная инициатива оказалась совсем не местной. Её привезли из Москвы. Кто? — фамилии танцор не сказал. Может, действительно забыл… Я бы с ними встретилась. Никакой программы! Никаких даже оснований. Повторяют одно: разъединимся — будем жить лучше. Я их спрашиваю: как вы себе это представляете? В ответ только мычат.
— Да-а. Похоже, организаторы работают на опережение. Союз Горбачёв уже теряет. Теперь дело за Россией.
— Какие-то глупые.
— Глупые, Ташка, кто клюют. А кашу для них варят умные.
Владимир вспомнил слова Савельева о «народных фронтах», признание доктора и Слепцова о референдуме.
— Хотя почему-то… знаешь, некоторые вроде не дураки, а говорят, как будто нанюхались дихлофоса. Пашка наш — совсем ведь не дурак. Но упёрся: долой Систему. Лупит топором по ветке, на которой сам сидит.
— Но зачем нашему Грегору эта идея нескольких сумасшедших?
— Штобы ею заинтересовались тысячи. Идея должна овладеть массами. Вот она — организующая сила Гласности.
Наталья хотела доложить главному о поездке сразу после прихода в редакцию. Однако Янкин куда-то спешил. Бросил на ходу:
— В двенадцать «планёрка». Расскажешь всем.
Когда члены редколлегии заняли свои места за длинным столом, а другие сотрудники расселись на стульях вдоль стен, Янкин объявил:
— Для начала послушаем Наталью Дмитриевну. Она привезла материал, который значительно усилит идущие процессы. Расскажите товарищам. Потом обсудим, как написать.
«Значит, усилит процессы? — мысленно переспросила Волкова. — Процессы распада страны? У меня не получите».
— А писать не о чем, Грегор Викторович, — поднялась Наталья. Посмотрела на замершего Янкина, обвела взглядом сидящих. — Некто Синяков из Иркутска захотел оказаться мини-Ельциным. Предлагает создать Сибирскую республику, стать её президентом и отделиться от Советского Союза и от Российской Федерации. Вот вся суть моей поездки.
— Готовый пациент психбольницы, — негромко прыснула сотрудница отдела спорта.
— Скорее «голубой», — также потихоньку сказала ей Волкова.
— Как это не о чем писать? — вскинулся ответственный секретарь Кульбицкий, увидев каменное лицо Янкина. — Русский народ начинает сам творить свою историю.
— Если этот учитель бальных танцев — народ… Жирный мужик с бёдрами женщины и голосом кастрата… Тогда, может, я — дева Мария? Ему идею привезли. Сам рассказал мне: привезли из Москвы. А вот кто доставил в Москву — с этим бы разобраться не мешало.
— Вы покушаетесь на главное завоевание демократии — Гласность, — с наигранным гневом заявил Кульбицкий, опять незаметно глянув на Янкина. — Каждый гражданин имеет право высказать обществу свою позицию. А вы хотите лишить нас этого права. Вернуть страну в ГУЛАГ. Во времена заткнутых ртов.
Когда-то при слове Гласность у Натальи возникало ощущение, будто она входит в большую светлую комнату. Ей даже нравилось произносить эти звуки: Гла-а-сность. В них слышался звон сбрасываемых оков, волнующая надежда на хорошие перемены.
Теперь Гласность вызывала совсем другие ассоциации — истерию, выпученные глаза, фальшивые улыбки и растущее, растущее зло. А хуже всего, что к этому месиву негатива добавлялось чувство коварного обмана. Как будто стоявший перед закрытыми в Нечто воротами Зазывала собрал толпу волнующихся людей, трясясь от возбуждения, бросал в напирающую массу неведомые ей красивые блёстки, а когда нетерпение большинства достигло апогея, распахнул створки, и люди, давя друг друга, кинулись в заманчивую неизвестность. Однако этой неизвестностью оказалась короткая площадка без какого-либо ограждения на огромной высоте. Пока первые с молчаливым изумлением летели вниз, сзади напирали новые массы желающих рассмотреть, что там, за распахнутыми воротами. И видя болтающиеся руки-ноги падающих, они уже не молчали, а орали и верещали, сами не понимая, от чего больше. То ли от страха перед увиденным, то ли от злости за обман. Им обещали распахнутый веер самых разных знаний, а ослепили узким лучом спрессованной черноты.
Начав с осторожной критики явных несуразностей, порождённых советской политической системой, «управляющие» рупорами гласности — руководители газет, журналов, радио и телевидения — стали догадываться, что им в очередной раз подфартило. Первый раз это было, когда они встраивались в советскую пропагандистскую колонну. Потом, когда выбивались из её многолицых недр ближе к первым рядам. Там, среди знамён и транспарантов, с не ими пока сочинёнными призывами, их уже могли разглядеть. А чтобы заметили, рвали идейную тельняшку на груди. Янкин однажды дал Наталье почитать, что ещё не так давно писал его конкурент, главный редактор журнала «Огонёк» Виталий Коротич. В его книжке «Лицо ненависти», за которую Коротич получил в 1985 году (за полгода до назначения главным редактором «Огонька») Государственную премию СССР, Наталья с изумлением увидела, что любая, даже малейшая критика Советского Союза, называлась там «злостной клеветой» и «антисоветчиной», Солженицын был «советским дезертиром», а мрачные «капиталистические нравы» были просто ужасом по сравнению с «социальным прогрессом» в СССР. Янкин, похоже, с особым злорадством, отмечал для Натальи строчки всего лишь пятилетней давности. «Сегодня утром президент Рейган в очередной раз грозил нашей стране своим выразительным голливудским пальцем и всячески нас поносил», «Следом за президентом, как правило, подключаются разные мелкие шавки…», «Наглая антисоветчина самых разных уровней кружится, насыщая воздух, как стая таёжного гнуса. Так быть не должно, не может; и так продолжается практически без перерывов с конца 1917 года».
Особенно выразительно поглядел Грегор Викторович на свою непокорную сотрудницу, когда в ящике стола вынул какую-то книжицу из-под силуминового бюстика вождя. Сказал, усмехнувшись: «Про Ленина. Целая поэма». Наталья открыла заложенные страницы:
И, всякого изведав на веку, когда до капли силы истощались, шли к Ленину мы, словно к роднику, и мудрой чистотою очищались.Больше она читать не могла. На столе у главного лежали свежие высказывания Коротича о Советской власти. «Петроградский переворот 1917 года был прежде всего катастрофой моральной. Именно аморальность системы привела к тому, что живём мы так плохо». «Система была порочная, нежизнеспособная, бандитская. Надо было всё это к чертям завалить».
«Што ж это за люди?» — думала Волкова о Коротиче, своём Янкине и других главных редакторах, про которых ей в минуты доверительности рассказывал Грегор Викторович, рассчитывая тем самым приблизить к себе недоступную женщину. Называют нашу профессию второй древнейшей. Второй — после проституции. Да проститутки — святые, по сравнению с ними! Те растлевают единицы. А эти — миллионы. Причём растлевают души. Им Гласность — это возможность мстить. И они, как все рабы, перейдя к другому хозяину, мстят тому прежнему, перед которым готовы были ползать в пыли, даже если он не требовал этого.
Они снова хотят быть впереди. Впереди всех, кто топчет слабеющее тело вчерашней политической любовницы. Состязаются друг с другом, кто нанесёт увесистей удар, кто смачней плюнет в лицо, которое недавно воспевали и называли самым красивым. «Мы обязаны знать об этом и помнить: в Советском Союзе воплотились мечты всех трудящихся на земле», — читала Волкова подчёркнутые Янкиным слова Коротича. Теперь разоблачения «мечты» стали главным жанром издания, которым руководил вчерашний холуй, сегодняшний герой и завтрашний трус. Спустя несколько дней после ГКЧП решением журналистского собрания «Огонька» Виталий Коротич будет смещён с поста главного редактора с формулировкой: «За трусость, непорядочность и аморальное поведение».
Но это будет через два с лишним месяца после той «планёрки», где Волкова отказалась писать об идее провозглашения Сибирской республики. А пока она слушала фальшивый пафос Кульбицкого о Гласности и вспоминала недавний конфликт с ним на предыдущей «летучке».
Тогда обозревателем очередного вышедшего номера была Вероника Альбан. Что-то слегка погладила против шерсти, но больше — хвалила. Все знали: критиковать опубликованный материал означало вступать в небезопасный спор с ответственным секретарём, который этот материал отбирал для номера, а то и с самим Янкиным, мимо кого не проходила ни одна даже маленькая заметка.
Когда Альбан закончила, Кульбицкий, который всегда вёл «летучки», оглядел журналистский коллектив.
— Кто хочет добавить? У кого какое мнение?
Обычно выступали ещё два-три человека. В основном, добавляя розового цвета в уже облитые такой же краской материалы. Предпоследнее слово говорил ответственный секретарь: по редакционной иерархии — начальник штаба. Последнее — оставалось за главным.
В номере, который оценивала Альбан, напечатали большую статью зарубежного автора. Судя по сноске, это был недавно уехавший в Штаты советский гражданин. Он писал о том, что промышленность СССР всегда была неконкурентоспособна по сравнению с иностранной, и приводил разные примеры. Волковой позвонил давний её автор, профессор-экономист, и с возмущением заявил: «Наталья Дмитриевна! Я знаю, што в вашей газете, как в „Огоньке“ и в „Литературке“, специально надевают закопчённые очки, когда глядят на советскую жизнь. Но я не думал, што, пользуясь Гласностью, можно так фантастически лгать…»
— Я хочу добавить, Илья Семёнович, — подняла руку Волкова. — По поводу статьи Лопатникова.
— Да, да. Хорошая статья. Он мне её прислал, и мы сразу поставили в номер.
— Статья не просто плохая. Она лживая. Такими материалами мы отбиваем у читателей возможность верить нам.
В небольшом конференц-зале стало так тихо, что люди вздрогнули от скрипа стула под кем-то.
— У меня здесь заключения разных специалистов, — показала Волкова папку. — По каждому факту — несколько экспертных оценок. Я их не собирала. Мне их принесли. Штобы не задерживать товарищей, скажу только о нескольких примерах. Лопатников пишет: качество советских тракторов настолько плохое, што среднее время их работы до первого ремонта — 40 минут. Специалисты на цифрах показывают, што это полная чушь. Мы экспортируем в год до 40 тысяч тракторов. Разве какой-нибудь дурак стал бы покупать такие трактора, когда есть много других предложений?
Дальше. Он говорит: «Абсурд плановой экономики виден даже в том, што в СССР — невероятный избыток тракторов. Реальная потребность сельского хозяйства в три-четыре раза меньше». Но вот как выглядит действительность. На каждую тысячу гектаров пашни в Германии 124 трактора, в Бельгии — 82, в Дании — 58, в США — 30, а в Советском Союзе — 12 тракторов.
Новый житель Штатов нам сообщает, што СССР вырабатывает в два раза больше электричества, чем США. А значит, энерговооружённость у нас должна быть лучше. Просто не умеют использовать. На самом деле в прошлом — 90-м году — в Советском Союзе выработано почти в два раза меньше электричества. Понимаете, товарищи? Всё прямо наоборот.
Ну, и наконец, совсем бред. Он пишет, што японцы готовы покупать наши плохие трактора «Кировцы», переплавлять их на металл и выпускать свои машины. У нас здесь кто-нибудь, наверное, представляет… одно дело — купить тонну готового проката, а другое — потратить деньги на разборку трактора, переплавку, утилизацию резины и так далее. В этом случае тонна металла обойдётся в двенадцать раз дороже. Продвинутые авторы внушают нам, а мы это передаём читателям, што в рыночной экономике умеют считать. Так кого Лопатников принимает за идиотов? Японцев? Или нас?
Наталья понимала, что сейчас будет. Внутри у неё всё дрожало, но она собрала силы и ровным голосом сказала:
— Гласность — это медаль, у которой две стороны. Одна — свобода слова. Другая — ответственность за слово. Мне кажется, такую медаль мы и должны носить.
Пока Наталья говорила, все смотрели на неё. Теперь головы повернулись к началу стола. Там, во главе сидел Янкин, слева от него — Кульбицкий, справа — первый заместитель главного редактора Лещак.
Первым пришёл в себя ответственный секретарь. Он был ещё молод — лет тридцати пяти, но всем казался намного старше своих лет. Небольшого роста, со сморщенным лицом, с обширной плешиной на яйцевидной голове, Илья Семёнович имел и соответствующий голос — немного скрипучий, при возбуждении — пронзительный. А возбуждался он очень легко. Стоило кому-нибудь оспорить его суждение, разумеется, кроме главного и двух его заместителей, как ответственный секретарь сразу переходил на крик. Янкин то и дело осаживал Кульбицкого. Однако ценил за бурную, вулканическую энергию, каким-то чудом вмещавшуюся в его довольно чахлые формы. Под напором этой энергии большинство оппонентов быстро сдавали свои позиции и, даже будучи внутренне несогласными, прекращали спор. Большинство. Но не Волкова. И об этом в редакции знали.
— Если я правильно понимаю, — заскрипел пока что осторожно Кульбицкий, мысленно выстраивая отдельные слова в цепь для наступления, — вы перечёркиваете всё, што делает газета… Чем по праву гордится наш коллектив… Оплёвываете линию, которую проводит главный редактор Грегор Викторович…
— Подожди ты, — перебил Янкин. — Тут есть над чем задуматься.
Он нисколько не сомневался, что Волкова права. Но не откровенное искажение фактов обеспокоило главного редактора. В этом его газета не отличалась от других изданий и многих телевизионных передач. Бывало, надолго вырывалась вперед. Иногда уступала «Огоньку», «Литературной газете», «Комсомольской правде». Под лозунгом Гласности шло соревнование, кто найдёт больше фактов, показывающих мерзость советской истории и, особенно — сегодняшней жизни. Все, кто работали на этой «кухне» — от руководителей до простых корреспондентов, прекрасно понимали, что многое передёргивается, что-то положительное сознательно вычёркивается и замалчивается, а дурное, на фоне того положительного незначительное, также осознанно преувеличивается. И если по первости, перед публикацией какого-то «взрывного», подтасованного материала, Янкин немного мандражировал — вдруг Горбачёв стукнет кулаком и потребует строгой проверки фактов, то очень быстро понял: бояться не надо. У него и его коллег есть защитник и опекун — член Политбюро, главный идеолог Гласности Александр Николаевич Яковлев. Грегор Викторович лично ходил к нему с наиболее опасными статьями и видел в приёмной других таких же главных редакторов, ждущих своей очереди за индульгенцией.
Он довольно быстро понял Яковлева. Проницательным, постоянно пульсирующим умом просвечивал его насквозь. Не только чувствовал, но даже воочию различал, когда тот врёт. Если Серый кардинал начинал говорить о развитии социализма, под кустистыми, мохнатыми бровями останавливался тусклый холод. Однако стоило коснуться удачной публикации в газете, показывающей очередной изъян социалистической действительности, глазки начинали блестеть и в голосе появлялась звонкость. Яковлев сильно не любил Систему, в узком кругу неохотно говорил в её защиту и с трудом это скрывал. Грегор Викторович как-то даже подумал: если бы раненый Яковлев попал не в советский медсанбат, а к немцам, то стал бы, наверное, активным пособником фашистов.
Поэтому, чувствуя и понимая суть Серого кардинала, он не ждал опасности с той стороны.
Забеспокоило Янкина другое. Не повредит ли возможный скандал, а Волкова сказала о каких-то заключениях экспертов, его личным замыслам? В нарастающем развале уходящей действительности выкристаллизовывалась новая жизнь, и Грегор Викторович не хотел упустить в ней своё место. Он провёл акционирование газеты. Большинство акций разными путями пришло к нему. В Москве и Ленинграде власть взяли демократы. В доверительных разговорах стали прорабатываться возможности превращения акций в недвижимость — какой-то рыжий молодой человек из Ленинграда назвал этот процесс «конвертацией». Янкин не возражал против любого названия. Главное — надо было «конвертировать» записи в журнале, высокопарно названные акциями, в большое шестиэтажное здание в центре Москвы, часть которого занимала редакция. А тут — скандал. Поэтому Кульбицкий, вместо поддержки своего наступательно-льстивого пролога, услышал от главного раздражённый отлуп.
— Ты чево тащишь в газету? Каких авторов? Может, он сумасшедший? Или провокатор?
— Нет, нет, я его знаю, — поспешил прогнуться ответственный секретарь, не привыкший к публичной порке. — Мой хороший товарищ.
— Хорошие товарищи здесь сидят. А там — американский господин. Ему-то наплевать, как будет выглядеть газета.
Янкин, даже сидя заметно возвышавшийся над Кульбицким, многозначительно поглядел сверху вниз на соседа:
— Может, и тебе тоже наплевать?
Помолчал и подвёл итог.
— Давайте будем заканчивать. Но эта история должна стать уроком. А вы, Наталья Дмитриевна, зайдите ко мне. Посмотрим на возражения экспертов.
После той «летучки» Волкова сразу улетела в Иркутск, а ответственный секретарь, выбрав момент, завёл с Янкиным разговор об увольнении Натальи. Доводы приготовил заранее. Она оспаривает позиции газеты в освещении таких поворотных моментов, как события в Тбилиси, в Нагорном Карабахе, в Прибалтике. Поддерживает консервативные, антидемократические силы и прежде всего «Союз» — это агрессивное объединение так называемых патриотов. Похоже, сама скоро станет красно-коричневой — русской фашисткой. Если уже не стала. А как подрывает престиж главного редактора!
Кульбицкий не догадывался, что Янкин на интригах собаку съел и потому без труда видел истинные причины обозлённости ответственного секретаря. «Мелкий ты, парень. А она крупная. Не по зубам тебе». Однако вслух начал успокаивать:
— Нельзя так, старичок… нельзя.
«Старик», «старичок» — были распространённые обращения друг к другу в среде интеллигентско-творческой молодёжи в конце 50-х — начале 60-х годов — в период позднего Хрущёва и раннего Брежнева. Этим молодые люди стремились показать, что, несмотря на небольшие годы, они успели многое пережить. «Как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок», — проникновенно шептали есенинские слова охмуряемым девушкам студенты филфаков, рассчитывая на сострадательное понимание.
Со временем остывал кураж, редели волосы, менялись формы обращения. Но Янкин в душе оставался «шестидесятником». Постаревшим пижоном той ненадолго раскованной поры, которую он когда-то назвал «размороженным временем». «Мы — дети размороженного времени», — любил повторять Грегор Викторович, пока однажды не услышал от сына: «А мы — дети эпохи стираных пакетов». Так был переброшен мост через времена, по которому Янкин шёл с привычным обращением.
— Ты ведь сам, старичок, всем объявляешь, што демократия — это наличие разных мнений. Плюрализм, как любит повторять Михал Сергеич… И вдруг — на тебе: давай уволим. Нельзя так, старичок. Нельзя.
Теперь, услышав от Натальи, что она не хочет писать о создании Сибирской республики, главный редактор вспылил. Всякий раз, покидая как руководитель очередной творческий коллектив, он оставлял после себя странный людской конгломерат. Будучи творчески одарённым человеком и видя, что при строгом исполнении его указаний получаются хорошие результаты, Янкин стал признавать в основном авторитарный метод управления. «Я — за демократию! — говорил он, и добавлял: — Но когда она у меня в кулаке!» Пройдя через такое «сито», в коллективах оседали по большей части «чево изволите?» конформисты, и по меньшей — глубоко законспирированные протестанты. Однако те и другие умели ещё при первых глубинных толчках улавливать импульсы руководящего настроения.
— Непонятно твоё заявление, Наталья, — сказала Альбан. — Тебя ведь посылали не на экскурсию… Байкал посмотреть… Человек, действительно, имеет право на идею.
— Какая идея, Вероника? Я уж не говорю — любая идея должна быть выстрадана. Эту мысль — про республику — привезли странному чудаку из Москвы.
— А вы хотите, штоб великую идею родил какой-нибудь ваш Ванька из деревни Гадюкино? — проскрипел, вставая за столом, Кульбицкий. Он вспомнил недавнюю «летучку», принародный позор, спровоцированный этой женщиной. «Главного можно понять, — с ревнивым отвращением подумал Илья Семёнович, глядя на красивую фигуру Волковой, её приподнятые сзади светло-каштановые волосы, почти не тронутые помадой чувственные губы. — Но ведь стерва! Не наша».
— Почему-то некоторые наши работники решили, — начал он возбуждаться, — такое себе присвоили право… вот это в интересах демократии газета должна печатать, а вот то — не достойно внимания общества. Волкова не увидела в предложении иркутских товарищей большого политического явления. Представьте себе, товарищи, — уже перешёл на крик Кульбицкий, — люди задумались об этой концлагерной… ненужной многим стране. Решают… думают, как изменить в ней жизнь, а наш спецкорр принимает решение за них.
— Я увидела там другое. Намерение с помощью газеты организовать новые очаги политической напряжённости. Мы спровоцируем развал уже не Советского Союза, а России. Вам это нужно, Илья Семёнович?
Кульбицкий выскочил из-за стола. Двинулся по комнате к тому месту, где тоже возбуждённая, встала Волкова. Остановился напротив. Меньше её ростом, щуплый, но с такой исторгаемой энергией, что Наталья невольно отшатнулась.
— Это нужно демократии в России! Пусть граждане сами делают выводы! Наша задача представить разные точки зрения! Это наше кредо!
— Што вы говорите? — воскликнула с издёвкой Волкова. — А не вы ли отвергаете материалы некоторых авторов только потому, што они имеют другие взгляды? Не такие, как ваши, Илья Семёнович! Вы забыли? — я вам принесла письмо депутатов Верховного Совета СССР… Я до сих пор его помню… почти дословно. О том, што вокруг Москвы задерживаются сотни вагонов с продуктами и различными товарами. Разгрузочные станции пикетируются… А статья депутатов из группы «Союз» о проамериканской деятельности Шеварднадзе… Где она, товарищ Кульбицкий?
— Газета — не помойное ведро, куда можно валить всё подряд. Я даю только то, што волнует народ… интересует его.
— Какой народ? Может, вы нам уточните? Или для вас все, кто не хочет уничтожения государства, это Ваньки из деревни Гадюкино? Я вам недавно напомнила о свободе слова в вашем понимании. Один писатель у нас заявляет: «Россия — сука, ты ответишь за это…» Другой пишет… я прочту, штоб не обвинили в искажении…
Наталья открыла блокнот, с которым ходила на заседания редколлегии и на «летучки».
— «Русские — позорная нация. Они не умеют работать систематически и систематически думать. Первобытное состояние, в котором пребывает народ — производное его умственных возможностей». Так в нашей газете говорят писатели. А вот мнение правозащитника. Негодяй вообще обнаглел. «Русский народ — это общество рабов в шестом поколении». Скажите, Илья Семёнович (Волкова старалась всегда чётко выговаривать имя и отчество Кульбицкого), про другой народ вы разрешили бы так написать? Про тот, который вы тоже неплохо знаете…
— Слушай, ты, — моментально понизив голос, яростным полушёпотом процедил ответственный секретарь. Он уже не мог себя сдерживать. Всё накопившееся зло против этой враждебной ему женщины требовало выхода. — На што намекаешь, фашистка русская? Тебе давно надо быть не с нами, а там… Где ходят с хоругвями… Псалмы воют… Молются… вместо того, штоб делать дело.
У Натальи на миг перебило дыхание. Такой ненависти, испепеляющей злобы даже не к себе, а к мысленно увиденным ею тысячам людей — она не встречала. И не слышала такого оскорбления по поводу себя. Её, дочь фронтовика, раненного фашистами, назвать фашисткой?
Первое, что инстинктивно дёрнулось — рука. Владимир научил её нескольким приёмам самозащиты и постоянно тренировал их, чтобы в опасный момент всё сработало автоматически. Она могла костяшками кулака резко и коротко ударить в горло противника. Это лишит человека чувств и голоса. Могла каблуком туфельки ткнуть в мошонку. Разведённый Кульбицкий вряд ли сможет после этого радовать женщин. «Если он сейчас это умеет», — мелькнула брезгливая мысль.
Но то, что пришло в голову, Наталья никак не ожидала. Она поднесла к себе узкую свою ладонь, плюнула на неё и с оттяжкой хлестнула по морщинистой щеке Кульбицкого. Едва ль не все полтора десятка человек ахнули одновременно.
— Это — за русскую фашистку.
Грегор Викторович мучился так, словно внутри что-то разорвалось. Он, хитроумный и сообразительный человек, уже с трудом придумывал, как прикрыть Наталью, чтобы оставить её в редакции, не знал, что предпринять, чтобы она отошла от борьбы с Кульбицким и теми, кто, по сути дела, выполняет его — Янкина — волю.
Но последний инцидент на «планёрке» просто кричал: надо что-то сделать. Не потому, что он боялся влияния Волковой на коллектив. Нет, в этом он снова поработал успешно и успел вырастить коллектив на одно идейное лицо. Вернее, на один ум и на один голос.
И даже пересуды в редакции его не волновали. А то, что они начались, обладающий звериной интуицией Янкин почувствовал. На Веронику Альбан никто не обращал внимания. Да и сам главный редактор стал с нею резче, строже, что она не замедлила передать теперь уже почти мужу и другу Грегора Викторовича.
Казалось бы, угодникам надо поворачиваться к обретающей влияние Наталье. Однако они догадывались, что здесь выстраиваются какие-то противоестественные отношения, и потому не торопились присягать новой фаворитке.
А Янкин сидел за столом в кабинете, вертел в руках вытащенный из ящика силуминовый бюстик Ленина и не знал, как поступить. Уволить Наталью было выше его сил. Но и оставлять уже было нельзя. Она пошла в открытую против его идей, да ладно идеи, чёрт с ними, тут можно подвигаться туда — сюда. Главное, покушается на его власть, а это дороже всяких идей…
Грегор Викторович написал от руки приказ. Перешёл через приёмную в кабинет своего первого заместителя Лещака.
— Слушай, старичок… Тут такая хреновина. Я завтра утром улетаю в Париж.
Лещак с удивлением посмотрел на начальника. Он давно знал об этой поездке.
— Я написал приказ… Волкову надо… Ты утром его отдай… Пусть напечатают… Ознакомь Наталью… Дмитревну. Число поставь сегодняшнее… А вручи — завтра. Одной… Не при всех.
Глава десятая
Первый месяц лета — июнь бывает, как правило, более влажным, чем предыдущий май. Савельев не раз читал объяснения метеорологов на этот счёт. С повышением температуры огромные массы нагретого приземного воздуха устремляются вверх, там остывают и образуют мощную конвективную облачность, которая обрушивается вниз дождём. Поэтому дожди в июне чаще, осадков больше.
Но почему этот июнь — 1991 года — был такой «сырой», Виктор ни у кого внятного ответа не находил. По количеству осадков он перекрывал норму всех предыдущих лет в два с половиной раза! И дождило своеобразно. С утра — сверкающее солнце на чистом голубом небе, к обеду — облака. Потом — дождь, нередко гроза, а к вечеру снова всё успокаивается и опять блестит умытое светило.
Особых беспокойств это Савельеву не доставляло, если бы не пропускная система в Кремль. Приходилось открывать портфель, чтоб показать содержимое. А значит, доставать складной зонт «Три слона», без которого сейчас нельзя было ходить — его Виктор клал на самое дно, и из-за этого выкладывать диктофон, блокноты, сигареты, ключи от квартиры, кабинета и машины.
Впрочем, это были мелкие неудобства по сравнению с общей напряжённой атмосферой в стране, предгрозовое состояние которой чувствовалось во всём. В газетах, по телевидению не переставали говорить о забастовках. Государственные продовольственные магазины стояли почти пустые. Очереди вырастали за всем. Даже, казалось бы, за ненужным товаром. Истеризм нарастал с каждым днём. Люди не знали, кому верить, на что надеяться, к чему прислониться. На митингах одни надрывали голоса в поддержку демократов, предавая анафеме консерваторов, другие, наоборот, разоблачали деструктивные действия демократов, которые всё откровенней призывали к разрушению государства в его существующем виде. А те, кто чувствовали опасность с той и другой стороны, всё больше надеялись на чудо. Популярней знаменитых артистов, спортсменов и даже многих политиков, за исключением разве что Горбачёва и Ельцина, стали экстрасенсы, маги, прорицатели. От заклинаний Кашпировского погружались в сон стадионы. Под напором желающих прозреть, выбросить костыли и войти в блаженство через слова великого целителя-психотерапевта дрожали стены огромных залов. А для более гарантированного исцеления от всех существующих на земле болезней вышедшие из обморока-гипноза пациенты Кашпировского садились перед телевизором, чтобы глянуть в добрые глаза другого излучателя невиданной энергии — Аллана Чумака. «Крэм… Вот этот крэм… если вы помажете им больную ногу, она станет здоровее здоровой». Впрочем, «крэм» был не самым большим чудодейством Чумака. Он мог зарядить исцеляющей энергией даже водопроводную воду. Достаточно было налить её в банку, хотя бы в трёхлитровую из-под маринованных огурцов, поставить сосуд перед экраном телевизора, и после некоторых волшебных слов Чумака хлорированная жидкость становилась целебным напитком.
Савельев смеялся над этим, издевался, услышав от кого-нибудь про «чудеса через телевизор», но видел, что иррациональное становится для многих достоверней рационального. Даже в редакционном буфете, где фрондирующее вольнодумство часами высасывало чашечку кофе, неожиданно для себя услышал, что такой дождливый июнь — это не к добру. «Знамение нам является… Знамение, — сказала отзывчивая сорокапятилетняя машинистка Галя, редко кому из редакционных мужчин отказывающая в доброй женской ласке. — Много зла накопилось в людях». Савельев, избежавший забот теплотворной машинистки, хмыкнул. «Слепцова бы сюда, — вспомнил Виктор весеннюю охоту. — Он бы им рассказал про сову и другие приметы».
Пройдя Спасские ворота Кремля, Савельев свернул к зданию, где теперь работал Верховный Совет СССР. На неровностях асфальта ещё не высохли лужицы вчерашнего дождя. Утренний воздух был сильно свеж и чист. Откуда-то из кремлёвских посадок доносился запах жасмина.
Виктор бывал и на заседаниях прежнего Верховного Совета, который он называл «догорбачёвским». Тот собирался дважды в год. Каждый раз — всего на несколько дней. Заседал в длинном зале Большого Кремлёвского дворца, который в сталинские годы сделали по проекту старого российского архитектора Иванова-Шица, разобрав внутреннюю стену между двумя залами — Андреевским и Александровским. Наверное, это была одна из немногих работ, которой не хотел бы гордиться семидесятилетний архитектор — автор здания театра «Ленком», Морозовской больницы и десятка других украшений дореволюционной Москвы. В том помещении из президиума с трудом можно было разглядеть задние ряды. Да при тогдашнем парламенте этого и не требовалось. Незапланированных выступлений не было. Рук с места никто не поднимал. Когда здесь собрался на первое своё заседание новый Верховный Совет, образованный из части Съезда народных депутатов СССР, оказалось, что задним на трибуну не попасть. Их поднятых рук просто не замечали из президиума. Экстремисты поняли: трибуну надо захватывать.
Потом в проходах установили микрофоны, и схватки во время заседаний перекатились к ним.
Позднее Верховный Совет стал работать в другом здании. В отличие от большинства старинных сооружений Московского Кремля, это здание было новоделом. Его построили в середине 30-х годов, но учли стиль и пропорции сохранившегося рядом здания Сената, возведённого во времена Екатерины Великой архитектором Казаковым. Теперь в бывшем Сенате работало правительство СССР, а рядом заседал новый парламент.
Виктор ходил сюда, как на вторую работу. Если прежний Верховный Совет собирался на несколько дней в году, то каждая из двух сессий этого Совета — весенняя и осенняя — длились по три-четыре месяца. У коммуникабельного и, при необходимости, обаятельного Савельева тут была масса знакомых. Не только среди депутатов, но и среди аппаратчиков. Если требовалось, он мог быстро получить любые документы и стенограммы.
Центральным событием сегодняшнего заседания должно было стать выступление премьер-министра СССР Валентина Павлова. Его отчёта потребовал на прошлой неделе Верховный Совет. Что скажет депутатам Павлов?
Какие предложит меры для обуздания инфляции, наполнения магазинов продуктами и товарами? И можно ли что-то быстро сделать в этой обстановке? — думал Савельев, поднимаясь по широкой лестнице в главное фойе перед залом заседаний. Здесь, в светлом, просторном фойе, с большими окнами на Москву-реку, в обычном броуновском движении ходили депутаты, их останавливали журналисты, почему-то всё время куда-то торопились работники аппарата. Тут не раз Горбачёв «застукивал» Савельева, когда Виктор, не заметив подошедшего сзади Президента, энергично агитировал депутатов в пользу Ельцина.
Теперь они оба были для него источниками беды. Один — по скудоумью породивший разрушительный поток. Другой — по маниакальной страсти к власти оседлавший этот поток и готовый сокрушить вместе с противником миллионы других людей. «Што я за человек, чёрт возьми! — с раздражением подумал Виктор о себе. — То в одно дерьмо вляпаюсь, то в другое. Поверил в Горбачёва… Глотку рвал, пупки карябал… Потом — в Ельцина. Борец… Демократ… Этого хоть быстро раскусил… Но всё равно вляпался. Теперь бы обоих, — вспомнил Виктор присказку деда, — связать по ноге, да пустить по воде».
— Кого ищешь, Сергеич? — услыхал Савельев. — Не меня ли?
— А-а, Коля! — обернулся на знакомый голос Савельев, выходя из сердитого самобичеванья. — Тебя я всегда рад видеть. Даже несмотря на твои заблуждения.
— История п-покажет, кто из нас б-блудил, — слегка заикаясь, добродушно улыбнулся сухощавый мужчина лет сорока пяти, с чуть вытянутым вперёд лицом. Мягкие, негустые волосы, зачёсанные набок, открывали выпуклый лоб. Прищуренные глаза смотрели приветливо. Это был Николай Травкин. Дважды народный депутат — союзный и российский, Герой Социалистического Труда, председатель недавно созданной Демократической партии России.
Савельев знал его несколько лет. Впервые написал о нём, когда Травкин был ещё бригадиром и активно внедрял на стройке коллективный подряд. С той поры у них установилась необычная форма обращения друг к другу. Савельев звал его по имени, Травкин — по отчеству. Что, впрочем, не мешало обоюдному уважению.
Потом Николай Ильич стал начальником строительно-монтажного управления. Получил Героя Социалистического Труда. Возглавил трест. Пошёл в политику. И все эти годы, при каждом удобном случае, Виктор поддерживал Травкина.
Но в последнее время они всё чаще расходились в оценках Ельцина и его окружения из «Демократической России». Разочаровавшись в Горбачёве, Травкин со своими сторонниками повернул к российскому лидеру, что только добавило разрушительной энергии опасному человеку. Поэтому Савельев предостерегал строителя — демократа: «Гляди, Коля. Ответить перед историей».
Впрочем, сейчас его интересовало только предстоящее заседание Верховного Совета.
— Как думаешь, с чем придёт Павлов?
— Я думаю, п-премьер хочет чрезвычайного положения, — сказал Травкин. — Погляди, какое решение он предлагает нам принять. Его люди подготовили п-проект.
Савельев взял лист бумаги с текстом, не читая, положил в портфель. Полукруглый, устроенный амфитеатром зал заседаний уже наполнялся депутатами. Члены Верховного Совета занимали каждый своё место, отмеченное табличкой с фамилией. Просто народные депутаты СССР, а на заседание имел право прийти любой из них, садились, где придётся — мест в зале было достаточно.
Виктор отстал от Травкина, задержался, чтобы поздороваться с двумя знакомыми депутатами из группы «Союз», помахал идущему по проходу к своему месту с табличкой коллеге из Ленинграда — журналисту — демократу Ежелеву, и уже собрался уходить из зала на балкон — во время заседаний пресса находилась там, как вдруг почувствовал, что его трогают за рукав.
— Здравствуйте, гражданин Савельев.
Виктор отдёрнул рукав, нахмурился. Его так называл единственный человек — депутат Катрин.
— Ну, привет. Теперь кого будем вешать?
— Зачем же так сразу? — негромко засмеялся, прикрывая рот рукой, невысокий, ниже савельевского плеча, мужчина. — Вы меня неправильно понимаете. Надо просто изолировать. Вон пошёл Алкснис… Виктор. В погонах. Я уж молчу про Когана. Еврей, а хуже русского шовиниста. Эстонцы его правильно ненавидят. Просится тоже… на изоляцию пока… Вон Сухов — харьковский шоферюга. Стародубцев. Колхозник.
— Какой Стародубцев? Их два брата. Оба колхозники. Оба народные депутаты СССР. Или сразу обоим петлю?
— Тульского надо брать. Старшего. Василия. Но я вам про другое написал свои соображения.
Савельев тоскливо поглядел на маленького человечка. Представил, какие соображения тот снова мог изложить. Два месяца назад он уже получал от этого депутата со странным именем и такой же фамилией три плотно исписанных листа. Встретив его потом в фойе Верховного Совета, спросил:
— Вам письмо вернуть, товарищ Катрин? Или пусть останется у нас? Публиковать его нельзя.
— Моя фамилия Катрин, гражданин Савельев. Зовут — Лемар Тихонович.
Увидев широко раскрывшиеся в удивлении глаза журналиста, покровительственно объяснил:
— Лемар… Это Ленин — Маркс. А почему вы не хотите обнародовать мою точку зрения?
— Да страшная она, Лемар Тихонович. Нам сейчас надо искать пути консолидации общества… Какого-то успокоения. А какое может быть спокойствие, если один из лидеров «Демократической России» — вы ведь относите себя к лидерам?
— Да.
— …предлагает арестовать всех не согласных с вашей программой. А не согласных-то — миллионы. Вы хотите повторить большевиков 18-го года?
Савельев давно заметил, что все маленькие ростиком, щуплые мужчинки, неугасаемо страдающие от своего выпадения из стандарта, также непереставаемо помнят о том, что и Бонапарт был низеньким. Но ведь стал Наполеоном! И помнящие денно и нощно о возможностях маленького человечка стать большим Наполеоном, они стараются попасть во власть, туда, где станут командовать людьми, решать их судьбы и наслаждаться своей низенькой высотой. Поэтому протискиваются хоть в маленькие, но в прокуроры, в милицейские следователи, в оперуполномоченные, в другие такие же работы (только без риска для жизни) и, не показывая начальству своего внутреннего, «наполеоновского» огня, ждут случая или поворота судьбы, как его дождался Бонапарт.
Депутат Катрин был из таких. И маленький рост, и веру в большие возможности он унаследовал от отца — плотника фабрики валяной обуви Тихона Кузьмича Катрина. Конечно, ни о каком Бонапарте Тишка, как его звала жена, не подозревал. Про Наполеона что-то слышал, а как его дальше звали, не интересовался. Зато собственным видом и жизнью был недоволен. По пьянке шумел, что он лучше директора фабрики знает, какие валенки бабы с руками оторвут, подпрыгивал, чтоб удачней стукнуть сомневающуюся жену, однако, получив успокаивающий тычок в грудь от рослой, широкоплечей формовщицы той же фабрики, падал на кровать и засыпал.
Свои ускользающие надежды переложил на сына, решив его выделить среди всех остальных уже именем. Жена Тихона, тогда ещё молодая, здоровая крестьянка, поглядела на мужа, как на придурка, и решила, что в загсе такое чудное имя обсмеют. А значит, муж согласится на её предложение: назвать мальчика Петей.
Однако регистраторше загса, наоборот, понравилось сочетание двух великих фамилий: Ленин и Маркс — не Комбайн ведь! — и сын честолюбивого плотника пошёл в жизнь под необычным именем.
В студентах Лемар быстро выбился в комсомольские активисты. Особо заметные результаты показывал, когда расследовал недостойный поступок кого-нибудь из товарищей.
После института долго работал помощником районного прокурора в небольшом областном центре Нечернозёмной России. С родителями, оставшимися в фабричном посёлке, общался мало. Они не вписывались в его предназначение. Поправил фамилию на более звучную. Женился и скоро разошёлся. Говорил, что семья мешает полностью отдаваться работе. При этом взгляд его бледно-голубых, почти прозрачных глаз выдавал тайную похоть. Но это выскальзывало редко. В основном, взгляд нечернозёмного Бонапарта сурово предупреждал, что Лемар Тихонович видит всех насквозь и разглядит преступление даже под железобетонной плитой невиновности. То есть там, где его нет.
Когда началась кампания по выборам в народные депутаты СССР, Катрин, понимая, что ни от каких общественных организаций ему не выдвинуться — он не был даже филателистом, а общество гомосексуалистов находилось в глубоком подполье, сделал ставку на разоблачение режима. Самым проверенным способом обратить на себя внимание становилась критика незаслуженных привилегий власти. Помощник прокурора сходил в столовую облисполкома. Пообедал. Остался недоволен, ибо столовая прокуратуры, где он ел каждый день, была богаче и сытней. Но, уходя, прихватил меню.
Через пару дней отправил в московскую газету (местная не взяла) большое, на несколько страниц, письмо под заголовком: «А дети страдают». В нём рассказал о дачах обкома партии, о пойманном на браконьерстве, но не наказанном председателе облисполкома. Для большей доказательности страдания детей приложил меню.
После публикации заметки про дачи его с работы выгнали. Маленький — 154 сантиметра ростом — борец с режимом организовал два митинга. С одного из них местное телевидение дало короткий сюжет в передачу «Телемост с избирателями», которую вёл Савельев. Разумеется, никакого Катрина Виктор не запомнил — у него в каждой передаче проходило по несколько таких сюжетов, но нечернозёмные избиратели уволенного борца заметили. «Маленький уж больно, — переживали дородные местные молочницы. — Прям пацан. Как ему у наших волков правду отгрызть? Вот Ельцин — этот видный мущщина». «Мала блоха, да кусуча», — успокаивали, сами не слишком великанистые, мужики.
После избрания Катрин незамедлительно примкнул к демократам, стал пробиваться к ельцинскому окружению. Там его долго не привечали — слишком невзрачный, может дискредитировать рослого вождя. Скажут, нашёл Ельцин, на кого опереться.
Но юридические знания бывшего помощника прокурора, а главное, его кипящая злость к политическим противникам со временем оказались весьма кстати в развернувшейся борьбе за власть между Горбачёвым и Ельциным. Лемар Тихонович стал внедрять в близкое ельцинское окружение мысль о том, что для обрушения горбачёвского Центра надо перевести союзные министерства, крупные заводы, банковскую и налоговую структуры под юрисдикцию российского правительства. То же самое ельцинским поводырям настойчиво рекомендовали сделать зарубежные советники, теперь уже не вылезающие из Москвы. Зёрна падали в благодатную почву. Демократическая опора Ельцина, пропуская через себя все эти рекомендации, доносила их лидеру. Частично, как свои, но в большей мере, как идеи самого Бориса Николаевича, ибо Ельцин не терпел ничьих советов, если они не казались ему собственными замыслами.
Маленький Катрин стал вырастать в большую фигуру демократических сил. Одновременно набухал тревожной значительностью. Он с каждым днём чувствовал, что время наполеонов подходит. Кто первый схватит железной рукой врага, тот станет Бонапартом. Сторонники сохранения Союза были разрозненны. Они не верили Горбачёву, а других — взамен ему — не было; не могли смириться с выходом нескольких республик, скандалили между собой и даже объединиться против опасных действий демократов этой разобщённой массе не удавалось.
Демократическая среда тоже была не однородна. Зато у неё имелся харизматичный лидер и радикальное ядро. Ядро это пылало, как голова кометы, увлекая за собой демократическую пыль. Заряженные энергией ядра частицы пыли поверили в то, что, дорушив обветшалое здание прогнившей системы, они сообща построят новую, такую, как на Западе, демократическую жизнь. Но для этого надо, считал Катрин, убрать с политического поля самых опасных игроков противника. И прежде всего, новое правительство во главе с Павловым, который решительно выступал за наведение порядка. Верховный Совет должен потребовать у Горбачёва его отставки. А помогут депутатам шахтёры, которым будет передана эта директива.
— В своих записках, гражданин Савельев, я предлагаю…
— Никак не отвыкнете от прежнего обращения?… Гражданин… Вроде как к подследственному. По-другому… по-людски… не получается?
— Я по-другому не признаю. Разве каждый мне может быть товарищем? Он за красных, я за белых. Какие мы товарищи? А господин… Это уж совсем не туда. Идёт, например, какой-нибудь… (Катрина скосоротило отвращение) — а я ему: господин! Гражданин — самое то. Хоть на допросе, хоть здесь. Так вот, о предложениях… Я хочу призвать Верховный Совет — через вашу газету… он должен объявить вотум недоверия правительству. Там одни враги нашего народа. Обокрали его реформой цен… Но им мало! Продолжают грабить. Если Верховный Совет не пойдёт на это, значит, там тоже враги.
— Чёрт возьми! Как вы надоели с врагами! — сердито воскликнул Савельев. — Ваше воззвание даже на заборах висело. Про врагов в правительстве. А вы снова… Чево вы хотите, Катрин? Ещё больше хаоса? Но вроде уж некуда. Я, по правде говоря, не знаю, где сегодня больше врагов. Там? — показал он на заполняемый зал. — Или на Краснопресненской набережной [8].
Лицо депутата мгновенно изменилось. На скулах окаменели небольшие бугры. Губы сжались в полоску ножа. Он откинул голову назад, чтобы снизу вверх поймать взгляд журналиста.
— Вы чужой человек, гражданин Савельев. Мы это вам запомним. Не забудем и не простим.
— Ничё себе! Эт как злодеяния фашистов?! Вы в своём уме, Катрин?! А если я сейчас скажу прокурору — вон он идёт, што вы угрожаете мне?
Лемар Тихонович негромко засмеялся, прикрыв рот рукой.
— Вам никто не поверит. Нет доказательств. А нам они не нужны. Мы будем без них знать, кто вы.
Он тихо отскользнул от Савельева и сразу затерялся среди депутатов в зале. А Виктор, пока поднимался на балкон, всё время чувствовал какой-то неуют от нешуточно зловещего голоса.
Глава одиннадцатая
О том, каким будет заседание, Савельев, помимо собственных представлений, судил по количеству прессы. Если первые ряды балкона сплошь заняты длинноногими штативами, на которых установлены видеокамеры и фотоаппараты с «телевиками», значит, прессе заранее поступил сигнал — чаще всего от демократов: ждите сенсации.
В такой день пишущим журналистам из газет приходится искать места выше, и не всегда удобные. Савельева это не касалось. Он сразу застолбил себе место в середине первого ряда и не давал загораживать его, даже устраивая скандалы. Однажды чуть не свалил дорогую камеру, оттолкнув какого-то волосатого оператора. С ним перестали связываться.
Достав фирменный редакционный блокнот, Виктор открыл его на чистой странице. Записал: 17 июня. «Понедельник». Ниже: «Павлов. Положение в стране».
Председатель Верховного Совета монотонно объявил о присутствующих — почти целиком всё правительство, Комитет Конституционного надзора, вице-президент. Значит, Горбачёв в своём Ново-Огарёве, подумал журналист. Один из депутатов, с которым Виктор останавливался, сказал, что в Верховный Совет сегодня-завтра поступит новый Союзный договор.
В это время к трибуне подошёл премьер-министр. С недалёкого балкона была хорошо видна его плотная фигура, одутловатое лицо с большими очками, стриженные «ёжиком» волосы. Савельев включил диктофон и одновременно стал записывать.
Сначала Павлов говорил, какое он получил наследство. Потом перешёл к нынешнему состоянию.
— Положение в стране катастрофическое. Республики не перечисляют средства в госбюджет. Нарушены экономические связи. Меня спрашивают — как совместить суверенитет республик с идеей сохранения единого экономического пространства? Отвечаю: суверенитет всегда ограничен. Либо это делается добровольно, либо принудительно.
…Главный дестабилизирующий фактор, с устранения которого надо начинать — это политическая нестабильность. Страна вступила в критическую фазу. Ближайшие несколько месяцев решат: или мы овладеем ситуацией, или нас ждёт полнейший распад.
Савельев знал о разных выступлениях премьера. В конце марта на заседании Совета безопасности Горбачёв объявил: через два-три месяца нечем будет кормить страну. Хотя хлеб в стране есть. Ситуация складывается, как в 1927 году. То есть накануне сталинской коллективизации. Предложил всем подумать и собраться завтра.
На следующий день Павлов сообщил: только Украина и Казахстан могут сами себя прокормить, да и то едва-едва. В Москве на булочных либо замки, либо в них пусто. Из десятков городов поступает информация о готовности к забастовкам.
Теперь, к середине июня, обстановка стала совсем угрожающей, и премьер не скрывал тревоги.
— Главное — это уборка урожая. Нельзя допустить ошибок прошлого года. Если мы не сумеем убрать урожай, то страна должна будет встать на колени.
…Я вам скажу прямо: если будет продолжаться конфронтация с Россией, то государство развалится. Той страны, о которой мы сегодня говорим, в которой выросли, жили и работали, не будет.
…В условиях экономического и политического кризиса сплошь и рядом возникают ситуации, которые требуют мгновенного реагирования, быстрого претворения принятых решений в жизнь. Поэтому правительство должно обладать соответствующими полномочиями.
…Есть ли сейчас у Кабинета Министров СССР такие права? Ответственно заявляю — нет. Поэтому прошу Верховный Совет предоставить правительству дополнительные полномочия.
Савельев напрягся. Вот, оказывается, ради чего Павлов пришёл в парламент! Он расстегнул портфель, вынул полученный от Травкина листок бумаги. Ну-ка, что за проект решения подготовил премьер для Верховного Совета? Начал читать. «Шестой год так называемой перестройки привёл к развалу экономики и политической системы. В экономике происходят процессы, которые поставили страну на грань катастрофы. Падают выпуск продукции, национальный доход. Упала дисциплина на производстве. Расстроена денежная система. Практически потеряно управление народным хозяйством. Объявленные суверенитеты привели страну к гражданской войне. В результате мы имеем сотни погибших и около миллиона беженцев».
«И эту правду он собирается узаконить? — изумился Савельев. — Это же будет официальное осуждение всего, что сделал Горбачёв!»
Виктор вспомнил другие выступления Павлова, рассказы некоторых коллег-журналистов о его разговорах в узком кругу. Премьер с каждым днём отдалял себя от Президента, не очень скрывал своё несогласие с действиями Горбачёва. Да и сам Горбачёв, насколько можно было судить, уже жалел, что не послушал совета павловского предшественника Рыжкова.
Свалив все свои ошибки на бывшего главу правительства и, по сути, предав покладистого «непротивленца» Рыжкова, Горбачёв, как ни в чём ни бывало, 12 января 1991 года приехал к тому в больничную палату, где Николай Иванович выходил из обширного инфаркта. Увидев его, растерялся. Рыжков был худой, с зеленоватым цветом лица. Тем не менее, стал спрашивать, кого лучше поставить во главе Кабинета министров — так теперь было решено назвать правительство. Неокрепший Рыжков слабым ещё голосом давал точные характеристики, поскольку работал с каждым в обстановке, когда год за два идёт. После нескольких фамилий президент назвал Павлова. «Хороший финансист, — сказал Рыжков, — но промышленности, производства не знает совсем. И ещё одно — он пьёт… Опасно. Не верю я ему, не выдержит, начнёт срываться…»
Горбачёв подумал тогда, что пьянство — не самая большая беда для сильного министра финансов, кем в те дни был Валентин Павлов. Пьёт же Ельцин. За границей и дома не просыхает. В каждый понедельник лицо увеличивается вдвое. А народ всё твердит: «Наш человек!» Павлов хоть знает финансы… Остановил бы он крушение несущегося под откос государственного состава. Как-нибудь поправил экономику. С финансами что-то сделал, пока он, Горбачёв, ищет кредиты. Обещают американцы. Канцлер Коль должен помочь — отдал ему ГДР почти бесплатно. Потом из разорванных обломков он, Нобелевский лауреат мира, соберёт свою страну. И те, кто кричат сейчас: «Долой Горбачёва!», будут благодарить его за создание нового советского государства. Пусть оно будет меньше… Потом и те придут, кто захотели самостоятельности… А не придут — всё равно много останется. Только останется ли?
Последний вопрос страшил его и мучил, как неисчезающая зубная боль. Он даже жене не говорил об этом страхе. Но она — умная, проницательная, понимала его страх, видела скрываемое даже от неё отчаяние, с которым он возвращался домой после тяжёлых, вязких переговоров с представителями республик, и каждый раз старалась своими словами перевести его сознание в другие временные ситуации, в отдаляющиеся, а может, потому особенно согревающие, моменты их прошлой жизни.
Он видел эти её старания и переживал ещё больше. Разве думал он 11 марта 1985 года, когда все присутствующие на заседании члены Политбюро (кое-кто попасть не успел) беспрекословно согласились с предложением министра иностранных дел Громыко избрать его Генеральным секретарём ЦК КПСС, что через пять лет рядом с ним не будет ни этих людей, ни той мощи государства, которое он возглавил. Оно, конечно, было проблемным — это государство СССР. И правильно, что он начал его обновлять. Но как, в какие моменты происходили ошибки, когда действовали неправильно его люди, теперь обвиняющие в промахах своего вчерашнего кумира? Ничтожества! Он если и ошибался, то в самых мелочах. Главные ошибки делали они. Те, кого он поднимал и так же решительно потом убирал. Как же не разглядел он их — недостойных его таланта, его способностей. И почему получился такой результат? Вторая империя мира, занявшая огромную часть земного шара, а вместе с социалистическими странами и просто сателлитами охватившая едва ль не треть планеты, сегодня осталась одна и рассыпается сама. Такого он не мог представить себе даже в бреду. Думал уйти в историю властелином великой державы, оставить её в расцвете и мощи благодарным потомкам… Будут памятники ему… Обязательно и им двоим, потому что без неё он не стал бы тем, кто он есть.
Но люди, которым он доверял, подвели его. Теперь приходится искать новых. Надо выкарабкаться сейчас… Пусть займётся этим Павлов…
Через два дня после разговора с Рыжковым Президент назначил Павлова премьер-министром. Ему понравилась идея денежной реформы, которую подготовил министр финансов. Товаров и продуктов в торговлю поступало всё меньше, а наличных денег в стране становилось всё больше. Это стремительно поднимало цены: то, что позавчера можно было купить за пару рублей, вчера — за пятёрку, сегодня приближалось к десятке. Кроме того, Павлов откуда-то имел сведения, что за границей специально накоплена значительная масса советских денег для вброса их в нужный момент на территорию Советского Союза. Такая акция могла стремительно разрушить финансовую систему, парализовать жизнь государства. Он предложил Президенту провести молниеносное изъятие старых крупных купюр, обменяв их на новые. При этом резко ограничить количество разрешённых к обмену денег. Горбачёв согласился.
Через восемь дней после назначения Павлова премьер-министром Президент подписал Указ об изъятии из обращения пятидесяти- и сторублёвых купюр образца 1961 года. Всего за три дня их надо было обменять на мелкие. Причём, поменять не больше одной тысячи рублей на человека. Возможность обмена большей суммы решалась специальными комиссиями. Одновременно со сберкнижки можно было снять до 500 рублей.
По замыслу автора реформы, такие жёсткие меры должны были оставить в обороте вместо 133 миллиардов рублей наличных денег чуть больше 50 миллиардов. Остальные превращались в ненужные бумажки.
Главный удар предназначался теневой экономике и организованной преступности, поскольку именно там, а не у населения, скопилась огромная наличность. Однако расчёты оправдались частично. Все страдания приняли на себя рядовые граждане. Возле отделений Сбербанка мгновенно возникли огромные очереди. Люди стояли днём и ночью, давили друг друга, падали в обморок.
Паника охватила тех, кто копил на машину или кооперативную квартиру и держал деньги дома. В специальных комиссиях они должны были доказать, что эти деньги накоплены честным путём за много лет. А кто думал, что надо десять-пятнадцать лет хранить документы.
Реформа взбудоражила страну. Отношение к правительству стало злым. От него ждали не столько хорошего, сколько какой-нибудь пакости.
И она случилась. В виде апрельской реформы цен. За её разрешением Павлов дважды обращался в Верховный Совет. О необходимости повышения розничных цен говорили на разных уровнях власти. Запущенную проблему бурно обсуждали республиканские парламенты. Все понимали: нельзя сохранять низкую цену товара, если себестоимость его производства в полтора-два раза выше. Это не укладывалось в рыночные законы экономики, введения которых требовали демократы. В конце марта Россия и одиннадцать других республик подписали с Президентом Союза ССР Горбачёвым Соглашение о реформе цен. От Российской Федерации документ утвердил заместитель Ельцина профессор-экономист Руслан Хасбулатов. Впервые после Хрущёва предусматривалось увеличить государственные розничные цены в среднем примерно в полтора раза.
Однако местные власти, получив карт-бланш под названием «повышение цен», не только подняли установленные барьеры где в два, где в три раза, но и включили туда непредусмотренное: коммунально-бытовые услуги, тарифы на городской транспорт.
Реформа павловского правительства оказалась как нельзя кстати для окружения Ельцина. «Демократическая Россия» огромным тиражом отпечатала заявление, смысл которого сводился к известному когда-то призыву: «К топору!» Именно это воззвание имел в виду Савельев, отвечая депутату Катрину. Не только со страниц газет, но даже с фонарных столбов и заборов людям бросался в глаза непривычно грубый текст под крупно набранным заголовком:
Держи вора!
Граждане России!
Второго апреля 1991 года совершён грабёж, крупнейший за все советские годы. Ограблена ВАША семья, похищены ВАШИ трудовые сбережения. Так называемой реформой цен правительство Павлова в один день понизило свою задолженность народу на сотни миллиардов рублей…
…Второе апреля — день похорон Горбачёва как государственного деятеля… Отказавшись платить долги народу, грабительский Центр кричит, показывая пальцем на парламент Ельцина: «Держи вора!» Мы утверждаем: за новое ограбление народа несёт полную ответственность правительство Горбачёва-Павлова…
…Ради содержания КГБ, роскошных госдач и потайных привилегий Центр отнимает кусок хлеба у ветерана, чашку молока у ребёнка… Нет — поддержке военно-промышленного комплекса за счёт народа! Требуем правительство народного доверия!
И вот теперь, подумал Савельев, премьер хочет получить от депутатов дополнительные полномочия? Да разве они их дадут после таких неуклюжих его действий?
С другой стороны, всё написанное в проекте решения правильно. Если не принять каких-то экстраординарных мер, процесс развала и последующий крах не остановить. Но понимает ли это Горбачёв? И как он сам относится к просьбе… Нет, Павлов уже не просит… Премьер требует дополнительных прав!
Действительно, стоящий на трибуне плотный мужчина с причёской «ёжиком» в этот момент громко произносил слова: «Я требую полномочий! Не для себя лично! Они нужны для спасения страны!»
Едва он закончил, как зал зашумел. Люди в рядах перекрикивались друг с другом. Некоторые из тех, кто не были членами Верховного Совета и не имели специально оборудованных кресел с кнопками для записи на вопрос, кричали так, что их было слышно на балконе.
Вдруг снизу раздался визгливый голос:
— Зачем тебе ещё полномочия?! Хочешь совсем ограбить народ?!
Савельев узнал Катрина. Он даже не назвал премьер-министра по имени-отчеству, не произнёс фамилии. Главе правительства большого государства кричал как соседу за пивным столом. Виктор разглядел сверху плешь на редковолосой голове депутата, который дёргался прямо под ним. Первое желание было — уронить диктофон. «Жалко. Можно плюнуть, но попадёшь на другого».
А Павлов, сдерживая кипящую в нём ярость, тоже громко ответил:
— Я сказал, для чево. Если вы не понимаете, то надеюсь на разум других.
Несколько раз премьера спросили: согласованы ли его требования с президентом? Это был не простой для него вопрос. Сначала он ответил уклончиво:
— Рабочий день президента — 14 часов. Он несёт ответственность за многие вопросы. Если всё «замкнуть» на него, даже 24 часов не хватит. С моей точки зрения, многое президент вообще не должен брать на себя.
Потом депутат из Украины потребовал чёткого ответа:
— Вы выходите с предложениями от Кабинета Министров? Или это согласовано с президентом? Ответьте, пожалуйста, с максимальной откровенностью.
Павлов взял стоящий на трибуне стакан с водой. Сделал глоток. Сказать, что согласовано, нельзя. Через несколько минут узнают. Вон сидит в первом ряду Яковлев. Теперь он не член Политбюро — демонстративно вышел. Не член Президентского совета. Но всё равно, рядом с Горбачёвым. Его старший советник. Сейчас поднимется и захромает за сцену, в комнату президиума. Позвонит Президенту. Потом, как депутат, попросит слова.
Горбачёв и без того едва сдерживает неприязнь. Премьер видел, как тот недавно обжёг его чёрно-угольными глазами на заседании Совета Федерации, когда Павлов объявил, что золотой запас страны упал с 85-го года в 10 раз, а внешний долг, наоборот, в пять раз вырос. Все поняли, кто виновник. Горбачёв вышел и до конца заседания не вернулся.
Поэтому нельзя говорить, что требования согласованы. Депутаты вряд ли поверят. Наверняка обратили внимание, что за всё время почти часового выступления премьер ни разу не сказал «Михаил Сергеевич». Слова «Президент Горбачёв» произнёс только однажды и то по поводу предстоящей встречи того с главами семи государств. «Деньги будет клянчить, — с неприязнью подумал Павлов. — И не понимает, што не дадут. Под што давать? И кому? Растерявшему страну побирушке? Ездит по миру… Тарахтит… Строит из себя целку после семи абортов».
— Я не считаю нужным кривить душой в таких вопросах и на такой трибуне, — сказал Павлов. — В этот раз вопрос не обсуждался. Хотя вы можете обратить внимание, что этот вопрос я ставлю не первый раз.
Зал то успокаивался, то начинал шуметь. Гвалт поднимали не члены Верховного Совета, лишённые возможности, в отличие от своих коллег, нажать кнопку и попросить слова. Председатель Лукьянов с каменным лицом сфинкса глубоким, утробным голосом регулировал очерёдность записавшихся с места и сдерживал буйство вышедших без приглашения к микрофону. Наученные опытом первых съездов, когда микрофоны работали всё время, и говорить — кричать мог каждый, кому удавалось прорваться к ним, теперь микрофоны включали по команде.
— Депутат Коган! Ваш вопрос.
Из середины рядов медленно, аккуратно ставя костыли, чтобы не наступить кому-нибудь на ногу, вышел огромного роста молодой бородатый мужчина. Савельев невольно улыбнулся. У него всегда поднималось настроение при виде этого бородатого великана. Он хорошо знал его. Делал с ним интервью. Готовил большую статью депутата. К 37-ми годам Евгений Коган стал легендарной личностью. Когда в Эстонии начали создавать Народный фронт, Коган, в противовес националистам, организовал Интердвижение. Это было естественно для него. Родился и рос в интернациональном Владивостоке, в семье морского офицера и бухгалтерши. Там поступил в такой же разноплемённый институт, хотел стать кораблестроителем. Доучивался в Таллине, куда переехала семья. Простым судомехаником ходил на рыболовецких судах в море с людьми разных национальностей. Хотел перемен в стране. Но не её разрушения. Когда этот огромный молодой мужик появлялся на митингах, после его страстных выступлений ряды готовых примкнуть к националистам редели. Люди переходили в Интердвижение. Зато оставшиеся ещё сильнее ненавидели его.
Перед выборами народных депутатов СССР произошла беда. На междугородней трассе большой автобус лоб в лоб ударил в «Жигулёнка», на котором Евгений за рулём ехал на очередной митинг. Его собирали по кусочкам. С началом избирательной кампании легенды о Когане разнеслись по всей Прибалтике. Почти неподвижного мужчину на носилках приносили из больницы на митинги и встречи с избирателями. Проходили минуты, и люди забывали, что перед ними инвалид. Могучая убеждённость в необходимом сохранении страны сделала Интердвижение и её лидера единственной помехой наглеющим сепаратистам. Полулёжа в кресле, он участвовал в телевизионных спорах. Эрудированный, волевой человек, скрывающий собственную боль, Евгений болел за будущее своей страны, громя ораторским мастерством националистов.
Русские избиратели Таллина избрали Когана народным депутатом СССР.
С того времени Савельев узнал этого человека лично. Почти ровесники — Виктор был не намного старше Когана, они и политически трансформировались одинаково. После выборов Евгений вступил в Межрегиональную депутатскую группу, к зарождению которой приложил руку Савельев. Однако прозрение наступало быстро. «Не могу я слышать про эту шайку разрушителей, — сказал как-то Коган, выискивая взглядом в фойе кресло, где он собирался сесть, чтобы отдохнуть от костылей. — Если у них и раньше были такие цели, то я дурак, Виктор Сергеич, што не разобрался сразу». «А какой я дурак, ты себе, Евгений Владимирыч, и представить не можешь».
После этого Коган стал одним из создателей депутатской группы «Союз», выступавшей за сохранение СССР. А ещё раньше — открытым критиком Горбачёва. Савельев сам видел, как съёживался и мрачнел Горбачёв, когда к трибуне шёл на костылях бородатый рослый мужчина, способный сказать ему в лицо, и через телекамеры всей стране, что он думает о деятельности близорукого перестройщика.
Теперь он шёл к микрофону, чтобы спросить о чём-то премьера.
— Валентин Сергеевич! Вы сказали, што от антиалкогольной кампании страна получила 200 миллиардов рублей убытков. Это громадные потери для финансовой системы государства. Кто несёт за это ответственность? Правительство? Президент?
— Могу просто рассказать историю — я говорил это и журналистам. Один человек не подписал документ… самый главный… антиалкогольный… Раз не подписал, второй, третий. А на четвёртый раз приехал домой ночью мрачный и сказал, што подписал, потому што ему заявили: или партбилет положишь и уйдёшь с работы, или…
Закончить премьеру не дали. Зал загудел. Но было и так ясно: Павлов разве что фамилию Горбачёва не назвал.
Тем не менее, и по вопросам, и по выступлениям Савельев чувствовал: сторонников дать правительству дополнительные полномочия — не большинство. Что останавливало остальных людей? Боязнь показаться консерваторами, которые своим решением прервут развитие демократических процессов? Или откровенная радость по поводу ускоряющегося распада, за которым наступит какая-то новая жизнь? Какой она будет в реальности, никто не представлял. Знали ту, что есть сейчас, и лишь миражные видения о другой, западной. Не догадываясь, в силу разных причин — умственных возможностей, малой осведомлённости, что мираж он и становится сладостно-волнующим только для ослабленного организма.
Виктору стали надоедать эти волны слов. Тем более, не всегда имеющие отношения к тому, что происходило за стенами зала. Там стояли шахты, с перебоями работала промышленность, на селе, судя по заметкам в его же газете, которую он утром взял в редакции по пути в Кремль, был тоже хаос. Он выключил диктофон, стал просматривать газету и, углубившись в неё, не сразу понял, что кто-то предложил сделать заседание закрытым.
— Эт про какое заседание говорят? — повернувшись к соседу-журналисту из главной профсоюзной газеты, спросил Савельев. — Про следующее што ль?
— Да нет. Хотят это заседание продолжить в закрытом режиме. Будут выступать председатель КГБ и два министра — обороны и внутренних дел. Они попросили закрыть.
Вслед за этим объявили перерыв.
С одной стороны, Савельева такой поворот обрадовал. Он с удовольствием пошёл в курилку. С другой — заинтриговало: какую неизвестную информацию сообщат «силовики»?
Вместе с тем, Виктор скептически отнёсся к самой идее закрытости. Сохранить тайну при таком политическом раздрае депутатского корпуса — всё равно, что удержать пикантный секрет про одну из женщин, сообщив его нескольким её конкуренткам.
Но, поразмыслив, решил, что в виду чрезвычайной обстановки могут быть выложены убийственные сведения. «Тогда зачем их прятать от прессы, а значит, от страны?»
Как бы то ни было, а послушать надо, подумал Виктор и двинулся к стенографисткам.
Служба записи и расшифровки заседаний занимала несколько комнат. Звук и видеоизображение из зала поступали в небольшую комнатку, где с принимающей аппаратурой работали трое молодых мужчин. Всех их Виктор знал и они его тоже. Перед каждым праздником он приносил бутылку водки, какую-то закуску и, когда наступало затишье, в комнатке начинался лёгкий пир. Как правило, принесённого не хватало. Ребята доставали свою бутылку, на что Савельев всякий раз реагировал репликой: «Верно говорят: бери две, штоб не бежать за третьей». Несмотря на частокол «расписок» и «подписок» о «неразглашении», ребята были раскованные, а постоянная жизнь внутри политического винегрета наполняла их то тревогой, то скептицизмом. При этом и политические пристрастия здесь тоже были разные, из-за чего вскоре после начала тихой выпивки децибелы спора выходили за рамки подпольной допустимости.
Журналист тоже возбуждался, но, спохватившись, шёл в большую соседнюю комнату. Сюда от «техников» передавались кассеты, и несколько женщин с наушниками расшифровывали всю муть, которую несло из зала заседаний.
Виктор не забывал и стенографисток. Через знакомую директоршу магазина доставал им бутылку шампанского и коробку хороших конфет, что стало к тому времени невероятной роскошью. Вынув из своего вместительного портфеля «подарок девочкам», он забирал старшую стенографистку Зою в комнату «техников». Там нити разговора уже напоминали клубок, которым поиграл котёнок.
Весёлый, стройный Савельев нравился тридцатипятилетней Зое. И он, живущий по принципу: не пропускай ни одной юбки, если в ней хорошее тело, тоже давно заглядывался на неё. Однажды, когда «техники» и стенографистки, объединившись, особенно загуляли, Виктор вывел Зою в коридор, чтобы найти какой-нибудь закуток. «Не здесь, — сказала женщина. — У нас есть одна комнатка…»
Больше такие обстоятельства не складывались. Но тёплые отношения, готовые в любой момент вспыхнуть страстью, к удовольствию обоих, остались. Запомнил Виктор и назначение комнаты. Здесь стояла резервная аппаратура звуко- и видеотрансляции из зала заседаний. Теперь Савельев решил попросить Зою послушать там закрытую часть. Женщина немного поколебалась — она шла на явное нарушение. Но глядя в тёплые, светло-карие, упрашивающие глаза, согласилась. «Только возьмёшь наушники. Звука не должно быть слышно».
Глава двенадцатая
Савельев заперся изнутри. Зоя показала, что включать и как. На экране появился несколько опустевший зал. Он надел наушники и как будто оказался в зале. Можно было разобрать приглушённый разговор в президиуме, голоса из первых рядов, а видеокамера, медленно проходя по лицам присутствующих, показывала даже их мимику. «Вот это я устроился»! — самодовольно погордился собой Виктор, подсоединив диктофон к разъёму в аппаратуре и по привычке открывая блокнот. Для бравады хотел записать: «закрытое заседание», но остановил себя. Мало ли что может получиться.
Уже с первых минут начавшегося заседания ему стало понятно, что силовики пришли в Верховный Совет не просто проинформировать депутатов о положении в стране, а жёстко поддержать требования премьера о предоставлении правительству чрезвычайных полномочий.
— Заканчиваются переговоры по сокращению на 50 процентов наступательных стратегических вооружений, — рыкающим командным голосом бросал в зал слова министр обороны маршал Язов. — Нам придётся уничтожить около шести тысяч единиц ядерных боеприпасов и примерно 800 ракетоносителей. На это потребуется пять миллиардов рублей. Вывод войск из Венгрии закончен. Из Чехословакии осталось отправить пять эшелонов. Из Германии, после объявления Горбачёвым о том, что мы сократим на 50 тысяч человек, в этом году предстоит вывести ещё четыре дивизии.
«Надо же, какие затраты! — подумал Савельев. — Где возьмёт Павлов деньги, если республики отказываются перечислять их в союзный бюджет?»
А пожилой, грузный человек в маршальском мундире продолжал докладывать депутатам, словно не Горбачёв, а они были Верховным главнокомандующим, в каком сегодня состоянии находится армия. Уволили 100 тысяч офицеров. Треть из них — не смогут получать пенсии. В то же время недокомплект офицерского состава — в три раза больше всех уволенных.
— Республики приняли законы, по которым призыв практически невозможен. Вооружённых сил у нас скоро не будет.
Когда камера задерживалась на грубом бугристом, лице маршала, Виктор видел, как трудно тому говорить обо всём этом. Дмитрий Тимофеевич хмурился, время от времени сжимал в кулак лежащую на краю трибуны руку. Интонация, с которой была вскользь произнесена фамилия Горбачёва, говорила об отношении министра обороны к президенту. А ведь поначалу он едва ль не боготворил его. За внезапное вознесение на вершину армейского Олимпа.
Так бы и оставаться Язову, вплоть до ухода в отставку, заместителем министра обороны по кадрам, если бы Горбачёв и Яковлев не воспользовались подвернувшимся случаем и не убрали активных противников разоруженческой политики генсека. Летом 1987 года в центре Москвы, рядом с Кремлём, сел маленький самолётик молодого немца Матиаса Руста. Его могли уничтожить несколько раз, но цепь загадочных случайностей, скорее напоминающих тщательную подготовку провокации, уберегла пилота от той судьбы, которая настигла пассажиров южнокорейского «Боинга», сбитого над советской территорией за пять лет до того. Все, самые жёсткие противники антиоборонного курса, во главе с министром обороны маршалом Соколовым, были разгромлены. И неожиданно для всех, а главное, для него самого, министром обороны стал Язов. Он был, конечно, не худший генерал в армии. Но были лучше. Смелее. Масштабнее. Твёрже. Образованнее. В конце концов, больше на слуху. Один из таких — Валентин Варенников. Прошёл всю Отечественную войну. Воевал в Сталинграде, брал Берлин. По личному указанию Жукова встречал Знамя Победы в Москве, привезённое из Берлина. Потом участвовал в параде Победы. После войны закончил две военных академии и Высшие курсы Генштаба, что равнялось третьей. К моменту «операции Руст» несколько лет был первым заместителем начальника Генерального штаба.
Однако Горбачёв и Яковлев выбрали Язова. Считая его более управляемым и, значит, более надёжным. Им нужны были именно такие. Для страховки Горбачёв три года держал Дмитрия Тимофеевича на высшей военной должности в ранге генерала армии, чего никогда в истории страны не было. Только в 90-м Язов стал маршалом.
Как человек дисциплины министр ещё сохранял верность Горбачёву. Но это было на пределе. Пожилой солдат всё чаще переступал субординацию. Когда организованная в яковлевских СМИ вакханалия о потерях в Великой Отечественной войне достигла невиданных цифр, министр обороны потребовал на заседании Политбюро утвердить заключение долго работавшей Специальной комиссии о потерях и опубликовать его. «С начала перестройки сделалось популярным, — сказал он, — увеличивать цифры потерь до 30, 40, 50 миллионов с целью принизить значение Победы и подвиг народа. Это неправда! В действительности военные потери составили 11 миллионов 444 тысячи человек. В том числе 6 миллионов 330 тысяч убитых и умерших от ран. Остальные — пропавшие без вести, попавшие в плен, умершие от болезней и несчастных случаев. Безвозвратные потери Германии и её союзников на Восточном фронте — 8 миллионов 650 тысяч человек».
Требование министра обороны отвергли. «Я катэгорически протыв публикации подобных матэриалов, — нервно вскричал Шеварднадзе. — Их ещё надо пэрэпроверить!» Также агрессивно выступил Александр Яковлев, который как раз и говорил везде: «В войне с Германией погибло не менее 30 миллионов человек, — добавляя при этом: — Я думаю, цифра больше».
Ушёл от конкретного решения и Горбачёв, хотя видел, что дискредитация армии уже перешла в её моральное уничтожение. С помощью прессы военных делали врагами народа, третировали нравственно и психологически. Особенно отличались националисты в республиках. В ноябре 90-го года маршал заявил Горбачёву: «Пора прекратить, Михаил Сергеевич, возрождение национализма и экстремизма. Может плохо кончиться».
Но тот опять залопотал о пробуждении национального самосознания, как о достижении перестройки, и не увидел надвигающейся беды.
С каждым днём в военной среде нарастало отторжение Горбачёва, и 67-летний маршал всё больше разделял эти взгляды. Президента почти в открытую называли предателем интересов страны, заинтересованным в зарубежных похвалах, а не в оценках своего народа. Дмитрий Тимофеевич вспомнил выражение лица министра обороны США Дика Чейни на ужине в честь его прибытия в Москву. Они прохладно относились друг к другу, что было вполне естественным. Однако протокол надо было соблюдать. За год до прилёта Чейни в Советский Союз маршал Язов был его гостем в Вашингтоне. Теперь на подмосковной даче Министерства обороны проходил ответный приём. Шли дежурные тосты, в разных концах стола военные обеих стран, где через переводчиков, где на пальцах, объяснялись в уважении к армии стратегического друга — противника.
Вдруг слово попросил Чейни. Пока он говорил про объединение усилий в борьбе за демократию и хвалил перестройку, советские генералы кисло улыбались, даже в чём-то поддакивали. Но едва американский министр обороны с восторгом сказал о присуждении Горбачёву Нобелевской премии мира за 1990 год, за столом наступила угрожающе мёртвая тишина.
Лицо Чейни побагровело. Он выглядел так, словно громко испортил воздух в присутствии всего застолья. Американец сообразил, что в этой среде нельзя говорить о заслугах Горбачёва за границей, поскольку в своей стране люди связывали с его именем только плохое.
Армия не была исключением. Перед самым заседанием Верховного Совета Язов собрал командующих военными округами и флотами. Центральной частью всех выступлений была критика Горбачёва. Люди говорили жёстко и грубо. Предлагали министру обороны действовать решительней. Ясней других мнение большинства сформулировал командующий Волжско-Уральским военным округом генерал-полковник Альберт Макашов. Поджарый и горбоносый, как степной орёл, он почти взлетел на трибуну и потребовал прямо на собрании принять заявление о недоверии президенту.
Но Язов оборвал все эти предложения. «Вы што, из меня Пиночета хотите сделать? Не выйдет!» — рявкнул он.
Он ещё верил Горбачёву. И хотя это были уже остатки веры, готовые погаснуть, как огонёк свечи на ветру, маршал не мог не держаться за них. Ведь сам же президент предложил ему, председателю КГБ Крючкову, министру внутренних дел Пуго и премьеру выступить на этой сессии и рассказать без украс о ситуации в стране. Потому он и стоит здесь на трибуне, перед людьми, половину которых старый солдат видеть бы не хотел. «Я не пойму, — говорил он своим приближённым, — почему демократы лучше консерваторов. Консерваторы хотят сохранить страну, а демократы развалить её, растащить армию. И это лучше?»
— Теперь, товарищи депутаты, как на нас сегодня смотрят в мире. В последнее время стали звучать реваншистские нотки. Выдвигаются требования о пересмотре наших границ. Раздаются голоса даже о расчленении Советского Союза и о необходимости установить международную опеку над ядерными силами и отдельными районами. Мы превратились во второразрядную державу.
«Примеры… Примеры приведи! — разволновался Савельев. — Всё это затёртые слова… Не трогают сознание… Конкретные факты нужны… Один-два убийственных факта… Што сказал американский министр обороны… Его советник… Што говорят заметные люди в Англии… в Штатах… Как формулируют требования о пересмотре границ… Пара цитат о международном контроле над ядерными силами… Нужно бить по чувствам… Они дадут сигнал в мозг… Неужели рядом нет ни одного живого помощника?» — с раздражением подумал Виктор о министре обороны и сбросил наушники на стол.
Он даже поначалу не стал слушать выступление министра внутренних дел Пуго. Лишь машинально следил за изображением на экране монитора. Телеоператор, снимающий для «архива», не заботился об эффектных кадрах. Медленно водил объективом по залу, изредка останавливался на ком-то, кто вызывал его личный интерес. Вот на экране прошло сосредоточенное лицо харьковского шофёра Сухова — громогласного, грубоватого критика горбачёвской перестройки и ельцинских демократов. Спокойно и даже равнодушно слушал министра савельевский коллега и давний его знакомый ленинградский журналист Анатолий Ежелев.
Потом на мониторе появилось худое, сердитое лицо знаменитой 38-летней чеченки Сажи Умалатовой. Эта женщина первой из всех депутатов год назад заявила Горбачёву, что он должен уйти в отставку с поста президента Советского Союза. С нею тогда согласились немногие, но рабская слепота большинства не остановила неистовую бригадиршу из Грозного. С той поры белокурая чеченка с чёрными, как антрацит, глазами, не переставала говорить о гибельности для государства горбачёвской политики.
Теперь её что-то особенно встревожило. Савельев снова надел наушники. Сначала не понял, о чём говорит министр внутренних дел. Тот перечислял количество бронемашин и пулемётов, автоматов и пистолетов. «Оружия што ль дополнительно просит?» — подумал журналист. Однако вскоре сообразил: Пуго называет изъятое в местах межнациональных конфликтов вооружение. «БМП у бандитов! Уму непостижимо! — поразился Савельев. — Крупнокалиберные пулемёты! Пять лет назад эти слова сочли бы бредом сумасшедшего!..»
А плотный 54-летний мужчина с удлинённым лицом и большой залысиной, делающей заметный лоб ещё выше, сурово говорил депутатам:
— Преступность быстро растёт, организуется и политизируется. Никогда в истории страны не получала такого размаха пропаганда секса и насилия. Миллионы людей требуют принятия решительных мер против вопиющей безнравственности и преступности. Поэтому мы считаем: для эффективной борьбы с преступностью требуются меры чрезвычайного характера…
Послушав ещё немного министра внутренних дел и записав в ежедневнике: «Пуго тоже поддерживает Павлова», Виктор собрался было пойти покурить, оставив при этом диктофон включённым. Однако вспомнил, что, выйдя из комнаты, больше в неё вернуться не сможет — замок не имел предохранителя. Пришлось опять браться за наушники. И, как оказалось, вовремя: на трибуне появился председатель КГБ Владимир Крючков.
То, с чего он начал, сразу захватило Савельева:
— Пользуясь тем, што заседание закрытое, позвольте мне, может быть, несколько обострённей, откровенней изложить, как Комитет госбезопасности видит ситуацию в нашей стране и вокруг нашей державы. Реальность такова, што наше Отечество находится на грани катастрофы. То, што я буду говорить вам, мы пишем в наших документах Президенту и не скрываем существо проблем.
Если в самое ближайшее время не удастся остановить крайне опасные разрушительные процессы, то самые худшие опасения станут реальностью. Не только изъяны прошлого (Крючков на миг затормозил, словно колеблясь: говорить или нет)… но и просчёты последних лет привели к такому положению дел. Главная причина нынешней критической ситуации кроется в целенаправленных действиях антигосударственных, сепаратистских и других экстремистских сил, не получающих должного и решительного отпора. Сегодня очевидно, што их конечными целями, идущими вразрез с интересами абсолютного большинства народа, являются изменение существующего конституционного строя и ликвидация Союза Советских Социалистических Республик.
«Увидели только сейчас? — сердито подумал Савельев. — А Тбилиси? А война в Карабахе? А Молдавия и Вильнюс? Ещё два года назад можно было загасить пробные костерки националистов. Китайцы ведь не дали разгореться пожару… Можно было и на Ельцина надеть узду. У таких смелость до первого кнута и пряника. Теперь его руками рвут страну».
Вспомнив о Ельцине, Виктор вдруг пришёл к парадоксальной мысли. Вот кто мог бы беспощадно растоптать любых сепаратистов, окажись каким-то чудом во главе того Советского Союза, который достался в 85-м Горбачёву. Но «пятнистый», как его зовёт Андрей Нестеренко, и здесь просчитался. Вырастил себе могильщика…
А председатель КГБ продолжал:
— Нет ни одного государства в мире, в котором демократия и гласность действовали бы в отрыве от правопорядка. У нас же в этом — серьёзный разрыв. И с каждым днём он становится губительней. Нельзя выступать за всемерное развитие демократии и вместе с тем не бороться за правопорядок, за торжество Закона… Пока мы рассуждаем об общечеловеческих ценностях и гуманизме, страну захлестнула волна кровавых межнациональных конфликтов. Миллионы наших сограждан подвергаются моральному и физическому террору. И ведь находятся люди, внушающие обществу, што всё это нормальное явление, а процессы развала государства — это благо для каждого человека.
Крючков говорил бесцветным, ровным голосом, не повышая его даже в тех местах, где опытный оратор обязательно выделил бы важные слова интонацией. Он сообщал депутатам о разрыве сложившихся хозяйственных связей, о большом экономическом ущербе от забастовок, о снижении промышленного производства и прогнозируемой безработице. Савельев поморщился. Всё это он слышал и читал каждый день. Что нового скажет человек, отвечающий за безопасность страны? Такого, ради чего закрыли заседание парламента и что объединит разных по разумению людей, сидящих в зале, на судьбоносное решение?
Вдруг журналист насторожился. Председатель КГБ заявил, что хочет сделать отступление и привлечь внимание к одному примечательному документу.
— Он небольшой, — сказал Крючков почему-то извиняющимся тоном. — Всего полторы странички. Называется: «О планах ЦРУ по приобретению агентуры влияния среди советских граждан».
«Ну-ка, ну-ка! — мысленно воскликнул Савельев. — Как это выглядит в документе? В жизни мы эту публику видим на каждом шагу».
О самом понятии «агент влияния» Виктор знал давно. Упоминание о нём встречал в исторической литературе, в мемуарах политиков, в записках дипломатов. Явление это было настолько же древним, насколько размытым в определении. Сюда, например, даже относили женитьбу, по распоряжению Александра Македонского, ста видных юношей из Греции и Македонии на знатных девушках завоеванной им среднеазиатской Согдианы. Якобы так великий полководец рассчитывал через десятилетия получить элиту, лояльную интересам своей родины — Македонии. То есть агентов влияния.
На протяжении веков людей, действующих против своего государства в интересах другого, зачастую враждебного, обретали путём подкупов, идеологической привлекательности, с использованием национального фактора. Прямым и откровенным агентом влияния российского императора Александра Первого стал министр иностранных дел наполеоновской Франции Талейран. Он работал за деньги. Причём за большие. Также не бескорыстно почти двадцать лет трудился на благо России и министр иностранных дел Австрийской империи Меттерних.
Вообще люди, связанные с дипломатией, всегда привлекали особое внимание зарубежных правителей и их спецслужб. Подумав об этом, Виктор вспомнил о Шеварднадзе, недавнем министре иностранных дел Союза. Он обратил на него внимание ещё в брежневские времена, когда неуёмная льстивость грузинского представителя по отношению к Генсеку сделала его всеобщим посмешищем. На съездах и пленумах каждый республиканский и областной секретарь считал необходимым «лизнуть» «дорогого и любимого Леонида Ильича». Но до такого обилия восхвалений — запредельно холуйских и рабски угодливых, заставляющих краснеть даже самых бессовестных функционеров — не доходил никто. В одном из своих выступлений на партийном съезде Эдуард Шеварднадзе, в ту пору первый секретарь грузинской парторганизации, славословил Брежнева больше двадцати раз! При этом по выспренности сравнений превзошёл сталинского наркома путей сообщения Лазаря Кагановича, который на юбилее вождя в 1939 году назвал Иосифа Виссарионовича «локомотивом нашей эпохи».
Потом Шеварднадзе, так и не научившийся толком говорить по-русски, изощрённо ругал «застой Брэжнева» и взахлёб хвалил начинаемую перестройку. Неожиданно для всех стал министром иностранных дел. Не имея ни соответствующего образования (медицинский техникум и пединститут), ни малейшего опыта дипломатической работы, располагая только покровительством Горбачёва, которому также неуёмно льстил, как недавно Брежневу, новый министр иностранных дел вскоре начал всё заметнее действовать в интересах американской стороны. В этом его публично обвиняли народные депутаты СССР. Называли конкретные факты неоправданных уступок американцам в разоружении, в сдаче советских позиций в Восточной Европе и, наконец, в тайном подписании Соглашения о передаче Штатам спорного участка шельфа в Беринговом море площадью свыше 50 тысяч квадратных километров. Какой это стало удачей для американцев, можно было судить даже по такому факту. Сенат США, обычно годами изучающий межгосударственные соглашения с другими странами, ратифицировал документ о стратегическом подарке в течение нескольких дней. Чтобы в СССР не успели опомниться.
Депутаты группы «Союз» потребовали немедленной отставки Шеварднадзе. Некоторые настаивали привлечь агента влияния и к уголовной ответственности, однако Горбачёв ограничился лишь отставкой своего соратника. Поэтому Савельев ожидал услышать от председателя КГБ не только общие слова об агентуре влияния, но и некоторые фамилии. Хотя бы того же Шеварднадзе. И удивлялся, почему Крючков этого не делает.
Виктор не знал, что главный чекист уже собрался было назвать Шеварднадзе, о котором имел гораздо больше негативных сведений, чем снимавшие его депутаты. Так, министр иностранных дел нарушил существовавшее до того правило и перестал направлять членам Политбюро записи своих бесед с зарубежными представителями. О чём он договаривался с иностранцами, приходилось верить ему на слово или догадываться. Встречаясь с госсекретарём США Бейкером, Шеварднадзе не всегда допускал на эти переговоры советских сотрудников, и даже переводчик зачастую был только американский. Во время встречи Горбачёва с Бушем на Мальте Бейкер улучил момент и сунул в карман Шеварднадзе записку. Уже это напоминало контакт резидента со своим агентом. Ещё удивительнее было содержание записки. В ней предлагалось прекратить помощь семи странам — союзникам СССР: Вьетнаму, Кубе, Афганистану, Анголе, Камбодже, Никарагуа и Эфиопии, а на высвободившиеся деньги построить в Союзе завод по выпуску зубной пасты и мыла. По сути дела, агенту влияния давалась инструкция о направлении действий…
Однако время шло, а Крючков лишь продолжал рассказывать общими словами о методах работы ЦРУ по вербовке агентов влияния. Он сам понимал, что от него ждут конкретных фактов, имён, должностей или хотя бы прозрачных намёков. Ждут, прежде всего, депутаты группы «Союз» — его идейные и стратегические сторонники. Два месяца назад представители этой влиятельной парламентской фракции пришли к Горбачёву и, как когда-то Сажи Умалатова, потребовали его отставки. «Вам надо уходить! Вы ничего не можете. Надо созвать внеочередной съезд народных депутатов СССР и оформить сдачу власти».
Горбачёв поднял истеричный крик, заявил, что пришедшие никого не представляют и сам он никуда не уйдёт. Теперь глава госбезопасности должен был вооружить сторонников сохранения страны дополнительными фактами о действиях горбачёвской «команды развала».
Но он не решался этого сделать. Несмотря на то, что факты были не об одном Шеварднадзе. Крючков пришёл на заседание Верховного Совета с большим материалом. В отдельной папке лежали тексты некоторых агентурных документов, в том числе — из иностранных спецслужб, об организации взрыва Советского Союза изнутри силами «пятой колонны» при активном участии агентов влияния. Здесь же был алфавитный список этой агентуры. Не всех. Только наиболее активных и опасных. Полный список хранился на Лубянке. С подробными сведениями о прохождении учёбы в различных зарубежных Фондах, Центрах, Институтах. С копиями расписок за полученные деньги. С текстами выступлений «учителей» и самих «учеников». Кое-кто из них сидел в этом зале, и Крючков, отрывая на какое-то время взгляд от доклада, сквозь очки хорошо видел их лица.
Такой момент старался поймать оператор. Он тут же направлял камеру на председателя КГБ, и Савельев внимательно разглядывал этого человека. Небольшая почти круглая голова. Круглое, в мелких морщинках, лицо. Редкий пушок на вершине черепа. Обыкновенный гражданский костюм. Как и министр внутренних дел Пуго, главный чекист всегда ходил в штатской одежде. Мундир генерала армии надевал только в особых случаях.
В один из эпизодов доклада, когда Крючков рассказывал о том, что ЦРУ заранее подбирало людей, способных в дальнейшем занять важные посты в Советском государстве, оператор, ведя объектив камеры по залу, неожиданно задержал его на сидящем в первом ряду Яковлеве. Савельев увидел, как вздрогнул и нахмурился «серый кардинал» перестройки, как сдвинулись лохматые брови на его грубом, бульдожьем лице. И тут же камера перешла на выступающего.
Оказалось, не один Савельев заметил невольную реакцию Яковлева. Бесстрастное до того лицо Крючкова внезапно изменилось. Виктор увидел, как сердито сжались губы председателя КГБ, а глаза за большими стеклами очков блеснули гневом. «Ого! У вас, ребята, оказывается, особые отношения! — удивился журналист. — Тут пахнет чем-то весьма серьёзным».
Он решил, что причиной крючковской неприязни является главная роль Яковлева в создании разрушительной «гласности», ибо как раз в этот момент председатель КГБ говорил о «враждебной существующему строю группировке», которая, «овладев ключевыми рычагами в средствах массовой информации, активно объединяет свои усилия». И не подозревал, что у руководителя госбезопасности страны были основания выдвигать «серому кардиналу» куда более серьёзные обвинения. Глава КГБ Владимир Александрович Крючков считал недавнего члена Политбюро и секретаря ЦК партии Александра Николаевича Яковлева действующим агентом Центрального разведывательного управления США.
Глава тринадцатая
Впервые в поле зрения советской контрразведки Яковлев попал в 1960-м, после годичной стажировки в Колумбийском университете Нью-Йорка. Объясняя свои контакты с некоторыми американцами, оказавшимися сотрудниками ФБР, Яковлев представил дело так, будто несанкционированное общение с разными людьми помогло ему достать в закрытых библиотеках важные для Советского Союза материалы. Поскольку ещё окончательно не замёрзла хрущёвская «оттепель», в инициативу насчёт нужных материалов поверили, и подозрения относительно молодого перспективного партийного работника не получили развития. Он снова, как и до стажировки, стал работать в аппарате ЦК КПСС. При этом довольно быстро пошёл в рост, поднявшись до руководителя отдела пропаганды Центрального Комитета.
Ситуация изменилась после публикации в ноябре 1972 года в «Литературной газете» его статьи «Против антиисторизма». В ней он громил национализм и шовинизм, который якобы стали проповедовать некоторые литературные журналы. В основном русской направленности. Через несколько месяцев Яковлева отправили послом в Канаду.
Для амбициозного профессора всеобщей истории, разоблачавшего в своих диссертациях — кандидатской и докторской — продажность буржуазной литературы и американский империализм, видевшего себя во главе центрального идеологического аппарата, направление послом в какую-то Канаду показалось несправедливой ссылкой. Он затаил обиду на руководство партии.
В Канаде Яковлев близко сошёлся с премьер-министром страны Пьером Трюдо. Они вели продолжительные разговоры, ездили на охоту и на рыбалку. Посол оставлял рабочее место порой на несколько дней, и никто не знал, где он находится с премьером, о чём там говорят, что внушают советскому дипломату и какие идеи отстаивает сам Яковлев.
А узнать было бы интересно. В мае 1978 года он беседовал с одним из членов канадского правительства. Незадолго перед тем к американцам сбежал советский дипломат, пять лет работавший заместителем генсека ООН, Аркадий Шевченко. Он имел невероятный доступ к секретной советской информации. Об экономике СССР. О позиции советской стороны на переговорах по ограничению стратегических вооружений. О сотрудниках КГБ и ГРУ, работавших под дипломатической «крышей».
Всю массу информации, а также сведения обо всех агентах КГБ за рубежом он выдал американцам.
Жена перебежчика отказалась следовать за ним и вернулась в Союз. Через два месяца покончила с собой.
Обсуждая эту историю, Яковлев энергично одобрил поступок Шевченко, а заодно раскрыл государственную тайну. Сообщил некоторые подробности завершившейся за два месяца до того операции по внедрению в агентурную сеть канадских спецслужб сотрудника КГБ Анатолия Максимова. Разразился громкий скандал.
К сожалению, на Лубянке узнали об этом лишь через несколько лет. Стенограмма беседы была добыта нашими разведчиками в 1987 году, когда Яковлев стал уже членом Политбюро и секретарём ЦК партии.
Также с опозданием дошла информация и от другого источника. После появления Яковлева в Канаде один почтенный англичанин предупредил своего давнего знакомого, сотрудника советского посольства в Оттаве: «Будь осторожен с новым шефом». И дал понять, что тот «на крючке» у американцев.
Тем считанным единицам в КГБ, кто познакомился с этой информацией, трудно было поверить, что член Политбюро и секретарь ЦК по идеологии, постоянно требующий со всех трибун «больше социализма и гласности», имеет какое-то отношение к иностранной разведке. Тем более, что материалы пришли от агента, работающего в Штатах. Не специальная ли это операция, цель которой дискредитировать второе лицо в перестроечной команде Горбачёва? Крючков, руководивший тогда Первым главным управлением КГБ СССР — советской внешней разведкой, высказал даже неудовольствие одному из своих заместителей за неразборчивость в работе с поступающей информацией.
Но прошло полгода, и теперь уже более надёжный источник — непосредственно из ЦРУ, известил советскую разведку о том, что Яковлева давно, ещё со времени стажировки в Колумбийском университете, считают в американской спецслужбе «своим человеком». При этом возлагают на него «большие надежды».
А вскоре ещё один советский агент и тоже сотрудник ЦРУ сообщил примерно о том же. Не обращать внимания на поступившие сведения было нельзя. Их доложили тогдашнему председателю КГБ Чебрикову. О том, что он их, как говорили в канцелярских сферах, «положил под сукно», Крючков догадался в самое ближайшее время. В октябре 1988 года Чебриков уходил в отставку. На его место заступал Крючков. При передаче дел зашёл разговор о необычных сведениях по поводу Яковлева. Экс-председатель мрачно буркнул сменщику:
— Будь осторожен. Учти: Яковлев и Горбачёв — одно и то же. Через Яковлева не перешагнуть. Можно сломать шею.
Чем сильнее перестройка ломала страну, тем активней становился «серый кардинал». И если каждое дело, к которому он был причастен, зарождало у аналитиков советских спецслужб беспокойные вопросы, то у их коллег за океаном — определённое удовлетворение. Об этом не переставали сообщать в КГБ работающие в разных странах агенты советской разведки. В 1990 году поток сведений о Яковлеве стал настолько плотным, что Крючков решил пренебречь советом своего бывшего шефа. Особенно настораживающая информация поступала из США. Завербованный пять лет назад высокопоставленный сотрудник ЦРУ Олдридж Эймс доносил на Лубянку, что, по оценкам его ведомства, Яковлев занимает очень выгодные для Запада позиции, надёжно противостоит консерваторам в советском руководстве и на него можно твёрдо рассчитывать в проведении нужной политики. Этому агенту, имеющему оперативный псевдоним «Циклоп», в Москве очень доверяли, и не без оснований. Он входил в руководство управления, которое координировало контрразведку против Советского Союза, раскрыл десятки агентов ЦРУ, работавших в СССР. В том числе несколько ответственных советских разведчиков и контрразведчиков, давно завербованных американцами.
Последним толчком стало сообщение о том, что одному американцу поручили переговорить с Яковлевым и попросить от него большей активности. Крючкову было известно: такие разговоры ведутся с теми, кто когда-то дал согласие работать на разведку, но в нужное время не слишком проявляет себя.
Председатель КГБ собрал в папку необходимые документы и пошёл к Горбачёву.
До избрания Горбачёва Генеральным секретарём начальник внешней разведки лично с ним не встречался. Знал, что на том заседании Политбюро, где Громыко предложил кандидатуру Горбачёва, тогдашний председатель КГБ Чебриков, «от лица всех чекистов», энергично поддержал министра иностранных дел. После прихода Горбачёва к власти встречи случались, но эпизодические. Зато потом, когда Крючков в 88-м году возглавил Комитет, стали чаще.
Они не всегда проходили в полном согласии. Новый председатель КГБ порою аккуратно не соглашался с Генсеком, дипломатично высказывал свою точку зрения. Тот многословно спорил, иногда сердился, но через некоторое время сделал Крючкова членом Политбюро. Это позволило главному чекисту, теперь уже при регулярном общении, всё глубже узнавать натуру Горбачёва, его характер и манеру поведения.
Первое, что заставляло задуматься — это отсутствие какой-то чёткой, продуманной стратегии действий в переустройстве страны. Привыкший просчитывать ходы наперёд, обладающий ровным аналитическим умом Крючков с беспокойством догадывался, что перестройка начиналась, скорее всего, спонтанно, под влиянием импульсивных желаний, а не трезвого расчёта. Как говорят в народе: «на авось».
Одновременно становились заметными не самые лучшие черты характера — нетерпимость к любой критике в свой адрес и непоследовательность действий. Могли сколько угодно критиковать страну, его предшественников на посту руководителей (в чём Горбачёв сам активно участвовал), даже членов «перестроечной» команды — всё это воспринималось спокойно. Однако едва с негативным оттенком произносилась фамилия Горбачёва, он мгновенно взрывался. В зависимости от ситуации и окружения, мог отхлестать критиков матом. Впрочем, и литературные выражения в таких случаях порой балансировали на грани пристойности.
Гораздо хуже, на взгляд Крючкова, было непостоянство генсека. Он то и дело менял собственные ориентиры, а отсюда — и цели других, без видимых причин отказывался от взглядов, недавно высказанных им самим, и бросался в противоположную крайность, обещал кому-то поддержку и вскоре отворачивался от этого человека. Как руководитель ведомства, которому, в силу специфики, должно быть известно очень многое, Крючков знал, что Михаил Сергеевич стал Генеральным секретарём ЦК Компартии только благодаря Андрею Андреевичу Громыко. В ходе закулисных переговоров через посредника Громыко согласился выдвинуть Горбачёва и назвал единственное условие: перейти с дипломатической работы, которой отдал сорок шесть лет, в Верховный Совет СССР. Горбачёв заявил посреднику, которым был Яковлев, чтобы старый дипломат не волновался. «Скажи ему, я умею держать слово».
Но очень скоро Громыко понял, что сделал ошибку — рекомендовал в руководители государства не того человека. Он чувствовал свою вину и признавался в этом не одному Крючкову. А Горбачёв не долго «держал слово». Через три года под его давлением Громыко ушёл из Верховного Совета СССР. Ещё через год умер. И, стоя у его гроба в Доме Советской Армии, глава КГБ размышлял не только о неблагодарности Горбачёва, который даже последнюю церемонию не разрешил сделать в подобающем для Громыко месте — Доме Союзов. Он думал о несовершенстве мироустройства и человеческого разума в нём. В какие только глубины материи и духа ни проникли учёные, в том числе из его ведомства, а просчитать последствия тех или иных своих шагов люди по-прежнему не могут. Знать бы, что принесёт народу твоя соглашательская или, наоборот, жесткая позиция, поддерживаешь ли ты этим глобальное добро или, напротив, рождаешь огромное зло, и как заранее предугадать, не лучше ли проявить жестокость по отношению к одному, чтобы, тем самым, спасти миллионы?
Эти мысли не раз появлялись у Крючкова после похорон Громыко. Поэтому, идя к Президенту, он ещё раз пытался проиграть в уме возможные варианты разговора и уровень достоверности информации по Яковлеву. Полагал: надо допроверить. Однако в главном был убеждён: у него в палке жутковатая, но — правда.
Увидев входящего в кабинет главного чекиста, Горбачёв встал навстречу. Поздоровался.
— Какие новости в твоей грозной епархии?
— Всякие, Михаил Сергеевич. В том числе — неважные.
— Да ты садись, садись! — показал Горбачёв на место за приставным столом из карельской берёзы. Сам сел за свой рабочий из того же дерева. — Рассказывай.
Крючков открыл кожаную, в полпортфеля толщиной, папку. Взял из неё тонкую, пластиковую.
— Нехорошие сведения, Михаил Сергеевич… Об Александре Николаиче Яковлеве.
Горбачёв сразу нахмурился. Яковлев несколько раз намекал ему, что председатель КГБ лезет не в свои дела, копает под близких Президенту людей, всё больше сходится с ретроградами из группы «Союз».
— Так уж нехорошие… У тебя за каждым кустом шпион…
Крючков ожидал такой реакции. Поэтому, прежде чем передать папку Президенту, стал рассказывать. Когда заканчивал, подал донесения агентуры. Разумеется, там не было никаких зацепок, дающих возможность вычислить агента. Чем меньше людей знают внедрённого сотрудника или завербованного человека, тем безопасней его судьба. Андропов как-то рассказывал Крючкову, своему давнему протеже и падёжному помощнику, работавшему в тот момент начальником секретариата председателя КГБ, об одном разговоре с Брежневым. После доклада агентурных материалов по поводу завербованного англичанами крупного советского специалиста Брежнев спросил, надёжна ли информация? Андропов ответил: весьма надёжна. И хотел было назвать имя агента, от которого поступили исчерпывающие сведения. Но Брежнев замахал руками: «Не надо, Юрий, не надо… А то я где-нибудь нечаянно проговорюсь».
Это стало уроком для будущего начальника внешней разведки и председателя КГБ.
Горбачёв начал читать документы, и Крючков увидел, как меняется президент в лице. Вместо всегдашней самоуверенности и плохо скрытой иронии, с которыми Горбачёв встречал в последнее время председателя Комитета, появилось смятение, переходящее в прострацию. Он молча глядел перед собой, не имея сил что-либо сказать. Наконец, совладал с чувствами. Дрогнувшим голосом спросил, показывая на папку:
— Насколько этому можно верить?
— Источник абсолютно надёжный. Но я считаю: нужна ещё одна проверка. Каналы и способы есть. Очень эффективные. Всё можно сделать в сжатые сроки.
В какой-то отрешённости Горбачёв поднялся из-за стола. Пошёл в дальний конец кабинета. Вернулся к тоже вставшему Крючкову. Снова молча прошёл туда-сюда. Остановился возле чекиста.
— Неужели это Колумбийский университет? — вырвалось у него. — Неужели это старое? Да-а-а… Нехорошо… Нехорошо это…
Опять начал ходить по кабинету. Потом, ускорив шаг, подошёл к Крючкову. Заглядывая в глаза, торопливо заговорил:
— Возможно, с тех пор Яковлев вообще ничего для них не делал?… Сам видишь, они недовольны его работой… Поэтому хотят, штобы он её активизировал.
Увидев тень на бесстрастном лице председателя КГБ, опомнился. Замолчал. Видно было: о чём-то лихорадочно думает. Вдруг, обрадовавшись, заявил:
— А поговори-ка ты сам с Яковлевым! Напрямую. Посмотрим, што он тебе на это скажет.
Выдержку Крючкова знали многие. Но тут даже он опешил. Прийти к подозреваемому, выложить, что о нём знает разведка… Невероятно!
— О чём поговорить?
— Ну, скажи, што есть вот такие материалы.
Перед тем, как направиться к Президенту, главный чекист готовился к различным поворотам беседы. Предполагал, что Горбачёв, как он часто это делал, постарается уйти от трудного решения, начнёт крутить, предложит подождать, как будут развиваться события. Но рассказать самому Яковлеву!
— Этого делать нельзя, Михаил Сергеевич. Я приду и выложу ему всю оперативную информацию, чем выдам наших разведчиков. Такого ни у кого в практике не было. Мы же предупредим Яковлева. Спугнём его. Они всё закроют и на этом дело кончится.
— А ты как-то так… попробуй.
Председатель КГБ смотрел на Президента и видел, что тот его уже почти не слушает. Понял: если он сейчас откажется, то Горбачёв сам предупредит Яковлева. А это может быть хуже.
Все, кто шёл на приём к Горбачёву, первым делом попадали в кабинет руководителя его аппарата Валерия Ивановича Болдина. Он составлял график рабочего дня президента. В этом же кабинете ждали вызова из первой приёмной. Председатель КГБ не составлял исключения. Поэтому, направляясь к Горбачёву, Крючков осторожно рассказал Болдину, которого знал, как единомышленника, с чем идёт к президенту. Выйдя оттуда потрясённый, передал состоявшийся разговор. Успокаивая Крючкова, Валерий Иванович предложил организовать как бы случайную встречу втроём. Потом он выйдет, а они останутся.
Через некоторое время Болдин сообщил Крючкову, что на приём к президенту собрался Яковлев. Естественно, зайдёт к нему. Можно подъезжать.
С Лубянки до Кремля — езды несколько минут. Поднявшись на третий этаж здания бывшего Сената, где располагались рабочие апартаменты главы государства, председатель КГБ вошёл в кабинет руководителя президентского аппарата. Поздоровался с хозяином и гостем. Перебросились ничего не значащими фразами. Болдин взял какой-то документ. «Сейчас вернусь» — и вышел.
— Александр Николаич, у меня к вам разговор, — немедленно начал Крючков. — Есть одна неприятная информация.
Яковлев без интереса поглядел на «жандарма», как он теперь иногда называл председателя Комитета. «Опять начнёт: гласность выходит за опасные пределы…»
Когда-то Яковлев считал Крючкова едва ли не либералом. В середине 80-х годов тот критиковал колхозно-совхозную систему, выступал за перемены в разных областях государственной жизни. Вполне вписывался в перестроечную команду людей с «новым мышлением». Именно с подачи Яковлева генсек сделал Крючкова председателем КГБ. Однако не учёл Александр Николаевич возможного влияния системы. Сейчас рядом с ним сидел махровый консерватор, то и дело встревающий в процесс резких перемен.
— Слушаю, Владимир Александрович. От вас получить приятную информацию, как летом дождаться снега…
Крючков улыбнулся краешками губ и заговорил. «Он пересказывал Яковлеву некоторые донесения агентуры, приводил обобщённые оценки его возможностей той стороной» и, не отрываясь, внимательно наблюдал за реакцией. Для Яковлева всё это оказалось полнейшей неожиданностью. Сначала он окаменел, потом взмок от страха. «Что это? — лихорадочно думал он. — Предупреждение о завтрашнем аресте? Или предложение к самоубийству, чтобы не раскручивать историю дальше?».
Крючков замолк, ожидая, что скажет Яковлев. Но тот ничего не мог из себя выдавить. Только тяжко выдохнул что-то похожее на «ах-х-ха-х» и разбито молчал. Из-под кустисто разросшихся бровей подавленно взглянул на Крючкова. «Пойдёт ли к Горбачёву или будет принимать решение сам? Нет… сам не решится. Смелости не хватит. Не осмелится сам». Он запоздало поблагодарил Бога за то, что два года назад предложил Горбачёву заменить Чебрикова именно Крючковым. Многолетний помощник Андропова. Явный чиновник по натуре и стилю работы. Услужливый. Старательный. Безотказный.
Перед тем «серому кардиналу» с Генеральным секретарём удалось под корень вычистить реальную и потенциальную оппозицию в армии. Помогла операция «Руст». Молодой очкастый авантюрист из Германии на крошечном самолётике прилетел на Красную площадь в Москве и сел возле собора Василия Блаженного. Как они тогда разгромили всех недовольных политикой «разумного разоружения», протестовавших против сдачи американцам лучших советских ракет, в том числе новейшей ракеты «Ока». Однажды он пришёл к своему в ту пору ещё «однокоманднику» Лигачёву и, не застав его, с восторгом протянул ладони к помощнику. «Во! Все руки в крови! По локоточки!» Сняли не только министра обороны, начальника Генштаба, командующих округами, флотами. Уволили, исключили из партии, посадили в тюрьмы десятки людей, вплоть до командиров дивизий и полков. Американцы сравнили этот погром со сталинской чисткой армии в 37-м году. Пусть сравнивают. Пусть кто-то бормочет, что молодого немца специально подготовили и операцию «Руст» провели западные разведки, чтобы помочь Горбачёву убрать из армии противников ослабления обороны. На многие важные армейские посты поставили своих людей. Вскоре сменили и Чебрикова. История заговора против Хрущёва с участием председателя КГБ Семичастного должна была постоянно напоминать, что во главе Комитета нужен свой человек. Как Андропов при Брежневе.
Таким казался и Крючков. Но из него вышло совсем другое. Как же я просчитался? — думал Яковлев, пытаясь прийти в себя и не зная, что сказать председателю КГБ, чтобы не ухудшить положение.
Молчал и Крючков. Так продолжалось, пока не пришёл хозяин кабинета Болдин.
В тот же день Крючков доложил Горбачёву обо всех деталях встречи. Рассказал, каким ошеломлённым выглядел Яковлев и как ничего не мог произнести в ответ на информацию председателя КГБ. К удивлению главного чекиста, Президент молча выслушал доклад и, никак на него не отреагировав, сразу дал понять, что у него есть более важные дела. Крючков ушёл без всякого решения.
Проходило время — неделя, месяц. Пару раз, встречая Яковлева, председатель КГБ испытующе глядел на «серого кардинала». Ждал реакции на высказанные подозрения. Но тот прятал взгляд под клочковатыми бровями и торопился быстрей уйти.
«Может, он объяснился с Горбачёвым?» — думал Крючков, зная об их почти ежедневных встречах. Однажды спросил президента. Михаил Сергеевич отрицательно покачал головой.
— Тогда надо што-то делать! — заявил председатель КГБ. — Разрешите всё-таки провести проверку.
— А стоит ли? — спросил, скорее сам себя, Горбачёв. И, немного подумав, снова обескуражил руководителя госбезопасности.
— Поговори-ка ты с ним ещё раз. Должен он тебе што-то сказать.
У Крючкова едва не вырвалось сердитое: «Да вы в своём уме!?» Помогла многолетняя привычка не показывать эмоций на приказания начальства. Успокоившись, ровным голосом сказал:
— Нельзя так, Михаил Сергеич. Мы уже открыли ему карты.
— Карты, карты… Поэтому: поговори. Надо не гадать на картах, а узнать мнение самого Яковлева.
Глава госбезопасности подавил в себе возражения и вышел из кабинета. Он даже не стал заходить к Болдину. О чём рассказывать? О странном поведении руководителя государства, который почему-то не даёт довести до конца расследование о своём ближайшем сподвижнике? Делает вид, что не верит, или боится? Скорее, боится. Если подтвердятся факты, надо будет принимать меры. Арест, следствие. Это значит, огласка. А для теряющего остатки уважения страны Горбачёва факт сотрудничества «архитектора перестройки» с американскими спецслужбами может оказаться роковым.
Но выполнять указание было нужно. Придумав пустяковый повод для визита именно к Яковлеву, Крючков поехал в ЦК КПСС на Старую площадь.
Оба суровых заведения — комитет советской госбезопасности и руководство единственной, а потому правящей партии — находились друг от друга на расстоянии двадцатиминутной ходьбы пешком. Оба занимали помпезно перестроенные в советское время дореволюционные здания. КГБ — дом страхового общества «Россия» на Лубянке, партийная элита — гостиницу «Боярский двор» на Старой площади. Ещё недавно обе резиденции олицетворяли тайную и явную власть в стране. Теперь, после отмены 6-й статьи Конституции о руководящей роли КПСС, власть партии рушилась на глазах. Да и могущество КГБ стало давать трещины. Мог ли Крючков представить лет десять назад, что к явно подозреваемому в работе на иностранную разведку человеку он должен будет ездить два раза за какими-то объяснениями?
Обсудив накоротке проблемку, ради которой он вроде и приехал, председатель Комитета, как бы между прочим, поинтересовался: не говорил ли Яковлев с кем-нибудь об их недавней беседе? Может, с Горбачёвым? Или ещё с кем? «Вопрос-то серьёзный, Александр Николаич… Мало што может быть…» Ответом было еле слышное: «Нет».
На этот раз Крючков подготовил Президенту более обширный доклад. Вторая встреча с Яковлевым была в нём фрагментом. Председатель КГБ принёс Горбачёву тщательно выверенный список людей, проходящих по материалам госбезопасности, как агенты влияния иностранных спецслужб. Коротко рассказал о поведении Яковлева. Не дождавшись какой-либо реакции Президента, приступил к главному. Напомнил о записке Андропова в Центральный Комитет КПСС относительно давних планов ЦРУ по вербовке агентов влияния. Сообщил некоторые подробности о наиболее заметных фигурантах списка. Горбачёв слушал, не перебивая. При необходимости он умел сыграть любую роль, и Крючков хорошо это знал. Сейчас надо было отвлечь внимание чекиста от сообщения про Яковлева, и Горбачёв исполнял роль человека, заинтересованного более серьёзной информацией. Председатель КГБ решил подыграть президенту-артисту. Не теряя момента, положил досье перед Горбачёвым. Тот стал читать, а Крючков, чтобы не давить смотрением, незаметно обвёл взглядом кабинет. И сразу увидел перемены. В кабинете снова, какой уже раз, поменяли мебель. Она была опять из карельской берёзы, дорогая, и, если бы не наблюдательность главного чекиста, почти совсем не отличалась от прежней. «Зачем сменили?» — удивился он. Да и шёлковую обивку стен, похоже, обновили, отметил Крючков.
Вообще зуд Горбачёва к перестройкам и переделкам испытал на себе прежде всего его рабочий кабинет. Став Генсеком, Горбачёв не захотел въезжать в кабинет Брежнева-Андропова-Черненко. Приказал сделать себе новые апартаменты. Стены, в отличие от прежних властителей, которым нравились дубовые панели, обили шёлком пастельно-жёлтых тонов. Однако на этом дело не кончилось. Капризному хозяину всё время что-то не нравилось, и начиналась новая перестройка, которая, как понимал Крючков, тянула за собой большие затраты. «Меняет мебель, — подумал он, — а надо, как в анекдоте про бордель, кадры менять».
Додумать о кадрах председатель Комитета не успел.
— Ты што мне принёс?! — сердито спросил Горбачёв. — У тебя в агентах влияния кто? Цвет нашей интеллигенции! Межрегионалы — ладно… Эти… (он скривился). А деятели культуры? Поссорить хочешь?
— К сожалению, Михаил Сергеевич, у многих из них (Крючков показал рукой на лежащее перед Горбачёвым досье) — двойное дно. Мы располагаем серьёзными материалами… Их работа координируется… Прикрываясь гласностью и демократией, люди выступают за смену политического строя. Я прошу разрешения на дальнейшую разработку их деятельности.
Крючков подумал: если Горбачёв даст «добро», под этим прикрытием можно будет вернуться к Яковлеву. Но Президент резко заявил:
— Никакой разработки! У тебя тут почти одни евреи! Хочешь мне представить жидо-масонский заговор? Выходит, каждый, кто думает о переменах — агент влияния? Забери своё досье и штоб я его больше не видел. И никаких расследований! Никакой разработки!
Когда-то Владимир Александрович сам воспринимал масонство как нечто почти мифическое. Но те времена давно ушли. Годы работы в КГБ, и особенно в разведке, заставили относиться к этому явлению серьёзно. Нельзя было во всём видеть следы деятельности масонов, однако пренебрегать поступающей информацией об их влиянии тоже не следовало. У Крючкова пока не было достоверных сведений о том, что Горбачёв имеет к ним прямое отношение и его встреча с Бушем на Мальте в октябре 89-го лежит в русле масонской политики, о чём сейчас говорят депутаты «Союза» и русские державники. Но он помнил, как его поразили тогда сообщения разведки и контрразведки о том, что именно с Мальты Горбачёв начал сдачу ГДР, других стран Восточной Европы и советской Прибалтики. Поначалу Крючков даже не поверил донесениям. Ведь, отправляясь на Мальту, генсек имел чёткую директиву Политбюро по поводу Германии. Говорить о её объединении можно только после того, как будут распущены оба военных блока — НАТО и Варшавский договор. А он, вопреки всему, пообещал Бушу не вмешиваться в процессы смены политического строя. Постарался дать американцам больше, чем они надеялись получить. Рассчитывал расположить их уступками и заработать на этом дивиденды, а в итоге проиграл. «Скорей услужливый дурак, чем умный, думающий враг», — определил для себя Крючков.
Это было в стиле Горбачёва. Он задумывал, как ему казалось, хитрый ход, делал неожиданные финты в разные стороны, полагая, что оппонент запутается в них, как неопытный охотник в заячьих «петлях», и тут его он — ловкий Горбачёв, заставит играть по своим правилам. Но к хитрости и ловкости нужна ещё прозорливость ума. А этим природа наградила Горбачёва «по остаточному принципу». Ему не хватало терпения, а главное, умности, чтобы разглядеть, что будет за вторым, третьим, четвёртым ходами, не говоря о более отдалённых. Поэтому все до одной затеи Горбачёва во внутренней политике, вместо оздоровления, шаг за шагом разрушали экономику, государственность, межнациональные отношения. Благодаря своим аналитическим службам, а также огромному массиву информации с мест, Крючков знал об этом, пожалуй, лучше, чем кто-либо.
И во внешнем мире, как правильно только что сказал депутатам Язов, с Советским Союзом перестают считаться. А Яковлев через управляемую им прессу целенаправленно помогает этому, — подумал Крючков, снова оторвавшись от написанного выступления и посмотрев на сидящего в первом ряду «серого кардинала».
Тот тоже поднял глаза на «жандарма». Их взгляды сцепились. Снизу на трибуну полыхнула огненная ненависть, в которой, как льдинка, качнулся страх. Сверху обдало презрением и злостью на недосягаемость противника. Два пожилых человека, два ровесника, ещё недавно без предубеждения относившиеся друг к другу, сейчас знали одно: кто-то должен проиграть. Крючков рассчитывал на чрезвычайное положение, которого они требовали у Верховного Совета для премьера. Яковлев надеялся на обязательства Горбачёва перед ним. Он уже давно понял, что нужен генсеку-президенту не только в качестве поводыря-советчика по дебрям паутины, в которой всё сильнее запутывался Горбачёв. Его физическое присутствие является гарантией необратимости перемен, за которые западная пресса поднимает советского руководителя на пьедестал исторического величия. А именно это больше всего радовало и волновало Горбачёва.
Они оба полагались на ближайшее будущее. Крючков рассчитывал всё-таки «достать» Яковлева, а тот, видя, что президент его не сдаёт, готовился убедить Горбачёва убрать «жандарма».
И не знали, что через два месяца и два дня в их жизни начнутся крутые перемены. Обвиняющий превратится в обвиняемого, а подозреваемый в работе на иностранную разведку увязнет во лжи, объявит, что всю жизнь хотел сломать возводимый им лично идеологический трон, на котором удобно сидел несколько десятилетий и при этом никому не позволял даже царапнуть трон сомнениями в его величии.
Но это будет потом. Сейчас же, заканчивая своё выступление перед Верховным Советом, Крючков решил в качестве последнего аргумента провести историческую параллель:
— Через несколько дней будет ровно полвека, как началась война против Советского Союза. Самая тяжёлая война в истории наших народов. И вы, наверное, сейчас читаете в газетах, как разведчики информировали тогда руководство страны о том, што делает противник, какая идёт подготовка и што нашей стране грозит война.
Как вы знаете, тогда к этому не прислушались. Очень боюсь, што пройдёт какое-то время, и историки, изучая сообщения не только Комитета госбезопасности, но и других наших ведомств, будут поражаться тому, што мы многим вещам, очень серьёзным, не придавали должного значения. Я думаю, што над этим есть смысл подумать всем нам.
Крючков аккуратно сложил листки с напечатанным текстом. Удовлетворённый, глянул на сидящих в правительственной ложе министра обороны и министра внутренних дел. Осмотрел зал. В переднем ряду Яковлева уже не было. «Пошёл звонить Горбачёву», — безразлично подумал Крючков. Он ожидал, что сейчас выступят один-два депутата и начнётся голосование. Но, видимо, чувствуя настроение большинства, которое не могло решиться на предоставление чрезвычайных полномочий правительству без одобрения президента, председательствующий — сам откровенный горбачёвец, с удовольствием объявил о закрытии заседания.
Разочарованный председатель КГБ пошёл к выходу, где его ждала машина. На шаг сзади держался помощник. И в тот момент, когда Крючков вышел в кремлёвский двор, с неба обрушился ливень. Помощник едва успел раскрыть над руководителем большой зонт. Главный чекист от неожиданности на какое-то время задержался возле машины. На асфальте мгновенно запузырилась вода. Ливень, похоже, был сильнее, чем тот, который одиннадцать дней назад переполошил хозяйственников президентской резиденции. Тогда, впервые за всю двухсотлетнюю историю здания Сената, сильно протёк потолок в рабочем кабинете главы государства. Ни с кем из прежних правителей такого не случалось, хотя их кабинеты располагались на том же третьем этаже.
Горбачёва в Советском Союзе не было. Пятого июня ему вручали в норвежской столице Осло Нобелевскую премию мира. Он встречался с королём, с премьер-министром, выступал с нобелевской лекцией. Ему нравилось быть во внимании. Это возбуждало, как наркотик. Он упивался аплодисментами зарубежных аудиторий, ломал графики рабочих встреч, если узнавал, что его должна наградить какая-нибудь более-менее заметная общественная организация. В мае 90-го года, во время визита в США, потратил четыре часа только на то, чтобы поочерёдно получить пять наград от различных организаций, имеющих в своём названии слово «мир» или «свобода». Эта детская радость хотя бы на время отодвигала заботы и проблемы своей раскуроченной страны.
На следующий день после вручения Нобелевской премии начался визит в соседнюю Швецию. Сытую, умиротворённую, прочно построенную. С мягкой, как на заказ, погодой. А в Москве 6 июня был сильный дождь. Впрочем, такой же, какие случались десятки раз до того. Но, как ворчали раздражённые хозяйственники, тогда не было перестройщика. Теперь, благодаря ему, разваливалась и страна, и даже его рабочий кабинет.
Не подозревая о приближении грозы, Савельев решил задержаться после заседания, чтобы переговорить с кем-нибудь из знакомых депутатов. Он хотел на других проверить свои ощущения. Несмотря на сплошные недоговорки, отсутствие какой-либо конкретности, выступление Крючкова вызвало сильную тревогу.
Но, пока прощался с Зоей и ребятами-техниками, многие ушли. Мелькнула где-то впереди маленькая фигурка Катрина, который, размахивая руками, что-то говорил рядом идущим людям. Однако возбуждённый вид «нечернозёмного Наполеона» только добавил неуюта. «Позвоню кому-нибудь завтра из редакции», — решил Савельев, спускаясь по лестнице к выходу.
Он приоткрыл двери на улицу и застыл, как вкопанный. От земли до неба стояла водяная стена. Через неё нельзя было разглядеть даже недалёкие деревья. «Вот это ливень!» — ужаснулся Савельев. В тот же момент полыхнула молния — длинная, почти прямая, как посланная с небес стрела, и через считанные мгновенья раскатисто взорвался гром. Что-то жутковатое почудилось Виктору во всём этом природном катаклизме, и он, неожиданно для себя, вспомнил Слепцова. «Что ему видится сейчас? — подумал Савельев. — Ещё одно знаменье?» Не верящий ни в Бога, ни в чёрта журналист хотел было мысленно усмехнуться над суеверием, казалось бы, просвещённого человека, но почему-то усмешка не получилась. Непонятное волнение захватило его и вернуло к тревожному разговору на весенней охоте. «Люди… Люди творят историю!» — чуть было не выкрикнул он, словно продолжая тот спор. И тут же сам себя остановил, почувствовав на лице водяную пыль от ливневой стихии. «А природа? Она разве не готовит людей к каким-то действиям? Не влияет на их чувства, разум? Не давит на подсознание, высвобождая в человеке самому ему неизвестные силы?»
— Ой, господи! Што ж это творится?! Просто конец света! — услышал Виктор женский голос и обернулся. Он не заметил, как сзади собрались люди. Отступил в сторону, освобождая дорогу. Но никто не сделал шагу к дверям. Все молча глядели сквозь полуоткрытую створку двери, и на лицах большинства он разглядел тот же испуг, который недавно пережил сам.
Через два дня, в среду Верховный Совет СССР, после выступления на заседании Горбачёва, раскритиковавшего просьбу премьер-министра и силовиков, большинством голосов отказал правительству в предоставлении ему чрезвычайных полномочий.
Но людей, называвших себя демократами, напугали выступления руководителей силовых структур. На следующее утро в четверг мэр Москвы Гавриил Попов попросил у американского посла Мэтлока срочной встречи. Спросив, как здоровье жены посла Сары, какие добрые вести из Вашингтона для советской страны, столичный градоначальник в это время показывал пальцами на потолок и делал в воздухе движения, как будто пишет. Это был обычный шпионский приём: говорить нельзя — подслушивают, надо писать. Мэтлок достал блокнот, скреплённый металлической спиралью. Ведя непринуждённый разговор, Попов написал, что завтра будет осуществлён переворот с целью сместить Горбачёва и передать власть Павлову. Надо срочно предупредить находящегося в Штатах Ельцина, чтобы он вернулся в Москву. Мэтлок, всё так же щебеча ни о чём, написал: «Кто участники, кроме Павлова?» Руководитель советской столицы, демократ Попов вывел три фамилии: «Крючков, Язов, Лукьянов». Закончив тайнопись, он смял листки и, чтоб не оставлять следов, положил их в карман. Перед уходом прошептал: «Мы рассчитываем на вас».
Американцы немедленно развернули активную работу. Через Вашингтон, Берлин, Москву предупредили Горбачёва. Назвали фамилии потенциальных заговорщиков. Заодно, к бешенству Попова, сообщили президенту об источнике информации. Мэр-демократ, всю жизнь исправно служивший советской власти и её различным институтам, пока ещё не знал, куда повернут события. Поэтому, на всякий случай, хотел выглядеть чистым после грязных дел. Горбачёв состроил недовольную физиономию при встрече с американским осведомителем-стукачом, весело развеял опасения позвонившего президента США, а чтобы показать, что все заговорщики у него в «кармане», заставил фотографов снять себя с тремя силовиками. Так и стояли они: улыбающийся президент и три мрачных руководителя грозных ведомств. Им было не до радости. Выступая на заседании Верховного Совета, Горбачёв заявил, что никаких поручений насчёт павловской инициативы и поддержавших его силовиков не давал. Тем самым снова предал остатки веры идущих рядом людей.
Но оплёванная честь была не главной причиной их мрачного настроения. Горбачёв передал в Верховный Совет проект Союзного договора, после утверждения которого СССР переставал существовать как единое государство и превращался в аморфное, конфедеративное образование.
Часть третья
Глава первая
Сорвать Волкова с хорошей рыбалки было трудно. Особенно, если они отправлялись ловить вдвоём с тестем. Низовья Волги — не подмосковные речки. Здесь можно рассчитывать на хорошую рыбу — крупного сома, сазанов по несколько килограммов каждый, лещей размером с тазик, поленообразных судаков. Тесть тоже был фанатик. Поэтому легко соглашался на предложения Владимира «посидеть ещё немного».
Однако в этот раз Волков засобирался первым.
— Поехали домой, Егорыч.
— Ты што, Володь? — удивился тесть. — Ещё «вечёрка» не началась.
— Поехали, хватит. Всё не выловишь.
Он не мог объяснить своего беспокойства. С самого приезда в Волгоград ему было не по себе. На это обратили внимание и Наталья, и тесть с тёщей. Даже старший брат жены — Вадим, во «встречном» застолье, приглядевшись к зятю, вроде как с шуткой сказал сестре: «Видишь, к чему мужчину приводит одиночество. Кто-то Володьке сбил прицел, пока ты оставила там одного».
Уволенная Янкиным Наталья, с согласия мужа, не стала дожидаться его отпуска, а взяла дочку и поехала к родителям. Владимир около месяца был один. Несколько раз встречался с Андреем Нестеренко и Савельевым. Журналист рассказал о закрытом заседании Верховного Совета СССР, о горбачёвском Союзном договоре, о лавине кричащих писем в редакцию. Андрей говорил о настроениях на заводе. Люди были растеряны и злы. Хотели, чтоб кто-то начал быстрее наводить порядок, и не знали, кому верить. Горбачёва крыли матом — все беды и разруху связывали с ним. На Ельцина одни надеялись, другие стали понимать, что от него опасности не меньше.
В школе Овцова демонстративно не замечала Волкова. Рассчитывая устроить ему нервотрёпку, пришла с двумя молодыми фуриями на экзамен по французскому языку. Владимир про себя развеселился. Знал, что никто из них ничего не понимает по-французски. А вслух задорно сказал классу на французском: «Гостей можете не бояться. Они пришли поглядеть, какие вы красивые и умные. Но со мной даже не пробуйте халтурить».
После экзамена Нина Захаровна с неприязнью сказала Волкову: «Скоро вам пригодится этот язык. Разрушим советскую „империю зла“, поедете в Париж дворником. Все, кто против революций, заканчивают с метлой во Франциях».
Учитель фыркнул в усы. Насчёт разрушения — это Овцова зря старается. Не может быть, чтобы не нашлось кого-то в стране, кто остановил бы развал. Но беспокойства добавилось.
Оно создавало такой же дискомфорт, как начало простудного заболевания, когда температуры ещё нет, не трясёт озноб и боль не подошла, но уже чувствуется какая-то ломота в мышцах, сознание размягчается и человек с нарастающей тревогой понимает, что это — отдалённые признаки серьёзной хвори.
Повторяя все повороты волжского берега, Волков гнал моторку вверх по реке. Тесть, нахохлившись, сидел на дне лодки возле носовой её части. Он не понимал, что происходит с зятем. Владимира Дмитрий Егорович очень уважал. Чувствовал — дочь с ним, как с надёжной опорой. А что ещё нужно родителям, если не спокойствие и счастье детей? Все конфликты кого-то из молодых с родителями мужа или жены начинаются с разногласий именно в молодой семье. У зятя же с дочерью всё было нормально. Тогда что сейчас мучает Владимира? Настолько, что он бросил раньше времени их любимое дело.
Разные характерами — спокойный, выдержанный учитель и взрывной казак Голубцов, сошлись на общей страсти — рыбалке. Поэтому редкий отпуск Волковы, хоть на несколько дней, не приезжали в Волгоград. Здесь, на судостроительном заводе, который разросся в южной части длинного, почти семидесятикилометрового города, работали все старшие Голубцовы. Мастером — сам Дмитрий Егорович, технологом — сын Вадим, до пенсии — в заводской столовой — мать Натальи и Вадима. Лет десять назад пришла на завод и жена сына.
После очередного поворота Волги далеко впереди показался неясный от расстояния монумент. Это был памятник Ленину у входа в Волго-Донской канал. Когда Волков впервые оказался рядом с ним и поднял голову, чтобы разглядеть лицо Ленина, у него свалилась кепка. «Ну и махина!» — произнёс, поражённый громадиной. «Чужое место занял! — зло сказал тесть. — Здесь стоял Сталин. Поменьше был. Да и покрасивше. Я видел, как его везли. На одной платформе фуражка. На другой — рука. На третьей — ещё што-то. Долго собирали. А сломали за одну ночь. Хрущёв — эта кукурузная башка». «И куда дели?» — спросил Владимир. «Куда, куда… Расплавили, наверно. Из меди был…»
Потом Голубцов и Николай Васильевич Волков — отец Владимира, не раз заговаривали об этом при встречах. Ездили друг к другу часто — Воронеж и Волгоград рядом. Возили внучку туда-сюда, если молодые родители отправлялись на море. Оба оказались сходны мыслями. Терпеть не могли Хрущёва. По-разному, но уважали Сталина. В последние годы сильно ощетинились против Горбачёва. Единственное, в чём не соглашались — в оценке Ленина. Старший Волков был к нему терпимее, чем Егорыч. Пожилой казак даже захлёбывался в сердитости, когда Николай Васильевич говорил что-нибудь хорошее о Ленине. «За што ты его так не любишь? — спросил однажды зять, ещё не очень хорошо знавший отца жены. — По сравнению со Сталиным он… ну, не сказать, ягнёнок, но всё же более человечный». «Володя! — строго, как непонятливому двоечнику, объявил жилистый, среднего роста тесть. — Запомни надолго, а лучше навсегда. Этот человечный Ленин со своей компанией развязал в народе гражданскую войну. Штоб самим удержаться у власти, они уничтожили больше, чем пятеро Сталиных. У тебя жена — из казаков. Ленинские паскудники казаков изводили под корень». «А Сталин на Луне што ль был в это время? Тоже с ними кромсал», — возразил Волков. «Верно, и на нём есть грех. Зайти в Волгу босиком и не намокнуть — не знай, у кого получится. Но Сталин казакам имя вернул! Те паскудники — Троцкие, Свердловы и вся их интернациональная шайка, запретили казакам даже называться казаками! И Ленин с ними был заодно. А Сталин ещё до войны красные казацкие лампасы пришил к штанам. Сразу, когда началась война, создал две кавалерийские части из казаков-добровольцев. Потом кино разрешил сделать. Нет, вы мне Ленина со Сталиным, если говорить про казаков, не равняйте».
С той поры Владимир много чего узнал и о казачестве, и о двух монументах у входа в канал. Теперь смотрел на самый большой в мире памятник реально жившему человеку без почтения. Видел в нём скорее маяк или промежуточную точку отсчёта пройденного пути. Знал, что от него, до лодочного гаража тестя, остаётся сорок минут ходу.
Голубцовы жили в частном секторе. Дома подходили близко к крутому волжскому обрыву. С высокой веранды Волков любил смотреть на проплывающие по реке теплоходы, буксиры с баржами, стригущие в разных направлениях водную гладь катера. Волга работала, как могучее шоссе. Иногда на рассвете Владимира будил густой, сиповатый гудок проходящего неподалёку судна. Учитель, не открывая глаз, в полусне представлял себе этот пароход и, умиротворённый от того, что ещё раннее утро, что рядом лежит Ташка, а в соседней комнате спит дочь, снова проваливался в сон.
Ему нравилась усадьба Голубцовых. На небольшом участке выделенной государством земли башковитый Егорыч, тогда ещё, правда, просто Дмитрий, в 50-х годах начал строить дом с таким расчётом, чтобы потом его можно было расширять, пристраивая новые помещения. Ко времени появления зятя дом уже состоял из кухни, столовой и четырёх комнат. Затем с участием сына и Волкова была пристроена ванная комната и тёплый туалет. Места хватало всем. А когда Вадим получил от завода квартиру и оставил «родовое гнездо», старшие Голубцовы затосковали. Поэтому каждый приезд дочери с зятем и внучкой был для них праздником.
Охотно ездили сюда и Волковы. Тут расслаблялись после московской нервозности, наедались овощами и фруктами. Владимир особенно любил давно придуманный тестем «живой компот» — намятую в холодной водопроводной воде вишню.
Но в этот раз только внучка была беззаботной. Сначала Наталья привезла новость: она — первая жертва новых политических репрессий. Затем приехал какой-то не в себе Волков. Часто сидел задумчивый на веранде, крутил кончик уса, оживлялся лишь, когда тесть звал на рыбалку. Будними вечерами отплывали недалеко: к острову среди Волги или в одну из множества проток. В конце недели отправлялись с ночёвкой дальше. Спали в моторке — лодка была просторной и удобной. Однако прежнего азарта и полной отрешённости от житейских забот теперь у зятя не было. Как-то на вопрос Дмитрия Егоровича, в чём дело, ответил: «Сам видишь, што творится в стране. Гонят её к пропасти. А мы ничево сделать не можем».
Настроение немного улучшилось, когда Наталье позвонила из Москвы редакторша Центрального телевидения, в программе которой Волкова участвовала вместе с Савельевым. Она узнала, что Наталью уволили из газеты, и предложила ей работу. Первого августа жена уехала в Москву и сразу включилась в передачу. Через несколько дней Владимир со всеми Голубцовыми сидел у телевизора и смотрел на свою красивую Ташку, которая вела разговор с двумя готовыми разорвать друг друга министрами: союзным и российским.
Наталья звонила почти каждый день. Однажды сказала, что встретила Савельева. Тот передавал привет Владимиру, завидовал ему. Пообещал после возвращения из Молдавии, куда собрался на неделю, приехать в командировку в Волгоград, чтобы хоть раз съездить на рыбалку.
О московских политических делах Наталья говорила с тревогой. Митинги шли ежедневно. Споры между ораторами стали переходить в драки. Чаще всего потасовки затевали люди, которых приводили демократы. «Народ, Володь, просто сходит с ума. Вчера нашему оператору разбили камерой лицо. Ударил какой-то дурак кулаком по камере, когда наш парень снимал зачинщика драки. Российский Верховный Совет принял закон о приватизации государственных предприятий. Никто не знает, как это будет, но верят демократам. Те говорят: всё разделим, и все будут богатые. Горбачёва сильно ругают. Прошёл пленум ЦК. Там его только критиковали. Никто не похвалил. Но не осмелились снять. Отложили на осень… На съезд».
«А зря, — сказал Волков. — Его давно надо гнать. Выгонят — замена найдётся. Ты Виктору телефон дай. Пусть позвонит перед приездом».
Затащив лодку в специальный гараж на берегу — в него прямо от воды по двум швеллерам ходила тележка, Владимир хотел взять только рыбу, а снасти и одежду оставить в лодке. Но Дмитрий Егорович не разрешил.
— Лазить стали. Раньше было спокойней. Сорвали народ с порядка.
Дома у Голубцовых оказался Вадим.
— Вы прям не разлей вода. Казаки-разбойники.
— А почему ты сомневаешься? — перехватив садок с рыбой в левую руку, поздоровался Владимир. — Я отцу говорил: давай пороемся в корнях. Наверняка где-нибудь с казаками переплелись. Начиналось-то казачество и с нынешней Воронежской земли.
— Кто-й-т тебе сказал? — остановился удивлённый тесть. — Самый смелый народ ниже шёл. На нашу теперь территорию. В низовья Дона. К Центру-то жались, кто терпеливей. А те, кто буйные… горячие — те в степя.
— Эт потом, Егорыч. Сначала убегали не слишком далеко от Москвы. Помещика подпалит… за то, што его девку тот поимел… И в бега. В Дикое поле. А оно — рядом. Даже трудно себе представить — все теперешние чернозёмные области лет пятьсот назад были Диким полем. Там и зарождалось казачество… Потом начало растекаться… Отчаянных-то прибавлялось. Между молотом и наковальней сформировалась самая боевая часть славянства.
— Каким ещё молотом?
— Ну, как же! Сверху — крепнущее государство. Стучало по башке, как молотом. Снизу — сперва кочевники, затем горцы. Тоже надо было отбиваться. Вот так и появилась крепкая ветвь народа.
— Пока её не порубали, гады, — насупился тесть. И, помолчав, добавил: — Нельзя нам этого забывать. Народ, у которого нет памяти о своей беде, не заметит прихода новой.
После ужина, когда за столом остались одни мужчины (бабушка с внучкой ушли на веранду), Дмитрий Егорович опять вспомнил расказачивание. Вадим приехал на машине — поэтому пил чай. А Волков с тестем, который ради приезда дочери с семьёй взял отпуск, время от времени наливали в стопки самогон.
— Вот вам об этом надо говорить. И уж тем более им, которые растут, — кивнул старик в сторону веранды. — Штоб не прерывалась память в народе. А то загомонили… эти… Демократы! Забыть, говорят, надо прошлое! Хватит прошлым попрекать! Пора начать примирение. А сами Сталина изрешетили, собаки. Вы сначала вспомните всех, кто казаков тыщами убивал. Женщин и детей казацких на пулемёты гнал. По именам назовите каждого. А потом подумаем о примирении.
— Помнить должны лидеры, — заметил учитель. — Народ — он ничево не решает.
— Не скажи! — возразил Вадим. — Он-то как раз и есть главная сила. Ты ведь не будешь отрицать: народ движет историю.
— Буду, — заволновался Волков. В последние годы он много об этом думал и пришёл к твёрдому отрицанию марксистско-ленинских утверждений, будто не личности, а массы играют главную роль в истории.
— Не народ движет историю, а народом двигают её. Улавливаешь разницу? Народ — это пушечное мясо истории. Таран, которым разбивают подлежащее слому. Но направляют это орудие Личности! Единицы. Вся история человечества — это история Личностей. Именно они поднимают массы, поворачивают их.
Иногда Личности вырастают из массы, аккумулируют её подспудные настроения, озвучивают их, делают широкими и возглавляют сформированные под этими настроениями движения.
Но нередко бывает по-другому. Это когда Личности излучают на массы свою идею. Получают всё больше сторонников, активистов… Своего рода апостолов… проповедников. Те начинают вовлекать в орбиту идеи новых людей, становятся организующим ядром, раскачивают народные массы. После чего Личность двигает народ на реализацию своей цели.
— По-твоему, народ ничево не значит?
— Значит, — вздохнул Волков. — Когда приходит время бороться за идею. Головы класть… Но гораздо больше значат те, кто формируют Личность, её представления об устройстве мира и общества. Вот эти вложения являются главными.
— А Горбачёв, Володь, личность или кто? — спросил подвыпивший тесть, и по его интонации, по выражению суховатого, в морщинах лица, на котором нехорошим огоньком блеснули сощуренные рыже-карие глаза, Волков понял, в каком ответе тот не сомневается. Владимир вспомнил зимнюю охоту, слова Адольфа и хмыкнул, распушая усы.
— Я бы мог тебе сказать словами знакомого егеря. «Гондон штопаный». Но, к сожалению, Егорыч, Горбачёв — тоже личность. Правда, случайная. С маленькой буквы, в отличие от многих других до него. Личности, как правило, появляются на дороге истории, когда общество замедляет ход. Возникает глубинный… массовый вопрос: идти ли по этой дороге дальше вперёд, строя её в соответствии с новыми технологиями… новыми представлениями… Или круто отвернуть в сторону… Не зная, што там за кюветом. Может, трясина… Может, обрыв…
Для таких моментов требуется Личность масштабная. Я бы даже сказал, Богом подобранная. А у нас оказался случайный человек.
— Я всё жду, когда его скинут, — заявил тесть. — В партии-то вон сколько народу! Неужель не видят? Сколько вас там, Вадька?
— По-моему, миллионов девятнадцать… Правда, сейчас много вышло.
— Вот видишь, Вадим, — невесело сказал Волков. — Целая европейская страна! А поскольку нет Личности, плавают в дерьме. И остальной народ в таком же разброде. Насыпали ему в мозги чёрт-те чево. Белого и чёрного. Случись што — не сразу сообразит, какую сторону занимать.
— В разброде — эт ты правильно говоришь. У нас даже не знаю, кто демократам на заводе верит. Ну, есть, может, немного. Но ведь и правительству горбачёвскому никто не верит. Про него самого — разговору нет.
— Надо порядок вернуть, — поднялся Дмитрий Егорович. Подошёл к тумбочке, на которой лежали папиросы. — Пошли, Вов, покурим (в доме он не курил и никому не разрешал). — Когда нет дисциплины, будет один бардак. Демократия будет, как сегодня, ети её мать…
Они посидели на веранде. Потом проводили Вадима. Завтра начиналась рабочая неделя, а у него — первая смена. Вернувшись в дом, тесть включил телевизор.
Владимир не захотел ничего смотреть. Снова вышел на веранду, где дочь, уже без бабушки, читала книгу. Сел рядом на скамейку. Девочка прижалась к нему, и так молча, глядя на темнеющую Волгу, на теплоходы, зажигающие первые огни, они просидели до тех пор, пока бабушка не позвала внучку в дом.
Утром, необычно рано, Владимир проснулся от какого-то строгого голоса, который доходил из кухни. Там у Голубцовых был двухпрограммный репродуктор. Собираясь в первую смену, Дмитрий Егорович обычно включал его, чтобы послушать новости. Сейчас тесть не работал, а с кухни доносился вроде как командный голос. Волков, протирая заспанные глаза, перешёл столовую.
— Што тут происходит? — спросил тёщу, которая, замерев, стояла с тарелкой в руках.
— Какое-то чрезвычайное положение.
Из спальни вышел тесть. Длинные «семейные» трусы скособочены. Мятая майка где вылезла из трусов, где засунута под резинку.
— Вы чево людям спать не даёте?
В этот момент диктор, закончив читать какой-то текст, сделал паузу и суровым голосом произнёс:
Указ вице-президента СССР.
В связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачёвым Михаилом Сергеевичем своих обязанностей Президента СССР на основании статьи 127 пункт 7 Конституции СССР вступил в исполнение обязанностей Президента СССР с 19 августа 1991 года.
Вице-президент СССР Янаев.
Все трое ошеломлённо переглянулись.
— Што с ним случилось? Убили што ль? — тихо спросила тёща.
— Если б убили, то сказали бы: «в связи с трагической гибелью…» — неуверенно проговорил Волков. — Может, заболел?
— Да он здоровый, как бык! — возразил тесть. — Об его лысину можно поросят бить. Наверно, до кого-то дошло…
— Подожди, Егорыч, — остановил Владимир, продолжая слушать тревожный голос диктора.
Обращение к советскому народу.
Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР.
Соотечественники! Граждане Советского Союза!
В тяжкий, критический для судеб Отечества и наших народов час обращаемся мы к вам! Над нашей великой Родиной нависла смертельная опасность! Начатая по инициативе Михаила Сергеевича Горбачёва политика реформ, задуманная как средство обеспечения динамичного развития страны и демократизации общественной жизни, в силу ряда причин зашла в тупик. На смену первоначальному энтузиазму и надеждам пришли безверие, апатия и отчаяние. Власть на всех уровнях потеряла доверие населения. Страна по существу стала неуправляемой.
Воспользовавшись предоставленными свободами, попирая только что появившиеся ростки демократии, возникли экстремистские силы, взявшие курс на ликвидацию Советского Союза. Растоптаны результаты общенационального референдума о единстве Отечества.
Волков стоял, окаменев. Он даже не помнил, когда слышал последний раз такой строгий голос. Кажется, во время сообщения о полёте космонавтов. Но там он звучал приподнято, торжественно. А здесь из репродуктора неслась тревога.
Разинув рот, не шевелясь, слушал обращение тесть. Оно было длинным, не всё сразу проникало в сознание, но там, где было понятно, Дмитрий Егорович машинально кивал головой.
Сегодня те, кто по существу ведёт дело к свержению конституционного строя, должны ответить перед матерями и отцами за гибель многих сотен жертв межнациональных конфликтов. На их совести искалеченные судьбы более полумиллиона беженцев. Из-за них потеряли покой и радость жизни десятки миллионов советских людей, ещё вчера живших в единой семье, а сегодня оказавшихся в собственном доме изгоями.
Диктор говорил о разрушении экономики, о возможном голоде, о разгуле преступности, из-за чего «страна погружается в пучину насилия и беззакония».
Бездействовать в этот критический для судеб Отечества час — значит взять на себя ответственность за трагические, поистине непредсказуемые последствия. Призываем всех граждан Советского Союза осознать свой долг перед Родиной и оказать всемерную поддержку Государственному комитету по чрезвычайному положению в СССР.
— Ну, слава тебе господи! — вдохновенно перекрестился беспартийный атеист Голубцов. — Нашлись, наконец, люди.
— Давай-ка телевизор включим, Егорыч, — заторопился Волков. — Должны их, наверно, показать.
Он уже не сомневался, что Горбачёва отстранили от власти. С его согласия или просто плюнули на «пятнистого», как называл его Нестеренко, но власть теперь в других руках.
Зазвонил телефон. В частном секторе установить его было трудно, однако совместными усилиями — Дмитрий Егорович, как ветеран войны, и Вадим, как заводская «номенклатура», линию провели.
— Слыхали? — закричал Вадим, когда Волков снял трубку.
— Ещё бы! Дед пошёл телевизор включать. А у вас как дела?
— Из профкома звонили. В разных цехах рабочие хотят созвать митинг. В поддержку ГКЧП. Сами требуют.
— Людей можно понять. Лишь бы эти… новые… оказались всерьёз.
Едва Владимир положил трубку, его окликнул тесть.
— Иди сюда! Ничево не пойму. Только дикторы повторяют.
Было действительно что-то непонятное. Время шло. Страна, наверняка, хотела увидеть людей, которые образовали новую власть — тем более, что дикторы называли их фамилии, а по телевизору только повторяли уже не раз оглашённые документы, после чего на экране появлялся балет «Лебединое озеро».
Владимир набрал по телефону свой домашний номер. Наталья не отвечала. «Видимо, уже вызвали в телецентр», — подумал Волков, и какая-то тревога коснулась сознания. Он здесь, в безопасной обстановке, вдали от всяких событий. А что происходит в Москве? Вряд ли ельцинские приверженцы будут сидеть спокойно. И Ташка там одна.
Чтобы не будоражить проснувшуюся дочь, Волков позвал тестя с тёщей на веранду. Как мог, объяснил своё беспокойство, и, несмотря на их уверения, что билета он не достанет, решил немедленно ехать в аэропорт. «Миланке скажете: папа срочно улетел по делам».
Дмитрий Егорович повёз зятя на своих «Жигулях» специально через центр города. Это было намного дальше, но старик преследовал две цели. Думал растянуть время, чтобы сорвался отъезд зятя, а кроме того хотел посмотреть, что делается в центре, откуда местное телевидение иногда показывало жидкие митинги демократов. К его удовлетворению, нигде не было ни одного митингующего. Люди спокойно шли по своим делам, гуляли матери с колясками и даже милицейского усиления не чувствовалось.
— Во как намучились от горбачёвского бардака! — сказал он, объезжая пустынную площадь. — А демократы-то попрятались.
И с беспокойством проворчал:
— Как бы их бить не начали.
В здании аэровокзала народу было много. К стойке, где регистрировали пассажиров на московский рейс, стояла длинная очередь.
— Ну, я тебе говорил? — кивнул тесть на очередь. — Оставайся. Дня два-три… Потом всё устаканится… Наташка приедет.
Волков, не говоря ни слова, озирался по сторонам. В дальнем углу увидел окошко с надписью: «Начальник смены». Раздвигая людей, как буксир льдинки, возвышаясь над толпой, пошёл туда. Перед ним оказалось три человека. Каждый что-то говорил в окошко, показывал бумаги и, недовольно ворча, отходил. Когда дошла его очередь, Владимир согнулся пополам, приблизил голову к окну и улыбнулся полной крашеной блондинке.
— Я не буду вам говорить, што у меня умирает любимая бабушка. Нет у меня её. И дедушки у меня нет. Сирота я в этом смысле. Одна будет радость, если пожалеет такая, как вы, сестра.
— Ну-ну, брат, — улыбнулась в ответ женщина, промокая платочком потное лицо. — Если никого нет, то куда спешить?
— К сожалению, сестричка, дела. Я вам даже не могу назвать их… Обстановка, видите, какая?
Волков ещё некоторое время темнил по поводу обстановки и своей важной роли в ней, сожалел, что не взял в отпуск нужных документов, но, главным образом, напирал на быстро растущие чувства к нашедшейся «сестрёнке». Если бы не срочный вызов в Москву, он обязательно дождался бы конца её смены.
Вся эта весёлая, немного скользкая болтовня развлекла женщину. Она потянулась к телефонной трубке.
— Галя! У тебя там на Москву што-нибудь осталось? А из обкомовской брони? Отдай один. Не приедут. Им сейчас на месте надо быть. Кому? Придёт молодой человек. Да, красивый. Узнаешь. На Сталина похож. На молодого. Только красивей.
Пока рассаживались в самолёте и летели час сорок до Москвы, ощущения, что происходит что-то необычное, ни у кого не было. Люди шутили, смеялись, вежливо пропускали друг друга к своим местам, весело и доверительно переговаривались с соседями. Многие возвращались из отпуска в свои города, а страна издавна устроена так, что все дороги, к сожалению, ведут через Москву.
Но едва Владимир сел в машину к частнику-«бомбиле», который в расхлябанный «Москвич» взял ещё двух женщин, как сразу почувствовал вздёрнутое настроение водителя.
— Какие новости тут у вас? — спросил он худого, востроносого мужичка.
— Такие ж, как у вас. Слышишь?
Шофёр прибавил громкость приёмника. В очередной раз передавали обращение ГКЧП.
— Танки ввели в Москву. С армии не видел танков. Только по телевизору. Какие-то новые. Огромные. Такой проедет по моему ветерану — и не заметит.
— Да-а… — в раздумье протянул Волков. — Значит, ребята взялись всерьёз…
Всем троим пассажирам, оказалось, нужно к площади Трёх вокзалов. Несколько раз проезжали мимо двигающихся к центру Москвы машин с солдатами. Одну колонну Волков сразу определил: десантники. Невесело подумал: «Дожили. Теперь и в столице понадобились».
На вокзале позвонил по телефону-автомату домой. Наталья по-прежнему не отвечала. Набрал номер телевизионной редакции. Трубку долго не брали. Наконец, ответил какой-то парень. На вопрос: «Где найти Волкову?» сказал: уехала с оператором к Дому правительства России на Краснопресненскую набережную.
Владимир решил, что там, наверно, что-то происходит, и пошёл в метро. Спускаясь на эскалаторе, стал анализировать действия членов Чрезвычайного комитета. Странный какой-то получался переворот. Из армейской подготовки, а позднее — из многочисленных свидетельств о подобных событиях, знал, что в первую очередь берётся под контроль транспорт и связь. С мысленной усмешкой вспомнил Октябрьский переворот и приказы его лидеров захватить, прежде всего, почту, телеграф, вокзалы. Перекрываются все пути сопротивления. Ленин в ночь переворота лично попросил одного из братьев Нахимсонов — Вениамина, который управлял электрической станцией в Петрограде, отключить электроэнергию, чтобы оставить разведёнными главные мосты столицы и не допустить в центр города силы усмирения. В это время другой Нахимсон — Семён, как комиссар латышских стрелков, блокировал отправку правительственных войск на железнодорожных станциях, ведущих в Петроград. А здесь, думал Волков, аэропорты не закрыты. Поезда приходят и уходят как обычно. Кого доставляют? Кого увозят? Нигде никаких проверок. Городская телефонная связь — и та не заблокирована. Нет, не похоже на серьёзных людей.
И первые сомнения в успехе затеи тронули сознание.
Выйдя из метро, он направился в сторону видного издалека высокого белого здания. Возле двух станций, где сходились радиальная и кольцевая линии метрополитена, была обычная московская толкотня. Дети с родителями шли в зоопарк. У входа в кинотеатр «Баррикады» толпился народ. На конечной автобусной остановке стояла очередь — люди ждали машины своих маршрутов.
Однако, чем дальше Волков уходил от метро, тем пустее становилась улица, и одновременно нарастал рокот моторов. Видимо, танки не глушили двигатели, ожидая начала передислокации. А пройдя ещё какое-то расстояние, учитель разглядел наконец на площади перед Домом правительства людскую массу. Остановился, раздумывая, идти ли к толпе или к видимым теперь танкам, возле которых тоже стояли небольшие кучки. С возвышения идущей к набережной улицы окинул взглядом толпу. Несмотря на разгар тёплого и солнечного дня, народу было не очень много. По врубившимся навсегда наставлениям старшины Губанова стал быстро определять количество. «Ты визуально очерти сэгмэнт изо всей массы. Прикинь, сколько в сэгмэнте солдат противника или кого… Только быстро, пока тебя самого не высчитали… Пятьдесят… Сто человек. И накладывай этот сэгмэнт поочерёдно на части стоящего народа. А дальше — арифметика…»
Волков «прикинул». Получалось тысячи полторы — самое большее. И тут же представил Москву. Сколько это от 9 миллионов? А от страны?
Пока подходил к толпе, увидел в двух местах — на фонарном столбе и на ограждении стадиона, печатное столкновение позиций. На обращение ГКЧП была наклеена листовка с Указом Ельцина считать действия Комитета по чрезвычайному положению антиконституционными и квалифицировать их как государственный переворот.
Края толпы двигались, разбухали, поскольку подходили новые люди. Здесь громко разговаривали, иногда что-то кричали. В центре же толпы народ стоял плотно и молча. Головы многих были повёрнуты к балконам Дома правительства. Там время от времени появлялись какие-то люди, смотрели вниз, подступали к микрофонам, словно намереваясь что-то сказать, и снова уходили внутрь здания. Однажды на балкон вышел человек в рясе. Поднял голову и руки вверх, как будто призывая кого-то с неба. Судя по раскрываемому рту, произнёс какие-то неслышимые из-за людского шума слова и замолк, тоже уставившись вниз.
— Не знаете, кто это? — вежливо спросил Волков стоящего рядом парня с небольшой бородкой.
— Священник Глеб Якунин. Но он не наш. Церковный диссидент. Он ельцинский.
— А вы чьи?
Парень покрутил головой, кого-то отыскивая взглядом. Неподалёку стояли ещё несколько таких же молодых мужчин с аккуратными бородками и среди них молодой священник с большим крестом на груди. Увидев волковского собеседника, все направились к нему.
— Мы против демократов, — сказал парень. — Они — разрушители. Но эти… путчисты… ещё хуже. Так осквернить большой праздник.
— Сегодня день Преображения Господня, — возвышенно произнёс подошедший священник и перекрестился.
— Тогда зачем вы пришли сюда? — удивился Волков. — По-моему, здесь как раз одни демократы.
— Их мало, — сказал один из пришедших. — Поэтому мы пришли поддержать противников коммунистической хунты. Пусть демократы и коммунисты истощат друг друга. Уничтожат друг друга, как пауки в банке.
Он всё больше возбуждался.
— Уйдут из нашей жизни те и другие! А народ останется. Верующий народ… Боголюбивый и Богом направляемый.
— С нынешнего дня начнётся Преображение России! — подхватил, тоже возбуждаясь, ещё один из пришедших. — Открывается дорога к её светлому будущему. Как мы можем не помочь этому великому делу?
Группка миссионеров двинулась дальше. Владимир с сомнением поглядел им вслед и стал пробираться к центру толпы. Он вслушивался в разговоры, сам расспрашивал, вглядывался в лица, стараясь понять, кто пришёл сопротивляться введению чрезвычайного положения. Значительная масса, как показалось ему, состояла из людей в возрасте от 30 до 40 лет. Судя по речи, манере держаться, это были интеллигенты — неформалы из «курилок» различных НИИ. Встречались расхристанные творческие личности — кудлатые, неуступно спорящие. Попадались экзальтированные женщины, как правило, неопределённого возраста. Было немало подростков — разношёрстно одетых, в джинсах и камуфляже, в теннисках и ветровках, поскольку дни держались тёплые, а ночи уже заметно похолодали. Некоторые вели себя, как в предвкушении какого-то концерта: смеялись, толкали друг друга с весёлыми лицами, однако большинство не скрывало тревоги.
Люди рассказывали, кто что слышал, и что кому удалось увидеть. Говорили, что выступал Ельцин. Забрался на танк, сказал короткую речь, зачитал документ, осуждающий путч, и быстро спустился вниз. За ним посыпались все приближённые. Никто не знал, куда повернут события. Запечатлеться рядом с символом сопротивления хотелось для истории, но никак не для уголовного дела. «Как Ленин, — подумал Волков о Ельцине. — Тот с броневика, этот с танка. Тому повезло — власть оказалась слабой. Што будет с этим?»
В разных местах над толпой начали подниматься ораторы — видимо, вставали на какие-то возвышения. Через мегафоны призывали дать отпор «красно-коричневой хунте», читали листовки, в которых говорилось, что митингующие здесь москвичи не одиноки — из некоторых городов по телефону сообщали о протестах демократической общественности. «С ума сойти! — опять удивился Владимир. — Совсем што ль мозгов у этой хунты нет? По междугородней связи организуется сопротивление».
Один из ораторов восторженно выкрикнул новость: Соединённые Штаты не признали ГКЧП. Американский Белый дом на стороне Белого дома в Москве. Толпа тут же начала скандировать: «Ельцин! Белый дом!», «Ельцин! Белый дом!».
Едва мощная волна выкриков стала разбиваться на отдельные всплески, как по толпе прокатился тревожный слух: скоро начнётся штурм. Это показалось вполне реальным. На набережной стояли танки. Возле Белого дома расположились бронетранспортёры. Раздалась команда: «Делать баррикады!»
Люди направились в разные стороны, отыскивая, что может пригодиться для завалов. В одном месте с грохотом протащили ванну. В другом — начали ломать кирпичную стену. От дворов, прилегающих к Дому правительства, волокли решётки заборов. Прошло около часа, и на подходах к белому зданию появилось какое-то подобие преград. Это ещё больше воодушевило людей. Какой-то депутат в штатском, но с военной выправкой, стал собирать добровольцев для отпора штурмующим. «Не идиот ли? — поразился Волков. — Против вооружённых десантников… против спецназовцев из группы „Альфа“ выставлять безоружных людей! Сам-то, наверно, спрячется, а народ положит».
Он расстроенно плюнул и решил уйти с площади совсем, понимая, что, если начнётся штурм, все эти декоративные баррикады будут сметены за считанные минуты.
Вдали большая группа мужчин раскачивала троллейбус, видимо, собираясь его свалить. «Нашли защиту. Танк превратит его в плоский лист железа, — усмехнулся Волков, разглядывая издалека копошащихся мужиков. Один из них показался ему знакомым. — Чёрт возьми, не Карабанов ли? Похож на Карабаса… Похож… Как он тут оказался? Хотя где ж ему быть, как не здесь?»
Учитель пошёл было в сторону «баррикадников», но в этот момент в поле зрения попал человек с профессиональной видеокамерой на плече. «Оператор! — обрадовался Волков. — Может, где-то здесь и Наталья».
Расталкивая людей, он бросился за оператором, сразу забыв и про баррикады, и про человека, похожего на доктора.
Глава вторая
А Карабанов, действительно, пытался вместе с другими свалить набок троллейбус.
Телефонный звонок разбудил его в половине седьмого утра. Ещё не проснувшись, доктор подумал о больнице: что-нибудь там случилось.
— Сергей Борисыч! У нас переворот! — услыхал он голос Горелика.
— Какой, к чёрту, переворот? — просыпаясь от ярости, грубым шёпотом скорее прошипел, нежели выговорил Карабанов. — Вы с ума сошли — в такую рань звонить? У меня дети спят… Жену, наверно, разбудили.
— Я вам серьёзно говорю, — уже строго сказал Горелик. — Включите радио и услышите. Горбачева изолировали. Власть захватил Комитет по чрезвычайному положению. Верхушка армии, милиции и КГБ. Малкин велел позвонить всем нашим. Будем определяться в действиях. Я вам ещё позвоню.
Горелик отключился, а доктор, как держал трубку в руке, так и застыл с нею. Малкин был их куратор в Институте демократизации. Работал в каком-то НИИ то ли осушения земель, то ли их обводнения. Не вылезал из-за границы. Когда находился там, людей на заседания собирал Горелик.
Карабанов включил радио. Прослушал весь набор сообщений. Разбудил Веру. Всё, о чём мечтал, к чему рвался, рушилось. Сидел на кухне, где был репродуктор, подавленный. Жена, обычно не проявлявшая чувств, заботливо гладила его, успокаивала.
— Подожди переживать. Не только нам — многим есть што терять. Люди не согласятся. Надо только поднять их.
Опять зазвонил телефон.
— Малкин связывался с некоторыми товарищами. Рекомендуют организовать сопротивление. Обзвоните, кого можете из знакомых. Пусть едут к Дому правительства на Краснопресненскую набережную. Там должны быть наши люди из российских депутатов…
Карабанов позвонил Нонне. Не называя имени — близко на кухне ходила жена, — рассказал о чрезвычайном положении. Велел поднять всех, на кого можно было положиться. Подключил ещё несколько человек. Вспомнил о Слепцове.
— Паша, у нас переворот.
— Знаю.
— Людей собирают на Красной Пресне. Поехали?
— Сейчас не могу. Должен быть на заводе.
Доктор решил ехать один. Он был сердит на людей из Чрезвычайного комитета. Одновременно хотелось плакать от жалости к себе: всё поломали негодяи. И тут же из глубин сознания всплывал страх. Ничего подобного в последней истории государства не было, а из тех стран, где такие события происходили, советская пресса передавала зловещие сведения. Особенно много в прежние годы говорилось о Чили, где военная хунта также сбросила президента и застрелила его. Позднее, даже перестав доверять советской пропаганде, Карабанов не сомневался, что там творился жуткий произвол. Тысячи людей загнали на стадион, издевались над ними, убивали. Солдаты останавливали машины, пассажиров расстреливали. Поэтому, помня о Чили, добираться в центр Москвы Карабанов решил не на своей машине, а общественным транспортом.
К его удивлению, всё работало, ездило, возило людей. Рабочий день начинался обычным порядком. Встревоженных лиц Карабанов почти не увидел. Наоборот, сначала в автобусе, а потом в метро некоторые громко радовались чрезвычайному положению. Выходя из автобуса, он услыхал, как молодая женщина с усмешкой бросила двум небритым мужикам, ругающим «хунту», которая «пришла закручивать гайки»: «Допрыгались? Всё загадили своей демократией. Ну, наши опомнились. Они вам покажут». И в метро Карабанов с раздражением услышал нечто похожее. «Давно надо было выбросить эту пятнистую шваль, — сурово заявил на весь вагон какой-то мужчина примерно одного возраста с доктором. — Развалил страну, мерзавец. Теперь прикинулся больным…».
А те, кто видел идущие по Москве танки, рассказывали о них скорее с интересом, чем с испугом. Некоторые при этом не скрывали надежд. Оказывается, советская армия не уничтожена и, если надо, сможет защитить народ.
Второе, что удивило Карабанова — людей возле Дома правительства на Краснопресненской набережной было невероятно мало. Сергей ожидал, что таких, как он, у кого чрезвычайное положение разбивало большие планы, так или иначе связанные с трансформацией, а лучше с разрушением Советского Союза, очень много. Они придут сюда и скажут о своём возмущении. Не будут же их сразу расстреливать — сначала арестуют, но они успеют заявить о своём несогласии с планами ГКЧП. Это подхватит зарубежная пресса, может быть даже его, Сергея Борисовича Карабанова, покажут по американскому телевидению. Увидит тётя Рая… И «хунта» побоится арестовывать известного человека.
Но время шло, а массовости не чувствовалось. Там и сям виднелись разрозненные кучки. Не было ни криков, ни шума. Люди стояли в какой-то задумчивости, некоторые с отрешённым видом, словно верующие в ожидании проповеди.
Медленно, поодиночке подходили новые не то протестанты, не то любопытствующие. Постепенно площадь заполнялась народом. Прошел слух: прибыл Ельцин. Это возбудило многих присутствующих. А когда среди людей стали распространять листовки с Указом российского президента, ставящим действия ГКЧП вне закона, у доктора появилось ещё больше надежды оказаться не арестованным.
Правда, он не был уверен, что самого Ельцина не схватят. Лично он, на месте заговорщиков, только так и поступил бы. Попади они ему в руки, думал Карабанов, расправа была бы немедленной. Крови, как хирург, он не боялся, а с идейными противниками разговор один: к стенке.
С балконов Дома правительства время от времени выступали разные люди. Они кляли членов ГКЧП, призывали толпу на площади твёрдо стоять за идеалы демократии, сообщали новости. Однажды объявили, что на сторону ельцинских сторонников перешёл танковый батальон. Много это или мало от всего количества боевой техники, подступившей к Дому правительства, большинство собравшихся не знали. Значительная часть разбухающей толпы состояла из женщин, молодых девиц, подростков и мужчин явно не армейского вида. Однако психологически факт перехода поддержал демонстрантов.
Потом кто-то крикнул, что с одного из «танков демократии» выступает Ельцин. Толпа качнулась. Многим захотелось увидеть и услышать лидера сопротивления. Но оказалось, что выступал он не там, где собралась основная масса народа, а с другой стороны здания, в более безлюдном и безопасном месте. Основными слушателями были журналисты, его охрана и немногие демонстранты. К тому же зачитал он свой Указ и обращение к народу быстро, и когда наиболее ретивые из основной толпы добрались к месту выступления новоявленного вождя, танковая броня была давно пустой.
Возбуждённый Карабанов, в отличие от других, не мог устоять на месте. Он ходил туда-сюда, пробирался в наиболее густые уплотнения толпы, выкрикивал вместе со всеми какие-то призывы и всё время хотел действий. Однако на площади ничего, кроме обсуждения листовок и вспыхивающих по чьей-то команде скандирований, не происходило. Пока не разнеслась молва о готовящемся штурме Дома правительства. А следом не раздался клич делать баррикады.
Вот тут-то Карабанов воспрянул. Он быстро сбил группу из нескольких мужчин и повёл её искать, что можно использовать для образования завалов. Подошли к капитальной ограде ближайшего двора. Верхние концы стальных прутьев были откованы в виде наконечников пик. Сами решётки вмонтированы в двухметровые кирпичные столбы.
— Ломай, ребята! — крикнул один из карабановских мужиков, локтём отодвинув в сторону замешкавшегося доктора. — Круши! Пики выставим вперёд! Танки напорются.
Такого азарта Карабанов никогда не видел и не испытывал сам. Мощные решётки, сделанные, судя по толстым наслоениям краски, не одно десятилетие назад, казалось, нельзя было вырвать даже трактором в три сотни лошадиных сил. А здесь небольшая группка возбуждённых людей, вцепившись в прутья, где снизу, где сверху, с нечеловеческой силой раскачивала прочное сооружение, сделанное, может быть, похожими руками для удобства таких же горожан, и со смехом, с матерщиной ломала чужой труд. «Вот она — русская страсть к разрушению, — весело подумал доктор, сам изо всей силы дёргая решётку и упираясь ногой в цоколь ограды. — Русская? А почему русская? А я кто? Такой же, как они? Тогда почему мы с таким удовольствием громим и ломаем? Ломаем, штобы построить защиту. Ломаем, штобы остановить зло. Но почему радуемся этому крушению? Разве это естественно — разрушать и веселиться? А может, дело не в наших натурах? Может, довольны потому, што разрушаем чужое? Вон валят столб… Он чей? Ничейный. Ломают мостовую. Она ничья. Общественная собственность. А вон потащили ванну!»
Карабанов даже перестал раскачивать решётку, заглядевшись, как несколько молодых парней, смеясь и дурачась, с грохотом волокли по асфальту ванну. «Ванну-то где они взяли? Не из квартиры же спёрли! Пришли бы ко мне за моей ванной! Дуплетом по ногам — и на операцию. Легко кромсать чужое. Отучили нас от собственности. Поэтому — веселимся, ломая».
— Дядя! Ты чево повис, как медаль, — открыл в улыбке жёлтые от курева зубы худой, морщинистый парень. — А то гляди — отнесём с решёткой на баррикаду.
— Думаю, сынок, думаю, — разозлившись на «дядю», бросил доктор. — Думаю, што лучше сломать, штобы хорошо построить.
— А ты не думай! Вон там, — мотнул головой в сторону Дома правительства, — за нас думают.
После ограды, которую мужчины разрушили дотла, перетащив в большую кучу не только решётки, но и кирпичи от столбов, азарт несколько спал. Люди чувствовали усталость. Хотелось есть. Взятые из дома бутерброды Карабанов давно съел. Кто-то из его группы сказал, что питание налаживают кооператоры. Пошли искать место раздачи. И снова доктор удивился странным действиям «чрезвычайшиков». На машинах привозят водку и даже горячую еду. В открытую устраивается кормление, что привлекает всё новых людей на площадь. Как-то нелогично и несерьёзно поступает хунта. Своих противников позволяет кормить, даёт возможность делать баррикады. Может, рассчитывают всё это оборвать одним махом, во время штурма? Говорят, прибыли десантники. А эти головорезы натренированы уничтожать таких же подготовленных противников, не говоря о безоружных демонстрантах. Вон как Володя Волков расправился с кабаном, когда, казалось бы, у него не оставалось ни одного шанса.
И опять холодный, парализующий страх подкатил к сердцу.
Группа, с которой доктор крушил ограду, разбрелась. Но Карабанову не терпелось ещё чем-нибудь усилить неприступность «своей» баррикады. Он увидел, как вдали люди толкают троллейбус. Быстро пошёл к ним. Пристроился. Снова вошёл в азарт. Даже стал командовать. На него косо посмотрели: своих командиров хватало. Однако возбуждённый голос доктора подмял остальных, и вскоре под крики Карабанова троллейбус стали валить набок.
Едва стих грохот падающей машины и звон разбитого стекла, как доктор услыхал знакомый голос:
— Серёжа! Карабас!
Он обернулся. К нему шёл Слепцов.
— О-о, Паша! Как ты меня нашёл?
— Да я тебя не искал. Случайно.
— Вот видишь, пока ты работаешь на ГКЧП, мы отстаиваем демократию.
— Работают, Сергей, все. Ельцин и Гаврила Попов — московский мэр, призвали к всеобщей забастовке, но их никто не послушал. Представляешь, никто!.. Ни один завод… Ни одна контора не забастовала в Москве…
Он усмехнулся:
— Кроме биржи. Но это разве предприятие? Так себе… мусор.
— Откуда ты знаешь? — с невольным испугом спросил доктор, вытирая сразу вспотевшее лицо. Получалось, что их, большую по размерам одной площади, но ничтожно малую в масштабах страны, массу протестантов никто не хочет поддерживать? Или все остальные выжидают? Ждут, на чью сторону начнёт падать качающаяся пока тяжёлая плита репрессий, чтобы в последний момент успеть ускользнуть, а потом запрыгнуть на неё вместе с другими и, радуясь своей осмотрительности, бить по дёргающимся из-под плиты рукам и ногам менее сообразительных граждан.
— Знаю, Сергей. Знаю… Моя информация, можно сказать, из стана наших врагов.
Павел вздрогнул от собственных слов. Это что же — его родной отец в рядах врагов? Но разве может человек, давший ему жизнь, родной по крови и, до последнего времени, близкий по духу, оказаться настолько чужим, чтобы его можно было поставить рядом с теми, кого он, Павел Слепцов, сегодня утром возненавидел, как разрушителей близкой и радостной цели? «Вылезли всё-таки, сатрапы, — бросил он утром за завтраком, не поднимая головы от тарелки с манной кашей, которую любил с детства. — Хотят снова всех построить в колонну. Не получится… Народ проснулся». «Не смешивай народ и кучку расчётливых негодяев, рвущихся к своим корыстным целям, — сухо сказал отец. — Как много раз показывала история, народ, поверив их крикливой, циничной демагогии, потом расплачивается миллионами жизней. Спохватились наконец-то имеющие силу. Может, ещё удастся остановить страну на краю пропасти». «Это жандармы-то спасают страну? Где ты такое видел? Они только прольют реки крови. Вот посмотришь, их никто не поддержит». «Всё зависит от того, как поведут себя эти Робеспьеры и Наполеоны».
Вечером, уходя с завода, Павел позвонил отцу. Весь день поступала противоречивая информация, и он хотел получить от генерала более объективные сведения. Отец, похоже, говорил не всё, что знал. На вопрос сына о положении на местах сказал, что везде спокойная обстановка. Протестующие собрались только в Москве у Дома правительства РСФСР (отец помолчал и нехотя поправился: «у Белого дома»), а также небольшие группки у здания Ленсовета в Ленинграде. В союзных республиках затихли. Одни руководители дают понять, что происходящее в Москве их не касается. Другие — намекают о готовности сотрудничать с Комитетом по чрезвычайному положению. А лидер грузинских националистов Гамсахурдия открыто объявил о своей поддержке ГКЧП. С таким же заявлением выступил председатель Либерально-демократической партии России Жириновский. Партию эту пока ещё мало кто знал, зато её руководитель — шумный, скандальный, неожиданно для всех занял третье место на недавних выборах президента России.
Куда-то пропали некоторые известные деятели, ещё вчера плясавшие политическую чечётку на советской власти. В Москве никто не мог найти председателя правительства России Силаева, «архитектора перестройки» и «отца демократии» Александра Яковлева. В Литве исчез из поля зрения, блеклый, как моль, Ландсбергис.
Всё это Слепцов пересказывал сейчас доктору и, видя, как у того мрачнеет лицо, сам наливался тревогой.
— Гамсахурдия… Вот поганец, — сплюнул Карабанов. — Развязал у себя бойню, а теперь наложил в штаны.
Павел с удивлением посмотрел на товарища.
— Да, да. Никакой там демократией не пахло, — хмыкнул доктор. — Тогда надо было спустить с поводка нацистов… Очень удобный был момент. Первый съезд депутатов… Горбачёв хочет выглядеть демократом. Ненавидит армию…
— Значит, это была наша площадь Тяньаньмэнь? Только с другим результатом?…
— Результат ещё будет. Говорят, пригнали десантников. Если им прикажут, они быстро похватают, кого надо.
Карабанов помолчал, испытующе глянул на Павла.
— Ты к нам в гости? Или насовсем?
Слепцов огляделся вокруг. За ближайшими группами не видно было всей территории, заполненной людьми. Но пока он пробирался к замеченному издалека Карабанову, успел разглядеть, что на подступах к Белому дому, как его назвал отец, на набережной Москвы-реки, возле застывшей без движения бронетехники народу собралось немало. Публика была разношёрстной. Много молодёжи. Люди средних лет. Слепцову встретился священник в сопровождении опрятных парней с аккуратными бородками. Сосредоточенно обсуждали возможности баррикад и способы обороны несколько казаков. Усатые, с чубами из-под фуражек, с лампасами на брюках и в кителях с какими-то странными погонами, они резко выделялись среди людей в ветровках, простеньких куртках и потёртых джинсах-«варёнках». Немолодые женщины кормили солдат. Кто-то раскладывал прямо на броне творожные сырки, шоколад, пачки печенья. Из термосов наливали горячий кофе — к вечеру погода стала портиться и заметно похолодало. В разных местах зажгли костры. Неподалёку два молодых мужика — один с иссечённым фурункулами лицом (Слепцов ещё усмехнулся: как от картечи следы), другой — маленький, метра полтора ростом, кричали неизвестно кому: «Ломайте скамейки для костров! Пусть этой власти ничего не останется!»
— Остаюсь на ночь.
— Обещают штурм.
— Жалко, если сомнут. Жить хочется. Но жить при такой власти — теперь не знаю как… Если выстоим, представляешь, какая прекрасная жизнь начнётся! Только бы не оставить эту площадь.
Слепцов обвёл рукой пространство, заполненное людской массой.
— Нашу площадь Тяньаньмэнь.
— Нельзя доставить радость таким, как Нестеренко, — возбуждённо сказал Карабанов, с благодарностью пожимая руку экономиста. — Вольт при слове «демократ» хватается за свой пятизарядный МЦ-20. Как Геринг при слове «интеллигент» — за кобуру парабеллума.
— Мне жалко его, — нахмурился Павел. — Жалко, што мы оказались по разные стороны баррикад.
— Чево жалеть? — вскричал доктор. — Начнись атака войск и окажись Андрей здесь, он, наверняка, пошёл бы против нас. Целил бы в тебя… Или в меня. Сейчас, наверно, ждёт, когда разнесут эту площадь… Сидит себе спокойный и довольный. Думает, его время пришло…
Глава третья
Но как раз в этот момент Андрей Нестеренко был далёк от спокойствия. Утром он, на самом деле, обрадовался так, что к горлу подкатил комок, и несколько секунд электрик не мог ничего сказать. В мыслях стучало одно: «Наконец-то! Наконец-то!» Он знал, что многие на заводе также ждали каких-то решительных действий от власти. Только не представляли: от какой власти? В Горбачёва не просто не верили. Его массово ненавидели. Ельцинскую братию воспринимали с опаской. Говорил он правильно. О ликвидации привилегий. Об улучшении жизни народа. О том, что Россия должна меньше давать своих богатств республикам, а больше оставлять себе. Но действовал российский президент по принципу: чем хуже, тем лучше. Разваливал союзное управление. Призвал в России не выполнять законы Союза ССР. После чего начался бардак. Никто никого не слушал. Начальники не знали, кем руководить, подчинённые — кому подчиняться. Действовавшие много лет кооперативные связи стали обрываться. Поставки на завод комплектующих изделий от партнёров то и дело останавливались.
Всё это надо было прекращать. Но кому? И вот теперь нашлись в руководстве страны силы. Взяли на себя ответственность.
В то, что Горбачёв заболел, Андрей ни капли не поверил. Его отстранили от власти. И будет совсем хорошо, подумал Нестеренко, если пристрелят при попытке к бегству. Столько зла стране не причинил ни один правитель, сколько натворил этот самовлюблённый и самонадеянный недоумок. И что ж это за партия у нас, если в ней не созданы механизмы оздоровления по инициативе снизу? Наверно, в самом деле, разложилась она, оказалась бездейственной. Хотя вряд ли справедливо сказать это обо всей партии. Особенно, о низовых звеньях. Виктор Савельев не раз рассказывал, что редакции газет, особенно «Правды», завалили тысячами писем и резолюциями собраний, где рядовые коммунисты требовали немедленно снять Горбачёва с должности. А верхушка трусит. Продолжает смотреть на пятнистую куклу, как лягушата на ужа. Теперь военные наведут порядок.
— Мама, кажется, мы пережили «пятнистую» чуму, — сказал Андрей матери, садясь завтракать.
— Дай бы Бог… А то выздоровеет и снова вернётся.
— Не-е-т, — рассмеялся Андрей. — Он здоровей всех нас. Просто ему лапоточки сплели. Со звоном цепей. Штоб не бегал за Нобелевскими премиями, а сидел в камере. Если, конечно, не пристрелили. Я с завода Милке позвоню. Как там себя хохлы ведут? Надо сказать, штоб детей далеко не отпускала. И ты повремени выходить. Всё же Чрезвычайное положение.
Жена Людмила в субботу уехала с обоими сыновьями к родителям в Харьковскую область. Андрей предлагал подождать его — со следующего понедельника у него начинался отпуск. Но она как предчувствовала что-то. Да и мать поддержала её.
Надежда Сергеевна Нестеренко — мать Андрея — жила с сыном и снохой уже восемь лет. После смерти мужа и отъезда младшей дочери ей стало неуютно одной в трёхкомнатной квартире, которую когда-то дали от завода старшему Нестеренко на семью с двумя разнополыми детьми. Здесь всё ей напоминало о рослом, широкоплечем мужчине, много лет назад вынесшем её на руках из горящего частного домика подруги, где они, студентки, натанцевавшись до упаду, уснули в новогоднюю ночь. Мужчина проходил мимо. Когда увидел в окнах зарево, стал дёргать дверь. В это время стёкла лопнули от внутреннего жара и сквозь разбитые рамы повалил дым. Прохожий рванул дверь так, что она выпала вместе с петлями. Подруга в полуобморочном состоянии смогла подползти к выходной двери. Махнула рукой в глубину: «Там…»
Это было 1 января 1953 года. Михаилу Ивановичу Нестеренко объявили благодарность и выдали премию. От денег он не отказался и потратил их на платье спасённой девушке. Через некоторое время могучий 29-летний мужчина, с грубоватыми, словно из-под топора, чертами лица и широкими чёрными бровями повёл худенькую, светловолосую девушку в ЗАГС.
Впоследствии она, инженер-технолог, ни разу не пожалела, что приняла предложение простого рабочего. Михаил Иванович стал высококлассным наладчиком турбинного оборудования. К военным наградам добавились две трудовых. А главное, ей было с ним надёжно. Так и казалось, что в любое мгновенье может спрятаться под рукой могучего, доброго человека.
Но война время от времени напоминала о себе. Болело сердце, возле которого прошла немецкая пуля. Давал знать застуженный в ледяном Днепре позвоночник.
Михаил Иванович умер перед самым рождением второго внука. Андрей с женой, при согласии матери, назвали мальчика в честь деда. А когда вышла замуж и уехала к мужу сестра Андрея, Надежда Сергеевна предложила обменять свою трёхкомнатную и двухкомнатную квартиру сына на две других. Теперь она жила с сыном и снохой в четырёхкомнатной, а в однокомнатную прописала старшего внука.
На пенсию ушла всего год назад, хотя на заводе отпускать не хотели. Но она решила оставшееся время отдать внукам и сыну со снохой, взгляды которых на жизнь, на политику были ей близки и понятны. Поэтому радость Андрея от введения чрезвычайного положения Надежда Сергеевна разделяла, хотя и не без сомнений. Смогут ли эти люди из ГКЧП заставить народ поверить их власти? Не к худшему ли времени хотят повернуть страну? И есть ли возможность сохранить разваливаемый Союз без жертв и репрессий? Многие поверили демократам, их обещаниям свободы для каждого человека и хорошей жизни для всех.
— Свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого, — сказал Андрей, снимая с вешалки в прихожей куртку-ветровку. — Если кто-то хочет себе компот, а остальным помои, значит, он такой же демократ, как я — сын Чингисхана. Ты умная, образованная женщина, понимаешь, что настоящая демократия — это строгое соблюдение закона. А наши демократы не признают никаких законов.
— Хотя среди них много интеллигентных… И не стыдно им так поносить свою вчерашнюю веру?
— Интеллигенция у нас всегда, прости меня за грубость, проститутская публика. Особенно так называемая творческая. Вчера лизали руки одному. Сегодня — другому. Завтра — пообещают им благ и званий, обнимут ботинки третьего. И пока он их не оттолкнёт, будут стирать пыль с ботинок своим носовым платком… Штобы потом сморкаться в рукав.
Ты боишься жертв… Больших жертв не будет. Конешно, кто начнёт стрелять в правительственные войска, пусть будет готов получить пулю в ответ. Большинство сообразят, что лучше всего свернуть свою разрушительную работу. Они нахраписты, когда против них нет силы. Надеюсь, первое, что сделают члены Комитета — арестуют весь демсинклит.
— Кого?
— Ну, их руководство… демократов. Поверь, мне, их немного. Демонстрации, которые показывают — это несогласные с жизнью по-горбачёвски. А после ареста — сразу, не откладывая на потом, начать расследование диверсий. Я только так называю все подрывные действия последнего времени. Помнишь, говорил тебе о сотнях железнодорожных составов с товарами и продовольствием вокруг Москвы? Это — не слухи. Нам рассказал Фетисов — наш товарищ по охоте, база которого была под завязку забита продуктами и промтоварами. Что портилось, вывозили на свалки. Потом такие составы несколько раз показывали по телевизору. Это разве не диверсия? Не преступление врагов народа? А остановка на ремонт в одно время сразу всех табачных фабрик?
— Тебе-то это пошло на пользу, — улыбнулась Надежда Сергеевна.
— Мне — да. А политической системе? Государству? У всякого решения, мама, есть фамилия, имя, отчество. Расследовать эти и другие диверсии — не составит труда. Где, конкретно, вина Горбачёва. Где Ельцина. Где других людей. Один предложил. Другой — поддержал. Третий — подписал. И у каждого в кармане паспорт. Разгружать составы с продовольствием и товарами не давали какие-то люди. Кто они? Кем поставлены? Арестовать их — раз плюнутъ. Пройти по всей цепочке… сверху донизу… А потом всех показать народу. Не втихаря, а с портретами в газетах… с их признаниями по телевизору.
— Но ведь они, Андрюша, будут сопротивляться. Кому захочется стать преступником? Будут, может, насмерть отбиваться…
— Не хочу говорить громких слов… ты меня без этого знаешь… Но если потребуется для спасения страны… штобы осталось отцом завоёванное… я, наверно, решусь и на такое.
— Упаси тебя, Бог! Выбрось это из головы. Иди, а то опоздаешь.
В сборочном цехе только и разговоров было о ГКЧП. С кем бы Нестеренко ни встречался, первый вопрос ему был: как ты, Андрей Михалыч, относишься к неожиданной новости? Андрей рассказывал, с ним соглашались, издевались над Горбачёвым, прикидывали, что будет делать Ельцин.
Потом начала поступать какая-то странная информация. Вроде как возле Дома правительства России собираются люди, протестующие против введения чрезвычайного положения. К ним якобы выходил Ельцин, который не признал ГКЧП. Зачитал свой Указ, обращение к народу, где призывал людей к сопротивлению.
Сведения эти одни узнавали по обычному городскому телефону, другие — услышали из передач оживившихся зарубежных радиостанций…
Нестеренко был потрясён. Что ж это происходит, думал он. Ельцин и его компания активизируются, страна молчит, а члены ГКЧП бездействуют. Может, им нужна поддержка народа?
Андрей заспешил в партком завода. Секретарь партийного комитета Климов ещё несколько месяцев назад намекал ему о каких-то людях, которые готовятся сместить Горбачёва. Теперь намёки стали реальностью, и Нестеренко был уверен, что парторг ухватится за его идею.
— Владислав Петрович, мы можем с вами поздравить друг друга. Но обстановка требует решительных действий. Вы знаете, што происходит возле Дома правительства России?
Климов молча кивнул.
— Ельцинисты собирают сопротивление, — нетерпеливо продолжал Нестеренко, — а те, кто поддерживает наведение порядка в стране, сидят по домам и по заводам. Я готов вывести свой цех. Мы быстро доберёмся к Белому дому — так теперь его называют демократы, и встанем на площади впереди танков.
— Нельзя, Андрей Михалыч. Не было разрешения сверху.
— Вы в своём уме? — вскрикнул Нестеренко, вперив гневный взгляд в моложавое, упитанное лицо пятидесятилетнего секретаря. — Какое, к чёрту, разрешение? Ельцинисты у кого его спрашивали? Да мы, наоборот, должны поднять всю страну… всех, кто против разрушения государства. Вы обращение-то к народу слышали? — с подозрением спросил он. — ГКЧП обращение? Там прямо просят граждан поддержать чрезвычайные меры.
— Всё я слышал, — раздражённо сказал Климов. — Не глухой. Другие оглохли. Я сейчас попробую ещё раз созвониться с горкомом.
— Да плюньте вы на них! К вам народ стучится! Возглавьте хотя бы наш завод. Мы колонной тронемся, и, уверяю вас, все заводы пойдут к этому Белому дому. Пусть увидят, сколько их и сколько нас!
Нестеренко пошел к двери.
— Я буду в цехе ждать, Владислав Петрович.
Возле своей энергослужбы собрал рабочих. Передал разговор с Климовым. Сказал, что сейчас наступил момент, когда нельзя быть в стороне. Люди, которые отстранили Горбачёва, хотят остановить развал государства. Но возле Дома российского правительства в Москве собираются как раз те, кто намерен вернуть Горбачёва. А значит, продолжать разрушение. Можно им это позволить?
— Ответ вы сами знаете, Андрей Михалыч, — сказал высокий сборщик Колтунов, выделяющийся щеголеватостью даже в рабочей одежде. — Што мы можем сделать?
— Прийти на митинг разрушителей и показать, сколько нас, которые против.
— Это же гражданская война! — воскликнул инженер отдела труда и зарплаты Самойлов — коротконогий мужчина лет сорока, с лысиной на темечке, из-под которой вниз распушались, как раскрытый веер, тёмные волосы. — Вы нас зовёте к войне?
— Война начнётся, когда вы решите отсидеться дома. Она вас достанет в сортире и на мягком диване.
— В рабочее время, наверно, будет нельзя, — в раздумье сказал бригадир слесарей Анкудинов, поглядев на электронные часы с зелёными цифрами. — А после работы всем цехом и пойдём.
Когда расходились, посоветовал энергетику:
— Надо бы вам, Андрей Михалыч, с другими цехами провести работу. Заводом двинуться.
Но вскоре работу начали проводить с самим Нестеренко. Сначала подошёл секретарь цеховой парторганизации — тридцатилетий мужчина с тонкими усиками и торчащими из кармана рубашки, как газыри у горца, фломастерами. Партийная должность для инженера по технике безопасности со временем должна была обернуться кадровым ростом, и потому он нёс свой крест так же стоически, как покупатель дефицитных итальянских туфель воспринимал вручаемые ему, в качестве обязательной нагрузки, галоши из литой резины.
С этим человеком Нестеренко объяснился быстро. Парторг ушёл, нервно двигая усиками и зачем-то всё время теребя газыри-фломастеры.
Потом позвал к себе начальник цеха.
— Што ты задумал, Андрей Михалыч?
Андрей стал рассказывать. Сухой лицом, с причёской «ёжиком», в куртке, напоминающей военный френч, начальник цеха с удовольствием знал, что сильно смахивает на главу Временного правительства России 17-го года и гордился, когда его за глаза называли Керенским. Слушал он невнимательно, смотрел то в календарь, то в лежащую на столе бумагу. Похоже, был уже проинформирован в деталях.
— Зачем тебе это надо? Наведут порядок без нас. Мы, как люди дисциплинированные, должны выполнять постановление ГКЧП. А там што сказано? Каждый работает на своём месте… выполняет свои обязанности и не лезет в дела других. Директор завода знает о твоих… как бы это сказать — предложениях. Очень не одобряет. Считает, справятся без нас… Без нашей поддержки. У них — армия. Внутренние войска. Госбезопасность с «альфами» и «омегами». А ты кто? Главный энергетик сборочного цеха.
«Керенский» многозначительно помолчал. Потом вздохнул и добавил:
— Пока.
— Если вы меня пугаете, то я не боюсь. Вас не боюсь… А за страну — вот за неё боюсь… Когда у неё такой партхозактив, то нас ждёт большой пассив.
— Ты чево из себя строишь?! — неожиданно вскричал «Керенский». — Спаситель Отечества! Попробуй только ещё будоражить рабочих! Кто пойдёт на баррикады, будет уволен. У нас серьёзное производство, а не фабрика игрушек.
— Вы на меня не кричите, — зловещим голосом, привставая, произнёс Андрей. — Я — человек пугливый. С испугу могу не знай што сделать… Укусить могу с испугу.
Начальник цеха откинулся в кресле и замер, как окаменел. А Нестеренко, выходя из кабинета, уже не сомневался, что его личный долг — организовать поход рабочих к Белому дому.
Однако в цехе обстановка была уже иной. С людьми после него поработал цеховой парторг. Некоторые, узнав о запрете «Керенского», прятали глаза. Другие ещё соглашались, но, похоже, при первой возможности могли уйти в сторону.
Андрей наметил сбор за проходной. Рассчитывал не только на своих рабочих. Его посланцы побывали в других цехах. Теперь он стоял на площади у заводской Доски почёта и с волнением наблюдал, как к его группе подтягиваются новые люди. Минут через двадцать после конца смены здесь собралось сотни три рабочих.
Нестеренко уже готовился объявить народу продуманный им маршрут: до какого места — общественным транспортом, где снова сбор, откуда колонной к Белому дому, как вдруг на выступающий цоколь Доски почёта поднялся секретарь парткома Климов.
— Товарищи! Как вы видите, в стране очень сложная обстановка. Государственный комитет ввёл режим Чрезвычайного положения. Это означает запрет на всякие демонстрации и манифестации…
— А почему вы не сказали об этом Ельцину и его приспешникам? — крикнул какой-то мужчина средних лет. — Они с самого утра митингуют возле ихнего Белого дома.
— Это их дело. Они будут за это отвечать.
— А што думает ваша партия? На чьей она стороне? — раздались другие голоса.
— Партия пока не определилась. Центральный Комитет должен выяснить, што случилось с Михаилом Сергеичем, и только потом примет решение. Мы будем его ждать. А пока…
— А пока, — громко перебил Климова поднявшийся рядом с ним рослый Нестеренко, — отойдите в сторону и не мешайте нам спасать свою страну. Товарищи! Секретарь не говорит нам, што Горбачёв уже подготовил договор, по которому Советского Союза не будет.
— Ах, гад!
— ГКЧП выступил против этого! А те, кто копошатся сейчас у Белого дома, хотят вернуть Горбачёва и дать ему возможность закончить своё дело.
— Все вопросы надо решать демократическим путём! — послышался из толпы знакомый Андрею голос. Он пригляделся: точно, секретарь цеховой парторганизации.
— Вы думаете, кто это говорит о демократии? — воскликнул Нестеренко. — Парторг нашего сборочного цеха! Его у нас зовут «художник на охране». Ему лишь бы тихо высидеть какую-нибудь должность. Так вот, оказывается, с чьей помощью мы с вами захлёбываемся, как в дерьме, в нынешней демократии! Составы с продуктами не пускают в торговлю — это демократия? Выбрасывают добро на свалки, только штобы нам с вами не досталось. Армию клеймят, пацанов в форме шпыняют — им в автобус нельзя войти — это тоже демократия? Страну раздирают на клочья, штобы власть захватить и забрать себе общенародные богатства. И это демократия? Тогда што же мы должны назвать бандитизмом? Назвать бардаком, который устроил Горбачёв при участии вот этих подручных!
Нестеренко показал на Климова и пробравшегося к нему из толпы цехового парторга.
— Они сами трусливы… Не могли выбросить на свалку… туда, куда везут сейчас демократы добро… не могли выбросить Горбачёва. А теперь мешают нам подняться против таких демократов… защитить страну не дают.
— Товарищи! Нестеренко провоцирует вас на опасный поступок. Директор завода против похода наших рабочих к центру Москвы. Мы — предприятие строгой дисциплины. А вы знаете, што бывает за её нарушение. Могут уволить…
По толпе прокатился ропот. Кто-то заматерился, кто-то громко назвал директора «шкурой» — на заводе теперь плохо говорили об избранном директоре и жалели о прежнем, назначенном. Но общее настроение явно надломилось. Андрей почувствовал это.
— Нас хотят запугать, товарищи! — крикнул он. — Какое право имеет директор запретить рабочему человеку или инженеру пойти после работы, куда он захочет? Он, наверно, набрался этой демократии в Эстонии… Там русских называют животными… Там фашистов носят на руках, как героев. Может, ему и наша страна совсем не нужна?
— Вы думайте, што говорите, Нестеренко, — всколыхнулся Климов. — Мы можем потребовать от вас объяснений в парткоме. Партия не допустит вседозволенности.
— Ай-яй-яй, не допустит… Вы бы раньше не допускали этой вседозволенности! А то позволили Горбачёву разрушить всё в стране, кивали и поддакивали, а сейчас, когда решается: быть иль не быть Советскому Союзу… в самый, может, ответственный момент, не позволяете народу выказать свою поддержку наведению порядка. Тогда зачем вы нужны, такие бесхребетные?
Андрей спрыгнул с возвышения.
— Пошли, товарищи! Не слушайте этих предателей! Собираемся, как решено, в Москве, возле выхода из метро.
…Он приехал вместе с десятком человек. С теми, кто работал под его началом, и кто не из страха, а из уважения поддерживал энергетика. Они стояли полчаса. Подошло ещё трое. Через двадцать минут добавились два человека. Однако вскоре люди стали расходиться. «Мало нас, Андрей Михалыч. Если бы не увольнение…»
Нестеренко растерянно улыбался, понимающе кивал. Говорить не мог: что-то случилось с голосом. Молча глядел из-под чёрных бровищ на очередного уходящего, и грубое, словно рубленое лицо его выражало такое страдание, что собравшийся уходить поспешно отворачивался и стремился быстрее раствориться в людском потоке.
Глава четвёртая
Весь вечер Волков то и дело успокаивал жену. Наталья на какое-то время забывалась, иногда даже улыбка вспыхивала на красивом лице, но потом опять хмурилась, аккуратно промакивала накрашенные глаза.
— Ну, чево ты принимаешь всё это так близко к сердцу? — удивлялся Владимир. Брал её руку, трепал пальцами жены свои усы, обнимал за плечо. — А то ты не знала, как они работают.
— Но не так же внаглую, Володя! Не было никакой демонстрации демократов на Октябрьской площади! Си-эн-эн показала давно отснятые кадры. Год назад там был митинг. А его выдали за протест против ГКЧП 19 августа.
— Да пошли они к чёрту — и американцы со своей брехнёй, и наши заговорщики! Не было демонстрации на Октябрьской, значит, надо было орать об этом на весь мир. Показать, сколько их было сначала возле Белого дома. Я своими глазами видел. Посчитал. Да и ты снимала.
— Снимала. Но не дали. Зато сиэнэновские кадры крутили по всему миру. В Москве тоже смотрели. И шли к Белому дому. Сопротивление создали искусственно. Из сотен стали расти тысячи.
— Вот поэтому, Ташка, «чрезвычайники» — ослы. Я не журналист, не идеолог, а сообразил бы, как информационно раздавить ельцинистов. Митинг рабочих в Москве… На одном… другом заводе. Показать по телевизору. Да не короткие сюжеты, а подробно… Пустить демонстрацию сторонников. Направить колонны к Белому дому…
— Драка же была бы! Там к вечеру — половина пьяных. Кооператоры бесплатно раздавали водку. Привозили на машинах.
— Вот и пусть, — жёстко заявил Волков. — У них плакаты: «Долой советскую власть!», а мы бы их по башке транспарантами: «За Советский Союз!».
— Ты-то с какой стати? — улыбнулась Наталья.
— Позвали бы — пошёл. Понимаешь, страну надо было поднять. А они, рыбьи морды, «лебедей» крутили. Теперь, видишь, што начинается. Да успокойся ты! Лишний раз будем знать, што такое информационная война. Мы к ней оказались не готовы.
В это время зазвонил телефон. Наталья, думая, что звонят ей, взяла трубку.
— Володя! — закричал кто-то в трубке. Наталья протянула трубку мужу.
— Володя! Привет! Я тебе звонил девятнадцатого. И потом звонил. Все дни…
— Я не был дома, Паша, — сдержанно сказал Волков.
— Ты помнишь сову? Ну, зимой кричала! Володя! Конец советской власти! Я говорил вам: вещая птица. Всё кончено! Советский строй кончился! Социализму конец!
— Чему радуешься, дурак? — рявкнул Волков. — Думаешь, тебе от этого будет лучше?
На другом конце провода почувствовалось замешательство — Слепцов растерянно засопел. Он никогда не слышал учителя таким грубым.
— Я думаю, всем будет лучше, — осаженно проговорил Павел. — Зря што ли мы стояли под дождём перед танками? Ребята погибли… Трое… Ты видел похороны? Мы с Серёжей Карабановым были на них…
— Не видел. Зато смотрел по телевизору, как нападали на боевые машины десанта. По глупости погибли ребята. Жалко их. Экипаж теперь затаскают… А его благодарить надо, што не устроил кровавой каши.
— Ты о чём говоришь, Франк? Они — герои! Горбачёв дал каждому Героя Советского Союза! Как сказал… не помню кто… на митинге сказали… их подвиг будут помнить вечно. И я согласен с этим. А ты не в ту степь идёшь. Вроде моего отца.
— Я бы гордился идти с ним. Хорошая компания.
— Чем гордиться? Он всё видит в мрачном свете. Оправдывает нашу фамилию. Жалеет, што путч провалился.
— Жалеют многие. Особенно сейчас, когда началась вся эта вакханалия. Но молчат. А твой отец — смелый человек.
— Ты его не знаешь. Он изменился… Неузнаваемый стал.
— Это ты, Пашка, изменился. За личные обиды хочешь всему свету отомстить. Теперь отрекаешься от отца. А он, я думаю, лучше нас с тобой видит, кто победил и кто проиграл.
Волков с удивлением слушал Слепцова. Что произошло у Павла с отцом? Даже сквозь всегдашнюю скрытность экономиста товарищи чувствовали, как тот почтительно относится к отцу, как дорожат его мнением. Должно было случиться что-то необычное, чтобы так переменилось отношение.
А произошло, по мнению Павла, действительно, из ряда вон выходящее. Во время одной перепалки, которые стали в последние дни особенно накалёнными, отец сказал, что ради спасения жизни миллионов людей мог бы пожертвовать жизнью даже близкого человека.
— Моей што ль? — спросил Павел, замерев от догадки. Перед тем Василий Павлович жёстко растолковывал сыну о последствиях для страны провала ГКЧП, поносил организаторов этого, как он сказал, «мероприятия», теряя самообладание, ругал Горбачёва, который объявил членов Комитета самозванцами и преступниками, лишившими его связи с миром и страной.
— Какой лжец! Какой хамелеон! — почти кричал обычно выдержанный Василий Павлович. — Введение Чрезвычайного положения обговаривалось с ним ещё несколько месяцев назад. Обо всём он знал. По своей трусливой натуре хотел отсидеться в Крыму. Чужими руками разгрести жар. Ждал, как пойдут события. Связи его лишили… У него связь была всё время. Сам не хотел объявляться. Спутниковой связью были оборудованы все машины Горбачёва. Он ходил мимо них на пляж… Мог в любой момент снять трубку. Телевизор у него работал. Смотрел все передачи: и наши, и американские. А эти слюнтяи… эти ГэКаЧеПэ… испугались сами себя.
— Народа испугались! — гордо заявил Павел. — Я тебе говорил: их не поддержит народ.
— Чево ты несёшь? Какой народ? Несколько тысяч возле Белого Дома — это народ? Это — ничтожная доля процента от всего народа! Считать умеешь? Тысяча от трёхсот миллионов — это што? Математическая погрешность! Народ — выжидал. Ждал от них действий, а не соплей.
— Они побоялись крови — и правильно сделали. История никогда бы им не простила пролитой крови.
— История не прощает слабым. Сильных она оправдывает. Ты вот только сейчас увидел по телевизору, што привело к погибели трёх парней. А мы это видели, сами находясь рядом. Преступники не те, кто задавил и застрелил в силу сложившихся обстоятельств. А те, кто толкнул молодёжь на бронемашины. Кто не предупредил людей о смертельной опасности. Я видел, как молодые люди пытались всунуть кто арматуру, кто бревно между гусеницами и крутящимися колёсами. Захваченное траками бревно могло перемолоть не одного человека. А те, кто бросал в машины бутылки с зажигательной смесью? Это разве игрушки? В бронетранспортёре — большой боекомплект. Разнесло бы не только молодых солдат. А злость, с которой люди пытались разбить смотровые приборы — триплексы, закрыть брезентом смотровые щели? Цель была — ослепить машины. Но што такое «слепая» бронемашина? Это — смерть десяткам, если не сотням… Трое погибли… Это плохо. Но будет ещё хуже, когда погибнет страна. Когда страдания и смерть захватят миллионы людей. Этого могли не допустить гэкачеписты. Но они оказались из жидкого теста.
Ты упомянул историю… В ней, Павел, бывают моменты трудного выбора. Конешно, своё — родное, кровное — дорого. Дороже, может, почти всего на свете. Почти… Но есть ещё более дорогое. Это — жизнь великого множества таких же людей… миллионов человек. То есть народа… И жизнь великого государства. Поэтому ради их спасения я бы, наверное, мог пожертвовать… трудный это выбор — жертвовать… самой дорогой жизнью.
— Моей што ль?
— Сейчас што об этом говорить? Твоей… Своей… История сделала свой ход. Сделала руками слабых людишек, которые оказались не готовы к той роли, какую приготовила им судьба. И прежде всего, руками тщеславного, самонадеянного пустышки Горбачёва.
— Зато теперь он на высоте. Узник, освобождённый демократией для своих дальнейших дел. Разве для него сейчас это не самое важное?
— Его дела в нашей стране кончились. Он немного протянет, и его выбросят. К сожалению, вместе с державой. А ведь мог слюнтяй Крючков со своей… как их теперь называют? — хунтой? — изменить ход истории. Однако оказался слаб в коленках.
* * *
После поражения ГКЧП две темы стали главными в трибунных выступлениях и материалах средств массовой информации. Это — проклятья в адрес заговорщиков и выяснение, где тот или иной человек находился «в дни борьбы за спасение демократии».
Особенно свирепы были те, кого не могли найти в решающие часы этой самой «борьбы», и у кого внезапно обнаружились «веские причины» переиздать опасное время в стороне от событий. Главный редактор «Огонька» Коротич 19 августа должен был вылетать из Соединённых Штатов в Советский Союз. Услышав о событиях в Москве, тут же сдал билет, бросив и соратников, и сам «рупор перестройки» на произвол круто повернувшейся судьбы. Возвратился только после окончательной «победы демократии» и воцарения полной безопасности требовать суровых кар для государственных преступников. Но коллектив журнала осудил его отсидку в безопасных Штатах и снял с должности главного редактора: «за трусость, непорядочность и аморальное поведение».
Едва стала реальной опасность штурма Белого дома, из поля зрения соратников пропал председатель российского правительства Силаев. Возник снова, когда заговорщики заколебались и упустили момент. А как только гэкачепистов арестовали, стал требовать немедленного их расстрела.
Об этом же заклокотал и «архитектор перестройки» Яковлев. Поначалу он тоже не высовывался. Сидел, как мышь под веником. Но уловив, что организаторы устранения Горбачёва выпускают вожжи из трясущихся рук, возбудился. Засветила возможность избавиться от опасного Крючкова. Поэтому сразу после ареста руководителей ГКЧП запросился к Ельцину на приём. Пока шёл, мысленно одобрял себя. «Вовремя я появился. Вовремя. Ещё бы день прождал — могли не принять за своего».
Яковлев начал с восхваления ельцинской смелости.
— Не каждый, Борис Николаич, имеет мужество подняться на танк. Особенно в такой опасный момент…
Ельцин испытующе глядел на него.
— Я был там рядом, — как бы между прочим сказал Яковлев. — Вы были сама смелость. Эти люди могли ни перед чем не остановиться. Снайперы… Гранатомёты… Их надо казнить… Первого — Крючкова. Он…
Яковлев готовился произнести: «…мог вас арестовать». Но понял, что Ельцина, находящегося в эйфории, это ничуть не тронет. Решил усилить:
— Крючков хотел вас убить… Их надо всех казнить.
Ельцин растянул губы в кривой двусмысленной улыбке. Подумал: теперь будет служить мне. А вслух, поднимаясь, произнёс:
— Пусть разберётся суд.
«Архитектор перестройки» понял: время на него Ельцин тратить больше не хочет, и тоже встал.
Однако спасительную идею о казни «главарей переворота», и в первую очередь Крючкова, после этого высказывал везде.
Ругал гэкачепистов и Савельев. Но совсем за другое. «Тряпочные борцы! Вожди из дерьма! — бормотал он, еле сдерживая себя, чтобы не заматериться. Если бы не присутствие Натальи, Виктор не стал выбирать выражений. — Провокаторы хреновы! Лучше бы сидели по своим кабинетам и дачам. Меньше бы принесли беды».
Савельев приехал к Волковым с подарком для учителя. В Кишинёве, у букиниста на развале, увидел книгу об охоте на французском языке. Долго листал её, разглядывая картинки, ибо по-французски знал всего несколько слов. Книга была издана 125 лет назад и рассказывала, как сообразил Савельев, про охоту в разных странах. В том числе в России.
Владимир сразу понял, какой это ценный подарок — об охоте он собрал хорошую библиотеку.
— Плюнь ты на них, Витя, — сказал Волков, с удовольствием переворачивая страницы. — Не мужики они. Мужико-бабы.
Наталья с удивлением посмотрела на него. Тот заметил это. Показал Савельеву на жену.
— С моей Ташки надо брать пример. Она у меня — стойкий боец. А у этих — штаны мужские и по виду — вроде мужики. Но как доходит до чево-то серьёзного — раскисают хуже баб. Ты знаешь, што она сделала? Сорвала праздник упырей.
— Не преувеличивай, Володя, — зарозовела лицом жена. — Придётся опять искать работу.
К этому она стала готовиться, как только узнала, что новым руководителем телевидения победители ГКЧП назначили Грегора Викторовича Янкина. Их дороги снова пересекались. А тут ещё — невиданный поступок редактора Волковой.
После необъяснимого и внезапного провала ГКЧП страна стала напоминать буревой океан. Наверху дыбились волны, взлетала пена, перемешивались вышние слои воды, в то время как глубины оставались некачаемо равнодушными, даже какими-то безразличными к тому, что происходило на поверхности. А там творилось невообразимое. Те средства массовой информации, действие которых было приостановлено решениями ГКЧП, теперь словно сорвались с цепи. Газеты и журналы были переполнены мстительными публикациями, суть которых выражало единственное слово: распни! На телевидении и радио уже почти никто не говорил обычным голосом. Нормой стал крик, ор и рёв с набухшими жилами на шее. Сладостная месть гремела, кувыркалась, визжала, стараясь ущупать всё новые болевые места у поверженных, их явных и потенциальных сторонников. А таковыми могли стать кто угодно, если они вызывали подозрение у демократических инквизиторов.
Редакторшу, которая пригласила Наталью на работу из волгоградского простоя, уволили сразу после ареста путчистов. В дни чрезвычайного положения она осторожно высказалась в его поддержку. Волкову поставили на её место, но сильно урезали в правах. Главным в редакции стал человек, присланный на телевидение со стороны, который сам себя отрекомендовал, как комиссар. Он был худым, язвительным, с выпирающими вперёд зубами, которые обнажались, едва «комиссар» заговаривал. До сорока трёх лет просидел лаборантом в институте прудового рыбоводства. Когда костёр горбачёвской перестройки начал разгораться в пожар, лаборант стал меньше думать о рыбах, а больше о политике. Вскоре плавал в ней не хуже карпов и карасей в искусственном водоёме. Потерпев неудачу на выборах в российские депутаты, бросил кормить ни в чём не повинных подопечных и пошёл в ельцинские ландскнехты. Поднаторел в спорах с партократами. Зависть неудачника к более способным прикрыл политической одеждой. Каждый раз, после тирады об удушении командно-административной системой талантливых людей, делал многозначительную паузу и приводил конкретный пример: «Вот, скажем, я…»
Съёмочной группе Волковой он поставил задачу: готовить передачу, в которой надо показать «гнилую суть» участников неудавшегося переворота.
В отличие от режиссёра и оператора, Наталья взялась за дело неохотно. К аресту руководителей ГКЧП отнеслась сдержанно. Эти люди были ей несимпатичны. Но «комиссар» потребовал основную часть передачи построить вокруг трёх самоубийств: министра внутренних дел Пуго, маршала Ахромеева и управляющего делами ЦК КПСС Кручины. Для этого привести оценки не только людей с улицы, депутатов, видных демократов, но и проникнуть к родственникам самоубийц, их близким, знакомым.
Уже сама задача показалась Наталье неприятной. «Как-то не по-человечески плясать на гробах, — сказала она режиссёру. — Смаковать горе близких». «Перестань интеллигентничать, — усмехнулся немолодой уже мужчина с опухшим лицом и длинными, грязными волосами, закрывающими воротник несвежей рубашки. — Наше дело телячье. Куда пастух погонит, туда и надо бежать, не жалея копыт. Победили бы те, я с таким же с удовольствием снимал про этих. Говорил, какие они подонки. Но победили эти. Значит, подонки — те».
Волкова пристально поглядела на режиссёра. Если б он был внимательней, то заметил бы, как в жёлто-карих глазах красивой редакторши качнулось нескрываемое презрение. «Пусть снимают, — решила Волкова. — При подготовке — выброшу всё гнусное».
Однако чем дальше, тем сильнее раздражал собираемый группой материал. Помощница режиссёра нашла кадры заседания Верховного Совета РСФСР, когда стоящий на трибуне известный депутат — ни дать ни взять негр: курчавые волосы, толстые негритянские губы — лишь кожа лица светлая, вдруг прервал свое выступление и с радостью закричал в зал: «Только што застрелился у себя в квартире, вместе с женой, Пуго — бывший министр внутренних дел!» Люди повскакали с мест, начали хлопать в ладоши. Поздравляли друг друга и сидящие в президиуме.
Несколько интервью оператор сделал на фоне большой надписи на парапете. Кто-то, похоже, с воодушевлением — уж слишком прыгали буквы! — вывел аэрозольной краской слова: «Забил заряд я в тушку Пуго!» Люди улыбались, гримасничали, трогали надпись, всем видом показывая свою причастность к глумливым словам.
«Во што же мы превращаемся? — потрясённо думала Наталья. — Зверями становимся… А помогаем этому… нет, не помогаем… делаем людей зверями! мы — журналисты… Если я покажу эти вот ухмылки, эту радость от убийства — сколько ещё человеческих душ тронет звериность? Надо будить сочувствие — не каждый осмелится на поступок, где сплетается и воля, и честь, а мы злорадствуем».
Эти мысли и чувства усиливались после разговоров с некоторыми людьми из окружения известной тройки. Большинство, раздавленные шквалом осуждений, отрекались от вчерашних знакомых, начальников, сослуживцев и соседей. При этом, кто охотно, кто вымученно рисовали портреты изгоев, ложащиеся в предлагаемую телевизионщиками схему. Но некоторые без свидетелей и камер говорили Волковой о том, какими в действительности были эти люди. Закрытый и мало известный для широких масс «партийный завхоз» Николай Ефимович Кручина, ещё по прежним рассказам Янкина, который хотел приблизить к себе Наталью пикантными сведениями из жизни «высоко стоящих», казался ей не совсем обычным человеком. Преданный лично Горбачёву, скупой до скаредности, «Гобсек партии», как его называл Грегор Викторович, естественно вызывал у оборотистого Янкина насмешки. Теперь Наталья, по рекомендации уволенной редакторши, встретилась с коллегой-журналистом, который знал Кручину много лет. Сначала по комсомольской, а затем — по партийной работе. Одна оценка поразила её больше всего. Когда в газетах и журналах, по телевидению и по радио стало правилом и «хорошим тоном» обязательно изругать партийных работников любого уровня, перемешивая порой правду и ложь, о Кручине никто и нигде не сказал ни одного плохого слова.
А ей эти слова надо было придумать.
Также, как о маршале Ахромееве, сама смерть которого — он повесился в своём кабинете, — поразила Наталью нелепостью и полной неожиданностью. Она не раз слушала знаменитого военачальника на заседаниях Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета, подходила к нему после его выступлений, записывала комментарии для газеты, а потом для телевидения. Маршал нравился ей какой-то исходящей от него глубинной силой, мужественным обликом, твёрдыми, жёсткими оценками опасного курса страны на сдачу оборонных позиций. После первого же короткого интервью Наталья, как она любила говорить, раскинула сети для сбора информации. И чем больше узнавала о Сергее Фёдоровиче Ахромееве, тем симпатичней казался ей этот человек. Герой Советского Союза, почти всю Отечественную провёл на передовой. После войны много учился, быстро шагал по служебной лестнице. Ещё до появления во главе страны Горбачёва стал начальником Генерального штаба. Резко возражал против военной политики нового Генсека. За это Горбачёв вынудил его уйти в отставку. Однако сделал своим советником. Наталья тогда порадовалась: оказывается, Горбачёв не так уж плох, как о нём говорят. Взял умного военачальника, настоящего патриота себе в советники. Будет кому противостоять разрушительным действиям Шеварднадзе и Яковлева. Сказала об этом мужу. И увидела, как тот сердито стал скручивать кончик уса.
— Подлый ход сделал Горбачёв. Коварный. Убрать Ахромеева на пенсию он не посмел — слишком большой авторитет у маршала в армии. Оставить начальником Генштаба — ещё опаснее: считай, ключевая должность. А советник — без подчинённых, без вооружённых людей — по сути, никто. Его советы можно слушать, но делать по-своему.
Так оно и получилось, что заставило маршала написать прошение об отставке из советников. Помешало введение чрезвычайного положения, которое Ахромеев поддержал.
Крушение ГКЧП, видимо, стало и крушением надежд маршала, думала Наталья. Это подтверждала и записка Ахромеева, которую ей показал знакомый ещё по карабахскому конфликту следователь. «Не могу жить, когда гибнет моё Отечество и уничтожается всё, что считал смыслом моей жизни. Возраст и прошедшая моя жизнь мне дают право из жизни уйти. Я боролся до конца».
«А я што делаю? — мучаясь, осуждала себя Наталья. — Настоящего патриота страны… ну, ослабевшего на какой-то момент… а, может, наоборот, показавшего силу и волю, не желающего оставаться рядом с предателями государства и принявшего нелёгкое решение… мне его надо показать какой-то дрянью, как этого хочет „комиссар“… Плюнуть ещё раз в душу родным и близким… Порадовать трусов и негодяев, подтвердив своей передачей: не вы одни такие. Не одни вы — генералы и вчерашние вроде бы соратники маршала испугались прийти на его похороны… Мародёры не только те, кто раскопали сразу после похорон могилу Ахромеева, сняли маршальский мундир с наградами, а могу быть и я среди них… Американские журналисты приехали снимать могилу Ахромеева — его уважали даже идейные противники… Они подняли тревогу, а мы кто? Нет, не мы — я кто?… Это очень удобное прикрытие: слово „мы“. Каждый должен отвечать за себя. Не „мы“, а „я“ должна делать эту мерзкую передачу. Не „мы“, а кто-то один писал на парапете гнусные слова про Пуго. Не „мы“, а каждый по отдельности прыгал и кривлялся перед камерой на их фоне. И хлопали в зале заседаний Верховного Совета России не „мы“, а конкретные человеки. Со своим именем и лицом. Чему радовались? Тому, что застрелили себя два любящих друг друга человека — латыш и русская? Тому, что они решили уйти из жизни раньше, чем их начнёт терроризировать озверевшая свора?
Пуго вызвал, конечно, нелицеприятные оценки, став одним из руководителей ГКЧП. И почти каждый, к кому подходила она с микрофоном и оператор с камерой, высказывали разные по накалу злости осуждения. Но были и такие, кто отворачивался от направленной камеры и молча уходил в сторону. Почему? Они сочувствовали ГКЧП? Жалели, что не удалось освободить страну от разрушителя Горбачёва? Или им было противно глумиться над людьми, показавшими, что и сегодня существует такое понятие, как честь?»
Наталья в эти дни не раз вспоминала, как менялся Янкин, едва заговаривал наедине с ней о Пуго. Обычная ирония и насмешливость, с которыми он передавал полусплетни, полуслухи о властителях страны, об известных деятелях искусства и культуры мгновенно исчезали, как только произносилась фамилия этого латыша. Волковой даже казалось, что Грегор Викторович сразу непроизвольно напрягается, как вор-карманник, увидевший на улице случайно проходящего милиционера.
Первый раз повод для разговора о нём дала сама Наталья. Обиженный герой её критического материала позвонил в редакцию и сказал, что пожалуется в Комитет партийного контроля при ЦК КПСС. Доказательств вины этого человека у Волковой было намного больше, чем она использовала в публикации. Но Наталья решила предупредить главного редактора. Янкин помрачнел.
— Сейчас там Борис Карлович Пуго. Знаю этого… блюстителя чистоты. Когда он работал в Риге, ездил на дачный участок к своему брату… Не отдыхать, нет. Проверял, не выходит ли домик, который тот строил, за размеры, установленные законом. С фактами у тебя как?
Наталья положила на стол две толстых папки.
— Резерв главного командования.
Тогда знакомство с Пуго не состоялось. В редакцию пришёл официальный ответ: критика правильная, виновные наказаны.
Но, как только Горбачёв назначил Пуго министром внутренних дел, Грегор Викторович, следуя своему правилу: заводить знакомства с высшими руководителями, пригласил Бориса Карловича в редакцию.
Прощаясь после долгой беседы, которую записывала на диктофон Наталья, главный редактор с ничего не значащей, дежурной улыбкой пообещал министру:
— Будем вам помогать, Борис Карлович. Дело-то общее — строить социализм с человеческим лицом.
А едва за Пуго закрылась дверь, пробормотал своей корреспондентке:
— Простой он… простой. Доступный… Только не дай Бог в его глазах оказаться нарушителем закона. Сам не берёт и другим не даёт. Бессребреник. Приехал первым секретарём горкома партии в Ригу и год жил с женой и сыном в гостинице. Считал недопустимым получать квартиру без очереди.
О личной скромности и нестяжательстве Бориса Карловича Пуго, его щепетильной порядочности и профессионализме Наталья потом слышала от разных людей. И вот теперь она должна всё это забыть? Представить миллионам зрителей какого-то нравственного урода, который готов был убить тысячи граждан, как застрелил себя и ни в чём не повинную жену. «И сделать это должна я!» — мысленно вскрикнула молодая женщина, глядя на лежащий рядом пакет с кассетами.
Волкова ехала на студию в служебной машине. Ехала одна с водителем. Съёмочную группу отпустила на другой машине. Съёмки были закончены, весь материал находился в четырёх кассетах. Она не хотела оставлять их на студии — возила с собой. Для монтажа будут использованы все. «Будут? — подумала Наталья. — Нет! Не выйдет у вас».
— Коля! Прижмись к тротуару и встань.
— Нельзя, Наталья Дмитревна. На мосту нельзя останавливаться.
— А ты на мгновенье.
По мосту через Москву-реку машин ехало немного. Поэтому никакого затора телевизионный автомобиль не создал. Наталья открыла дверь, подошла к ограде моста и, не колеблясь, бросила пакет с кассетами в реку.
— Зачем? — крикнул шофёр.
— Штобы мы потом не оказались негодяями, Коля, — сказала Волкова, закрывая дверь. — Поехали.
Глава пятая
— Ты где нашёл такую красоту, Витя? — продолжал радоваться Волков.
— В Молдавии. Ездил к дальнему родственнику. Живёт в Рыбнице. Давным-давно звал… Всё не получалось — и надо же: собрался! Там и без того, как на минном поле. Молдавские националисты звереют. Помнишь весеннюю охоту? Валентину помнишь?
Волков покивал, не переставая листать книгу.
— Молдаване, ну, не все, конечно — в основном, молодняк — его легче завести — эти орут про объединение с Румынией. Приднестровские территории — намертво против. Там большинство — русские, украинцы. И вся основная промышленность — в Приднестровье. Вот-вот начнётся война. А тут ещё эти импотенты из ГКЧП. Я, когда увидел трясущиеся руки Янаева, сказал родственнику — он партийный секретарь: всё, Женя! Хана вам. Отыграются на вас. А парень он хороший. Приехал агрономом после Саратовского сельхозинститута. Поработал — видят, толковый. Выбрали председателем колхоза. Потом потащили в партийные функционеры. Сопротивлялся. Да и народ в колхозе не хотел отпускать. Знаешь, — оживился Савельев, — я их немало видел — этих партийных деятелей. От маленьких до больших. Разные они. Но есть што-то общее. Некоторая приподнятость над тобой. Вроде как он принадлежит к другой касте. Более высокой. Это даже у маленьких вождей чувствуется. Про больших вообще не говорю. Я знал про некоторых… (Савельев утишил голос, чтобы не разобрала уходящая из комнаты Наталья)… с их жёнами, как бы тебе сказать… дружил… понимаешь, в каком смысле? Так вот, они и с жёнами себя ведут, словно те из другой касты.
А Женька — ничево похожего. Несколько дней от него не отходил. Меня ведь на мякине не проведёшь. Сразу учую, где жизнь, а где игра в неё. С людьми он, как товарищ, и одновременно, как дирижёр. Для каждого — свой инструмент. К одному — со скрипкой. К другому — на контрабасе. Настоящий вожак. Плохо ему теперь будет. Если там подхватят Указ Ельцина против КПСС, то ихним фашистам-националистам это — лучший подарок. Видишь, што творится?
— Вижу. И вдали, и рядом. Нашей Овцовой только маузера не хватает. Добила директора — его сняли. Теперь она — власть. Ездила к ЦК громить партократов. Рассказывала — аж вся тряслась. Вот из таких выходят кровавые комиссары.
Волков с неохотой поставил, наконец, книгу на полку. Мельком глянул на возбуждённого товарища.
— Ты какой-то не в себе. В редакции давят?
— Я был там, — мрачно сказал Савельев. — На этом погроме. Где твоя была… эта… пока без маузера… Наверно, правильная появилась мысль: когда встают с колен рабы, живут, кто делают гробы… Как ещё не поубивали людей…
Бандарух сразу решил, что пошлёт на Старую площадь Савельева. «Пусть покрутится», — злорадно подумал заместитель главного редактора. Ему позвонил знакомый из Московской мэрии и сказал, что после Указа Ельцина о приостановлении деятельности Российской Компартии и сложении Горбачёвым с себя обязанностей Генерального секретаря всем работникам аппарата ЦК велели немедленно покинуть помещения партийных зданий на Старой площади. Комплекс передаётся мэрии. А ещё, сказал знакомый, наши люди всех предупреждают, что уходящие партократы могут захватить с собой важные документы о причастности к ГКЧП. Их надо проверить… Устроить достойные проводы.
Никита Семёнович вызвал Савельева.
— Поедете на Старую площадь. К зданиям ЦеКа собирается народ. Помещения освобождают от этой партийной нечисти. Всё переходит демократическим органам власти.
— А разве было решение суда? — спросил с явной издёвкой Виктор.
— Какого ещё суда? — вздёрнулся Бандарух. — Вы со своими замашками… Я знаю ваши пристрастия… Материал нужен в номер. И побольше гнева! Настоящего… Народного праведного гнева к этим партийным ублюдкам.
Виктор не узнавал Бандаруха. Он даже представить не мог, что человек так способен измениться. Куда-то девались и тихий, вкрадчивый голос, и настороженный взгляд чёрных, почти безресничных глаз, а главное — пропало рабское почтение к партии. Теперь Никита Семёнович находил о ней самые грубые слова, говорил обо всём громко, отрывисто, как будто отдавал армейские команды. Голову с большой плешью и редкими волосами надменно откидывал назад, глядел на всех жёстко, с нескрываемым высокомерием.
Впрочем, приехав из Молдавии сразу после поражения ГКЧП, Виктор заметил подобные перемены не только в Бандарухе. В редакциях газет и журналов, в союзном и российском Верховных Советах на авансцену выскочили люди, с такой яростью поносящие то, чему служили долго и преданно, что некоторых из них не узнавали даже родственники и самые близкие товарищи. Ещё вчера верные псы партии, бросавшиеся по команде, а нередко — по собственной инициативе на различных «отщепенцев», удовлетворяя тем самым свою страсть идеологических вампиров, они сегодня с таким же остервенением рвали в клочья и саму партию, и её низвергаемых богов, заявляя, что всю жизнь боролись с однопартийным тоталитаризмом. «Што ж это за творение такое — человек?» — думал Савельев, слушая этих мгновенных перевёртышей. Он не отрицал эволюции взглядов, политических убеждений, перемены жизненных позиций. Нередко сладкое в юности становится горьким во взрослости. Поэтому нелепо требовать от людей застывшей привязанности к чему-то одному на всю жизнь. Но чтобы так, за несколько дней или даже часов, изменить свою суть на прямо противоположное… Тогда что же за суть у таких людей? Что там в глубине её? И было ли там что-то противоположное? Может, подавлялось это тёмное прессом нравственных, политических и правовых запретов, сдерживалось внешними скрепами, а внутри низменное кипело, как магма в недрах земли, и ждало взрывоподобного, всё разрушающего душетрясения. После чего высвобождалась мрачная, разгромная сила, способная дотла снести все светлые представления о человеке — если не подобии Творца, то хотя бы не произведении Дьявола.
Наблюдая за происходящими в последнее время нравственными переломами душ, Савельев отмечал, что история повторяется. Циники от политики всегда апеллировали прежде всего к низменным потаённостям человека, рассчитывая обрести управляемую тёмными инстинктами массу. Они знали, что призывы типа: «Кончилось ваше время! Теперь мы вам покажем!» быстрее всего поднимают с закупоренного дна муть мести и злорадства.
В этом Савельев стал убеждаться, подходя к зданиям ЦК КПСС на Старой площади. Ещё издалека он увидел возле них толпы народа. Людская масса особенно густела там, где были выходы из зданий. К уже стоящим добавлялись новые люди. Обгоняя Виктора, в сторону скопления, вприпрыжку проспешил худой, азартный мужичок с утиным носом и морщинистым лбом.
— Чё там случилось? — спросила его остановившаяся приземистая женщина.
— Партийцев из гнёзд выкидывают! — крикнул он, радостно ощерившись. — Надо их потрясти.
Савельев решил сзади обойти скопления людей, чтобы понять: весь ли комплекс зданий охвачен осаждающими? Оказалось, стихия хорошо организована. Возле каждого подъезда сидели и стояли группы молодых людей с трёхцветными повязками на рукавах. А за ними, где больше, где меньше, толпился народ.
Из подъездов пока никто не выходил, и это держало людей в напряжённом ожидании. Иногда раздавались крики «Долой КПСС!», «Коммуняк — к ответу!», и людская масса снова угрюмо ждала. Лишь возле узорчатых, металлических ворот толпа бушевала почти непрестанно. За этими литыми воротами, через двор, из одного здания в другое, время от времени пробегали испуганные женщины, и это взрывало толпу угрожающими воплями.
Вдруг в той стороне, где был знаменитый парадный вход, над которым — единственным из всех подъездов — золотом сверкала надпись «Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза», поднялся шум и раздались крики. Савельев быстро пошёл туда. Массивные двери были открыты, но люди жались в них друг к другу, боясь выходить. Прямо перед дверями плотной стеной стояла накалённая толпа. Два распорядители с трёхцветными повязками на рукавах через мегафоны призывали толпу расступиться и создать проход. Это ещё больше распаляло людей.
— Давить их! — кричала маленькая, толстая, как шар, баба. — Своруют чё-нибудь там у себя! Знаю их!
— Да всех обыскали уже! — гремел в мегафон рослый, с военной выправкой распорядитель. — Внутри, перед выходом обыскали! Раздвиньтесь, граждане! Расступись!
Вместе с напарником и несколькими мужчинами-добровольцами ему удалось образовать проход, по которому из дверей настороженно пошли люди. Но едва первые из них оказались среди разрезанной толпы, как она тут же стала сдавливать узкий проход. К идущим потянулись руки.
— Дайте мне посмотреть, чево у ней в сумке! — завопила костистая, с вытянутым лицом женщина в каком-то грязном, неопределённого цвета балахоне. Она расталкивала плотно стоящих соседей, чтобы достать проходящую в этот момент мимо неё средних лет женщину с маленькой хозяйственной сумкой. Рванулась вперёд, выхватила сумку, мгновенно раскрыла её и стала выбрасывать содержимое. На асфальт полетели носовой платок, пудреница, кошелёк, щётка для волос и чем-то наполненный бумажный пакет. Толпа взревела.
— Сами жрёте лучшее, а народ голодает! — взвизгнул румяный коротышка с лицом ваньки-встаньки. Он выскочил в проход и ударил ногой пакет. Бумага разорвалась. На асфальт вывалились свекольные котлеты. Часть из них, поддетая ботинком, обрызгала одежду и лица вблизи стоящих людей.
То ли от этого, то ли от разочарования, народ распалился ещё сильнее. Идущих в тесном проходе обзывали, им плевали в лица, вырывали сумочки и бросали с размаху на асфальт. Когда хозяйка наклонялась, чтобы поднять, её толкали, делали сзади неприличные движения, словно насилуют.
Самым поразительным для Савельева было то, что гнуснее всех вели себя женщины. Большинство — не первой молодости, по виду и по одежде — неопределённого рода занятий. Они похабно ругали матом идущих по проходу секретарш, стенографисток, технических работниц. Особенно изощрялись, когда появлялся какой-нибудь партийный клерк в шляпе или с галстуком. «Дайте нам его сюда!» — кричали в толпе озверевшие бабёнки, и Виктор не был уверен, что, попади мужчина им в руки, он уйдёт неизувеченным.
В общем гвалте, криках, издевательском хохоте Савельев через некоторое время стал различать наиболее пронзительный и агрессивный голос. Он обернулся и увидел за своей спиной высокую, плоскую женщину в очках. От крика у неё выступили красные пятна на серых щеках, на лбу и даже на подбородке. «Того и гляди лопнет очкастая доска», — с отвращением подумал Виктор и хотел уже уходить с этого праздника озверелости. Как вдруг увидел идущего по проходу знакомого инструктора из отдела науки ЦК. Тот был по образованию химик. Ещё работая в научно-исследовательском институте, защитил кандидатскую, но увлёкся журналистикой и перешёл в популярную молодёжную газету. Тогда-то они и познакомились. Перед самым концом горбачёвской перестройки химика-журналиста позвали в ЦК. Он не хотел оставлять нравящееся дело, да и Савельев, у которого однажды спросил совета, отговаривал, однако, в конце концов, пришлось согласиться. Теперь он шёл освистываемый, опустив голову, ожидая каждую секунду нападения.
И оно едва не произошло. Отталкивая Виктора, к инструктору рванулась стоящая сзади плоскогрудая женщина. Но Савельев загородил ей дорогу и протянул руку к идущему мужчине.
— Ты што себе позволяешь, партократ? — вцепилась сзади в его пиджак «очкастая доска». — Товарищи! Тут у нас прячется агент партократии!
В общем шуме никто ничего толком не разобрал. Только соседи, кажется, насторожились. Однако Савельев решил опередить возможную реакцию. Он вспомнил, что во внутреннем кармане пиджака у него новый, цветов российского флага, галстук. Его буквально утром подарил коллега — собкор их газеты в Финляндии. Собираясь на Старую площадь, Виктор, сам не зная зачем, положил галстук прямо в целлофане в карман. Похоже, сделал правильно.
— Вы што, мадам, мухоморов объелись?
Вынул из кармана галстук, сбросил целлофан и быстро обернул трёхцветной лентой рукав.
— Вообще, советую меньше орать. Лопнут голосовые связки.
И подшагнув к злой противнице, тихо процедил:
— Будешь после этого шипеть. Как змея зашипишь.
От такого напора женщина шатнулась назад. Тёмно-карие глаза за стёклами очков расширились. Она подняла руки, зашевелила пальцами, словно их изнутри стали колоть иголки.
— А ещё интеллигент! Может, даже во втором-третьем колене. Кого спасаешь? Их бить надо.
— Я, мадам, интеллигент в полуколене. С меня спрос маленький.
Подтянул к себе приблизившегося инструктора и, загораживая его от шевелящей пальцами мегеры, угрожающе бросил ей прямо в лицо:
— С меня спроса вообще никакого. Вот как дам по очкам — научишься различать цвета.
Оставив ошеломлённую женщину, Савельев поспешно вывел бывшего коллегу из толпы.
— Спасибо, Витя. Надо позвонить домой. Я думал: не выйду.
— Не стоит, старик. Напугали вас там демократы?
— Если это демократия, то лучше пусть будет палка. Я всегда отвергал… с гневом… со злостью даже… спорил с некоторыми ещё в газете… Есть такие идеологи… Говорят: русский народ можно держать в нормальном повиновении только палкой. А вот теперь я вижу: она нужна. Без палки народ звереет.
— Это относится не только к русским, — резко сказал Савельев. — Любой народ на долгое давление отвечает выбросом грязи. Когда встают с колен рабы, живут, кто делают гробы. Палкой, старик, может быть и закон. Только если он для всех одинаков. Это люди хорошо замечают. Нужна диктатура не пролетариата или, скажем, учёных, деятелей культуры. Не денежного мешка или бедноты. Единственная диктатура имеет право на жизнь. Диктатура закона.
Говоря это, Савельев снимал галстук с рукава. Начал было завязывать на шее, но, в раздражении, опять сложил его и сунул в карман. К такой демократии он себя не относил. И понимал, что никакого материала в номер не напишет.
Так оно и вышло. За срыв редакционного задания Бандарух предложил Савельева наказать. Однако новый главный редактор, избранный большинством коллектива (прежнего, несмотря на его покладистость, сняли), послушал рассказ Виктора и с неудовольствием сказал своему заместителю: «Надо знать, Никита Семёныч, кого на какое задание посылать. У нас есть специалисты по таким темам. — Помолчал и с усмешкой добавил: — Отца родного не пожалеют».
Хаос шумных победных дней: демонтаж памятника Дзержинскому (петлёй троса за шею, краном с пьедестала), эпидемия доносов, к которым днём и вечером призывал с экранов телевизоров оплывший Александр Яковлев, истерия разоблачений ГКЧП — всё это время от времени заслоняло в памяти Савельева оргию бесчинств на Старой площади. Однако стоило возникнуть какой-либо напоминающей детали, и перед глазами снова вставали те мерзкие картины. Сейчас, услышав от Волкова о его директрисе, ездившей «громить партократов», он будто снова оказался в орущей, матерящейся, озверелой толпе.
— Не дай Бог ещё раз очутиться там, — мотнул он головой, словно стряхивая врезавшееся в память. — Мне, мужику, человеку со стороны, было не по себе, а представь женщин, идущих под плевками, под криками: «Бей их!» На одной разорвали кофту… Какому-то партийному клерку — надо ему было шляпу надеть, нёс бы в руках, может, ничего не было — к нему, как увидели в шляпе, бросились, разметав этих, которые сдерживали… Шляпу сорвали… стали топтать. Одна баба — я ещё по носу её запомнил: шрам на носу, как будто бритвой резали, схватила шляпу с асфальта, плюнула в неё — и на лицо мужику… на лицо…
Виктор нервно достал сигарету, прикурил.
— Ну, я тоже чуть не разошёлся. Только в другую сторону… Сзади меня стояла длинная тощая — не женщина, а доска в очках… морда в красных пятнах, лезла достать одного моего знакомого… пальцами перебирает, двигает, вроде поцарапать хочет… я ей чуть по морде не дал… Ты чево на меня уставился?
— Похожа на нашу Овцову.
— А-а, — махнул рукой Савельев. — Сейчас некоторые овцы злей волков. (На мгновенье задумался, засмеялся.) Или Волковых. Што там Наталья опять натворила? Наташ! Иди сюда! Расскажи о своём геройском поступке.
Он знал про газетный инцидент и увольнение Волковой после него. Именно Виктор рассказал об этом редакторше телевидения и попросил её взять Волкову на работу. Теперь что-то произошло на новом месте.
— Ну, говори, говори, — поощрительно улыбнулся вернувшейся в комнату Наталье и вдруг снова почувствовал, как когда-то, некоторое волнение при взгляде на эту стройную фигуру, подобранные сзади заколками светло-каштановые волосы, возбуждающие груди.
Выслушав рассказ, озабоченно поцыкал языком — это было у него признаком большого беспокойства.
— Што кассеты выбросила — правильно. Хоть немного меньше дикости увидят люди. Когда это было?
— Вчера. Но я не всё тебе рассказала. Когда подъезжали к телецентру, шофёр… молодой такой парень — Коля… до этого мало его знала… ну, ездили на съёмки, слышал мои реплики — он мне заявляет: «Вас уволят. А я этого не хочу. Потому што вы сделали, как надо».
Неожиданно для меня предложил, как объяснить пропажу кассеты. Вроде машина у нас заглохла — прямо на мосту остановилась… Он вышел, стал копаться в моторе. Я тоже вышла, стояла рядом. В это время какой-то молодой человек с другой стороны открыл дверцу машины, схватил пакет с кассетами и побежал. Мы — за ним. Жулик на бегу заглянул в пакет, понял, что ничего ценного, и бросил его в Москву-реку.
— А што, хорошая версия, — засмеялся Савельев.
— Плохая, Витя. Непорядочная. Я сгоряча её рассказала вчера, а сегодня весь день мучаюсь. Трусливой оказалась.
— Да нет, не трусливой, а мудрой. Разве это героизм, когда на современной войне солдат выскакивает из окопа под шквальный огонь без всякой защиты? Это — самоубийство. В атаку надо подниматься в каске, с бронежилетом и (Виктор двусмысленно хмыкнул) даже в бронетрусах. Солдат армии нужен живой! Если уж суждено погибнуть, то не по-глупому. Не бравируя голой грудью в наколках.
— Тогда выходит, я сделала хорошее дело подленько? Показала людям пример не благородства — прости уж меня за высокий слог, а изворотливости?
— Важен результат твоего поступка. Не столько для узкого круга твоих коллег — большинство теперь всё равно тебя не поддержат, а для многих людей. И ещё важно при этом солдату сохраниться. Впереди, я чувствую, предстоят бои. Поэтому надо беречь каждый штык. Тем более, когда штык такой подготовленный, как ты. Опытный… Умелый. Што хорошего, если тебя выгонят? На твоё место придёт какой-нибудь «чево изволите?» Готовый и мёртвых обгадить, и живых.
— Не знаю, Виктор… не знаю. Не уверена, што правильно сделала, послушав Колю. Вон и муж говорит примерно, как ты, — кивнула в сторону Волкова Наталья, — но мне весь день кажется, будто от меня как-то плохо пахнет.
Глава шестая
Карабанов закончил операцию, проводил взглядом увозимую каталку с пациентом и молча повернулся спиной к Нонне. Она также молча — за годы всё отработано до автоматизма — стала развязывать тесёмки халата, стянутого на спине. В это время в операционную заглянул молодой врач.
— Вас к телефону, Сергей Борисыч.
Звонил Горелик.
— Нас с вами опять зовут!
Карабанов с удовольствием расправил затёкшие плечи.
— Кого теперь будем выселять?
Недавно они двумя отрядами занимали поспешно оставленные здания ЦК КПСС. Подгоняли последних задержавшихся аппаратчиков — основная масса была изгнана несколькими часами раньше. Толстый Карабанов сам свистел им вслед, обзывал партийными мордами, пока не увидел молодую красивую женщину, гордо проходившую по озлобленному людскому коридору. Сергей осёкся на полукрике и вдруг подумал, что, если эту женщину кто-нибудь тронет, он бросится её защищать.
— Сегодня у нас писатели. Поедем на моей. Я скоро буду у вас.
Горелик даже не спросил, свободен ли Карабанов, хочет ли ехать в скандал, а может даже в драку: ему сказали, что писатели — не такие овечки, как партийная шушера. Он уже раскусил доктора. Тот, как наркоман, попробовавший марихуану, всё сильнее втягивался в революционный разгром и чем дальше, тем охотней кидался в новую схватку.
Доктор действительно жил в эти дни, словно в опьянении от наркотика. Его будоражили происходящие события, волновали до повышения давления митинги, на которых осуждали ГКЧП и прочих «заговорщиков». Он тоже стал выступать на них — возбуждённо, переходя на крик и сажая голос. Больничные дела отодвигались куда-то в неинтересное отдаленье. Карабанов передавал операции другим хирургам; когда нельзя было отказаться, делал свою работу всё ещё добротно, но теперь, скорее, по привычке, чем с охотой.
В центре Москвы, возле здания мэрии, их присоединили к нескольким молодым людям. Образовавшуюся группу разделили на две части. Меньшую, из пяти человек, возглавил Горелик. Кроме него и Карабанова в неё вошли шмыгающий носом парень, с буйно всклокоченными, рыжими, как медь, волосами и двое совсем юных, школьного вида, ребят.
— Наша задача, — сказал Горелик, пряча в папку какой-то листок бумаги, — взять помещения Союза писателей России.
Стоящий рядом с доктором парень чихнул. Горелик недовольно глянул на него.
— У них хороший, старинный особняк. Сейчас там осиное гнездо. Эти люди со своими воплями о патриотизме, о притеснении русского народа идеологически готовили ГКЧП. Мы — национальные гвардейцы, имеем распоряжение…
В этот момент рыжий, лохматый парень отвернулся и громко высморкался на асфальт.
— В чём дело, Пашков?
— Простыл… Под дождём стояли — в кольце… Вокруг Белого дома… Течёт, как из крана…
— Надо дома сидеть, а не разносить заразу, — сказал Карабанов. — Какой-нибудь вирус подхватили.
— Сам сиди дома, если боишься заразиться, — гнусаво от заложенного носа проговорил рыжий и снова чихнул. — Мы историю делаем. Новую. А ты микробов испугался.
Карабанов терпеть не мог, когда незнакомые люди называли его на «ты». А здесь сопляк, в прямом и переносном смысле, которого он первый раз видел, разговаривал с ним, как с уличной шпаной.
— Вы где откопали такого «гвардейца»? — в бешенстве спросил он Горелика. — Што у нас общего с этой бациллой?
— Спокойно, спокойно, Сергей Борисыч. Пашков тоже имеет заслуги перед демократией. А ты, — одёрнул Горелик шмыгающего носом парня, — веди себя поприличней. Возвращаюсь к заданию. Эти писатели — самые отъявленные реакционеры. Их вопли о том, што мы уничтожаем страну, один в один повторили в своём воззвании путчисты. Пусть теперь повоют на улице. Под мостом пускай пишут свои красно-коричневые книги. А здание у них надо отобрать.
В это время в том здании, куда направлялись «гвардейцы демократии», проходило заседание пленума Союза писателей РСФСР. Даже при спокойной общественной обстановке подобные мероприятия у этой публики напоминают старинный базар, на котором поймали конокрада. Одни требуют его повесить, другие — бросить под копыта чуть было не украденного коня, третьи — взывают к божественному всепрощению. А после внезапного возникновения ГКЧП и столь же необъяснимого его провала зал заседаний напоминал улей, в который пыхнули дымом из дымаря. Президиуму с трудом удавалось удерживать порядок. Инженеры человеческих душ трясли бородами, отражали лысинами свет августовского солнца, свободно запивавшего через большие окна просторный зал памятника архитектуры, перебивали друг друга, пытаясь добраться до спрятанного, как тайна смерти Кощея Бессмертного, ответа на вопрос о дальнейших действиях своей организации в создавшихся условиях. И тут в коридоре раздался шум. Дверь распахнулась. В проёме возник сначала толстый, немного обрюзгший черноволосый мужчина, за ним показались невысокий, тщедушный человек с лицом цвета отбеленного холста и паренёк школьного вида. Бледнолицый обернулся в коридор, кому-то взмахом руки показал остаться там.
— Внимание! — крикнул он в зал. Некоторые писатели повернулись на голос, но те, кто были дальше от входной двери, не обратили внимания на появившегося лысоватого крикуна с выпуклым лбом и белесо-голубыми глазами. Это, похоже, рассердило его.
— А ну, тихо! — гаркнул он, и вылетевший из маленького тельца громовой голос поразил многих так же, как если бы они, наступив в лесу на старый гриб-дождевик, увидели не только коричневую пыль, но и услыхали взрыв.
— Ваше заседание закрывается! Помещение опечатывается!
Сидящие в президиуме непонимающе переглянулись. С первого ряда к бледнолицему обладателю голоса, похожего на иерихонскую трубу, подскочил тоже невысокий, однако, судя по жилистости и борцовскому виду, сильный мужчина в очках.
— Кто вы такие? Ваши документы?
— Мы из московской национальной гвардии. Вот мой мандат.
Писатель взял бумажку, стал читать вслух:
— По предъявлении сего мандата товарищу Горелику Анатолию Викторовичу предоставляется право участвовать в рассмотрении антиконституционной деятельности граждан, их причастности к государственному перевороту.
Стоящие рядом с Гореликом Карабанов и паренёк школьного возраста приосанились. Писатель фыкнул, прожёг взглядом современного «конокрада», словно решая, что с ним делать.
— А теперь покажите документ, на основании которого собираетесь опечатать здание.
Горелик неохотно достал из папки листок. Писатель также вслух прочитал и эту бумагу. В ней говорилось, что «учитывая имеющиеся данные об идеологическом обеспечении путча и прямой поддержке руководителями Союза писателей РСФСР действий контрреволюционных антиконституционных сил» приостановить деятельность правления Союза и опечатать помещение. «Комендантом здания, — читал литератор-крепыш, — назначить тов. Дуськина».
— Кто это Дусыкин?
Горелик показал на стоящего рядом парнишку.
— А кто подписал бумагу? Чьё распоряжение? Может, это анонимка? — с разных сторон послышались голоса.
— Подпись есть. Музыкантский.
Сидящий в президиуме и молчавший до того немолодой писатель со звездой Героя Социалистического Труда с удивлением спросил:
— Кто такой — этот Музыкантский?
Его сосед, лобастенький, с аккуратной приказчичьей бородкой и значком народного депутата СССР пожал плечами:
— Наверно, из тех, кто был ничем. А сейчас, вон видишь, становится всем.
Горелику надоел этот балаган вопросов и ответов.
— Освободите помещение, граждане контрреволюционеры.
Он вспомнил классическое выражение своего тёзки, матроса Анатолия Железнякова, который в январе 1918 года закрыл Учредительное собрание знаменитыми словами, и, нарочито насупившись, произнёс:
— Караул устал. Закрывайте свою лавочку.
Комиссар новой революции и не предполагал, что произойдёт дальше. Едва он протянул руку за распоряжением префекта Центрального округа Москвы Музыкантского, как прямо у него перед лицом крепыш-литератор разорвал листок пополам и бросил половинки на пол. В зале поднялся гвалт.
— Правильно! Это беззаконие! Охота на ведьм! Террор со стороны демократической банды!
Карабанов сначала обозлился и на мужика, разорвавшего важный документ, и на кричащих писателей, но, глянув ещё раз на человека со звездой Героя за столом президиума, стал вспоминать, где его видел. А приглядевшись, вспомнил. Это был известный писатель-фронтовик Юрий Бондарев, чьи книги Сергей читал ещё студентом, чьё лицо время от времени появлялось в телевизоре и чьи критические слова о горбачёвской перестройке несколько раз повторял ему отец. «Самолёт мы в воздух подняли, а о посадочной площадке не позаботились».
Улучив минуту затишья, Бондарев спокойно и твёрдо заявил: «Я отсюда уйду только в наручниках». Доктор понял: такие не отступят. Наклонился к Горелику и негромко сказал:
— Бросаем это дело. Надо действовать как-то по-другому.
Под крики и грохот сдвигаемой мебели — писатели начали баррикадировать окна — «гвардейцы демократии» с раздражением вышли из здания.
А там, внутри, закипела азартная, злая работа. Лысые и волосатые, бритые и в бородах, молодые и старые писатели под русскую матерщину и командные крики двигали к огромным окнам стулья и диваны, шкафы и даже трибуну. Они ещё не знали, что их неожиданное сопротивление заставит прокурора Москвы отменить распоряжение Музыкантского как незаконное. Не знали, что во всеобщей вакханалии захвата чужой собственности писательская коллективная собственность: Дома творчества, санатории, дачи, здание Правления, которое они собрались защищать вплоть до рукопашной всё это будет сохранено. И сохранено только благодаря их единению. Через два года, в октябре 93-го, они ещё раз выступят монолитным отрядом. А спустя полтора десятка лет встанут по разные стороны баррикады, внутри которой окажется та самая собственность. Теперь на неё у прежних единомышленников будут прямо противоположные взгляды.
Но в конце августа 91-го они радовались тому, что в опасный момент смогли пренебречь художественно-эстетическими разногласиями, и, глядя сквозь загромождаемые окна на изгнанных «гвардейцев демократии», стоящих неподалёку от здания, полагали, что это их единение — навсегда.
Горелик быстро приспосабливался к любой изменяющейся обстановке. Поняв, что взять сходу писательское «осиное гнездо» не удалось, он отпустил двоих парнишек и рыжего Пашкова, который ещё сильнее шмыгал носом. Оглянулся на трёхэтажный дом с колоннами.
— Красивый, чёрт возьми! Знаете, што это за дом? Ему больше двухсот лет. Называется Шефский дом. В начале 19-го века поблизости были построены Хамовнические казармы. Для Астраханского полка. У каждого полка был свой шеф. Это мог быть кто-то из царской фамилии или другой знатный человек. Жил он в Петербурге, а в Москву наезжал. С шефскими визитами. В доме постоянно квартировали высшие офицеры. Здесь собирались на свои совещания будущие декабристы. Пили, спорили… Представляете, заполучить этот дом в собственность! Проводить там вечеринки… Вот вас я, например, приглашу, и мы ходим по лестницам, где ходили декабристы, гладим колонну, к которой прижимал какую-нибудь женщину член царского дома…
— Для этого надо было родиться двести лет назад. И то членом…
— Мы родились в самое время. Сейчас начнётся массовый передел собственности. Надо не упустить шанс.
— Интересно, как вы собираетесь делить без одобрения демократической власти? Без митингов и народной поддержки?
— Времена митингов скоро пройдут. История будет делаться в кабинетах. А кабинеты должны занять мы. И в этом нужно помогать друг другу. Допускать только тех, кого знаем. Даже Ленин всегда спрашивал рекомендателя: знаете ли вы его лично? Вот вы меня знаете, и я вас тоже. Значит, мы оба готовы взять эту власть. Думаете, почему я пошёл работать в наш горсовет?
— Популярности захотелось, — насмешливо сказал Карабанов. — К трудящимся ближе. К их заботам.
— Нет, Сергей Борисыч. Ближе к собственности. К таким вот зданиям (показал на Шефский дом)… К заводам, шахтам, пароходам. Вы член партии, должны знать: ещё четыре месяца назад, на апрельском вашем пленуме, ваши товарищи…
— Бросьте. Я вышел из партии и давно не слежу за ней…
— А-а. Тогда я вам скажу. Мы следим… Наши люди всё отслеживают… Партийцы одобрили возможность приватизации в стране. А незадолго до ГКЧП российский Верховный Совет принял закон о приватизации и разгосударствлении. Теперь партии нет. Она запрещена. Остался закон. А как его выполнять, мы будем решать. В кабинетах.
— Сейчас не об этом надо думать, — решительно проговорил доктор. — Нужно добить систему. Выбить у неё последние зубы.
— Мы её и добьём. Когда возьмём собственность. Только вы не опоздайте.
Глава седьмая
После июньского заседания Верховного Совета СССР, на котором премьер Павлов, поддержанный силовиками, потребовал особых полномочий для Кабинета министров, Савельев в Кремле не бывал. Сейчас он шёл мимо здания Верховного Совета, где проходило то заседание, к Дворцу съездов, и думал о том, как изменилась жизнь за короткое время. Прошло всего два с половиной месяца, а вне кремлёвских стен была уже другая страна. После ликвидации ГКЧП стал стремительно и окончательно сдуваться Горбачёв. Виктор был на той сессии российского Верховного Совета в Белом доме, когда Ельцин, прямо возле трибуны, за которой стоял Горбачёв, подписал свой Указ о приостановлении деятельности Компартии. «Форосский пленник» что-то растерянно лепетал, а торжествующий Ельцин, со злорадной кривой ухмылкой, не обращая внимания на униженного «вождя», показывал залу победную бумагу.
На следующий день морально раздавленный Горбачёв, отрёкся от должности Генерального секретаря ЦК КПСС. Это стало сигналом к захвату огромной собственности, что вызвало удивление даже на Западе. Приехавший в Москву экс-канцлер ФРГ Вилли Брандт, бывший в то время секретарём Социалистического интернационала, заявил по поводу «приостановления деятельности», что «на цивилизованном Западе, в правовых государствах такого не принято».
Теперь Виктор шёл на открытие Пятого, внеочередного Съезда народных депутатов СССР и пытался представить, чем он закончится. Союз разваливался, и средства массовой информации третировали союзных депутатов, призывая их отказаться от мандатов.
Утро было солнечное. Второе сентября, понедельник — первый день учебного года. Савельев успел проводить дочь до школы. Там — радостное волнение, цветы, улыбки, торжественно настроенные учителя и ребятишки. А к Дворцу съездов шли озабоченные, хмурые люди, и ничто не напоминало тот всеобщий душевный подъём, с которым они неслись чуть больше двух лет назад на открытие своего Первого Съезда.
В главном фойе похожего на куб беломраморного здания, застеклённого с трёх сторон от земли до крыши (оно всегда напоминало Виктору обнажённо-прозрачные кафе — «стекляшки» хрущёвских времён), толклись депутаты, журналисты, приглашённые. Возле одной из колонн Савельев увидел группку мужчин, о чём-то негромко спорящих. Среди них заметил своего знакомого депутата Виталия Соловьёва. Журналист заколебался: подходить ли? После того разговора о Ельцине в 89-м году они виделись не один раз. Обсуждали, что угодно: охоту — Виталий тоже любил её, свои дома в деревне — оба начали строиться каждый у себя, но только не российского лидера. Лишь однажды, когда Ельцина избрали председателем Верховного Совета России, Савельев напомнил Виталию их разговор.
— Ну, кто из нас оказался прав? Народ не обмануть… Толпа подняла Борис Николаича на руки и внесла во власть.
— Народ-то как раз легче всего обмануть, — спокойно заметил Соловьёв. — Возбуждённая толпа никогда не бывает умной. Она ещё пожалеет о своём выборе.
Всё, что происходило потом, доказывало правоту Соловьёва. Вспоминая о собственной недальновидности, Виктор чувствовал себя самонадеянным мальчишкой. Ему казалось, что Виталий когда-нибудь припомнит журналисту агитацию за Ельцина. Но тот молчал, а от этого Виктору становилось ещё больше стыдно. Он стал избегать встреч. Вот и сейчас, поколебавшись, решил не останавливаться. С мятой, смущённой улыбкой кивнул Соловьёву и прошёл мимо.
Поскольку звонка ещё не было, большинство депутатов кучковалось в фойе. У многих лица были серьёзные, даже мрачные, словно у людей, ждущих приговора. Но вместе с тем кое-где слышался смех, весёлые голоса. Проходя возле одной такой кучки, Виктор увидел в ней Катрина. Тот смеялся, прикрывая рот рукой. Журналист отвернулся, чтоб не вступать в разговор. Однако не удалось.
— А-а, гражданин Савельев! — закричал нечернозёмный Бонапарт. Стригущими шажками направился к Виктору. — Как поживаете после неудачного переворота? Жалко, наверно, товарищей? С верхней палубы государственного корабля да в камеры «Матросской тишины».
Он семенил, стараясь не отстать от журналиста, который размашисто шёл по фойе.
— Не дали вы моим предложениям хода! Теперь можно вас рассматривать, как соучастника. Тогда бы их отправили в отставку… ну, кого-то арестовали… заранее взяли за горлышко… загодя… вот так!
Катрин сморщил свирепую мордочку, выбросил вверх правую руку и несколько раз сжал пальцы, словно кого-то душил.
Савельев резко остановился.
— Вы чево мелете, гражданин Катрин? Ищете ведьм, где их нет? Я вот сейчас донесу на вас, што вы своими публичными призывами к массовым репрессиям провоцировали переворот. Возбудили заговорщиков! Вы подстрекали к бунту! И мне поверят! Потому што я породил Межрегиональную депутатскую группу. Я помог многим стать депутатами. А вы кто такой?
Маленький мужичок насупился. Слегка осевшим голосом произнёс:
— Я из команды Борис Николаича.
Катрин понял, что разозлил журналиста и дразнить его дальше небезопасно.
— Вот и передайте ему привет! — сказал Виктор. — А сами впредь думайте, што несёте… Ленин-Маркс в одном стакане.
Немного остыв, бесцветно спросил:
— Готовитесь, наверно, распускать Съезд?
— Наше дело — только помогать. Стараться будет Горбачёв. И вот эти…
Нечернозёмный Бонапарт показал на толпу депутатов, двинувшихся в зал заседаний. Меленько засмеялся, прикрыв рот рукой, и доверительно проговорил:
— Историческое событие ждёт нас с вами, гражданин Савельев! Кто должен корабль спасать, будет его топить.
Намёк на Горбачёва как ликвидатора Съезда насторожил Савельева. «Неужели этот вьюн будет сдавать последнее?» — с беспокойством подумал он. Но, видимо, Катрин знал что-то такое, что было неизвестно журналисту. Поэтому Виктор решил внимательно следить за ходом событий.
А они понеслись вскачь. Сразу после открытия заседания Горбачёв предложил принять заявление, которое останавливало действие союзной Конституции и создавало органы власти, ею не предусмотренные и никакими правами не обладающие. Подписали заявление руководители нескольких республик и Горбачёв. Зачитал документ президент Казахстана Назарбаев.
В отличие от зала заседаний Верховного Совета СССР, где прессу пускали только на балкон, в Кремлёвском Дворце съездов возможностей было больше. Особенно для пишущих журналистов. У них ни треног, ни камер — лишь блокнот и ручка. Савельев брал ещё маленький японский диктофон. Поэтому, не выпячивая себя, он устраивался на каком-нибудь боковом балконе. Оттуда видел значительную часть зала, а приглядевшись, мог различать даже мимику на лицах.
Но сейчас и вглядываться не требовалось — многие депутаты были в явной растерянности. Из выступлений стало выясняться, что документ стратегического значения готовили второпях, ночью, что инициатором заявления был Горбачёв, а к нему даже в послушной части депутатского корпуса отношение изменилось.
— Я прошу простить меня за то, што буду говорить, может, не очень чётко, поскольку не готовил специального выступления, — начал депутат из Орловской области. — Как и многие из вас, я не был готов к такому повороту событий.
Виктор знал этого человека. Тот всегда восхищался Горбачёвым, поддерживал любые инициативы «президента-реформатора», но сегодня и ему, похоже, стало не по себе.
— Если мы так же легко, как за открытие Съезда, проголосуем за предлагаемые меры, то не получим ли сербо-хорватский результат войны республик друг с другом? Михаил Сергеевич, скажу откровенно: боюсь, што такое скоропалительное решение приведёт к страшному хаосу.
Стали понимать опасность горбачёвского документа и другие депутаты.
— Я хочу говорить только по одному вопросу, — тихим голосом начал известный учёный-лингвист, академик Лихачёв. — Сохранение Союза — это сейчас важнейшая проблема. Его развал повлечёт за собой беду для всех наших республик. Это должно быть ясно не только здесь, в зале, но и за пределами наших стен. Это должно быть ясно каждому рабочему и крестьянину, неискушённому в чиновничьем языке, возможно, не понимающему, што такое «экономическое пространство» и другие подобные вещи. Они должны ясно представлять себе, почему необходим Союз.
Савельев слушал 85-летнего академика, его негромкий, взволнованный голос и думал: неужели этому выдающемуся старцу, ещё в молодости прошедшему лагеря, всю жизнь имевшему дело с древними рукописями и ветхими книгами, знающему героев «Слова о полку Игореве» лучше, чем многих сегодняшних соседей по дому, видна грядущая беда народов в случае развала единого государства, а те, кому доверились миллионы людей, этого не понимают?
— Если мы проведём тысячекилометровую новую берлинскую стену между нашими народами, — продолжал Лихачёв, — мы станем территорией третьестепенных государств и в политическом, и в военном, а самое главное — в культурном отношении.
Почему наша держава одна из первых в мире? Потому што за ней великая, многонациональная культура. И всё это нам нужно сохранить.
Хотя парламентскую среду в целом Савельев знал неплохо, всё же знакомых больше имел в Верховном Совете СССР. Что было вполне объяснимо. Съезд из двух с лишним тысяч человек собирался время от времени, а Верховный Совет из полутысячи депутатов работал месяцами. Поэтому со многими Виктор был знаком лично. С одними — ещё с их кандидатской поры. С другими — уже в депутатском качестве. Чьи-то готовил статьи. Кого-то запомнил по необычным выступлениям в зале заседаний.
Но было несколько человек, одно лишь упоминание фамилий которых вызывало волнующие ассоциации. Таким был депутат Оболенский. Даже если бы он не удивил страну, смотрящую прямую трансляцию Первого Съезда народных депутатов СССР, выдвижением, в противовес Горбачёву, своей кандидатуры на пост Председателя Верховного Совета, фамилия «Оболенский» и без того была на слуху у миллионов. Со сцен и с экранов телевизоров, из магнитофонов и молодёжных застолий неслись волнующие слова о двух благородных белогвардейских офицерах. Сам Виктор, имея неплохой голос, едва ль не при каждой выпивке подхватывал обязательно кем-нибудь начатую песню:
Четвёртые сутки пылают станицы, По Дону гуляет большая война, Не падайте духом, поручик Голицын, Корнет Оболенский, налейте вина!В этой песне, написанной кем-то из молодых советских авторов и быстро ставшей народной, каждый эстрадно-магнитофонный исполнитель немного менял отдельные слова. Но один куплет не трогали. Видимо, не поднималась рука:
Мы сумрачным Доном идём эскадроном, Так благослови нас, Россия-страна! Корнет Оболенский, раздайте патроны, Поручик Голицын, надеть ордена!«Какие люди! Какие сыны Отечества!» — мысленно повторял Виктор, каждый раз судорожно глотая комок в горле. Поэтому возникающая при каких-нибудь обстоятельствах фамилия депутата, всегда вызывала у Савельева ассоциации с чем-то надёжным и порядочным, хотя в жизни, как он понимал, воображаемое не всегда соответствует реальному.
Когда председательствующий Горбачёв объявил выступление Оболенского, у Савельева приподнялось настроение: «Ну, этот вряд ли поддержит развал Союза».
Оболенский начал с резкой критики председателей обеих палат Верховного Совета. Он сказал, что эти люди «предали возглавляемые ими палаты», позволив появиться заявлению, где намечено «сформировать неконституционные органы власти». Под аплодисменты депутатов воскликнул:
— Может быть, хватит относиться к Конституции, как к публичной девке, приспосабливая её к утехам нового царедворца? Должна же быть в обществе основа стабильности и правопорядка! Именно с насилия над законной властью начинались все гражданские войны, в том числе и наша, которая началась с разгона Учредительного собрания.
Однако, когда он предложил сместить Горбачёва с должности Президента СССР и в трёхмесячный срок провести всенародные выборы нового президента, в зале не раздалось ни единого хлопка. Люди замерли, словно парализованные. Даже стоя на краю обрыва, к которому привёл их этот велеречивый, проигравший страну человек, они не решались отказаться от него, столкнуть в пропасть истории, а продолжали надеяться на озарение вождя, как немцы в атакуемом рейхстаге — на появление «чудо-оружия».
Тем не менее, выступление Оболенского создавало серьёзную угрозу. Отвергая разрушительный документ, кое-кто также мог повернуть к ответственности главного автора. «Сейчас станут отмывать пятнистого», — подумал Савельев. И действительно, вскоре от одного из стоящих в зале микрофонов полилась липкая, как сахарный сироп, хвалебная речь о Горбачёве. Туркменский представитель призывал «не бросать камни в нашего лидера Михаила Сергеевича», «оградить его от незаслуженных обвинений» и дать «успешно работать на благо страны».
Похожие, явно организованные «вставки» прозвучали ещё в нескольких выступлениях. Наконец, «отметился» и сам Горбачёв. Закрывая первый день заседаний, он объявил:
— Поступила записка от депутатской группы о том, что народный депутат Оболенский выступал не от группы, а от себя лично.
Какая группа подала эту записку? Кого она представляла? Объяснений, разумеется, не последовало. Важно было нейтрализовать опасное предложение, показав его одиночным мнением депутата-экстремиста.
Но отвести разговор в сторону от Горбачёва не удалось и на следующий день.
— Перед нами сейчас как бы разыгрывается третий акт пьесы, — заявил профессор из Минска, доктор экономических наук, депутат Журавлёв. — Известно, что в пьесе третий акт — всегда самый драматический. И если мы не сделаем эту пьесу со счастливым концом, если не будет четвёртого акта, страну ждёт трагедия.
Говорю об этом потому, что хорошо знаю «почерк» моих зарубежных коллег. Сценарий этой пьесы пишут системные аналитики. Я тоже системный аналитик, и разница между нами лишь в том, что они загадывают, а я разгадываю загадки.
У нашего Президента есть любимые фразы: «подбросили идею», «процесс пошёл». Не знаю, кто нам подбросил идею, но она чисто английского производства: «разделяй и властвуй». Если нас разделят, будут властвовать.
Я целиком и полностью согласен со всем, что сказал вчера депутат Оболенский. Другое дело, как нужно поступить с нашим Президентом. Я не знаю, кто он точно — это скажет только суд.
Но нам надо думать о стране. Поэтому нужно очень внимательно отнестись к тому, что нам предлагают. Ни в коем случае нельзя распускать Съезд и Верховный Совет. Они должны выполнить свой долг.
Савельев время от времени выключал диктофон — экономил плёнку. Тем более, что многие начинали с ритуального осуждения ГКЧП. Оценки варьировались от уже набивших оскомину штампов «хунта», «государственные преступники» до свежих образов: «монстры тоталитарного режима», «корниловский мятеж», «убийцы свободы и демократии». Соревнуясь друг с другом, выступающие фонтанировали радостью от великой демократической победы.
Однако в большой бочке этого победного мёда вдруг стал ощущаться явный запах дёгтя.
— Путч встряхнул общество, и случилось то, что происходит, когда встряхивают ведро с картошкой, — заявил один из выступающих. Савельев с любопытством поглядел вниз на стоящего у микрофона оратора. Узнал его. Это был знакомый эколог. «Ну-ка, ну-ка, что произойдёт с картошкой?»
— Крупные клубни выходят на поверхность, мелкие падают вниз, — сказал тот и сразу перешёл на общество. — Так получается и с людьми.
У некоторых настолько быстро «перекрасились» взгляды, так быстро они «переодели пиджаки», што невольно задумаешься об уровне их приверженности демократии. Может, у них эта приверженность временная? Стало выгодней носить новую одежду? Такие люди есть и в нашем зале. Они под разговоры о демократии навязывают нам авантюру. Вплоть до роспуска Съезда. Мы должны быть бдительны.
Насчёт бдительности Савельев был согласен. Он и раньше в спорах с некоторыми депутатами настойчиво советовал им не отбрасывать её, в том числе при общении с Горбачёвым и Ельциным. «В политике безоглядно нельзя доверять никому, — горячился Виктор. — Особенно людям, которые обещают всех построить в новые колонны. Демократические. А каждый шаг в сторону инакомыслия будут расценивать как побег к врагу».
Теперь один из тех его оппонентов, когда-то упрекавший Виктора за излишнюю подозрительность к демократам, жидким, просящим голосом призывал с трибуны Съезда остановить маховик начавшихся репрессий под демократическими знамёнами.
— Наш святой долг — не допустить ликвидации оппозиции, инакомыслия и раскручивания колеса страха. Политические деятели, возрождающие лозунг: «Кто не с нами, тот против нас», выгоняющие с работы за инакомыслие толковых специалистов, должны спросить у себя: хватит ли им холода в сердце, штобы завтра подавлять голодные тамбовские бунты, кто из них готов исполнять роль карателя, а кто — певца и теоретика теперь уже демократического террора? Неужели нашему народу предстоит долгие годы защищать демократию от неистовства её беспощадных сторонников?
«А ты на што рассчитывал, когда хвалил националистов в республиках? — с раздражением подумал Савельев, вспомнив выступление этого депутата на одном из московских митингов. — Говорил, как Змей Горыныч огнём полыхал. Сторонников Союза не считал за людей. Ба-а! Да ты и сейчас с той же песней!» — удивился он, услышав заключительные слова оратора:
— И последний пункт. Мы должны самораспуститься. Того Союза, который был на этом гербе, больше нет. Значит, его верховной власти тоже не должно быть. Надо думать о новом союзе. Но прежде всего — услышать мнение народов.
После этого ещё активней стали выступать сторонники горбачёвского документа, который прекращал действие союзной Конституции. Однако и противники их тоже не молчали.
— Прекрасное вино, налитое в грязный кубок, будет испорчено, даже если это кубок победы, — заявил депутат из Ленинграда Щелканов. — Самые прекрасные идеи и меры, направляемые на радикальное улучшение обстановки в государстве, будут дискредитированы, если они внедряются антиконституционными методами.
Чем мы занимаемся сегодня? Послушно нарушив требования Конституции и Регламента, практически не открывая Съезда, мы превратили его то ли в конференцию, то ли в симпозиум по обсуждению ультимативно вручённого высшему органу народовластия заявления. И если сегодня попираются требования Конституции и Регламента, то о каком законопослушании граждан мы осмеливаемся говорить, когда сами даём примеры противного. Начинать надо с себя!
Савельев знал, что этот человек имел право говорить так. Он не был знаком с ним лично — всё как-то не «ложилась карта». Но много слышал от своего коллеги и товарища, тоже народного депутата из Ленинграда Ежелева. Про Александра Щелканова в городе на Неве ходили легенды. Капитан первого ранга в отставке и военный пенсионер, он сначала работал штамповщиком пластмассовых изделий на заводе, а потом грузчиком в магазине. Из грузчиков этот худощавый, с военной выправкой, с суховатым аскетичным лицом и короткой стрижкой 50-летний мужчина шагнул в народные депутаты СССР, победив влиятельного директора Балтийского морского пароходства.
Через год, на альтернативной основе, Щелканова избрали председателем исполкома Ленсовета. Те качества, которые видело до того близкое окружение, стали открываться многим. Его скромность была не показной, а естественной, как кожа тела. Руководитель огромного города каждый день ездил на работу и домой только городским транспортом: на метро, в автобусе. Он не сменил ни квартиру на более лучшую, ни даже номер домашнего телефона. Его нельзя было уговорить на какое-то «левое» дело, «войти в положение», если за этим стояла чья-то корысть. Став главой исполнительной власти, Щелканов принимал на работу специалистов только по конкурсу. Публично заслушивались программы, и депутаты Ленсовета оглашали вердикт. Так в исполкоме создавалась атмосфера ответственности, товарищества и доверия. Ежелев рассказывал Виктору, что нередко победивший на конкурсе брал своим заместителем того, кто оказывался вторым в борьбе.
После решения Ленсовета во главе с Собчаком ввести выборную должность мэра пост председателя исполкома упразднялся. 12 июня 91-го года Щелканов ушёл в отставку. Ни до того, ни после не было таких проводов руководителей города. Уже некуда было ставить цветы, а их всё несли и несли. Все триста семьдесят депутатов Ленсовета, стоя, аплодировали этому сдержанному человеку и не только у женщин были мокрые глаза. Некоторые понимали, что уходила короткая эпоха настоящей демократии, а на смену ей рвалась надменная чванливость, шулерски играющая словами о демократии.
И, слушая сейчас Щелканова, Виктор жалел, что до сих пор не выбрал времени познакомиться с этим человеком, которого про себя называл «демократической легендой» Ленинграда. «Вот какие люди нужны во власти, — думал он. — Это, наверно, и есть нынешние сыны Отечества. Только почему-то Отечество меняет их на других. Неужели народ, действительно, не способен разглядеть, где добро, а где зло? Верит прохвостам только потому, что они обещают к благу лёгкие пути. Даже через разрушение…»
Он мысленно повторил слово «разрушение», поскольку оно донеслось из зала. Савельев прослушал фамилию выступающего, но тут же по резкому, жестяному голосу узнал Катрина.
— Некоторые не хотят роспуска Съезда народных депутатов, боятся, повторяю вам, разрушения государства. Но я предлагаю глянуть правде в глаза. Когда выдвигается аргумент, будто это действие антиконституционное, можно ли с этим согласиться? Конечно, нет! Советского Союза уже не существует. Сохранять высшие органы власти несуществующего государства — это ж полный абсурд. Да, процесс развала Союза — это для кого-то из наших недальновидных коллег — процесс негативный. Но в глазах демократического Запада, а мы должны равняться на прогрессивный мир, это самый лучший вариант. Будет не одно, а пятнадцать государств. А если разделится Россия — ещё штук десять — разве это плохо? (Катрин прыснул, как котёнок чихнул). Больше будет мест, куда поехать в гости.
Если вдруг кто-то захочет объединиться — флаг им в руки. Только будет это, надеюсь, не скоро. Мы наелись единства. А на переходный период нам вообще не нужна никакая законодательная власть. Ни Съезд, ни Верховный Совет. Я поддерживаю предложение ликвидировать всё это и призываю не лезть бессмысленно под колесо истории.
В зале поднялся шум. Савельев увидел сверху, как из рядов, к стоящим в проходах микрофонам и сгрудившимся возле них депутатам, стали пробираться новые люди. «Вот гадёныш! — подумал он о Катрине. — Неужели ему не ответят?» И, словно услыхав Виктора, от микрофона заговорил Виталий Соловьёв.
— Уважаемые депутаты! Я не могу сказать: «товарищи», потому што мы с некоторыми лицами в этом зале не являемся товарищами. Они хотят уничтожения моей… нашей страны, я хочу её сохранить.
Нам предлагают одобрить Заявление руководителей республик, подписанное, между прочим, и президентом Горбачёвым, где говорится, што Съезд должен обратиться в ООН с просьбой признать все республики самостоятельными государствами. После чего, как предложил один из предыдущих ораторов, Съезд должен самораспуститься, спросив напоследок мнение народов о Союзе. А разве народы уже не сказали своего слова? Полгода не прошло со времени Всесоюзного референдума. Три четверти участников проголосовали за сохранение Советского Союза. Не от имени кого-то. Не по поручению. Каждый лично сказал: я — за.
А кто такие лица, подписавшие Заявление о ликвидации Союза? Да-да, — вы не кричите! — именно о ликвидации! Кто такой Шушкевич? Всего лишь заместитель Председателя Верховного Совета Белоруссии! Он даже не избран народом, штобы говорить от его имени! Так же и другие. Разве народы отдали им своё право — я подчёркиваю: своё! личное право каждого гражданина решать: быть или не быть Союзной Конституции, быть или не быть утверждённым ею высшим органам власти, а, по сути говоря, аннулировать решение каждого гражданина, которое он официально высказал? Нет, такого права им не давалось. Выходит, нам предлагают утвердить незаконное упразднение союзных институтов власти. А это, уважаемые депутаты, уголовная статья. По ней сейчас готовятся судить руководителей ГКЧП. Так чем же лучше подсудимых те лица, которые составили антиконституционный документ?
Они почему так сильно хотят быть самостоятельными? Может, думают о счастье своих народов? Совсем нет. Им хочется неограниченной власти, хочется быть похожими на всех больших президентов. Личные самолёты. Дворцы и лимузины. А главное — деньги, деньги…
Многие из нас, находящихся в этом зале, ещё не раз вспомнят слова Дмитрия Сергеича Лихачёва, которые он сказал вчера. Разваленный Союз превратится в кучу третьестепенных государств. Во всех смыслах слабых. Зато в каждом будет свой президент. На манер американского. Каждый будет непомерно богат. С золотым троном. С раздутой охраной. И с нищим народом… где-то там, внизу.
Тут передо мной выступал депутат… Спрашивал со слезой в голосе: хватит ли у демократических лидеров холода в сердце подавить бунт голодных. Нисколько не сомневаюсь: хватит! Даже расстрелять хватит совести. Боюсь, што мы это скоро увидим, если проголосуем за предложенные нам документы.
* * *
Такого беспокойного состояния в жизни Савельева, кажется, ещё не было. И это, несмотря на то, что шёл он по этой, своей, жизни, словно по горной стране. То поднимался вверх — иногда трудно, упорно, то сваливался в яму осуждений, выговоров, увольнений по собственному иль чьему-то желанию. Из одной молодёжной редакции пришлось уйти только потому, что не захотел стать любовником редакторши газеты. При его нещепетильности в этом отношении, азартности в любовных связях «облаготельствовать» лишнюю женщину было пустяковым делом. К тому же, редакторша выглядела совсем не дурно. Но он уже несколько раз выпивал с её мужем — угрюмым провинциальным писателем, толковал с ним «за жизнь» и сам не понял, какая вожжа «попала под хвост». Когда женщина в своём кабинете обняла Виктора и потянулась к нему губами, он с извинительной улыбкой развёл её руки. «Не надо, Юля».
После того случая Савельев узнал, что такое — месть отвергнутой женщины-начальницы.
Однако со временем и тот прессинг, и последующие обрушения остались в памяти, как эпизоды, достойные разве что грустной мысленной улыбки. Даже когда его снимали с работы за критический материал в большой областной газете (задел слишком близких к первому секретарю обкома партии людей), не было такой опустошённости и беспокойства, какие он чувствовал теперь. Тогда знал: произошедшее с ним — частный случай его жизни. Отдельной жизни в огромном многоквартирном Доме под названием «страна». У него обрыв, но в Доме-то всё нормально. А значит, и он снова поднимется, ибо гарантией тому — живая, пульсирующая жизнь Дома.
Теперь рушилось то, что раньше было надеждой и опорой. Распадался Дом. Сдвигаемые непонятными силами плиты перекрытий готовы были вот-вот упасть на растерянных, ничего не понимающих людей, а стены, ещё недавно бывшие прочной защитой от внешних злостей, разрывали опасные трещины. Треск с каждым днём становился слышней, и самое скверное, клял себя Савельев, что он тоже оказался причастен к надлому.
В очередной раз Виктор почувствовал свою вину, когда услыхал на «Съезде разрушителей» — так для себя журналист определил последний сбор союзных депутатов — выступление Старовойтовой. Отметившись по поводу «политических авантюристов», которые «подписали смертный приговор последней в мире империи», она объявила:
— Межрегиональная депутатская группа поддерживает идеи заявления, предложенного главами республик и президентом СССР.
И тем же непререкаемым тоном продолжила:
— Будем реалистами — прежнего Советского Союза больше не существует. Вскоре это найдёт отражение и в международных правовых документах. Сегодня на Съезде мы имеем возможность использовать исторический шанс: цивилизованно и мирно начать строительство нового содружества наций. Мы предлагаем достойно уйти с нашей исторической сцены.
«Как же я не разглядел в тех выдержанных, вменяемых людях будущих экстремистов? — мучительно недоумевал Савельев. — Как не увидел в их пластилиновой мягкости завтрашнего топора?»
Но ведь он прекрасно помнил каждого из первых шестерых депутатов, которых собрал в редакции. Потом к ним добавились ещё семеро — и следующую встречу они провели в знаменитом медицинском Центре профессора-офтальмолога Святослава Фёдорова. Ни один из них не был не только антисоветчиком, но даже безоглядным критиком политической системы в целом. Ставшие депутатами через борьбу, они хотели обновления ветшающей системы, её большей энергичности. Однако абсолютно неопытные в парламентской работе люди боялись оказаться марионетками в руках матёрых аппаратчиков, и Виктор понимал их настороженность. Он и собрал тех первых, шестерых, а потом и следующих как раз для того, чтобы они услышали соображения друг друга о будущей своей деятельности, пригляделись друг к другу и потом выбирали в комитеты и комиссии не только предложенных аппаратчиками депутатов, но и тех, кого предварительно узнали сами.
Они хотели, как и сам Виктор, той реальной демократии, когда ты говоришь, и тебя слышат, но при этом и ты слышишь, когда говорят тебе. Как получилось, что нормальные люди стали шаг за шагом сдвигаться в сторону полного отрицания окружающего их мира, потери слуха и политического экстремизма? Стали понимать демократию, как непременное разрушение любых сдерживающих ограждений. Но разве допустима безоглядная ломка того, что предохраняет разумного человека от беды? Это всё равно, что на бобслейных виражах сломать перед несущимися санями ограждающие стенки ледяного желоба. Как правила спорта регулируют безопасность соревнующихся, так и демократия, в целях безопасности народов, должна быть регулируемой.
А главный регулятор, по твёрдому убеждению Савельева — это закон. Не случайно он и статью свою об армяно-азербайджанском конфликте назвал когда-то «К Диктатуре закона!» Превращение разумных людей в безумных громил — это результат беззакония. Но важно не только закон принять. Гораздо важней добиться его исполнения. Что толку в принятом законе о порядке выхода республик из Союза? Два референдума… Годы развода… Защищённые силой права национальных меньшинств… В Прибалтике против нацистов выступало столько же сторонников Союза, но Горбачёв не исполнил закон. Ядро межрегиональной депутатской группы стало орудием развала прежде всего потому, что, поощряемое, в том числе из-за рубежа, оно каждым своим шагом в эту сторону отталкивало ограждение существующих законов. Безнаказанно. Без жёсткого одёргивания властью. То есть Горбачёвым.
И снова Савельев выходил на главного виновника крушения страны.
После речи Виталия Соловьёва, закончившейся одновременно под аплодисменты и крики: «Позор!», выступили ещё несколько человек. Но времени на обсуждение проекта закона, быстро подготовленного на основе заявления, уже не было. Подходила пора документ принимать или отвергать. «Примут, — сказал Соловьёв, когда журналист дождался его у выхода из Дворца и спросил о возможных вариантах. — Сейчас снова начнут работать с депутатами от республик. С нашими тоже… А главное, увидишь, как будет завтра юлить Нобелевский лауреат».
Соловьёв оказался опять прав. На следующий день Горбачёв гнал Съезд к завершению, не давая депутатам ещё и ещё раз сосредоточиться на документе. Впрочем, многим это было и не нужно. Когда одни протестовали против навязываемых темпов, большинство других кричали: «Хватит!».
Сначала Горбачёв предложил начать голосование вообще без всяких обсуждений. Рёв зала заставил его отступить.
— Если вы будете так себя вести, это не облегчит нам работу.
Лавируя, ему пришлось согласиться на выступления до двух минут.
— Сколько времени на это выделим? — кричал в микрофон красный Горбачёв. — Десять минут хватит?
Зал снова взревел.
— Так что же, тогда будем обсуждать неограниченно? Или выделим 30 минут?
В зале зашумели, но кто-то из рядом сидящих крикнул: «Да!» Горбачёв ухватился за эту подсказку. Похоже, и депутаты согласились получить хоть шерсти клок. Проголосовали за полчаса двухминутных выступлений. И то лишь по процедурным вопросам. Текста предлагаемого документа, нарушающего Конституцию и ликвидирующего высшие органы власти СССР, трогать не допускалось.
Разумеется, волнующиеся люди не укладывались в отведённые две минуты. Тем более, что говорили совсем не о процедуре. Торопясь, ругали Горбачёва, проект закона, сам Съезд, который «поставили на колени». Но это только усиливало состояние растерянности и неопределённости. Одни ещё верили президенту СССР — не может же он, думали, вести страну к расколу! Другие надеялись, что всё как-нибудь образуется: столетиями жили вместе, сотни тысяч смешанных семей, дети не поймёшь какой национальности — советские да и всё! Третьи понимали, что процесс не остановить, поэтому надо хоть что-то слепить на переходный период.
Под выкрики несогласных и аплодисменты довольных шло голосование по статьям. Гвалт сопровождал каждое включение светового табло. Наконец, стали голосовать за принятие закона в целом. Закона, который, по сути, убирал органы верховной власти союзного государства и давал возможность лицам, оказавшимся по воле случая во главе республик, использовать эту власть в своих интересах.
Когда зажглось табло в последний раз, Савельев понял: дорога к узаконенному сепаратизму и развалу единой страны открыта. «За» проголосовало 1682 депутата. И только 43 человека нажали кнопку «против».
Глава восьмая
Он вышел из Кремля через Спасские ворота. Справа, на Васильевском спуске, почти от Кремлёвской стены и до огромной гостиницы «Россия», как острова архипелага, стояли большие группы людей с транспарантами. На Красной площади демократические власти Москвы митинговать запретили. Поскольку депутаты жили в «России» и после заседания должны возвращаться в гостиницу, митингующие транспарантами высказывали им свои требования. Над одними группами поднимались надписи, в разных вариациях выражающие лозунг: «Сохраним СССР — родной дом братских народов». Над другими качались плакаты: «Свободу — республикам!», «Долой империю СССР». Пока шёл Съезд, противники воздействовали друг на друга криками и текстами транспарантов. Теперь, когда депутаты приняли решение, Виктор не был уверен в мирном исходе противостояния. Он и сам сейчас, взвинченный, нервный, готов был полезть в любую драку, если бы это помогло сохранить страну.
В шуме выкриков Савельев не сразу понял, что его кто-то зовёт. Повернулся на голос.
— Виктор Сергеич! Виктор Сергеич! Вы оттуда?
Молодой мужчина, лет тридцати пяти, с залысинами и редкой бородкой, показал на Кремль.
— Да.
— Как там?
— На мой взгляд, хреново, Гриша. Приняли закон, который может ликвидировать Советский Союз.
— Да ладно вам переживать! — весело воскликнул мужчина. — Россия-то останется! На нас хватит.
— Ты инвалидов видел, Чухновский? Без руки… Без ног… Человек, конечно… Только как ему такому живётся? Он пока приспособится — наглотается слёз. Ты, кажется, инженер? Значит, должен понять, што такое разорвать хозяйственные связи. Европа объединяется, а нас рвут.
— Вы меня принять можете? Я вам как раз хотел звонить. У нас готовится интересная программа.
— Звони завтра. Сегодня не до неё.
Григорий Чухновский был из тех, кому Савельев помог стать депутатом. Он, конечно, не преувеличивал своих заслуг в столь многоходовом деле, но и значения журналистской поддержки не преуменьшал. Это на дальнейших выборах начали работать огромные деньги, «грязные технологии», бандитские пули. А на первых, похожих на подлинно демократические, выборах, когда к народу стали обращаться тысячи никому до того неизвестных людей, во многих случаях решающим фактором оказывалось появление человека на газетно-журнальной странице и уж тем более — на телевизионном экране. Порой достаточно было успеть сказать несколько фраз в камеру, чтобы на кандидата обратили внимание. Виктор даже не всех знал, чьим «крёстным отцом» оказался, ибо в каждой предвыборной телепередаче старался показать как можно больше «свежих» людей из областей и республик. Некоторые потом, став депутатами, заявлялись к нему с благодарностями в редакцию или подходили между заседаниями Съезда и Верховного Совета.
Однако про Чухновского Виктор точно знал: ему он помог. В самый ответственный момент избирательной кампании в Моссовет Бандарух привёл к нему в кабинет (чего раньше никогда не бывало) молодого человека с портфелем-«дипломатом». Пришедший был худоват, немного сутул, с продолговатым лицом, которое охватывали бакенбарды, переходящие в небольшую бородку с усами. Удлинённость лицу добавляла идущая ото лба залысина.
Заместитель главного редактора представил гостя: Григорий Чухновский. Попросил сделать с ним интервью.
— И посочней, Виктор Сергеич. Как вы умеете. Поставим сразу. У Гриши есть што рассказать.
Савельев просидел с Чухновским часа два. Что-то записывал в блокнот, больше — на диктофон. Григорий после института работал начальником лаборатории в одном из химических НИИ. Поэтому заранее предупредил: «О промышленности… ну, там про всякую экономику не спрашивайте. Я больше люблю говорить о политике».
В те февральские дни 1990 года Россия клокотала от края до края. На 4 марта были назначены выборы не только народных депутатов РСФСР, но и депутатов всех существующих Советов — от сельских до Верховных в российских республиках. Жизнь на глазах становилась хуже. Как поток грязной воды, разорвавшей плотину, по городам разливалась преступность. Магазины пустели день ото дня. Самые необходимые продукты можно было купить, лишь отстояв в многочасовых очередях с нередкими скандалами в них. Дефицитом стали элементарные промтовары. Люди справедливо обвиняли в этом власть и требовали перемен.
Надеждой показались предстоящие выборы. Массы решили: если во власть придут настоящие борцы за народное счастье, жизнь через два-три месяца будет совсем другой. Тем более, что их в этом уверяли бесчисленные последователи Сусанина, каждый из которых предлагал свой выход из дебрей кризиса. Бороться за 800 тысяч мест в различных Советах стали несколько миллионов кандидатов в благодетели.
Наибольшее напряжение возникло в Москве. Здесь схватка разворачивалась как за общероссийский парламент, так и за городской. Под лозунгом «Вся власть — Моссовету» наскоро объединялись партии, блоки, ассоциации. Порой не хватало времени даже на проведение собраний и конференций. Созвонившись по телефону, люди выясняли позиции друг друга, договаривались о совместных действиях, о поддержке той или иной политической силы.
Впрочем, силы эти, в основном, оттягивались к двум полюсам. В январе 90-го года из десятка разномастных организаций демократической, по словам их лидеров, направленности был образован блок «Демократическая Россия». На другой стороне выстраивался блок коммунистов. Тоже неоднородный, с разными прожилками — от демократических до ортодоксальных. К нему был идейно близок Патриотический блок, состоящий из писателей и деятелей культуры русской ориентации.
А между двумя полюсами, как металлические опилки между магнитами, двигались то в одну, то в другую сторону не меньше двух десятков партий самых различных устремлений. Монархисты и анархисты, защитники природы и борцы за индустриальный прогресс, чей главный лозунг «Природа — не храм, а мастерская» напрочь исключал сотрудничество с любителями вязнуть в бездорожье ради сохранения пары берёз. Одни выступали за неограниченную свободу женщин, другие — за регулирование этой свободы. Кому-то нравилась шведская модель социализма, а кто-то на дух не переносил само слово «социализм». Появился даже блок «Честные кандидаты», одно имя которого намекало на нечестность остальных.
При этом значительная часть партий, учитывая приманку времени, в свои названия обязательно вставляла определение «демократическая». В выборах депутатов Моссовета, кроме всех остальных, участвовали Буржуазно-демократическая партия, Социал-демократическая, просто Демократическая и несколько христианско-демократических партий.
Кандидатов было много — в среднем по 14 человек на каждое из пятисот мест в Моссовете. Встречи с избирателями что-то давали, но лучше всего помогала выделиться среди остальных заметка в газете. В любой, даже самой маленькой. Не говоря о такой солидной, где оказался Чухновский. Поэтому он старался расположить Савельева, чьи публикации читал в газете и кого не раз видел по телевидению. А тот задавал вопросы, пробуя понять, что за человек перед ним.
— Какая жизнь в стране, мы все знаем. Не кажется ли вам…
— Можете на «ты», Виктор Сергеич. Мы, демократы, не любим чванства.
— Хорошо. Не думаешь ли ты, што некоторые реформы осуществляются слишком поспешно? Ломаем, не обдумав как следует последствия.
— Истоки кризиса не в том, што быстро разрушаются старые порядки, — уверенно заявил Чухновский, — а в том, што ликвидируются они как раз медленно и с оглядкой, в том, што они своевременно не замещаются новой властью, новой экономикой, новыми ценностями. Когда мы придём во власть, процессы пойдут быстрее.
Это был один из тезисов избирательной декларации «Демократической России», которая заявила о его поддержке, и Чухновский был доволен, что ему удалось сказать о позиции демократов.
— А какие у вас, я имею в виду тебя и твоих единомышленников, будут первые действия во власти?
— Главное — рынок и приватизация. Всё должно покупаться и продаваться… Посмотрите, как живёт Запад. Вы были за границей?
— Был. Не раз. А ты?
— Не был. Но это не имеет значения. Рассказывали, кто был. Там все равны, и держится это равенство на двух «китах»: рынок и демократия. Советскому человеку надо отдать всё, што сегодня захватило государство. Номенклатура схватила! Партократия! Мы отнимем у них, — стал переходить на крик Чухновский, — все незаслуженные блага и передадим народу. Вы посмотрите на их жильё!
Савельев пожал плечами — он бывал дома у многих партийных функционеров. Может, конечно, не самого высокого ранга, хотя и у секретарей обкомов бывал. У кого лучше, у кого хуже, но у многих — ничего особенного.
— Отнимете — и заберёте себе?
— Ни за што! Как вы о нас думаете! Всё отдадим народу. Спецполиклиники — ветеранам. Номенклатурные дачи…
Чухновский зажмурился, улыбнулся:
— Прекрасные дачи — детям.
Савельев расспрашивал кандидата в народные заступники и помечал, что надо оставить, чтобы избиратели задумались над идеями возможного депутата. «Права советского человека — под защиту ООН». «Приоритет интересов личности перед интересами государства». «Безработица — лучший инструмент для эффективной работы остальных занятых». «Село — „чёрная дыра“ экономики и её надо ликвидировать».
— Ликвидировать само сельское хозяйство?
— «Чёрную дыру».
— А как?
— Мы пока не решили, подумаем.
Примерно такими же были и другие рассуждения Чухновского. Но оказалось, они нашли отклик в умах. Химика-лаборанта избрали.
Это Савельев понял, когда встретил Григория на первой встрече депутатов Моссовета. В Мраморном зале красивого дворца власти за два века его существования перебывал разный народ. Последние десятилетия — в основном, степенный. А тут появились иные люди. Выборы, как шторм на мелководье, снова взбаламутили не успевшую отстояться после всесоюзных избирательных баталий политическую воду. Со дна поднялись не только похожие на драгоценности камни, но и нездоровые ракушки, дурно пахнущие водоросли. По залу проносились бородатые, расхристанные мужчины из тех, кто презирает любое ограничение свободы, будь то галстук, носовой платок или чужое мнение. Они были сердиты, решительны и видели свою роль в том, чтобы через день снимать главного милиционера города, главного прокурора, главного архитектора и любого другого «главного». Знакомый Савельеву видный демократ, который, будучи народным депутатом СССР, избрался, к тому же, и в Моссовет, оторопело наблюдал за этой пульсацией активности. «Трудно будет с ними работать, — сообщил он Виктору. — Процентов десять с нестабильной психикой».
После той встречи Савельев видел Чухновского нечасто. Знал, что когда создали мэрию, Григорий встроился в исполнительную власть, оставаясь одновременно и депутатом Моссовета. Теперь, похоже, снова зачем-то хотел использовать газету.
На этот раз Чухновский пришёл один, без сопровождения Бандаруха. Открыл «дипломат», вынул бутылку коньяка, полпалки копчёной колбасы, коробку конфет.
— Как понимать данный натюрморт? — спросил Савельев.
— Это вам.
— Не беру, Гриша. Знаешь, сторожевых собак приучают не брать самую вкусную еду из чужих рук. Я, наверно, из сторожевых.
Чухновский слегка нахмурился.
— Какие мы с вами чужие? Вы, можно сказать, мой политический Пигмалион [9]. С помощью вашей руки у меня всё получилось. Да и мелочи это, — показал он на дар.
— Ничево себе — мелочи! Французский «Наполеон»… Колбаса… Наверно, финская «салями»? Единственное, што можем сделать — выпить вдвоём.
У Савельева в шкафу были рюмки — два стеклянных «сапожка». Вместо хлеба достал печенье.
Чухновский говорил без умолку, как будто торопился куда-то. Язвил про некоторых депутатов, вскользь замечая: этот от коммунистов, тот — независимый, полтора года никак не определится. Рассказывал и про демократов — среди этой разношёрстной публики тоже хватало, по словам савельевского гостя, «чудаков на букву „м“».
— Романтики, — переминал он блестящие от колбасы губы. — Начитались книжек, какая должна быть демократия. Сам не гам и другим не дам. У нашей демократии особый путь. Нельзя сделать добро для всех. Это только Христос накормил пять тысяч человек пятью хлебами и двумя рыбами. Мы должны сначала обеспечить тех, кто ведёт… Голодная элита, Виктор Сергеич, злая элита. Для этого нам — демократам — надо доломать кристаллическую решётку всей политической системы. Спасибо ГКЧП. Он сильно помог. Теперь у нас развязаны руки. Вы ведь согласны?
— Смотря с чем. Руки вам развязали — это да. Только к добру ли — другой вопрос.
Савельев не случайно сказал о еде из чужих рук. Прошедшие полтора года болезненно сорвали большинство иллюзий со слова «демократ». В российском варианте оно нередко стало восприниматься, как, плохо прикрывающий непристойность, банный листок. В Москве и Ленинграде, где демократы взяли власть, стало не лучше, а хуже. Впрочем, и там, где они власти не получили, тоже всё летело в тартарары. Торговые залы магазинов походили на аквариумы, из которых вылили воду. Крики о том, что партократы (или, наоборот, демократы — в зависимости от политических пристрастий кричащего) сознательно мучают народ жутким дефицитом, находили горячий отклик.
В Москве запас основных продуктов опускался до суточного уровня. Очереди порой растягивались на два квартала. Моссовет ввёл торговлю по карточкам и паспортам. Нет прописки — езжай на рынок. А там еду можно было купить по принципу «кошелёк денег за сумку продуктов». В ответ обиженные власти соседних областей, чьи жители поездами ехали в столицу за продуктами, ввели запрет на поставки в Москву.
На демократов, там, где они ещё не взяли власть, люди надеялись. Помогала этому ожесточённая порка кнутами СМИ противников демократических преобразований, которые вроде бы не дают народным заступникам реализовать свои замыслы. Однако демократический Моссовет и подвластная ему мэрия управляли огромным городом уже больше года, и никаких перемен к лучшему не наблюдалось. Руководители только говорили о больших планах и жаловались на связанные руки. «Теперь руки свободны, — мысленно усмехнулся Савельев. — Что они придумали ещё?»
— Ты про какую программу говорил? — спросил он Чухновского, возвращая того к цели прихода.
— А-а, да, да… Вы знаете, конешно… кому, как не вам, знать… Ельцин неделю назад подписал Указ о значительном расширении полномочий московской мэрии…
— Не слышал. Про другие ваши дела мне известно, а про это — не знаю.
— Да ну?! Хотя разве за всем уследишь с вашей работой, — подольстился Чухновский. — Указ, Виктор Сергеич, это — настоящая революция. Наши возможности теперь просто безграничны.
— В чём же? — с иронией спросил Савельев.
— В приватизации московской собственности. Мы ведь готовились к этому заранее. Насколько успели… времени очень мало оказалось… сделали учёт того, што находится в городе. Посчитали не всё — работы много. Сейчас контролируем примерно 40 тысяч зданий — это чем можем распоряжаться… В нашей власти больше 10 тысяч предприятий торговли, транспорта, нефтепереработки, пищевой промышленности… Здания школ, больниц, детских садов.
Некоторые понимают разгосударствление, как раздачу общей собственности трудовым коллективам. Завод — его работягам, заправки — «королевам» этих бензоколонок, пекарню — пекарям. Но я думаю… мы так считаем: собственность нужно продавать. Школу продать трудно, а вот детский сад — вполне. Землю можно продавать — она в Москве дорогая, а будет ещё дороже.
— И потому вы отдаёте её даром?
— Кто это вам сказал?
— Народ и юристы. Вы для чево взяли власть? Распродавать, што успели захватить?
— Но, Виктор Сергеич…
— Не перебивай! Я тебя слушал. Как у вас рука поднялась заповедную часть Москвы — 60 гектаров столичной территории вблизи центра — отдать на 99 лет какому-то совместному предприятию с арендной платой по 10 долларов в год? Ты хоть соображаешь, Чухновский, чево вы натворили? Десять долларов в год! — вскричал Савельев. — За шестьдесят гектаров! Да твоя бутылка коньяка дороже стоит! Там площадь Гагарина! Академия наук! Там Нескучный сад! Самый старый парк Москвы! При Елизавете Петровне основан Демидовым. А вы и его… За такое где-нибудь в Париже оторвали бы голову.
Виктор оттолкнул кресло на колёсиках, закурил, нервно подошёл к окну и открыл форточку. Месяца четыре назад к нему пришли два депутата Моссовета. Одного Савельев знал — тот называл себя христианским демократом. Знакомец представил второго. Оказался тоже из какой-то демократической партии. Показали документы, стали комментировать их. В декабре 1990 года недавно избранный председатель Моссовета Попов, новый глава Мосгорисполкома Лужков и один из активистов «Демроссии», председатель Октябрьского райсовета Заславский подписали договор о создании советско-французского совместного предприятия под названием «Центр КНИТ — Калужская застава». В качестве взноса советской стороны этому СП передавалась в аренду 60-гектарная территория в Октябрьском районе Москвы.
По мнению депутатов, всё в договоре просто вопило о фантастической коррупции. Земля отдавалась почти на столетие. За этот огромный срок, сравнимый с договорённостями колониальной эпохи, Москва могла получить меньше тысячи долларов. И никто не имел права что-либо изменить в договоре. «Арендодатель, — читал тогда Савельев, — обязуется не отбирать, не изымать и не конфисковывать земельный участок полностью или частично, и не вмешиваться любым иным способом в использование участка и проводимые на нём работы». «Прямо как с индейцами», — изумился журналист. «Если же какой-нибудь государственный орган попробует расторгнуть договор аренды, — говорилось в документе, — то заплатит штраф. От 4 миллионов долларов (в случае расторжения в течение первых шести месяцев) до 100 миллионов на третий год действия договора».
Это была настоящая кабала, в которой явно различалась физиономия корысти. Виктор вспомнил свою тогдашнюю злость. Демократы обещали избирателям защищать их интересы, действовать, как они говорили, в отличие от партократов, строго по законам, но едва получили власть, как тут же эти законы нарушили. Договор подписали тайком от своих Советов, выступив, по сути дела, частными лицами. Утвердили совместному предприятию виды работ, законом не разрешённые.
Сделав копии принесённых документов, Савельев пошёл к главному редактору. Тот вызвал Бандаруха. Виктор снова пересказал суть обращения депутатов. «Я бы не советовал вмешиваться, — осторожно проговорил заместитель главного. — У нас много других тем».
Савельев позвонил христианскому демократу. Стыдясь собственного бессилия, передал мнение начальников. А для себя решил: напишет в какую-нибудь другую газету.
Однако, пока собирался, история со «сделкой века» получила огласку. Взбудоражились жители района, которые узнали, что их дома собираются сносить, а вместо них строить офисные здания, гостиницы, торговые центры. На очередной сессии Моссовета депутаты признали регистрацию СП недействительной. Появились разоблачительные материалы в советских и зарубежных изданиях. Потом позвонил тот самый христианский демократ и сказал, что в Мраморном зале Моссовета перед депутатами с лекцией выступил известный британский парламентарий, лейборист Кен Ливингстон [10]. Когда ему сообщили о скандальном документе и спросили его мнение, он без всякой дипломатии заявил, что в любой другой стране люди, подписавшие такой договор, обязательно сидели бы уже в тюрьме.
На прощание депутат сказал Виктору, что несколько его коллег обратились к прокурору Москвы. Как будут развиваться события, он сообщит.
Теперь, после провала ГКЧП, рассчитывать, что кто-то начнёт следствие против победителей, было наивно. Тем не менее, Савельев спросил:
— Прокуратура ещё не отменила вашу авантюру?
— Да ладно вам, Виктор Сергеич! — с примирительной улыбкой откликнулся Чухновский. — У неё сейчас дела поважней.
Григорию не хотелось портить отношения с журналистом, оказавшим ему серьёзную поддержку в нужный момент. Ещё больше надеялся он получить от Савельева в будущем. Поэтому, всё так же располагающе улыбаясь, Чухновский продолжал:
— Зря вы драматизируете ситуацию. Переход к рынку — это как переход Суворова через Альпы. Кто-то свалится в пропасть. Кто-то замёрзнет. Но кто осилит перевал, тот будет в порядке. Всё можно купить, всё продать… Рубль станет символом человеческого достоинства… власти человеческой, таланта. Даже духовное богатство люди начнут измерять рублём.
— И што хорошего из этого получится? Где бог — рубль, там всё остальное от дьявола. Вот увидишь, как обесценятся ценности.
— А некоторые давно бы надо выкинуть. Што за ценность в заповеди: не желай ничего чужого? Вы поглядите по сторонам — всё принадлежит кому-то. Значит, чужое. Не моё. Следуя этой заповеди, никто никогда не стал бы богатым. Но люди отбросили эту чушь, и правильно сделали. Каждый нормальный человек плывёт по жизни двумя стилями: выгоду — к себе, под себя, а всё остальное — от себя. Сейчас в нашем распоряжении — все загородные дачи бывшей номенклатуры. Я проехал по ним… мне поручили — я ведь теперь в двух креслах: в Моссовете и в мэрии. В Серебряном Бору… очень хорошее место. Эти заберём себе. Наш председатель взял брежневскую госдачу в другом месте — на Сколковском шоссе. Со временем её приватизирует и продаст. Земля там, Виктор Сергеич, цены не имеет! Дача — так себе. В Серебряном Бору тоже не очень… Вы были там?
— Приходилось.
— Я раньше не бывал. Думал: настоящие дворцы. Номенклатура могла бы и лучше себе построить.
Савельев рассеянно покивал. Он несколько раз ездил в Серебряный Бор к приятелю, отец которого работал в ЦК партии. Казённая дача считалась одной из престижных. По легендам, кто-то из ленинских сподвижников отдыхал здесь летом — зимой дача не отапливалась. В двухэтажном доме жили не то пять, не то шесть семей. Телефон — в холле первого этажа — один на всех. На каждом этаже общая кухня. Правда, участок был большой — кажется, с полгектара. Но на участке стояла ещё одна дача — типичная для этого посёлка. Одноэтажный деревянный домик семьи на две, выкрашенный зелёной краской.
— Ты забыл свои слова, когда я лепил из тебя мыслителя? Дачи номенклатуры вы отдадите детям.
Чухновский отпал к спинке кресла, сцепил руки за головой.
— Дети… Как у нас недавно говорили: «Дети — наше будущее»? Но нам-то тоже надо подумать о своём будущем! Мы пришли надолго. По моим размышлениям — навсегда. Дачи в Серебряном Бору — мелочь по сравнению с землёй, на которой они стоят. Вскоре мы их приватизируем… А потом — продадим. У нас разработана программа приватизации… Городская… О ней я хотел поговорить с вами. Нужна будет поддержка газеты. А мы в долгу не останемся.
Григорий налил коньяк в свою рюмку-«сапожок», потянулся к савельевской. Но тот накрыл её ладонью.
— Не нравится коньяк?
— Ты не нравишься. И откуда вы все взялись? Командиры пробирок… Начальники кульманов… Страну удержать не способны, а растащить её добро… чужое добро — сразу научились.
Виктор замолчал. Сумрачно уставился на растерянно поглаживающего бородку Чухновского. Почему-то вспомнился «нечернозёмный Наполеон» Катрин, крики союзных депутатов: «Хватит!», цифры на электронном табло во Дворце съездов. С огорчением проговорил, больше для себя:
— Да-а… Нет сынов Отечества… Остались одни дети лейтенанта Шмидта [11].
Под удивлённым взглядом Григория закрыл бутылку, завернул в бумагу остатки колбасы и всё это, вместе с конфетами, положил в «дипломат» гостя.
— Забери. Может, где-то пригодится. А мой телефон забудь.
Глава девятая
Янкин надавил клавишу селекторного аппарата.
— Слушаю, Грегор Викторович, — ответила секретарь.
— Пригласите ко мне Волкову из редакции информации.
— Хорошо. Больше никого?
— Если понадобится, я вам скажу, — с лёгким неудовлетворением произнёс Янкин. Секретарша работала недавно. После назначения руководителем телевидения Грегор Викторович сразу сделал чистку в ближнем окружении. Это вызвало осторожное недовольство. Самолюбивый Янкин стал прочесывать кадровую взъерошенность более частым гребнем. Взамен вычищаемых, его помощники приводили новых людей, большинство которых он не знал. Увидев на первом собрании Наталью, взволновался. Он даже хотел было поставить её во главе какой-нибудь редакции, но, вспомнив газету, решил повременить.
Вошла Наталья. Янкин невольно привстал. Попавшая в полосу света от верхнего плафона женщина показалась ему особенно красивой.
— Заходи, заходи. Кофе хочешь?
— Нет, — настороженно отказалась Волкова. Она догадывалась, зачем её вызвал Янкин. Недавно заменившая «комиссара» новая начальница Натальи Полина Парамонова вчера вечером при просмотре отснятого материала сорвалась на визг. Перегнулась в кресле, в сторону сидящего через два места оператора. Крикнула, словно тот был где-то вдалеке:
— Это как понимать? Ты слепой? Или, может, ты враг? Я же приказывала не снимать молодых!
Растерянный мужчина не успел ничего сказать — к руководительнице подошла Волкова.
— Зачем же вы так? Это я велела Валерию Сергеичу снять молодёжь.
— Вы?!
Парамонова в первых разговорах с Волковой попыталась Наталью, как и всех остальных, независимо от возраста, называть на «ты». Но увидев сначала сдержанно ледяную реакцию, а потом — явное нежелание Волковой откликаться на «ты», стала вежливей.
— А вы почему нарушили мой приказ?
— Иначе сорвали бы съёмку. Там была почти одна молодёжь.
— Мне придётся доложить руководству о нарушении дисциплины.
Видимо, Парамонова выполнила обещание.
— Ну, если не хочешь кофе, я, с твоего позволения, причащусь коньячком.
Янкин пошёл к сейфу.
— Может, ты тоже?
Увидев отрицательный взмах руки, налил из пузатой импортной бутылки в небольшую рюмку. Выпил, закрыл сейф. «Это что-то новое», — подумала Наталья.
— Как тебе Парамонова?
Волкова пожала плечами. Она решила подождать: пусть скажет о претензиях начальницы Янкин.
— Попросили взять, — вздохнул Грегор Викторович, пристально разглядывая стоящую перед его столом женщину. Прошло время, а Наталья стала только притягательнее. После увольнения из редакции думал: всё забудется. Но, увидев однажды Наталью по телевизору, стал с нетерпением ждать следующих передач, которые она вела.
Здесь Янкин встречал её редко — телевидение это не маленький коллектив газеты. Вызывать к себе — нужен серьёзный повод. Просто так не пригласишь — не того уровня редактор Волкова. Таких у него десятки. О существовании некоторых он даже не подозревал. Один на один были всего три раза — Янкин хорошо помнил каждый из них. Первый раз — после собрания. Демонстративно взял под руку, при всех сказал: «Зайдите, Наталья Дмитревна». Увидел удивлённые взгляды окружающих, дружелюбно (тогда ещё не проявилась оппозиция) бросил: «Способные кадры вам отдали». В кабинете попытался вроде как по-товарищески обнять, но женщина мягко выскользнула.
Второй раз — когда получил докладную записку о пропаже отснятого материала про самоубийц. Волкова бесстрастно, механически повторяла предложенную шофёром версию. Проницательный Янкин чувствовал: здесь что-то не то. «Ты как Никулин в Бриллиантовой руке»: «Поскользнулся, упал, очнулся — гипс». Но сделал вид, что поверил.
Последний раз вот так же вдвоём они были месяц назад. Тогда он вызвал Наталью через «комиссара», предшественника Парамоновой, и поручил сделать передачу с участием «архитектора перестройки» Яковлева. Тот сам позвонил, просил об этом. Янкин не стал отказывать — они были из одной когорты. Передача получилась какая-то странная. Грегор Викторович был не просто хорошо знаком с «серым кардиналом». Он много знал о нём от разных людей, слушал его в различные периоды, знал манеру речи Яковлева. Особенно наступательную и погромную после провала ГКЧП. А тут на жёсткие, слегка прикрываемые вежливостью, язвительные вопросы Волковой отвечал какой-то тусклый старик с лицом обрюзгшего бульдога. Янкин заподозрил, что такое превращение создано искусственно, и намекнул об этом Наталье. Она обезоруживающе улыбнулась и ничего не ответила.
Пришлось материал дополнять старыми съёмками, делать передачу короче. Теперь Парамонова обвиняла Волкову в срыве задания.
— Садись. Почему ты проигнорировала приказ?
— А вы знаете, о чём приказ? Полина Аркадьевна, когда какая-нибудь группа едет на съёмки, запрещает снимать молодые лица.
— Как это? — поднял брови Янкин.
— Если мы едем на митинг сторонников Союза или на собрание, где люди требуют сохранить СССР, она приказывает: в кадре должны быть только старики…
— Ах, вон в чём дело!
— Если митинг, то — старые лица… Искажённые… Беззубые… Если собрание, то выбирать надо дремлющих… безразличных… опять же только стариков. Вот, мол, кто боится распада Советского Союза. Но ведь это не репортаж в газету, Грегор Викторович! Я помню вашу критику по поводу референдума. Там ещё можно было описать каких угодно. А тут же — камера! Мы приехали на завод… В цехе — митинг. Я сама ходила рядом с оператором. Какие там спящие! Молодёжь! Выступают зло. Прямо, как на войну собрались. Мы могли бы уехать, ну, нет там спящих и беззубых!
Наталья сделала наивное лицо, по-детски, беззащитно улыбнулась.
— Но разве бы вы одобрили впустую затраченное время?… Машину гоняли… бензин… камера без результата…
Янкин понял её не очень умелую игру, и от этого Наталья показалась ему ещё милей. «Что ж это со мной происходит?» — подумал он, чувствуя, как лицу его становится жарко. Словно к огню наклонил лицо. «Мне бы надо сейчас отругать её, пригрозить увольнением — Парамонова хоть дура с этим своим приказом, но по сторонникам Союза надо бить… Можно, конечно, аккуратней… Показать объективность… Тогда будут больше верить… Хотя о чём я думаю? Плевать мне на сторонников и противников. Увольнять? Нет, больше он такой глупости не сделает. Кульбицкого выгнал — не простил ему. Из-за него, провокатора, потерял возможность хотя бы видеть её. Чувствовать рядом. Пусть как сейчас… на расстоянии».
Грегор Викторович встал из-за стола. Подошёл к сидящей Наталье. «А пахнет как! Что за духи у неё? Весна какая-то — в ноябре маем пахнет. Ландышем и сиренью… Надо узнать». Мысленно усмехнулся: «Расклеиваешься, старичок. Готов что угодно сделать, только бы обладать этой женщиной. Обхватить руками. Прижать. Никуда не выпускать. Не валить вон на тот диван, а просто стоять, прижав к себе. Главное — никому не отдавать. Чтобы никто не прикасался. Муж — ладно. Он его не знал и не воспринимал, как мужчину. Живая вещь… Вроде ожившей ночной сорочки, которая охватывает груди… бёдра… живот. Можно ли ревновать к вещам? А другим — не прикасаться. Яковлеву понравилась. Хорошая была корреспондентка. Что он имел в виду?»
— Вчера звонил помощник Яковлева, — неожиданно для Волковой сказал Грегор Викторович. Наталья с удивлением воззрилась на шефа. С какой стати он вспомнил про этого злобного старикана? И какое это имеет отношение к докладной Парамоновой? Или Янкин хочет связать ту её передачу с последней съёмкой? Она тогда, конечно, постаралась отобрать самые отвращающие от Яковлева кадры. Насупленный взгляд из-под клочковато разросшихся, выступающих, словно рога, бровей. Когда старик наклонял лысую голову, Наталье казалось, будто он собирается кого-то боднуть. Крупным планом раздутое, нездоровое лицо. А главное — злость, перекашивающая время от времени весь облик этого человека. Жалко, многие кадры вырезали.
— Помощник сказал: ты Яковлеву понравилась. Он хочет дать большое интервью про то, как боролся с коммунистической системой. Показать в кабинете какие-то свои записки…
— Грегор Викторович, а нельзя ли кого-то другого? Вы меня извините… и можете опять уволить, но я не хочу слушать этого человека.
Янкина словно обдало приятным теплом. До учащения пульса зарадовало такое неприятие Яковлева. Лживый… Насквозь пропитан ложью, как рыхлый придорожный снег выплесками грязной воды из колеи. Боролся он с системой… Не боролся, а крепил её, железнил её, душил тех, кто начинал сомневаться в системе. Но как ей сказать об этом? А сказать надо. Чтобы укрепить её неприязнь…
— Я могу послать кого-нибудь другого. Парамонову могу отправить. Вот только хочет он видеть почему-то тебя. Знала бы ты, што за человек — этот Александр Николаевич Яковлев…
И сначала осторожно, потом всё отмашистей Грегор Викторович заговорил о своём недавнем кураторе, в которого внимательно вглядывался все последние годы, изучал его, копил факты и фактики, слушал его призывы и речи, и даже своим проницательным умом не увидел, чтобы всё это время, если верить сегодняшним заявлениям Яковлева, тот боролся с коммунистическим режимом.
— Да у режима, Наташа, не было более верного слуги, пса более преданного, чем Александр Николаевич! Славил Хрущёва, требовал верить правильным действиям дорогого Никиты Сергеича, а потом так же усердно готовил статьи о его сумасбродстве, экономических провалах. Ещё шёл пленум, на котором снимали Хрущёва, а он уже писал речь для нового вождя — Брежнева. Сам потом признавался: пришлось писать и прощальную статью о старом хозяине и заздравную — о новом. Нового он тоже полюбил… При Брежневе стал штатным сочинителем речей, статей и даже записок. Рос по партийной линии. А тогда умели разглядеть — свой или чужой. Значит, был свой. Сгибался, где нужно. Где надо — молчал. Он ведь с детства боялся драк. Завидовал ребятам, кто мог постоять за себя кулаками. Его принципом была осторожность. Ленин, как ты знаешь, призывал учиться, учиться и ещё раз учиться, а этот внушал себе: осторожность, осторожность и ещё раз осторожность. В Академии общественных наук — попал туда при Хрущёве — всячески избегал политических дискуссий, наотрез отказывался выступать на партийных собраниях. А время было — ты его только по рассказам знаешь, мы-то в нём начинали зреть… время было разломное. Двадцатый съезд. Хрущёв развенчивает культ личности Сталина. Бурлит страна. Спорят все. Одни поддерживают. Другие — против. А этот молчит. Сопит себе в тряпочку. Теперь говорит: всегда ненавидел Сталина и Ленина. Ленин для него — «властолюбивый маньяк», который возвёл террор в принцип и практику власти. Поэтому, дескать, подлежит вечному суду за преступления против человечности. Но ведь он узнал о жестокости Ленина раньше многих из нас! Мог читать закрытые для всех документы ещё в Академии — там есть спецхран. Однако молчал. Год за годом… Ни разу даже намёком не задел вождя. Наоборот. Всех призывал верить Ленину. До самого последнего времени в своих выступлениях цитировал Ленина. Ссылался на него… На Маркса… Энгельса… Я сам сидел на этих пресс-конференциях и совещаниях. Не помню ни одной его речи… обычно многословной, где бы он не упомянул Ильича. Когда же он боролся? Когда глядел на себя в зеркало? Один на один с собой? Штоб никто не увидел и не услышал? Владимир Солоухин узнал про зловещий большевизм позднее. В середине 70-х написал «Последнюю ступень». Подлакировал, конечно, прежнюю Россию… ту, которая до революции… но, в отличие от нашего борца, ни разу больше не упомянул добрым словом эту публику. А этот — Ленин… социализм…
Янкин то отходил от Натальи и, возбуждённый, садился в своё кресло, то вставал, делал пару шагов к женщине, пытаясь понять, как она воспринимает его необычный монолог. Подойдя в очередной раз, чуть наклонился — так, чтобы снова уловить запах духов, и дрогнувшим голосом спросил:
— Может тебе это неинтересно, моя девочка?
Увидел, как сдвинулись шелковистые брови Натальи, однако тут же лицо разгладилось, слегка зарозовело. Понял: женщина не обиделась. Похоже, ей даже понравилось обращение.
— Нет, нет! Очень полезно узнать, кто вёл нас. Меня тоже удивили его заявления. Вы, говорит, не представляете, какое ужасное государство создали. Как будто он тут ни при чём.
Наталья вскинула жёлто-карий взгляд на Янкина и мягко улыбнулась.
— Разве это честно, Грегор Викторович?
Янкин еле сдержал себя, чтобы не попытаться обнять Наталью. Выпрямился. Как обдурманенный, встряхнул головой. Он ей не противен. Уже нет того взгляда, которым она отбросила его тогда, в редакции. Значит, дает надежду. Разница в возрасте? Да какая это разница? Ему шестьдесят один, ей тридцать четыре. Важно, чтобы не отвергала. Ей будет с ним интересно. Он сделает всё, чтобы было не скучно. Он знает намного больше её. Сейчас расскажет про того же Яковлева. Сдаст «архитектора» и не отпустит её на интервью.
Грегор Викторович подошёл к сейфу. Открыл его и снова налил рюмку коньяка. Выпив, чуть поморщился и заговорил.
— Те, кто не принимал систему… по-настоящему отрицал её… не под подушкой критиковал, как Александр Николаич — вот те заслуживают уважения. Сознательно шли на страдания. Ты не представляешь, как это оказаться отверженным. Даже временно… Меня два раза снимали с работы… всего-то делов — должности лишили! и то, как прокажённый. Вчера ещё звонили с утра до ночи… в прямом смысле до ночи… с постели поднимали… Друзья… Товарищи… Всем был нужен… Мы с тобой, Грегор, навсегда, чево бы ни случилось. А случилось — и телефон будто отрезали. Ни одного звонка. Ни слова единого!
— Как с работы увольняют, я представляю, — спокойно сказала Наталья.
— Извини, — споткнулся в монологе Янкин. Накрыл лежащую на столе руку женщины. Наталья некоторое время сидела недвижно. Потом аккуратно даже не убрала, а вроде как вывела тонкие свои пальчики из-под горячей ладони мужчины, словно жалея, что ей приходится это делать.
— Теперь представь, што перенёс Сахаров, открыто выступивший с критикой системы. Академик. Создатель водородной бомбы. Трижды Герой Соцтруда. Лауреат Сталинской и Ленинской премий. Не говоря о других наградах и званиях. Всё это у него отбирают. А он не сдаётся, критикует режим. Живёт в ссылке почти семь лет. Объявляет голодовки. Телефона нет. Каждый шаг под контролем КГБ. Такой человек, даже если бы он был неправ, заслуживает уважения своей честностью. Также как другие, кто действительно боролся с властью.
Янкин помолчал, нахмурился.
— С властью, которую олицетворял Александр Николаевич. Не инструктор ЦК Яковлев, хотя и это была большая власть, а член Политбюро Яковлев. Второй человек в партии. Если не брать премьера, считай, второй в стране… Сейчас говорит, што часто лукавил… Лукавил, когда ссылался на Ленина… Когда хвалил социализм, называя его лучшим общественным строем на земле, тоже, говорит, лукавил. Но разве могли об этом догадываться люди, от которых он требовал нести такие оценки в народ?! Мне пришлось слушать его выступление перед выпускниками Института общественных наук при ЦК КПСС. Недавно было… Летом 89-го. Половина речи — восхваление социализма. Люди записывали его формулировки и думали, што социализм — это действительно, как чеканил Александр Николаич, общество подлинного народовластия, творчество масс, возвышение человека, свобода духовного творчества, гуманизм в новом, высшем проявлении. А он, оказывается, лукавил. Лгал, девочка моя! На самом деле считал социализм концлагерем, душиловкой всего живого, уничтожением будущего страны.
Но при этом не отказывался ни от каких привилегий небожителя системы. Стоял на трибуне Мавзолея, между прочим, ленинского, и с гордостью смотрел на свои портреты в праздничных колоннах. Самолюбия-то у него — дай Бог! Сам признавался. Пользовался благами, доступными немногим. Я как-то был в его загородной резиденции. В цокольном этаже бассейн, гимнастический зал. На первом — большая столовая, бар, кинозал. Вверху — спальные комнаты. Мне рассказывали про обслугу кандидата в члены Политбюро. Три повара. Три официантки. Горничная. Садовник. Группа охранников. Это — кандидат. У члена — таких людей, как ты понимаешь, больше.
Говоря всё это, Грегор Викторович, чем дальше, тем сильней ожесточался. Его уже кипятила не только ревность за Наталью, но и личная обида. Он ведь тоже пересмотрел «своего Ленина». Первые обрывочные разоблачения вождя попадались ещё до работы в пражском журнале. За границей материалов добавилось. Когда разум страны взорвала гласность, поток обличений пробился и в его газету. Но публикуя их, он каждый раз вспоминал, что в недавние, доперестрочные годы находил в ленинских работах и такие слова, с которыми был согласен, а потому, сочиняя тогда статьи, Янкин как бы отделял одного Ленина от другого. Ещё в те времена кто-то сказал ему, что Ленин — злой гений. Теперь он был, как никогда раньше, согласен с первой частью оценки. Однако не мог, объективно не способен был, перечеркнуть и вторую. Злой. Но гений. А у этих редких созданий человечества не бывает действий, одинаково воспринимаемых всем человечеством. Даже если кому-то приходится разочароваться, отступиться от содеянного кумиром, редко кто в душе дотла растопчет горевший когда-то светильник. «Так храм оставленный — всё храм. Кумир поверженный — всё бог», — часто повторял Грегор Викторович слова Лермонтова.
Такое понимание жизни помогало ему не терять до конца душевного равновесия, быть циничным, когда требовали обстоятельства, и одновременно воспринимать происходящее по принципу: что Бог ни делает — к лучшему. В результате прошлое и настоящее в его жизни были хотя и разных цветов, однако соединяли эту жизнь в единое целое. А как же тогда должен чувствовать себя Яковлев, думал Грегор Викторович. Если у человека наступило прозрение, если он увидел, что всю жизнь служил дьяволизму и вот теперь, глянув в своё прошлое, отшатнулся от него, как от провала, из которого прёт жуткий смрад, то, что человеку остаётся делать? Путь известный. Он идёт до ближайшего дерева, нижний сук которого отходит параллельно земле, накидывает верёвку и вешается. Как Иуда.
Но не пойдёт Александр Николаевич, не пойдёт, злорадно подумал Янкин. Маска стала его лицом, а лицо маской. Сейчас он говорит, что ложь пронизывала всю систему, а кто, как не он, эту ложь насаждал. Ненавидя социализм, требовал уважения к нему. Считал все работы Ленина «бреднями», однако не переставал цитировать их. Презирая кормящий его народ, заедал это невыносимое презрение бутербродами с чёрной икрой и белужьим боком по копеечной цене в спецбуфете. Критиковал бесчеловечную систему, но так, что критику эту слышал только белужий бок, который он жевал. А доев и вытерев губы салфеткой, шёл на трибуну, чтобы громить американский империализм и внутренних отщепенцев, сомневающихся в исключительной человечности советского строя.
— Грешники мы все, Наташа, большие грешники. Белое называли чёрным, хотя понимали, как уродуем людей с нормальным зрением. Я сам то и дело выходил на панель. Проституировал, даже когда клиент не просил. Но теперь я свободен. Теперь — я другой… Отбросил, што против совести… Ой, какие мы большие грешники!.. И всё же среди нас есть те, кого, быть может, простят на том Большом суде… Пожарят для начала на адовой сковородке и со временем простят. А есть, которым придётся до бесконечности кипеть в смоле. Хотя, может, и там они окажутся при службе… Пристроятся между котлом и сковородкой. Злые чертям тоже нужны. А Яковлев злой… Когда вслушаешься в него, думаешь — хорошо, што бодливой корове Бог рогов не дал. Дал бы — многие умылись кровью. У него если противники, то это политическое быдло, шпана, если патриоты, то обязательно ряженые. Любимое слово — «кувалда». Вот бы он ею помахал, дай такую возможность. Я как-то подумал: живи Александр Николаич во времена Октябрьского переворота, наверняка взял бы себе псевдоним Кувалдин. Они любили называться покрепче, пострашней. Сталин — это вроде как стальной. Молотов, ну, это и так ясно. А он был бы Кувалдин. Причём, с его прорывающейся иногда злобой к недругам, с его глубинной жестокостью — о-о-о! он бы поработал кувалдой.
— А мне его почему-то сейчас стало жалко, Грегор Викторович. Всю жизнь притворяться, показывать любовь к тому, што ненавидишь… Так ведь можно с ума сойти. Сосуды мозга лопнут… душа разлетится от распирающей злости, для которой выхода нет.
Наталья раскованно смотрела на Янкина. Настороженность, какая была по приходе в кабинет, прошла. Таких откровений молодая женщина не слышала даже в те «газетные» дни, когда Грегор Викторович пытался завоевать её доверие особо пикантными сведениями из жизни придворного народа. Сейчас он казался ей абсолютно искренним. Трогая свою коротко стриженную голову, с прищуром улыбаясь, взглядом как бы говорил: «Ты видишь, я совсем другой». А она, кивнув утвердительно в ответ, снова заговорила о Яковлеве.
— Знаете, почему теперь он так себя ведёт? Мне кажется, я поняла его. Стало безопасно проклинать Систему и одновременно опасно не отречься от неё. Новая власть может не принять.
В этот момент в селекторном аппарате раздался голос секретарши.
— Грегор Викторович! Вам звонит Яковлев… Александр Николаевич.
Янкин поспешно протянул руку за трубкой. Он явно не хотел разговора по громкой связи. Другой рукой замахал Наталье: иди, иди быстрей. Она с удивлением встала, пошла к двери.
— Здрассьте, здрассьте, Алексан Николаич.
Волкова ещё не успела уйти далеко. Поэтому услыхала голос Яковлева.
— Плохо ведёшь себя, Грегор. Товарищам по общему делу…
Последующие его слова уже было не слышно — Янкин прижал трубку к уху. Выслушав тираду Яковлева, извиняющимся тоном заговорил:
— Да как вы могли так подумать, Алексан Николаич? Ваша борьба за демократию — пример для многих. Нет, нет, эфир для вас будет всегда.
И уже закрывая дверь, Наталья услышала:
— Мы ведь с вами — одной крови.
Глава десятая
Павел Слепцов поставил «Волгу» во дворе девятиэтажного дома так, чтобы машину было видно из окон родительской квартиры. В последнее время с машин воровали всё, что можно было снять: зеркала, стеклоочистители, колёса. Иногда человек выходил утром к своей машине, а она стояла на кирпичах.
У родителей Павел бывал теперь редко. Жил у Анны. Ей досталась квартира умершей тётки. Дети — двое мальчишек, в одной комнате, Анна со Слепцовым — в другой. На этот раз он приехал, чтобы взять некоторую одежду — шли последние дни ноября, и надо было утепляться.
— Пашенька! — обрадовалась мать, прильнув к нему, едва успевшему расстегнуть куртку. — Усталый ты какой. А я как знала… сегодня, думаю, приедет. Давно тебя не видела.
— Дай человеку раздеться, — со скупой улыбкой проговорил появившийся в прихожей отец. — Месяц — это, по-твоему, давно? Хотя мог бы чаще заезжать.
Павел и сам немного растрогался. Левой рукой гладил мать по волосам, другую протянул отцу: поздороваться. В этот момент он вдруг почувствовал себя маленьким ребёнком, тем мальчиком, которому мама играла на пианино детские песенки и они вдвоём, оба счастливые, выговаривали бесхитростные слова.
— Есть будешь? С работы ведь.
— Нет, мам. Аня ждёт. Вот кофейку можно.
Все трое прошли на кухню.
— Как на заводе дела, Павел? — спросил отец.
— Пусть ребёнок хоть согреется. Куда этот завод убежит?
— Убежит, мать. Убежит.
— Даже не знаю, как тебе сказать. Если коротко, то плохо.
Они посидели немного на кухне. Павел скупо рассказывал про Анну, про своё новое жильё. Отец заметно нервничал. Наконец, поднялся.
— Пойдём ко мне, штоб матери не мешать.
— Скажи уж, посекретничать хотите. Как будто в другой раз нельзя.
— Другие разы, видишь, редко случаются, — проговорил Василий Павлович.
Когда пришли в отцов кабинет — каждый со своей кофейной чашкой, Павел обратил внимание на некий беспорядок у обычно аккуратного отца. Дверцы некоторых шкафов были открыты, и на полках вразброс лежали папки. На столе тоже чувствовалась какая-то неприбранность. Отец заметил сдержанное удивление Павла. Не дожидаясь вопроса, заговорил:
— Идёт трансформация КГБ. Одних арестовали, других меняют. ПГУ [12]выводят из состава Комитета.
Показал на шкафы:
— Здесь никаких серьёзных бумаг нет и быть не может. Но я просмотрел все архивы. На всякий случай. Так што с заводом-то?
— Сначала прекратили финансирование. А теперь ещё лучше — ликвидировали министерство.
— Знаю. Госсовет — его раньше не было — 14 ноября упразднил больше тридцати центральных органов управления. Все союзные министерства и комитеты…
— Значит, не одних нас?
— Не одних. В том числе всю «девятку».
— Неужели всю? — без особого интереса уточнил Павел. Он знал, что так назывались собранные ещё в 1965 году Председателем Совмина СССР Косыгиным под единое стратегическое управление девять основных оборонных ведомств. Это позволило разрозненным до того отраслям ликвидировать начавшееся отставание от Соединённых Штатов в оборонной сфере, а через какое-то время кое в чём превзойти их по качеству вооружения. Кроме министерства общего машиностроения, которое отвечало за ракетно-космическую технику, и куда входил завод Слепцова, «девятка» включала министерства: оборонной, авиационной, электронной, радио-, судостроительной, электротехнической, химической промышленности, а также «атомное» ведомство — Министерство среднего машиностроения. Это была основа советского оборонного комплекса и одновременно средоточие самых передовых технологий, которые находили применение как при создании вооружений, так и в производстве товаров народного потребления.
— А людей-то куда? В «девятке», кроме заводов, как ты знаешь, сотни институтов, конструкторских бюро. Целое государство народу.
— Людей — на улицу. За ворота. Я же тебе говорил — помнишь? Сначала вам перекроют финансирование. Объявят ВПК слишком неподъёмным для народного хозяйства. Одновременно развернут массированную пропаганду о дружелюбии стран НАТО и США. Там, мол, идёт кардинальное сокращение вооружений. Значит, надо и нам равняться на них. Потом начнут как бы реформировать «оборонку». А на деле — разрушать…
Василий Павлович в задумчивости отхлебнул кофе.
— Только я не предполагал таких темпов. Думал, поборемся ещё. Помогли эти говнюки… Чрезвычайщики слюнявые. Надавали ребятам из-за «бугра» полные руки козырей.
— Опять ты о своих «заклятых друзьях» с той стороны. Ну, сколько можно, пап?! Как будто не уродство политической системы породило уродливую экономику и всю дрянь, вытекающую из этого. Спроси любого — вон на улицу выйди, в очереди спроси: есть хоть што-то хорошее в нашей советской действительности? И тебе скажут: нет! Раньше нам про недостатки внушали, как про отдельных блох. Ещё немного, и мы их выведем. Оказалось, што из них состоит вся наша жизнь. Да из каких блох!
Василий Павлович хотел что-то сказать, но помедлил, раздумывая. Потом молча встал, подошёл к одному из книжных шкафов. Достал плоскую картонную коробку в полкниги шириной. Вынул из неё большую лупу. Затем выбрал из раскида бумаг на полке какой-то листок. Вернулся на место, подал листок сыну.
— Прочти.
Павел напрягся. На листке было что-то написано мельчайшим шрифтом под едва различимым изображением.
— Не могу. Ты бы ещё дал молекулу разглядеть. Без микроскопа. Што здесь?
— А теперь посмотри через лупу.
— Чесоточный клещ. Ф-фу! Страшилище какое-то. И зачем ты мне это показал?
— Для твоего просвещения. Может, ещё не поздно, и ты поймёшь, што не только наши собственные недостатки подвели страну к краху. Я знаю о них, кому, как не нам, знать? На них нельзя было закрывать глаза, прятать голову в песок. Но наши реальные недостатки специально и, должен тебе сказать, умело увеличивали хорошо подготовленные противники. При этом старались уменьшить или совсем замолчать имеющиеся достоинства системы. Вот ты сейчас увидел довольно редкое насекомое в лупу и ужаснулся. А поглядел бы на этого клеща или на ту же блоху, о которой говорил, в микроскоп. Зверя бы увидел! Страшного зверя. Причём, ещё более ужасного из-за его неизвестности. Мы ведь в жизни-то разве часто встречаем их? Блох… Клещей… Как говорится, слава Богу, вывели почти всех. Редкостью стали. Но если увеличить их через микроскоп и это шевелящееся чудище показывать каждому человеку с утра до ночи, при этом внушать: вот она, ваша жизнь, вот вы среди чево живёте, то люди, рано или поздно, поверят, што на самом деле живут среди одних блох. Как уверял Горький, если человеку всё время говорить, што он свинья, он, в конце концов, захрюкает.
Василий Павлович поднял чашку, глянул в неё и опять поставил. Видимо, не заметил, когда выпил кофе.
— Я тебе рассказывал о некоторых американских документах — про все пришлось бы долго говорить. В каждом — очередная программа борьбы против нас по разным направлениям. Ломать Союз начали давно. Иногда были успехи. Чаще, как говорит твоя мать, мимо сада-палисада. Однако с водворением Горбачёва надежды у них прибавилось. Команду подобрал такую, што недостатки пошли косяком. Нашлись специалисты увеличивать блох под микроскопом — один Яковлев, этот идейный перевёртыш, сколько натворил. К сожалению, народ наш оказался не готов отличать истинный размер этой гадости от того, какой ему стали преподносить. Как ты понимаешь, блоха на футбольном поле и она же под увеличительным стеклом — существа разной психологической опасности. А безоружность страны в информационной войне — вина, прежде всего, нашей системы, тут я с тобой соглашусь. Не готовила система эффективного противоядия. Топорно работала. Потеряли люди иммунитет. Обрадовались: гласность — это лекарство, демократия — равенство всех перед законом, рынок — сытая жизнь для каждого. Поверили докторам, цель которых не вылечить, а угробить.
— Мы с тобой, как оптимист и пессимист из анекдота. Для первого клоп пахнет коньяком, для второго — коньяк клопом. Ты не веришь в добрые намерения демократических стран по отношению к нам, а я не верю в их коварные замыслы. Ну, почему ты не можешь допустить, што нам искренне хотят помочь? Не разрушить, как ты считаешь, Советский Союз, а модернизировать его, сделать мощным демократическим государством.
Василий Павлович пристально смотрел на сына, и по сухому, бледносерому лицу трудно было понять, что чувствует генерал. Однако глубоко посаженные, словно проваленные вглубь черепа глаза выдавали сильные переживания его. Там удивление сменялось горечью, надежда — отчаянием, а сожаление — тоской. Как же он не разглядел, когда у Павла начала прогрессировать политическая близорукость? — думал генерал. — Узнать, что твоё дело будет разрушено, и при этом оставаться спокойным?… Такого он не ожидал от своего сына, с которым раньше всегда находил согласие. Неужели не понимает, что скоро и он, заместитель главного экономиста, и миллионы других людей из оборонных заводов, конструкторских бюро, исследовательских и проектных институтов окажутся без работы, а страна без надёжной защиты. Хотя какая страна? Её в прежнем виде уже нет. Сразу после ГКЧП все республики объявили о своей независимости. Если бы не этот провал…
Вспомнив о нём, Василий Павлович покраснел от гнева. Он ненавидел почти всех этих бесхребетных деятелей, за исключением Пуго и Варенникова. Только эти двое вызывали уважение. Остальные, кто пьяницы, кто трусы, заслуживали презрения и желание отхлестать их по физиономиям. Особенно, организатор затеи — его начальник Крючков. Когда-то Слепцов уважал Владимира Александровича. В «конторе», несмотря на закрытость каждой службы, люди приятельствовали, общались друг с другом; как профессионалы, умели аккумулировать информацию и порой знали о характерах, привычках своих руководителей больше, чем те предполагали. Слепцову, как и другим его коллегам, было известно о педантичности и канцелярской аккуратности Крючкова, о его феноменальной памяти, начитанности, театральных привязанностях. Но все эти качества председателя КГБ Василий Павлович отдал бы за одно единственное — за смелость. А её — этой смелости — в самое нужное время, в исторически важные для страны дни у канцеляриста не оказалось.
Много раз после путча Слепцов ставил себя на место Крючкова и его подельников. Прокручивал в уме свои возможные действия. И был полностью уверен: он бы не остановился ни перед чем, чтобы спасти страну. История неоднократно показывала, что порой достаточно ликвидировать небольшой нарост булькающей грязи, и поступательное развитие жизни продолжается эволюционным путём. А слабоволие, боязнь решительных действий давали этой грязи разрастись до размеров кровавого Левиафана, который способен устроить беды огромного масштаба.
Так будет и теперь, с огорчением думал Василий Павлович. Ни у министра обороны, ни у вице-президента, ни у премьера и министра внутренних дел не было столько информации о критическом положении разваливаемого государства, сколько её имел председатель КГБ. Даже Горбачёв знал меньше. К тому же, самонадеянно не догадывался, что многие его скрытные шаги для руководителя «конторы» не были тайной. На Крючкова работала разведка и контрразведка, он знал поимённо агентов влияния в разных сферах и, прежде всего, в политике. Ему докладывали о планах и действиях зарубежных сил, начиная от его коллег по профессии и кончая руководителями государств. А потому он просто обязан был остановить разрушение страны. Но он струсил, и Василий Павлович не находил ни малейшего оправдания импотентным действиям председателя КГБ. Даже если бы остальные стали сползать с ковра, у Крючкова хватило силы вернуть всех на место. Теперь же, из-за проваленного «мероприятия», процесс распада стремительно подходит к концу.
Подумав об этом, Василий Павлович открыл один из ящиков стола и достал тёмно-зелёную папку.
— Ты полагаешь, они стараются нам помочь? — спросил сына. — Хотят сделать Советский Союз мощным государством?
— Убеждён.
— Тогда почитай вот это.
Слепцов младший открыл папку. Сверху страницы было скромно написано: М. Тэтчер. «Советский Союз надо было разрушить».
— Откуда это? — поднял он провалы глаз на отца.
— Читай, читай. Я пока схожу за кофе.
Подвигавшись в кресле для удобства, Павел стал читать. «Советский Союз — это страна, представлявшая серьёзную угрозу для западного мира. Я говорю не о военной угрозе. Её в сущности не было. Наши страны достаточно хорошо вооружены, в том числе ядерным оружием. Я имею в виду угрозу экономическую. Благодаря плановой политике и своеобразному сочетанию моральных и материальных стимулов, Советскому Союзу удалось достигнуть высоких экономических показателей. Процент прироста валового национального продукта у него был примерно в два раза выше, чем в наших странах. Если при этом учесть огромные природные ресурсы СССР, то при рациональном ведении хозяйства у Советского Союза были вполне реальные возможности вытеснить нас с мировых рынков.
Поэтому мы всегда предпринимали действия, направленные на ослабление экономики Советского Союза и создание у него внутренних трудностей.
Основным было навязывание гонки вооружений. Мы знали, что советское правительство придерживалось доктрины равенства вооружений СССР и его оппонентов по НАТО. В результате этого СССР тратил на вооружение около 15 % бюджета, в то время как наши страны — около 5 %. Безусловно, это негативно сказывалось на экономике Советского Союза. Советскому Союзу приходилось экономить на вложениях в сферу производства так называемых товаров народного потребления. Мы рассчитывали вызвать в СССР массовое недовольство населения. Одним из наших приемов была якобы „утечка“ информации о количестве вооружения у нас гораздо большем, чем в действительности, с целью вызвать дополнительные вложения СССР в эту экономически невыгодную сферу.
Важное место в нашей политике занимал учёт несовершенства конституции СССР. Формально она допускала немедленный выход из СССР любой пожелавшей этого союзной республики (причем, практически путем решения простым большинством её Верховного Совета). Правда, реализация этого права была в то время практически невозможна из-за цементирующей роли компартии и силовых структур. И всё-таки в этой конституционной особенности были потенциальные возможности для нашей политики.
К сожалению, несмотря на наши усилия, политическая обстановка в СССР долгое время оставалась весьма стабильной. Серьезное место в формировании нашей политики (в основном, политики США) занимал вопрос о создании системы противоракетной защиты (СОИ). Должна признаться, что большинство экспертов было против создания СОИ, так как считали, что эта система будет чрезвычайно дорогой и недостаточно надежной, а именно щит СОИ может быть пробит при дополнительном вложении Советским Союзом гораздо меньших (в 5-10 раз) средств в „наступательные“ вооружения. Тем не менее, решение о развитии СОИ было принято в надежде, что СССР займется созданием аналогичной дорогостоящей системы. К нашему большому сожалению, советское правительство такого решения не приняло, а ограничилось политическими декларациями протеста.
Сложилась весьма трудная для нас ситуация. Однако вскоре поступила информация о ближайшей смерти советского лидера и возможности прихода к власти с нашей помощью человека, благодаря которому мы сможем реализовать наши намерения. Это была оценка моих экспертов (а я всегда формировала очень квалифицированную группу экспертов по Советскому Союзу и по мере необходимости способствовала дополнительной эмиграции из СССР нужных специалистов).
Этим человеком был М. Горбачев, который характеризовался экспертами как человек неосторожный, внушаемый и весьма честолюбивый. Он имел хорошие взаимоотношения с большинством советской политической элиты и поэтому приход его к власти с нашей помощью был возможен достаточно тонко».
Гладкое и логичное повествование вдруг прерывалось, словно часть текста кто-то убрал. Павел вопросительно посмотрел на отца, который пришёл с двумя чашками кофе и теперь аккуратно отпивал из своей. Василий Павлович понял немой вопрос сына. Он сам удивился провалу, когда впервые взял в руки текст.
— Так записали, — сказал, показывая взглядом на листы. — Но ты читай. Дальше тоже интересно.
Павел снова углубился в написанное. «Деятельность „Народного фронта“ не потребовала больших средств: в основном это были расходы на множительную технику и финансовую поддержку функционеров. Однако весьма значительных средств потребовала поддержка длительных забастовок шахтёров.
Большие споры среди экспертов вызвал вопрос о выдвижении Б. Ельцина в качестве лидера „Народного фронта“ с перспективой последующего избрания его в Верховный Совет Российской республики и далее руководителем Российской республики (в противовес лидеру СССР М. Горбачеву). Большинство экспертов были против кандидатуры Б. Ельцина, учитывая его прошлое и особенности личности. Однако состоялись соответствующие контакты и договорённости, и решение о „проталкивании“ Б. Ельцина было принято. С большим трудом Ельцин был избран Председателем Верховного Совета России, и сразу же была принята декларация о суверенитете России. Вопрос от кого, если Советский Союз был в своё время сформирован вокруг России? Это было действительно началом распада СССР.
Б. Ельцину была оказана существенная помощь и во время событий августа 1991 года, когда руководящая верхушка СССР, блокировав Горбачева, попыталась восстановить систему, обеспечивающую целостность СССР. Сторонники Ельцина удержались, причем он обрёл значительную (хотя и не полную) реальную власть над силовыми структурами.
Все союзные республики, воспользовавшись ситуацией, объявили о своём суверенитете (правда, многие сделали это в своеобразной форме, не исключавшей их членства в Союзе).
Таким образом, сейчас де-факто произошёл распад Советского Союза, однако де-юре Советский Союз существует. Я уверяю вас, что в течение ближайшего месяца вы услышите о юридическом оформлении распада Советского Союза».
Павел в задумчивости положил палку на стол.
— Откуда это у тебя?
— Дней десять назад Тэтчер была в штате Техас. Там в Хьюстоне, в Американском нефтяном институте, проходило очередное заседание. В нём участвовали и наши специалисты по нефтепереработке и нефтехимии. Тэтчер пригласили как почётную гостью. Хотя она уже год не премьер-министр, однако пользуется уважением. Тем более, по образованию — химик. Она и выступила там вот с этой речью.
— А ваши люди записали её на диктофон?
— Нет. Вечером в гостинице восстановили по памяти.
— Хороши у нас нефтяники. Быстро работают. Но мне не верится, што это правда.
— Да обрати внимание хотя бы на её слова о поддержке шахтёрских забастовок! Ты же экономист. Легко можешь посчитать, какие деньги нужны, штобы привезти целый поезд шахтёров в Москву. Платить за них неделями в гостиницах, кормить-поить. А у каждого ещё семья. Ей тоже надо оставить денег. Откуда их на всё это возьмёт небогатый шахтёр? Да и надо ли ему ехать чёрт-те куда, долбить каской московский асфальт? Ты не поверил мне об иностранных деньгах для забастовщиков. Теперь удостоверился?
Павел был растерян и одновременно раздражён. Он чувствовал, что отец, скорее всего, прав, да и прочитанное похоже на действительность, но согласиться с этим означало признать выстроенные в уме светлые замки домиками из песка. Ему казалось, что, отвергая советскую Систему, они с Карабановым не посягают на целостность государства. А получалось — одно держит другое.
— Трудно всему этому верить. Она сказала: в течение месяца? Значит, механизм запущен… Посмотрим, посмотрим… Может, не всё так страшно, как видится твоим «нефтяникам».
* * *
После того вечера Павла по-прежнему больше всего волновали проблемы безденежного завода. Но и то, что узнал при встрече с отцом, не выходило из головы. До путча он не слишком вслушивался, а тем более вдумывался в разговоры об обновлении Советского Союза. Из всей говорильни в памяти оседало, что кое-какие изменения произойдут, однако будут они, как, полагал Слепцов, скорее косметического характера. Ведь Референдум, вопреки их с Карабасом желанию, затвердил сохранение, пусть обновлённого, но Советского Союза. Горбачёв рассказывал о готовящемся Договоре, в котором государство будет по-прежнему называться СССР. Только расшифровываться иначе: Союз Советских Суверенных Республик. Слово: «социалистические» из названия республик уйдёт, и это вполне устраивало экономиста. Ему казалось, что основные недостатки жизни происходят как раз от социалистического начала.
Когда же, к восторгу Слепцова, демократия победила путч, он ни о чём, кроме как о скорых переменах в своей жизни с Анной, думать не мог. Лишь краем внимания улавливал, что снова заговорили о государственном обустройстве. Опять всплыл договор, только теперь о Союзе Суверенных Государств (ССГ), и это тоже не слишком обеспокоило Слепцова. Главное, сохраняется Союз, отмечал он мимоходом, и тут же переключался на другие заботы.
Однако встреча с отцом основательно добавила беспокойства и тревоги. Что может произойти, думал Павел, вспоминая речь Тэтчер. Опять образуют тот же Союз, но под новым названием? Ведь нельзя без войны ликвидировать большое и пока ещё могучее государство, которое способно (об этом Слепцов знал лучше других) постоять за себя. Чего стоит одна ракета СС-18, которую американцы даже в своих официальных документах называют «Сатана». Самая тяжёлая в мире. Может нести десять боеголовок с ядерными зарядами. Способна пробить любую противоракетную оборону. Не зря американцы говорят: пока у русских есть «Сатана», нас может хранить только Бог.
А кроме этих шахтных ракет по стране передвигается неуловимый ракетоносец. По тем же рельсам, по которым идут обычные составы, ездит поезд, где под обычные вагоны — рефрижераторы замаскирована боевая установка с межконтинентальной ракетой «Молодец», таящей в себе 900 хиросимских атомных бомб. И угадай, какой состав с пшеницей, а какой с баллистической ракетой, способной прорезать любую защиту и уничтожить целое европейское государство. Американцы назвали неуловимый страшный комплекс «Скальпелем» и вряд ли бы уследили за передвижением ракетоносцев по разветвлённой сети советских железных дорог, если бы не помощь Горбачёва. Стремясь ещё больше угодить «миролюбивым» Штатам, он приказал поставить все поезда на прикол, и теперь «Скальпели» постоянно находились под круглосуточным наблюдением американских спутников.
Тем не менее, даже в этих условиях стране есть чем ответить, думал Слепцов и, с некоторым удивлением для себя, чувствовал гордость за собственное участие в таком большом деле.
В заводских и бытовых неурядицах шла первая декабрьская неделя. На заводе не знали, как растянуть остатки средств. Звонили поставщики. Требовали зарплату рабочие. Дома встречала уставшая Анна. Чтобы найти продукты для семьи, женщина обходила не один магазин, выстаивала долгие очереди. «Какая паскудная жизнь!» — переживал Павел, слушая свою гражданскую жену.
С середины недели резко начали крепнуть морозы. Температура опустилась ниже 17 градусов. Опасаясь за аккумулятор, Павел стал уносить его на ночь в тепло квартиры.
В понедельник 9 декабря, утром, отдохнувшие за выходные Анна и Павел ласково глядели друг на друга за завтраком, шутили с уходящими в школу ребятишками, и жизнь Слепцову уже не казалась такой мрачной, как накануне. К тому же, несмотря на ещё более усилившийся мороз, легко завелась «Волга». На заводе главный экономист, идя мимо в директорский кабинет, бросил на ходу какую-то обнадёживающую фразу. А когда окна слепцовской комнаты озолотило полуденное солнце, Павел совсем оттаял. Поэтому телефонный звонок Карабанова показался ему продолжением нарастающей приятности.
— Здравствуй, Серёжа. Давно тебя не слышал.
— Здорово! Новость знаешь? — с воодушевлением выкрикнул доктор.
— Ну, говори.
— Конец Союзу! Нет его больше! Передали по телевизору… Сегодня ночью где-то в Беловежской пуще наш Ельцин, украинский Кравчук и белорусский… как его? Шушкевич! ликвидировали Советский Союз.
— Как это ликвидировали? — опешил Слепцов. — Всего трое?
— Да. Подписали документ: Советский Союз прекращает своё существование. Паша! Дружище ты мой! Твоя сова предсказала всё точно. Вернее, ты предсказал! Нет больше такого государства — Союз Советских Социалистических Республик!
— А што же будет?
— Ничего! Все по отдельности.
— Да подожди ты кричать, Карабас! Што значит по отдельности? Кто им такое право дал? Этим троим… Референдум был…
— Плевать на референдум! Мы с тобой голосовали против. Теперь увидишь, какая наступит жизнь. Ты сам её хотел. Сова кричала. Всё кричало о конце. Ты чево молчишь? Не рад што ли?
— Чему радоваться, Серёга? Мы с тобой играли не за ту команду. Страна… Ты понимаешь, страну расчленили?!
Доктор замолчал. Потом с насмешкой в голосе произнёс:
— Ты как-то определись, Слепцов, сам с собой… Со своими взглядами. И не пытайся усидеть на двух стульях. А то сначала у тебя сова кричит… потом ты плачешь. Мы с тобой можем гордиться. Тоже участвовали… Поэтому поздравляю…
Он некоторое время ждал ответных слов. Но вместо них в трубке раздались гудки.
Глава одиннадцатая
Приближался Новый год — самый приятный для Нестеренко праздник. Но в этот раз электрик даже не думал о нём. То, что произошло в Беловежской пуще, сначала казалось нереальным, очередной ложью оборзевших журналистов. Сознание не принимало сообщаемую информацию, отторгало её. Только потом до Андрея стало доходить, что это — правда, что показываемые по телевизору кадры с руководителями трёх республик, не то довольными, не то пьяными, есть реальность. И тут сознание забилось, как раненый волк. Какая-то часть его отдёргивалась от видимой беды, клацала зубами, пыталась вскочить на привычно сильные ноги, но другая часть — большая и уже парализуемая, заливалась горячей кровью и чувствовала нарастающее обессиливание.
Дома Андрей ходил отрешённый, не сразу откликался на слова матери или жены. В цехе тоже какое-то время молча смотрел на спрашивающего человека, с усилием переключался на вопрос. Однако, коротко поговорив о чём-то заводском, сразу переходил на разрывающую его тему: как могли эти три Существа — иначе он беловежскую троицу не называл, совершить паскудное своё действо вопреки решению народов? А вслед за тем, не обращая внимания, кто перед ним: сочувствующий или радующийся, громко жалел, что не нашлось никого, кто пустил бы на «беловежскую кодлу» ракету с самолёта или из «нашей „машинки“».
Завод, где работал Нестеренко, «в миру» имел статус машиностроительного. Но, наряду с гражданской продукцией, выпускал, после дооборудования, зенитные ракетные комплексы средней дальности. Между собой заводчане ласково называли их «машинками». Правда, гусеничная эта «машинка», способная мчаться и по асфальту, не повреждая его, и по любому бездорожью, готовая через минуту после получения команды дать уничтожающий вражескую ракету залп хоть в Арктике, хоть в Африке, в действительности была грозным и востребованным оружием. Однако, ещё до ликвидации по поручению Горбачёва и Ельцина оборонных министерств, прекратилось их финансирование. Не только за военную — за гражданскую продукцию перестали платить. Пришлось часть цехов периодически останавливать, а людей отправлять в отпуска. В декабре снова объявили отпуск: неделя — до Нового года, столько же — после.
Цех Андрея в «отпускные» не попал. Однако и особой работы не было. Не на что стало покупать комплектующие. Российские смежники кое-что дали под «честное слово». Украинские — сами стояли без денег. Эстонцы заявили, что правительство республики запретило «кормить русский военно-промышленный комплекс».
Раздражённый Нестеренко решил: чем болтаться, как навоз в проруби, лучше съездить на охоту. С продуктами стала совсем беда. Мясо можно было купить только по сверхвысоким ценам на рынке. Охота уже давно выручала компанию. Прошли те времена, когда Павел Слепцов, имеющий «кормушку», и даже Карабанов снисходительно смотрели, как Фетисов раскладывает куски разделанного лося на кучки, а потом также с ленцой брали разыгранное. На охотах последних лет все внимательно следили за наполнением кучек, и едва отвернувшийся Волков заканчивал называть, кому какая предназначена, сразу раскладывали мясо по мешкам.
Несколько удачных охот обеспечивали семью каждого лосятиной и кабаном с ноября по конец марта.
Андрей позвонил учителю. С ним и с Савельевым он разговаривал по телефону сразу после Беловежья. Даже спокойный и воспитанный Волков тогда не мог говорить без матерщины. Клокотал в гневе и журналист, упоминая какие-то баночки с керосином. Теперь Нестеренко решил, что на охоте с товарищами ему будет легче.
Волков прикинул: полнедели были свободными. Сказали о задумке Савельеву. Виктор согласился. Только спросил: будут ли доктор и Слепцов? Волков колебался: может, пригласить? Но электрик твёрдо заявил: тогда без него. Позвонили Фетисову. Товаровед обрадовался. Однако когда Нестеренко — всё через тот же угольный склад — договорился с Адольфом, Игорь Николаевич с огорчением отказался: опять прихватило сердце.
Адольф велел ехать в деревушку Марьино, где охотились весной. Опять издалека увидели возле Дмитриевого дома трактор «Беларусь» с тележкой. При подъезде к избе на какой-то миг осветили фарами окна. Не успели выйти из машины, как в сенях зажёгся свет, открылась дверь и в проёме показалась, освещённая сзади, коренастая фигура Адольфа. Впереди него выскочила крупная лайка. Басовито гавкнула, оросилась к машине.
— Пират! — крикнул Нестеренко. Собака как споткнулась. Радостно взвизгнула, завертелась. — Пират! Разбойник! Какой стал! Ах же ты, морда моя! Хватит лизать!
Электрик, нагнувшись, пытался погладить пса, тот изворачивался, подпрыгивал, успевал лизнуть Андрея, снова отскакивал.
— Смотри, не забыл! — тоже возбудился Волков. — Столько времени прошло!
— Не так и много, — без энтузиазма проговорил Савельев. — Каких-то восемь месяцев. Случилось много всего — это да. Другим на сто лет хватит, сколько у нас — за месяцы.
— Ну, хорош лизаться, Пират! — подошёл егерь. По очереди обнял всех. В кое-как накинутых куртках вышли Валерка и Николай. Помогли занести в избу рюкзаки, ружья в чехлах. Там вокруг стола ходил Дмитрий. Он заметно облагородился: постриг рыжеватые космы, побрился, стал ухоженней в одежде. Да и в движениях, во взгляде от прежнего заброшенного мужика мало что осталось. По избе ступал хозяин, заимевший власть и одновременно — ответственность. «Наверно, женился», — подумал Волков. А тот, словно подтверждая догадку учителя, приветливо ощерил от уха до уха рот и крикнул в комнату за печкой:
— Валентина! Встречай гостей!
В отличие от Дмитрия женщина не изменилась. Те же печальные глаза, то же робкое подобие улыбки. «Сломали человеку жизнь, сволочи. Не скоро отойдёт», — с горечью подумал учитель.
— Уютно у тебя, хозяйка, — обвёл он рукой горницу, стараясь порадовать Валентину. — Так бы и прописался тут. Квартирантом к Дмитрию.
— Считай, он тебя прописал, — заявил Адольф. — Митька оставляет нас здесь на всю охоту. Кто давно на печке не спал, может вспомнить.
— Я вообще никогда не спал на печи! — воскликнул Нестеренко.
— Попробуешь. Ноги только длинные. Там Валерке самый раз. Но его место нынче — в сенях.
— Эт почему?! — засопротивлялся Валерка.
— Ты ж у нас демократ? Демократ. А кто сказал, што не нужен общий большой дом? Кто разогнал страну по углам и каморкам? Демократы. Вот и иди в сени.
Увидев, что Валерка готов обидеться всерьёз, егерь снисходительно бросил помощнику:
— Ладно, ладно. Мы не такие, как ты, шнырла. Садимся, ребяты. Мужики — с дороги. Часа три-четыре ехали — это не на печку слазить.
Городские действительно утомились. И не только Савельев, который вёл машину. Двое других — сами водители, тоже чувствовали, едва ль не наравне с Виктором, плохо чищенную, разбитую дорогу. Поэтому теперь за столом расслаблялись.
Продукты они, конечно, привезли. Но это было очень скудное подобие прежних возможностей. Зато Дмитрий, а скорее Валентина, постарались. На стол выставили большую, едва ль не с тазик, тарелку, полную тёплых ещё котлет. Нестеренко первый ткнул вилкой, откусил и зажмурился. Это была смесь лосятины с дикой свининой.
К дичи шла в меру прихрустывающая на зубах, жареная, с корочкой картошка. Остальное городским было знакомо: три сорта грибов — рыжики, белые и опята; солёные огурцы, квашеная капуста — в порубе и вилках. Из нового — крупный, явно не магазинной формы, кусок сливочного масла светло-золотистого цвета.
— Своя маслобойка? — спросил Савельев, отрезая охотничьим ножом пластик натурального продукта.
— Своя, своя, — сказал Адольф. — У Митрия теперь всё своё. Завели с Валентиной корову… Поросят… Курей и уток стаю… На власть не надеются. Она вон только трындит с утра до ночи, — показал на бубнящий в углу телевизор. — Ну, да ладно. Давайте, ребяты, за встречу. Считай, за год знакомства.
Через некоторое время, сбив первую охотку, стали пить и есть неспешней, словно в какой-то раздумчивости. У городских того радостного волнения, которое они в прежние приезды не могли скрыть и унять, теперь не было. Волков отстранённо жевал солёные рыжики. Нестеренко, зацепив вилкой котлету, долго держал её над своей тарелкой, о чём-то тяжело думая. Савельев, намазав ещё один кусок хлеба домашним маслом, отложил его и стал расстёгивать рубаху.
— Жарко. Сваришься, Андрей, на печке. На ней хорошо спать в мороз. Я знаю. Мне приходилось…
— Опять холода спали, — сказал Адольф. — Раньше в это время мороз деревья рвал… Ночью лежишь — тихо… Он ка-ак рванёт! Только весной поймёшь, какое дерево треснуло…
— Этот год весь какой-то кручёный, — вздохнул Валерка. — Секач, паскуда… Тайга теперь близко не подходит к кабану… издаля работает. Сова…
— Ты говорил, и весной она была, — напомнил красноглазый Николай.
— Была… А где сичас этот… Павел? Который нам про сову рассказывал? Про Горбачёва с отметкой? Где он, Андрей?
— Не знаю, — отчуждённо сказал Нестеренко. — Наверно, с такими, как ты, демократами делит страну.
Он захмурился, сдвинув брови в сплошную чёрную линию. Слова Адольфа о демократах вызвали ярость.
— Почему никого не оказалось рядом? Всего три выстрела и нет паскуд!
Все поняли, о ком почти выкрикнул электрик. В беспокойстве задвигались.
— Чё ж теперь будет? — спросил Адольф. — Может, ещё он вернётся — Советский Союз?
— А зачем он нужен? — выпалил Валерка. — Што с возу упало, то к завхозу попало. Когда-то жили без него. Может, снова проживём.
Нестеренко побледнел. Адольф увидел это, наклонился к сидящему рядом электрику:
— Андрей, тебе похужело?
— Ничё, ничё. Я тут хочу твоему подручному сказать… Который не понимает, што три Существа натворили. У тебя, Валерк, есть дом?
— Есть.
— А дети?
— Трое. Два сына и дочь.
— О-о, какой ты богатый на детей. Теперь представь: пришёл кто-то, ну, председатель сельсовета… детей из дома выгнал, дом распилил бензопилой «Дружба» на три части и сказал: «До меня дошли слухи: вы не ладили друг с другом, спорили иногда. Вот я ваш дом делю. Живите каждый в своём отрезке». «Да как жить?! — спросят дети. — Печка у одного. Погреб у другого. „Двор“ [13]с коровой у третьей. Не жизнь это будет, а чёрт знает што. Да и спорили мы без драки. Словами иногда… Наши отцы, деды жили вместе. Порознь нам будет плохо…» «Ничего не знаю, — скажет тот. — По моим представлениям вам так будет лучше». А сам промолчит, што интересовало его не спокойствие братьев и сестры. Земля была нужна. Помыкаются люди вокруг распиленного дома и пойдут наниматься к тем, у кого целые дома. Вот так же, примерно, демократ, поступили и с нашим домом. Народы ведь не хотели разъединяться! Ты сам слышал, што Адольф говорил весной, после референдума: три четверти проголосовали за сохранение Советского Союза. Но с помощью таких, как двое наших… и теперь вот ты… бензопилой по живому.
Волков смотрел на товарища и, кажется, сам чувствовал терзающие того страдания. Крупные черты лица ещё сильнее огрубели, выпукло застыли, как складки хромового сапога. Глаза из-под сдвинутых бровей мерцали злым огнём. «А верил: будем стариться плечом к плечу, — подумал учитель об Андрее. — Теперь бы не встретиться всем на узкой тропе».
Он машинально скручивал кончик уса и хотел понять, как удалось каким-то людям развернуть их друг против друга. Эти неизвестные оказались сильнее и хитрее. Они нащупали невидимые трещинки между ними и превратили их в разломы. Также как сначала между тысячами, потом — между миллионами.
«Ну, а мы-то что, телята что ли? — думал Волков, всё больше сердясь на себя. — Понимали: вместе с грязью враги наши выливают на помойку очень много хорошего. И не поднялись. Вождей не оказалось?… Организаторов? Говорил я Вадиму: народ без вожаков — мясо истории… Везде так… Даже в демократических странах, которыми нам забили мозги. У нас тем более. Выходит, так и будем на вождей надеяться? А если попадётся, как Горбачёв?… Заменить нельзя. Не дают. Тогда, может, прав Андрей? Один выстрел — и пошла жизнь по другим рельсам. Сколько таких примеров в истории!»
Но, подумав об этом, учитель сразу усомнился. Выстрел… Бомба… Кто определяет, что нужно их применить? Один человек? Но он кто: Бог? Решающий за большое множество людей. Даже группа несогласных — ещё не народ. Маленькая часть народа. Тогда имеют ли эти люди право решать за всех? А если эти немногие наказывают тех, кто переступил через волю народа? Как переступили трое беловежских подписантов… Это тоже недопустимо?
Волков запутался, не зная, что правильнее. Морщил в напряжении лоб, нервно трогал усы. Видно было: мыслями он не здесь. Это заметил Адольф. Окликнул:
— Владимир! Ты командир, а не спрашиваешь, куда завтра пойдём. У вас одна лицензия?
— Одна, — вернулся к действительности учитель. — На лося. И одна на кабана. Витя достал.
— Значит, работа будет. У нас тоже лось и два кабана.
Он помолчал. Потом с иронией бросил:
— Только бы сова не закричала.
— А между прочим, у нас на фабрике никто особо не заметил, што Союз помер, — бодро сказал Валерка, похоже, совсем не обидевшись на злое разъяснение Андрея. — У всех другие заботы. Где еды достать? Сколько придёт хлопка?
Валерка работал на небольшой ткацкой фабрике в маленьком посёлке, который не так давно преобразовали из села. Но жизнь в селе всё равно оставалась деревенской. Здесь было правление колхоза, машинный двор, где Валерка, как фабричный механизатор, в страдную пору помогал ремонтировать технику, за что ему иногда давали на охоту трактор «Беларусь». Область, куда ездила компания, считалась не только промышленной, но и текстильной. В областном центре работали крупные ткацкие комбинаты, один из которых был основан при Петре Великом. Здесь начинали делать ткань для парусов. Валеркина фабричка выпускала хлопчатобумажное полотно, и весной подручный Адольфа показывал охотникам кусочки красивых материалов.
— Значит, говоришь, не заметили? — спросил Савельев. По профессиональной привычке быть в курсе событий он исподволь прислушивался к бубнящему вдалеке телевизору, однако при этом не пропускал ни слова из разговора за столом. — Ничево, скоро заметите. Узнаете, што Союз, как ты говоришь, помер. Хлопок для всей текстильной промышленности поставляют Узбекистан и Таджикистан. Они теперь отделились. Перестанут поставлять, и вы остановитесь. Колхозы тоже будут разрушены — орёт вон тот дурачок (показал на телевизор, где в это время что-то кричал известный агрессивный писатель), будто фермер спасёт Россию. После этого у тебя и в колхозе не будет «шабашки». Как видишь, товарищ демократ, всё в жизни взаимосвязано. Где морским узлом, а где гордиевым. Особенно в жизни экономической.
— В политической тоже, — сказал Нестеренко. — В Таджикистане начинается буза. Неизвестно, во што выльется. Если начнут воевать за власть кланы, тогда — спасайся, кто может. А ведь какая жизнь была! — я-то помню. Беззлобная… Спокойная…
— Первым достанется — русским, — мрачно произнёс Адольф. — Подымали, подымали их, а теперь — на ножи. Это ж надо, как загадили людям мозги!
— Всё потому, што люди не заметили, когда началась подмена, — выходя из-за стола, проговорил Савельев. Подошёл к входной двери, открыл её, встал в потоке прохлады. Оттуда заговорил:
— Все мы с удовольствием дышим воздухом после грозы. Кусать его хочется. Запах — божественная свежесть. Это — озон. Но дай человеку этой «свежести» чуть-чуть больше и он умрёт. Самое мало — мужик станет бесплодным. Благодатный озон и смертельный озон — один и тот же газ. Дело — в количестве.
Виктор вернулся к столу. Его внимательно слушали.
— Нас подкупили обещанием свежести. Слов нет — она была нужна. Из некоторых углов уже сильно пахло. Я сам… наверно, больше, чем каждый из вас — ничево не поделаешь: работа такая!., чувствовал этот запах… и хотел свежести. Перемен хотел! И не один я. Многие. Мы поверили в наши возможности. В благородную цель… Однажды я сказал Володиной Наташе, не знаю: говорила она тебе? (Виктор посмотрел на Волкова, тот пожал плечами) — может слишком возвышенно это прозвучало, но это было искренне. Я сказал: мы — вроде Диогена, который ходил днём с фонарём — искал хорошего человека. Только мы идём с баночками керосина, куда вставлен горящий фитилёк, штобы осветить дорогу в светлое завтра. Я даже вижу, сказал я Наташе, как с такими же баночками идут тысячи людей… десятки тысяч и каждый верит, будто его керосин сделает жизнь страны светлей и радостней. Но только потом я понял, што это горючее — из множества баночек — сливают в одну большую цистерну и, когда придёт нужный момент, бросят в неё горящий факел — помните, в «Белом солнце пустыни» так бросили? — и страшенный взрыв разорвёт всё вокруг. Понял, но мне уже не давали сказать поставленные сливальщиками люди.
— Вот и бросили факел, — выдавил Нестеренко. — Теперь мне понятно, про какие ты баночки…
В этот момент Савельев увидел, как на экране телевизора появилось лицо Горбачёва. Заметил это и Адольф.
— Гляньте-ка, чучела-мяучела вылезла! — воскликнул он. — Просрал державу, поганец, и не стыдно народу в глаза глядеть.
— Подожди, Адольф, он чево-то важное говорит, — сказал Савельев. Журналист прибавил звук, и все услыхали слова:
— …я прекращаю свою деятельность на посту Президента СССР.
В избе загомонили. Даже Валентина стала что-то говорить Дмитрию. Каждого цепляла какая-то фраза, и человек комментировал её. Только Савельев слушал длинную, блудливую речь молча, реагируя на выкрики соседей взглядом или мимикой.
«Но и сегодня я убеждён в исторической правоте демократических реформ, которые начаты весной 1985 года».
— Лучше б ты в аварию попал той весной, тварь! — кривясь, говорил Нестеренко в экранное лицо ненавистного ему человека. — Для реформ башка нужна, а не пятно на ней.
«Старая система рухнула до того, как успела заработать новая».
— Он нам рассказывает, што натворил! — удивлялся Волков, обращаясь к стоящим рядом.
«И сегодня меня тревожит потеря нашими людьми гражданства великой страны».
— Это твоя работа, ублюдок, — прорычал Адольф. — Штоб ты захлебнулся в слезах людских.
Выступление было долгим, бесцветным и скользким, как мокрый обмылок. «Даже последнее слово не смог сделать достойным», — с неприязнью подумал Савельев. Он отвернулся, чтобы уходить к столу, как вдруг пронзительный вскрик Нестеренко заставил быстро глянуть на экран:
— Флаг! Смотрите: флаг!
То, что происходило на экране, остановило всех. Видимо, съёмка шла издалека — «телевиком». В ночной темноте едва просматривалась Спасская башня Кремля. Был слабо освещен и купол президентской резиденции. Только установленная на его крыше мачта с государственным флагом Советского Союза была хорошо видна в свете направленных снизу прожекторов.
Эту картину — красное полотнище величественно колышется над Кремлём — много лет видели наяву или по телевизору граждане трёхсотмиллионной страны, и развевающийся стяг был гарантией того, что великое их государство живёт, и они являются частью его.
Теперь же происходило что-то невероятное. В полной тишине флаг полз вниз и уже прошёл треть мачты. Едва различимые на крыше фигурки людей быстро двигали руками, видимо, торопясь опустить стяг. Но декабрьский ветер сильно развевал его, образовывал тугие ярко-красные волны, снова вытягивал полотно на всю длину, и казалось, флаг сопротивляется. Когда же его достали рукой, съёмка прекратилась.
Все находящиеся в избе онемели. В молчании Савельев выключил телевизор. Пошёл к столу. Он понял: если сейчас не выпьет, не сможет разжать спазмы в горле. Глядя на него, двинулись за стол остальные. Только Нестеренко прикованно смотрел на выключенный телевизор и не трогался с места.
— Андрей! — позвал его Савельев. — Иди к столу.
Тот сумасшедшими глазами глянул на журналиста и показал пальцем в телевизор:
— Эт што такое, Вить?
— Это, Вольт, конец страны, — вместо Савельева ответил Волков.
— Кто ж им, сукам, разрешил? — тихо, но зловеще спросил электрик. — Вы мне можете сказать? Значит, они окончательно угробили нас?
В дальних глубинах сознания у Нестеренко ещё таилась маленькая, едва дышащая надежда на какие-то перемены. Да, подписали три Существа бумагу о том, что Советский Союз они распускают. Видимо, побаивались: могут нарваться на кулак Горбачёва. Поэтому собрались, как сейчас рассказывают, в нескольких километрах от границы, чтобы в случае чего рвануть в Польшу. Тогда Горбачёв пустил соплю. Но потом-то мог опомниться? Он всё ещё президент. Главнокомандующий. Не надо армии. Достаточно несколько дивизий… А он ни страну, ни себя не стал спасать. Ах ты, пятнистая шкура…
— Не знаю, как вы, а я готов пойти в партизаны.
— Против кого? — спросил учитель.
— Их надо казнить, — продолжал Нестеренко. Он, наконец, сдвинулся от телевизора, но шёл к столу тяжело, разбито.
— По-хорошему, надо бы судить, — сказал Савельев. — Партизанщина — это терроризм. А он нигде не приветствуется. Вот судить — другое дело! Но кто же в этом разброде даст их судить? Всё, што они сделали, нужно не народам. Кучкам, оказавшимся у власти. И особенно тем, кому сдали страну… Западу. Разве победители позволят разложенным, оглуплённым массам отнять такую ценность?
Отречение Горбачёва потрясло и Виктора. Видя, куда направляются события, он давно был готов к нехорошему финалу. Но одно дело знать, что будет смерть, другое — её увидеть. Виктор вспомнил рассказы отца о реакции людей на смерть Сталина. Сергей Петрович Савельев также, как Волков, был учителем. Только преподавал математику. «Все мы понимали, — говорил он сыну, — придёт когда-то время и Сталин умрёт. Нет же бессмертных… Но когда он умер, многим показалось, что остановилась жизнь. Мой класс — девятый класс — рыдал. Я вытирал слёзы и не стеснялся. Фронт прошёл… Горя нагляделся… А тут — плакал. Потом оказалось, что жизнь продолжается».
До заявления Горбачёва Виктор старался притоптать свои тревожные мысли о будущем страны. Успокаивал себя и жену примерами из истории. Сколько империй распалось, а народы продолжают жить. Ту же Российскую империю большевики разорвали в клочья. Однако она вернулась в форме Советского Союза. О том, что многие империи исчезли вместе с народами, думать не хотелось. Теперь спущенный флаг государства взволновал его и встревожил до учащённого сердцебиения. Что будет с Россией? С Украиной, где жили родственники жены? С тихой и светлой Белоруссией, куда он несколько раз ездил в командировки и возвращался, словно умытый в прозрачной родниковой воде. Наконец, с Казахстаном, где он какое-то время работал, и половина населения которого — русские.
— Эти люди не имеют права жить, — обрывисто дыша, продолжал свою линию электрик. — Надо подкараулить… Не приветствуется… А быть государственным преступником и оставаться ненаказанным приветствуется?
— Их как раз надо оставить жить, — хмуро объявил Волков. — Они должны видеть, што натворили, и мучиться.
Адольф недовольно заёрзал. С осуждением поглядел на учителя.
— Будут эти твари мучиться. Думаешь, у них есть там, внутри, такое, што заставляет нормальных людей мучиться? Вот когда б их Бог наказал… Послал каждому страшную болезнь… Мучительную. Им самим… Их родне… Пусть ба глядели… Выли, как собаки, и знали: это им за миллионы остальных.
— Если я их на этом свете не достану, — опустил тяжёлый кулак на стол Нестеренко, — и если есть тот свет, пойду там в кочегары. Буду жарить. Встречный план возьму, как раньше было… Но не дам ихним душам покоя.
Уже никому не хотелось ни есть, ни пить. Все вроде были вместе, и в то же время каждый по себе. Печально молчала Валентина, изредка взглядывая на Дмитрия. Ушёл к печке Николай, присел там на маленькую скамеечку. Куда-то в угол избы смотрел Валерка, опасаясь встретиться глазами с Адольфом. А егерь, забыв о нём, ждал хоть каких-нибудь утешений от городских. Но что они могли сказать ему, сами чувствующие себя перед новой жизнью, как люди, оказавшиеся на краю неизвестного болота. Одно объединяло мысли: на их глазах произошла гигантская катастрофа, и те, кто её совершил, достойны высшей меры наказания.
— В Новгороде есть памятник «Тысячелетие России», — углублённый в свои мысли, проговорил учитель. — Там изображены все, кто из начальной Руси создавал наше великое государство. Придёт время, и поставят памятник «Разрушители России» где-нибудь…
— …на свалке, — вставил Нестеренко.
— Нет, в людном месте. Их должны видеть. Плевать на них.
Владимир ещё никогда в жизни не чувствовал такого унижения. Какбудто к нему в квартиру залезли воры, раскидали вещи, грязными ботинками наступили на ночную сорочку Натальи, утащили всё ценное, а он, здоровый крепкий мужчина, спецназовец, умеющий победить добрый десяток людей, сейчас не способен даже понять, кого ему надо нейтрализовать.
— Плевать — это ты хорошо придумал, — медленно произнёс электрик. И, заводясь, заговорил быстрее. — Очень хорошо, Вова, придумал. Я понял, как будет их наказывать народ.
Андрей в волнении встал, энергично прошёл по избе, вернулся к столу. Все глядели на него.
— Я сделаю кооператив. Их вон уже сколько! Будет ещё один. Завод, чувствую, угробят. Но мой кооператив будет жить. Его продукция пойдёт нарасхват.
Он помолчал и многозначительно объявил:
— Я буду делать унитазы и писсуары.
Столь неожиданное сообщение развеселило людей. Сумрачное настроение немного просветлело.
— Ну, если только с музыкой, — хмыкнул Савельев.
— С мордами! С ихними мордами. Представляете, приходит мужик в общественный туалет, пристраивается — и прямо в морду «пятнистому». Или сразу троим Существам. А когда по-хорошему… штоб посидеть от души… тут уж, ребята, все они получат сполна.
Мужики захохотали, видимо, представив картину народной мести. Скупо улыбнулась Валентина.
— Ну, ты даёшь, Андрюша! — весело воскликнул Адольф. — Надо же догадаться!
Однако Савельев, тоже улыбаясь, остудил электрика:
— Не выйдет ничево, Андрей, а жалко. Они расценят это, как оскорбление личности. Подадут в суд. Скажут: наладил производство и продажу оскорбительных изделий.
— Какие личности?! — завопил егерь.
— Всё равно нельзя, Адольф. Вот если б Андрей сделал такой унитаз для себя… поставил в своей квартире и не продавал людям на рынке…
— А друзьям могу подарок сделать? — спросил растерянно Нестеренко. — Тебе… Володе… Вот им, — показал на мужиков.
— Подарок, наверно, можно. Я, правда, не специалист, но ведь если ты, он, все мы купим портреты этих деятелей, прибьём их в туалетах, а может, даже приклеим в унитазах, кто нам што сделает?
— Это совсем другое дело. Мне нравится Андрюхина идея, — сказал Волков. — Но время ещё есть. Мы што-нибудь придумаем, Андрей. Как говорит Адольф: «Война план покажет».
Они ещё какое-то время посидели, кто за столом, кто рядом. В разговоре начинали трогать охоту, но не было ни привычного азарта, ни даже интереса говорить. То и дело сворачивали на больную, как открытая рана, тему: что будет дальше? Чтобы не царапать души, рано легли спать. Хозяева — в отгороженной комнатке за печью. Нестеренко попробовал устроиться на печке, но длинные ноги надо было сильно поджимать, к тому же было жарко. Он слез, и Адольф сразу послал туда Валерку. Сам егерь с Николаем улеглись на раздвинутом диване. А городские — на полу, где Дмитрий устроил им хорошую постель из матрацев и тулупов.
При потушенном свете долго слышали друг друга: вздыхали, сопели, подкашливали. Уснули чуть ли не во второй половине ночи. Поэтому встали такие же, внутренне и внешне, помятые.
Обмениваясь неохотными репликами, собрались. В сенях взяли на поводки собак. Те почему-то не вырывались, как всегда, из рук, не дёргались в предвкушении охоты. Вели себя смирно. Словно чувствовали состояние людей. Поскольку лес был близко, решили не заводить трактор, а идти на лыжах. Стояли молча, дожидаясь Дмитрия, который пошёл за лыжами во «двор» — большой крытый сарай, пристроенный к избе, где стояла корова, был закуток для овец, хранились дрова, сено и всякий инвентарь.
Рассветало быстро. Сероватые сумерки, казалось, на глазах раздувало порывами налетающего ветра.
— Как он вчера не хотел сдаваться, — сказал Нестеренко, думая о своём и ни к кому конкретно не обращаясь. Но его поняли.
— Да… Последние минуты были красивыми, — согласился Савельев. И со вздохом добавил:
— Нет ни страны, ни флага красного.
— Почему нет? — спросил Дмитрий. — У меня в сенцах стоит.
Он принёс лыжи и уже пробовал втиснуть носки валенок в ремни. Городские переглянулись.
— А давайте вывесим его! — воскликнул учитель. — В знак несогласия.
— Это дело! — вдохновился Адольф. — Неси, Митька, флаг.
Когда тот поднялся на крыльцо, егерь крикнул:
— И захвати молоток с гвоздями!
Потом, вспомнив, подтолкнул к дому Валерку.
— Лестница нужна. Помоги ему, шнырла.
Споря, как лучше поставить лестницу, на какой высоте прибить, под каким углом флагу висеть, мужчины споро принялись за работу. Приколотили. Довольно оглядели сделанное и уже с другим настроением двинулись к лесу.
Метров двести дорога шла так, что изба оставалась прямо за спиной. Каждому хотелось оглянуться, однако тогда надо было останавливаться, разворачивать лыжи. Но вот лыжня начала круто забирать влево, и охотники один за другим стали поворачивать головы в сторону дома с флагом.
Рассвело окончательно. Ветер развевал красное знамя несогласия, ударял в лица идущих мужчин, и, видимо, из-за него то один, то другой вытирал рукой глаза.
Часть четвёртая
(Вместо эпилога)
Глава первая
Высокий мужчина в дорогом чёрном пальто и тёмной норковой шапке дважды обошёл памятник Пушкину, остановился и поглядел на часы. Он не нервничал — время ещё было, но холодная январская сырь стала доставать, несмотря на тёплые ботинки и пушистый тёплый шарф. Мужчина огляделся, похоже, кого-то выискивая. На противоположной стороне улицы, в начале Тверского бульвара, рабочие разбирали высокую искусственную ёлку. Выбросы машин смешивались с холодной влагой воздуха, и сквозь сизую дымку городского смога даже недалёкие дома виделись размытыми, как на невысохшей акварельной картинке. Мужчина повернулся к памятнику, поднял голову вверх. Тёмное лицо поэта показалось ему грустным. «Как ты здесь жил, Александр Сергеич? Савельев говорил: в детстве тебя напугало землетрясение. Ну, сегодня наших детей таким уже не испугаешь. Еду отнимут — это страшно. А землетрясение в Москве — только посмеются».
— Привет, Володя! Давно ждёшь? — услыхал он знакомый голос.
— А-а, Андрей! можно сказать: только пришёл. Я ведь знаю твою пунктуальность. Раньше времени приходить — зря себя морозить. Ну, здравствуй, Андрюша! Здравствуй, Вольт!
— Здорово, здорово, Франк, — улыбнувшись, в тон ему ответил подошедший.
Мужчины обнялись. Отодвинувшись, оглядели друг друга. Тот, что в дорогом пальто, потрогал пышные усы, с явной радостью уставился на товарища.
— Достойно выглядишь. Достойно. Правильно Виктор говорит: Андрея Нестеренко годы не берут.
— Да и вы с ним — не залежалый товар. Глядишь на себя в зеркало? Чёрно-бурый лис. Усы только пегие… Под цвет волка…
— А я, между прочим, Андрей, ни разу не охотился на волков. Сейчас их, наверно, много развелось…
— Да, сегодня волчье время. Хоть в природе, хоть в обществе. Виктор не перезванивал? Ждать его не придётся?
— Нет. А вот и он!
Со стороны подземного перехода, лавируя среди людей, с небольшим портфелем в руке, к памятнику шёл Савельев.
— Экипаж в сборе, — сказал Нестеренко, здороваясь с журналистом. Повернулся к Волкову.
— Теперь веди нас, командир.
— Надо перейти на ту сторону Тверской, — проговорил Владимир и первым двинулся к подземному переходу. Идти было скользко. Снег кое-как почистили только у памятника, сдвинув сугробы к скамейкам. На тротуаре народ давил сапогами и ботинками снежную мешанину, разбрызгивая обувью грязное месиво. Тут и там оно намерзало ледяными кочками, и люди, балансируя, взмахивая, как канатоходцы, руками, старались не упасть. Из гигантских репродукторов возле кинотеатра «Пушкинский», который до недавнего времени назывался «Россия», неслась оглушающая музыка. Хотя уже прошло пол-января, над входом в кинотеатр ещё висела истрёпанная непогодой перетяжка: «С Новым 1999 годом».
Начав спускаться по скользкой, с намёрзлостями, лестнице вниз, Савельев поднял взгляд на восьмиэтажное здание «Известий», вытянутое вдоль Тверской. Когда-то этот дом, как и сама редакция газеты, на демократических сборах возвышенно именовались «рупором гласности». Теперь буквально вплотную к «рупору», загородив вход в редакцию, презрев все градостроительные и архитектурные нормы, новые хозяева города возвели торговые помещения высотой до третьего этажа «Известий». А остальные этажи, на всю длину здания, занавесили огромным рекламным полотном.
— Наверно, света белого не видят, — сказал Савельев.
— Ты про кого? — спросил Волков.
— Да вот про нынешних журналистов «Известий», — показал Виктор на полотнище, за которым нельзя было разглядеть даже окна. — Заткнули «рупор гласности».
— Так им и надо, — заявил Нестеренко. — Сделали гнусное дело — и больше не нужны. Теперь можно грязной половой тряпкой в морду.
— Злой ты, Андрюха, — усмехнулся Волков.
— Нет. Справедливый. Каждый должен отвечать за свои дела.
— К сожалению, тех, кто бил из этой «амбразуры гласности» по стране и защищал Ельцина в октябре 93-го, там уже нет, — сказал Савельев, повышая голос, чтобы перекрыть шум густеющей в переходе толпы. — Одних купили олигархи для своих газет. Других новые владельцы разогнали. Эти перебиваются кое-как на ельцинские пенсии. Правильно Андрей говорит: не нужны стали. А значит — на выброс. Я недавно встретил одну демократку из бывшей моей газеты. Вы не поверите! — возле «мусорки»!
Виктор действительно был поражён той встречей. Оставив машину на Ленинском проспекте, он двором перешёл к дому, где жил именитый в прошлом конструктор. С ним журналист должен был сделать большое интервью. Возвращаясь назад, Виктор решил сократить путь. Короткая дорога проходила мимо мусорных баков. Мусор, видимо, не убирали давно. Он не только переполнил баки, но и валялся кучами возле них. В пакетах копались двое мужчин и немолодая женщина. В ноябрьских сумерках трудно было разглядеть лица, да Савельев и не особенно вглядывался в них. Было время, когда он страдал, видя копошащихся в мусоре людей. Несколько раз заговаривал с ними. После этого страдания только усиливались. Превращение ещё недавно благополучных граждан в социальные отбросы вызывало у него гнев. Вся страна становилась большой «мусоркой», вбирающей всё новые судьбы.
Савельев уже почти прошёл мимо разбирающих пакеты людей, как вдруг увидел мгновенный, словно выстрел, брошенный на него снизу, от кучи мусора, взгляд женщины. Этот взгляд Виктор никогда не спутал бы ни с чьим другим. Так смотрела когда-то на «врагов демократии» Вера Григорьевна Окунева. Однако теперь злой до густоты взгляд её был обращён испепеляющим огнём не только наружу, но одновременно и внутрь, готовый, казалось, жечь обоюдоострым лазером и всё перед собой, и всё внутри излучателя.
Изумлённый Савельев встал, будто споткнулся. Такого превращения он не ожидал. После ГКЧП обозревательница отдела школ и вузов Окунева стала активным организатором внутриредакционного переворота. Газету объявили собственностью коллектива. Прежнего, «пластилинового» главного редактора — партийного ставленника, сняли. Решительней других требовала этого Окунева. Выбрали своего, демократичного. Вера Григорьевна вошла в группу инквизиторов, начавших очищать редакцию от «неблагонадёжных» журналистов методами раннего «чекизма». Материалы «приговорённых» не печатали. Им даже не давали заданий, чтобы обвинить потом в бездействии. А когда человек приносил что-то написанное по своей инициативе, над ним с мазохистским наслаждением издевались, вырывали отдельные цитаты из текста, искажали их смысл, перебрасывали извращённые фразы от одного критика другому, затем следующему, как это делают упоённые собственной властью палачи с окровавленной жертвой.
Под запрет попадал любой материал, где «инквизиторам от демократии» удавалось разглядеть хотя бы единственный положительный факт из недавней жизни. В тоталитарной советской Системе должно было быть мрачным всё: экономика, социальная сфера, культура, бытовые условия. Особенный гнев у Веры Григорьевны Окуневой вызывало почему-то слово «патриотизм». По этому поводу у Виктора с ней несколько раз возникали конфликты.
— Для вас, Савельев, наверно, даже Павлик Морозов патриот. Хотя по всем нравственным канонам — доносчик. Это советская система сделала из него героя и патриота. В любой стране доносительство — самое презренное дело. Только в бывшем Союзе считалось подвигом. Об этом убедительно рассказал известный писатель… э-э-э, ну, фамилия не имеет значения, он сейчас живёт в Штатах.
— А вы спросите его, если удастся, сколько раз его сдавали стукачи на новой родине? Доносительство в Штатах — дело доблести, славы и геройства. Там это поощряется от имени государства. На многих улицах поставлены особые дорожные знаки. На них или огромный глаз, или силуэт человека в шляпе и очках. Внизу написано: «Соседи следят». На каждом автобусе, на шоссе через каждые пять километров вы увидите надпись: «Доносы принимаются через текст или по телефону 012. Анонимность доносителям гарантируется». А ещё деньги платят за доносы. Шагу нельзя шагнуть неправильно, штобы кто-нибудь тут же не позвонил в полицию, в налоговую инспекцию, в службу охраны животных, в комитет по правам ребёнка, ещё чёрт-те куда. Там детей с первых лет жизни учат доносить на родителей. Они с детского сада — Павлики Морозовы.
— Этого не может быть! Врёте вы, Савельев!
— А вы, оказывается, к тому же необразованная дама. Если вам недоступен уехавший в Америку писатель, спросите наших зарубежных собкоров. Нашего в Германии спросите. Он вам расскажет, как там следят друг за другом и, если кому-то покажется, што вы в чём-то отклонились от установленных правил — только покажется! будьте уверены: донесут, стукнут, проинформируют. И это считается гражданской добродетелью. Патриотизмом.
— Не приплетайте сюда это поганое слово. Патриотизм — последнее прибежище негодяев.
— Значит, каждый человек, который защищает Родину и считает это патриотическим делом, негодяй? А уважение к великому прошлому своего народа и почитание его героев скудоумие?
Окунева бросила на Виктора молниеносный взгляд, и Савельеву показалось, что его хлестнул по лицу плотный, почти осязаемый кнут многовековой спрессованной злобы.
— В стране-тюрьме не может быть настоящих героев, — медленно проговорила она. — Нам велели выдумывать их, и мы лакейски старались. Угодничали, соревновались друг с другом: у кого лучше получится, и кому больше заплатят.
— В героизм человека не верит тот, кто сам не способен на это. Гегель по такому случаю весьма точно сказал: «Для лакея нет героя. И не потому, что герой не есть герой, а потому что лакей есть лакей». Знаете, мадам, я думаю, вам нужна другая страна. Эту вы ненавидите, её патриоты для вас негодяи, тогда што вас здесь держит? Бороться с ней можно издалека. По крайней мере, так будет комфортнее. И негодяи перестанут мешать.
— Не указывайте, где мне быть. Нам надо эту землю очистить от таких, как вы. Демократия победила, и теперь здесь наступит лучшая жизнь. Осталось убрать квасных патриотов.
Однако с Виктором, в отличие от других, справиться было труднее. За ним стояла большая масса российских депутатов и некоторые люди из ельцинского окружения. Но Савельев уже сам не хотел работать в газете, где под крики о демократии утвердилось тоталитарное одномыслие. Он ушёл в другое издание. Тем не менее, с некоторыми из прежних коллег встречался и знал, что происходит в когда-то близкой ему газете. А там началась борьба за собственность. Провозгласившие себя демократами руководители обманули демократические массы и захватили большинство собственности. Часть обладателей редакционных акций продалась одним олигархам. Другая часть — их конкурентам. Свара разрасталась, забрызгивая грязью ещё недавно светлое чело популярной газеты. Наконец, развалилась и сама редакция. Коллективно избранный главный редактор тоже оказался, на взгляд вчерашних соратников, не без изъяна. Он взял несколько журналистов и пошёл служить самому одиозному олигарху.
Вера Григорьевна Окунева не интересовала Виктора, и он о ней никогда не расспрашивал. Из мимолётных упоминаний знал, что её отбросили от участия в дележе собственности, а в ходе реорганизаций уволили на пенсию. Потом кто-то вскользь рассказал, что за долги сына у Веры Григорьевны отобрали квартиру. «И вот он — финал, — подумал тогда Савельев. — Разрушала? Теперь собирай… мусор…» Подумал безразлично, ничуть не злорадствуя над судьбой агрессивной крушительницы, но и нисколько не жалея наклонившуюся к мусору старуху.
— В какой ресторан идём? — спросил он Волкова, возвращаясь в окружающую жизнь.
— Я тут недавно открыл новый ресторанчик — были там с моим президентом: понравилось. Избалованный француз, но вижу: хвалит искренне. Да и мне показался симпатичным. Надо будет Ташку сводить. Сейчас пройдём длинный этот переход… чёрт, людей сколько… грязища…
Москва стремительно раздувалась от прибывающего в неё народа. Если перед концом советской власти в столицу из ближайших областных центров ездили «колбасные поезда», возвращая в тот же день пассажиров в свои города, то теперь полстраны стремилось любыми способами закрепиться в Москве, обосноваться здесь хоть временно, а повезёт — постоянно. В больших и малых городах остановились заводы и крупные комбинаты, различные фабрики и предприятия жизнеобеспечения, закрылись научно-исследовательские и проектные институты, замерли начатые стройки, а из нового возводились, да и то лишь в Москве, здания банков и сверкающие тонированными стёклами, словно облитые нефтью, офисы нефтяных и газовых компаний. Напуганный расстрелом Белого дома новый парламент, заполненный, в значительной мере, депутатами от «денежных мешков», с готовностью служил своим явным и тайным хозяевам, принимая нужные только им законы. В результате большинство финансовых потоков пошли через Москву, сильно обогащая немногих, но одновременно давая заработать и тем, кто этих немногих обслуживал. Молодые мужчины из провинции шли в охранники, в сторожа, в палаточные торговцы, в бандиты. Молодые украинки, молдаванки, русские, впитывая телевизионную пропаганду о том, как можно легко заработать на жизнь телом, становились проститутками. А третьим людским массивом, хлынувшим в Москву, стала армия «челноков». Цеха оборонных заводов превратились в склады турецкого и китайского ширпотреба. На стадионах не бегали, а торговали. Подземные переходы заполнили прилепившиеся к стенам лавчонки. Повседневная жизнь оказалась похожа на боевик с постоянными убийствами, похищениями людей, взрывами домов, разгулом террора. Приметами времени стали обтягивающая голову шапочка-«террористка» и безразмерный баул «челнока».
Но люди волей-неволей привыкали к этой противоестественной жизни, полагая, что если всё время ждать только беду, она обязательно придёт. Поэтому с оглядкой ездили в метро, шли на работу, у кого она была, ходили в гости и даже в рестораны.
Волков вёл своих товарищей в ресторан, чтобы отметить традиционную дату. Иногда они собирались у него дома, и тогда Савельев с нежностью целовал Наталью в щёку, не позволяя, однако, себе ничего большего даже в желаниях. Но чаще — шли в ресторан, зная, что Владимир подберёт что-нибудь приличное. На сегодня он, оказывается, опять открыл что-то новое.
Мужчины шли некоторое время молча, потому как в кишащем людьми переходе идти всем троим рядом, да ещё разговаривать, было трудно. Вдруг Нестеренко и Волков услыхали где-то впереди звуки скрипки. Они на ходу переглянулись. Встретить бедных музыкантов в подземных переходах теперь можно было нередко. Играли, прося деньги для пропитания, на чём угодно: на аккордеонах, баянах, саксофонах, губных гармошках, валторнах, кларнетах. Иногда слышались и скрипки. Поэтому не звуки инструмента привлекли внимание товарищей, а музыка. Кто-то проникновенно выводил давно не слышанную ими мелодию из американского фильма «Серенада Солнечной долины».
— Как Слепцов когда-то, — с грустью сказал Волков. — Где он теперь?
— Продал, наверно, военные секреты и живёт где-нибудь в Америке, — мрачно бросил Нестеренко. — Вместе с Карабасом… Художник, ети его мать… рисовал всем красивое будущее.
Музыка слышалась всё ближе, но самого скрипача было не видно — он стоял за поворотом. Мужчины прошли ещё немного, повернули за угол и тут, почти перед собой, увидели скрипача. Это был Павел Слепцов. Он сильно изменился: ещё больше похудел, по впалым щекам прошли глубокие, как борозды от плуга жизни, морщины, обнажённая голова почти облысела, оставшиеся волосы заметно поседели. Шапку Павел положил на газету. В шапке блестела мелочь, топорщились бумажные деньги. Но он не смотрел на них. Слепцов играл, закрыв глаза и покачиваясь в такт музыке, словно видел себя где-то далеко от этого промозглого, грязного перехода, на другой земле, залитой солнцем и теплом.
— Паша, — потрясённо окликнул его Волков. Музыкант открыл глаза, и в глубине провалов заметались меняющие друг друга чувства. Сначала было удивление — кто мог позвать его из этой грязной людской толчеи, часами безразлично протекающей мимо. Потом вспыхнула радость — Павел узнал Владимира Волкова. И тут же глаза влагой подёрнул стыд за себя — перед Слепцовым стояли хорошо одетые, всем видом своим демонстрирующие благополучие мужчины. Павел растерянно опустил руки — в правой смычок, в левой — скрипка.
— Паша… дорогой…
Волков с чувством обнял Слепцова. Тот его тоже обхватил — неуверенно, не выпуская из рук инструмента.
— Как же так, Паша? Почему ты здесь?
— Я же говорил, што скрипка будет его кормить, — сухо сказал Нестеренко. — Советская власть бесплатно дала ещё одну специальность.
— Перестань, Андрей. Паша, што случилось? И давно ты здесь?
— Нет, — тихо проговорил Слепцов. — Это место было занято. Умер человек… Играл на кларнете…
— Чёрт возьми, да я не это место имею в виду. Не это конкретное…
Волков всмотрелся в худое лицо скрипача.
— Как ты живёшь, Паша? Да што я здесь расспрашиваю? Бросай свою серенаду… Мы идём в ресторан…
— Ты и его хочешь взять? — недружелюбно спросил Нестеренко. — Мне кажется, он из другой компании. Да, Вить? — повернулся Андрей к Савельеву. Тот пожал плечами: мол, мне всё равно.
— Он сейчас из той компании, где страдают, — заявил Волков. — А ты сам за таких, Вольт. Оставим прошлое. И вообще, Андрюха, будь подобрее. Хотя бы иногда.
Волков замолчал, но, увидев сдвинутые в неудовольствии бровищи Нестеренко, улыбнулся товарищу.
— В конце концов, сегодня мой день. Кого хочу, того и приглашу. Хоть вон ту рыжую, — кивнул Владимир в сторону проходящей дородной женщины. — Такие ведь в твоём вкусе, Вольт? Или время изменило твои пристрастия?
— Ладно, согласен. Твой день и ты хозяин.
В ресторане гардеробщик — средних лет мужик — угодливо принял одежду троих, а волковское пальто даже обмахнул щёткой, однако, когда ему протянул свою истёртую куртку Слепцов, опустил руки.
— В чём дело? — строго спросил Волков. — Это с нами товарищ.
Гардеробщик настороженно посмотрел на резко отличающуюся от только что принятой одежду, потянул носом — видимо, от куртки пахнуло сырым подземельем, и неохотно взял её. Ещё брюзгливее поставил в угол чехол со скрипкой.
Встречающему при входе в зал парню Владимир назвал свою фамилию и, когда тот провёл всех к заказанному столу, попросил добавить четвёртое место.
Отношение гардеробщика царапнуло всех, а Савельева к тому же рассердило.
— Быстро сформировалось лакейское поведение, — буркнул он, ставя возле стула портфель. — Хотя… может в некоторых оно просто дремало.
— Скажи ещё, што это характерно для русского народа, — съязвил Нестеренко.
— Такого не скажу, но задуматься есть над чем. Обрати внимание: ни в одной соцлагерной стране — Польшу возьми, Венгрию, Чехословакию — нигде тамошние народы не позволили бандам разрушителей так разгуляться, как у нас. Я был в Польше — это ещё при Советском Союзе, когда там начинали готовиться к разгосударствлению экономики. К приватизации, проще говоря. Копал скрупулёзно. Говорил с экономистами, политиками, рабочими. Так вот, прежде чем выставлять предприятие на торги, его оценивали несколько разных комиссий. Иностранные специалисты… польские. Просчитывали, какую продукцию завод будет выпускать — сегодняшнюю или другую. Во што обойдётся перепрофилирование, будет ли новая продукция востребована на рынке, какие затраты нужны на техническое перевооружение, сколько сократится рабочих и куда их устраивать. Когда я приехал на один завод под Варшавой, подготовка к его разгосударствлению шла уже два года. И поляки не торопились. Не обращали внимания на предложения явно заинтересованной агентуры ускорить процесс. Сравнивали выводы четырёх комиссий: двух иностранных и двух своих. А што натворили наши сволочи? «Уралмашзавод» отдали по цене хоккейной клюшки. Чево смотришь? Хоккеисту за год больше платят, чем оценили «Уралмаш» — этот «завод заводов». Так же и остальное раздали своим… И народ не восстал против такого грабежа…
— Мы дрались. Ты знаешь. Не лакейничали. И сейчас не гнёмся.
— Это мы. А другие-то?
— В тех странах не расстреливали парламент, Витя. Согнулся народ от крови. Я говорил: Ельцина надо было уничтожить ещё в 91-м году, и по-другому пошла бы жизнь.
— Хватит вам, — одёрнул друзей Волков. — Хороший день омрачаете. Не уничтожать надо, а нормальными средствами не допускать до власти.
Он посмотрел на Слепцова, и жалость снова тронула взгляд. Павел положил было руки на стол, но, увидев подходившего официанта, поспешно убрал их. Видимо, застеснялся обтрёпанных рукавов пиджака. «А какой франт был, — вспомнил Волков. — На охоту с завода приезжал в костюме и галстуке. Переодевался — всё чистое, отглаженное. Аккуратист…»
— Што с заводом, Паша?
— Нет завода, Володя. Цеха стоят, но в них работает ветер. Стёкла выбиты. Станки выдирали на металлолом, они в ворота не проходили — проламывали стены. Нас полностью перестали финансировать уже с конца 91-го года. В девяносто втором — совсем ни рубля…
— Давайте закажем, ребята, а то парень ждёт, — напомнил Нестеренко. Когда официант ушёл, Слепцов, не сдерживаясь, взял кусок хлеба, намазал горчицей и жадно откусил. Опять смутился и, дожёвывая, пробормотал:
— Люблю вот так… по-простому.
— Картина была у всех примерно одинаковая, — сказал Нестеренко. — Нас тоже кинули. А ты чево ожидал? Простые люди могли не понимать. Но ты-то экономист!
— Гайдаровцы обещали, што цены вырастут в два-три раза и остановятся. А они, даже по их официальным сведениям, за несколько месяцев поднялись в 30 раз. Независимые эксперты, в том числе иностранные, называли другие цифры: только за 92-й цены увеличились до 150 раз. К концу следующего года всё подорожало в 600 раз. Да вы сами всё это знаете.
— Знаем, — нахмурился Волков. — Прошли. И гиперинфляцию прошли, и прошлогодний дефолт. Чем же ты занимался до этой музыки?
Владимир кивнул в сторону гардероба, где осталась скрипка.
— Чем придётся. Торговал металлом — знакомый пригласил в свою фирму. Когда нас захватили… бандиты захватили, полгода жили на зарплату Анны. Потом и её уволили. Ты не представляешь, Володя, как сердце начинает колоть, когда приходится ребятам еду делить по граммам. Большим уже подросткам — кусочек хлеба и стакан чаю. Когда женщина на тебя смотрит… ничево не говорит, а ты себя последней собакой чувствуешь…
— О-о, какой ты стал разговорчивый, — усмехнулся Нестеренко. Павел загнанно поглядел на него, в глазах что-то сверкнуло, но он снова повернулся к Волкову.
— Года два работал сторожем. На даче… у нового богача. После надолго зацепился в курьерах. Бензин мне оплачивали, а ремонт — нет. Угробил «волгу». Дефолт разорил нашу компанию. Генеральный застрелился. Оказался в больших долгах…
— Ладно. Хватит о грустном, — остановил его Нестеренко и поднял налитую рюмку. — У Володи сегодня день рождения. Давайте выпьем за нашего предводителя! Не за вице-президента Волкова, а за нашего друга Франка!
«Вице-президент?» — удивился Слепцов, стараясь как можно больше проглотить закуски. — Всё ёрничает Вольт. Какой из учителя вице-президент?
Но Нестеренко не выдумывал. Владимир Волков действительно был вице-президентом.
Глава вторая
С первых месяцев гайдаровских реформ зарплату в школе стали задерживать на четыре-пять недель. Люди добирали стремительно тающие от бешеной инфляции накопления и с ужасом глядели в завтрашний день. А вскоре полученных денег перестало хватать даже на питание. Ельцинисты сначала определили прожиточный минимум из трёхсот продуктов, товаров и услуг. Но увидев, что при текущих ценах 90 процентов населения не способно всё это оплатить и таким образом оказывается за порогом бедности, минимальный набор сократили до 19 продуктов. Благодаря такой манипуляции число «официальных» бедных вроде бы сократилось. Вместо 128 миллионов стало 50. Однако в действительности ничего не изменилось. 70 процентов денег уходило на еду, остальное — на оплату коммунальных услуг. Многим не хватало даже на лекарства. Народ стал вымирать, а жизнь миллионов людей, остающихся в живых, превратилась в кошмар.
Поняв, что их грубо обманули, граждане начали протестовать против «шоковых» реформ. Первыми в бюджетной сфере забастовали учителя. Каждая школа сама решала, какой путь протеста выбрать: стачку, пикет, голодовку. Учителя волковской школы решили объявлять забастовку. Но Овцова, как директор, пригрозила, что протестующих уволит.
— Дайте нам деньги, Нина Захаровна, и мы пойдём на уроки, — потребовала давний оппонент Овцовой — учительница географии.
— У меня их нет, — бросила Овцова.
— Опять съедает советский военно-промышленный комплекс? — с издёвкой спросила несгибаемая противница. Её муж работал на оборонном заводе, но денег уже давно не приносил.
— Мы расхлёбываем наследие коммунистов. Демократическое правительство делает всё, штобы поднять страну из пропасти.
— Её не надо было туда сталкивать — вашему демократическому правительству, — заявил Волков, твёрдо решивший участвовать в забастовке. Он стал политически активным, поддерживал все протесты и даже начал ходить с Нестеренко на демонстрации.
Уволить Овцовой никого не удалось. Но и забастовка ничего не дала. Зарплату, ставшую при таком росте цен ничтожной, по-прежнему не повышали. Да и ту задерживали ещё дольше. А вскоре Нина Захаровна ушла из школы. Сменившая её одна из молодых фурий — Надежда Аркадьевна, с нескрываемой завистью сказала, что Овцова нашла «просто шоколадное место». Кто-то из знакомых пригласил Нину Захаровну, как химика, на частную кондитерскую фабрику.
Спустя некоторое время ушли ещё двое: новый преподаватель физики Никитин и физкультурник Мамедов.
Волкову уходить было некуда. Семью спасал заработок Натальи. Но и он быстро отставал от инфляции: в 92-м году её темпы составили 2600 процентов. Владимир мучительно думал, где найти хоть небольшую прибавку к семейному бюджету. Попробовал устроиться переводчиком — нигде не брали: французский был не востребован. Кругом слышался английский: от примитивного до сносного. Владимир не раз вспоминал Карабанова: «Мы все скоро будем говорить по-английски». Однажды, расстроенный бесполезными поисками, он побрёл через стихийный рынок, который начинался от памятника Юрию Долгорукому на бывшей улице Горького и уходил куда-то вниз до Охотного ряда. Уже привыкший к толкучкам в своём «оборонном» городе, к торговому хаосу на московском Арбате, Волков безразлично смотрел на невероятное разнообразие всего, что когда-то было в квартирах людей, окружало их, радовало глаз и память. Всех возрастов женщины и мужчины продавали семейную посуду: от сервизов до отдельных чашек, летние платья и зимние шапки, неношеную обувь и статуэтки, отглаженные пиджаки и старинные гравюры. Тут же на газетах лежали мясорубки, электрокипятильники, пачки сигарет, стамески, молотки.
Волков решил вынести на продажу книги. Не говоря ничего Наталье, с душевной ломотой долго пересматривал свою охотничью библиотеку. Подарок Савельева сразу решил не трогать. Отобрал несколько редких, интересных изданий. Но, простояв целый день на московской толкучке, он с книгами вернулся домой. Вмиг обнищавшему народу было не до элитного чтения.
В один из тусклых, по настроению, вечеров ему домой позвонил какой-то молодой человек. Назвался: Дмитрий Егоров. Волков помнил многих своих учеников, а Егорова — тем более. Это был очень способный паренёк. После школы поступил на филологический факультет, на отделение французского языка и литературы. На последнем курсе уехал по студенческому обмену во Францию. Там остался, и как рассказывали Волкову, сначала занимался лингвистикой, а потом перешёл в бизнес. Учитель пригласил бывшего ученика домой, но тот сказал, что сейчас он с коллегами в московской гостинице «Россия», а вот завтра хотел бы увидеть его на выставке французской парфюмерии, куда приехал в качестве представителя крупной фирмы.
Уроков на следующий день не было, и Волков поехал в Москву. На выставке сразу увидел Егорова. Хотя прошло несколько лет, Дмитрия совсем не тронуло время. Та же юношеская улыбка на добродушном лице. Тот же мягкий, бархатистый голос. Разве что глаза, тогда голубые, как осколки майского неба, теперь подсинивала озабоченность.
Дмитрий обрадовался учителю. Он его любил, как старшего, умного товарища, и перед поездкой в Россию переговорил о нём с президентом компании. Теперь решил выяснить у самого Волкова, как он воспримет необычное предложение. Но сначала повёл учителя по выставке.
— Вы как относитесь к духам, Владимир Николаич?
— Ну, как к ним можно относиться, Дима? Хорошо отношусь. Даже иногда нежно. Моя жена любит духи «Диориссимо» — у них запах весны… Сирени и ландыша.
— Да. Ландыш — талисман Кристиана Диора. Но до 1956 года эссенцию из ландыша никто получить не мог. Просто не было такой технологии. Это удалось знаменитому французскому парфюмеру Эдмонду Рудницки. Он и стал автором этих духов. За свою долгую жизнь — ему уже почти девяносто — Рудницки создал, как говорят парфюмеры, шестнадцать ароматов. Часть из них и сегодня являются эталоном, хотя сейчас новые ароматы, вы только представьте, Владимир Николаич, появляются каждую неделю. И все производители хотят, чтобы покупали их продукцию. Поэтому конкуренция в ароматном мирю пахнет не так нежно, как духи!
Дмитрий водил учителя по выставке, рассказывал занимательные истории о знаменитых парфюмерных домах, легенды о возникновении прославленных духов, о сегодняшних популярных марках. До прихода на выставку Волков думал, что пусть немного, но всё-таки кое-что знает об этой душистой отрасли. Из французской литературы, из появившихся ещё в советское время в продаже газет и журналов, из разговоров с приехавшими из Франции людьми. Наконец, коллеги и приятельницы Натальи то и дело обсуждали парфюмерные темы. Оказалось, он не знал почти ничего и теперь с интересом слушал своего ученика.
— Классическая основа духов — эфирные масла, — говорил Дмитрий. — Но получить их — большой труд. Для одного килограмма такого масла из жасмина нужно 750 килограммов цветков. Жасмин во Франции цветёт с августа по октябрь. Собирают его вручную, в течение всего нескольких часов, пока раскрыт бутон. С розами также непросто. Бледно-розовые цветки сирийской розы — её когда-то привезли из крестовых походов — самое лучшее, што природа создала для производства духов. Лепестки собирают тоже вручную и только на рассвете. Для выхода одного килограмма экстракта — он называется розовый абсолют, нужно собрать лепестки трёхсот с лишним тысяч роз. В мае, когда роза цветёт, жители города Грасса, который считается Меккой французской парфюмерии, чуть ли не поголовно выходят на плантации. Неудивительно, што там около сорока парфюмерных фабрик. В том числе наша.
Дима Егоров остановился возле одного стенда и сказал:
— Вот наша продукция, Владимир Николаич. Мы делаем духи, туалетную воду. Но сейчас разворачиваем новое направление — выпуск так называемой отдушки. Мы не одни во Франции. Тем более, в мире. Спрос на отдушку растёт. Каждый человек обязательно соприкасается с нею. Отдушку используют в бытовой химии — в стиральных порошках, в моющих и чистящих средствах, в различных освежителях воздуха. Её применяют в парфюмерии — в лосьонах, духах, одеколонах… Получить натуральный экстракт розового абсолюта, как видите, сложно и дорого. Когда в прошлом веке началась эра синтетических ароматов, появилась возможность поставить производство запахов на поток. Синтетический аналог абсолюта в десять раз дешевле натурального. Не сравнить и объёмы. Отдушка нужна в производстве мыла, гелей для душа, различных кремов. Без неё не обходится декоративная косметика: помада, тушь для ресниц, пудра, румяна. Короче, куда ни глянь, нигде без неё не обойтись. Поэтому мы тоже открыли производство и начали поставки в Россию. В прошлом году создали здесь представительство…
Егоров замолчал, испытующе глянул на учителя.
— Но президент хочет сделать совместное предприятие. Он полагает, што в России будет большой спрос. Директором представительства работает француз Фернан Дюбо. Хороший профессионал. В парфюмерном бизнесе, как рыба в воде. Одна беда — почти не говорит по-русски. А его подчинённые не понимают французского. И такая ситуация перед началом большого проекта! Поэтому я уполномочен сделать вам предложение, — с некоторой торжественностью сказал Егоров. — Стать заместителем директора представительства. С возможностью в ближайшее время занять пост директора.
Волков с изумлением уставился на своего бывшего ученика.
— Ты што, Дима? Во-первых, я ничего не смыслю в парфюмерии…
— Это преодолимо. Мы все — ваши ученики, считали вас одарённым человеком…
— А, во-вторых, получается, што я буду подсиживать хорошего специалиста Дюбо.
— Нет. Вы будете его спасителем, Владимир Николаич. Дюбо рвётся домой, во Францию. Он боится России. Говорит: не понимаю, как тут можно жить? Поэтому соглашайтесь на доброе дело.
Волков решился не сразу. Переговорил с Натальей, с позвонившим как раз в этот вечер Андреем Нестеренко. Тот поддержал:
— Иди. Парфюмерия — красивый бизнес. Не получится — всегда можно бросить.
Учитель освоился быстро — сам не ожидал этого. Через несколько месяцев Фернан Дюбо уехал во Францию. Когда создали совместное предприятие, Владимир стал вице-президентом. Материальная жизнь семьи круто изменилась. Волковы купили хорошую квартиру в Москве, в доме «сталинской» постройки. Сменили машину Наталье — советские «Жигули» на новый французский «рено». Появилась возможность помогать одним и другим родителям, поскольку заводы в Воронеже и Волгограде, не имея заказов, сократили тысячи рабочих.
Но растущий личный достаток не давал Владимиру забыть, что так же, как недавно бедствовал он, сегодня продолжают нищенствовать миллионы в стране. Разворованная общегосударственная собственность, принадлежащие народу недра фантастически обогащали непонятно откуда появившихся проходимцев, ещё вчера неизвестных даже соседям по дому, а сегодня считающих себя властью России. Андрей Нестеренко был убеждён, что такую власть можно снести только вооружённым способом. Волков не соглашался с ним и верил в перемены политическим путём. Поэтому поддерживал финансами различные оппозиционные партии и организации, аккуратно передавая им деньги из своих значительных доходов. А когда ходил пешком по людным улицам и подземным переходам, оказавшись по какой-то причине без машины с личным водителем, редко пропускал кого-либо из просящих милостыню. «Может, это такой же учитель, как я, — думал он. — Или выгнанный мастер, как мой отец».
Сейчас, глядя на Слепцова, Владимир удивлялся, почему он его никогда не встретил, хотя этот разветвлённый переход под Тверской улицей пересекал не раз.
— Ты ешь, Паша, ешь… Если хочешь, закажем ещё што угодно.
— Наш Франк теперь богатый, — благодушно заметил Нестеренко. — Вице-президент — не хухры-мухры.
— Он, как всегда, «прикалывается»? — спросил Слепцов Волкова, показывая на Андрея.
— Нет. Я действительно вице-президент… В одной французской парфюмерной компании. Да это не имеет значения. Вольт тоже не бедный человек.
— А про какой день рождения он говорит? У тебя ж, я помню, где-то в конце июля. Ты ведь Лев по гороскопу… (Павел запнулся) как мой отец… был.
— Это у него второй день рождения, — отчуждённо сказал Нестеренко. — Ты забыл январь 91-го? Кабана забыл? Когда вы с Карабасом приговорили Володю…
Слепцов опустил голову, начал сосредоточенно сдвигать в кучу порезанные свежие помидоры на тарелке.
— Я не знаю, што со мной тогда произошло, — еле слышно выговорил Павел. — Прости, Володя…
В тот раз он и сам себе не мог объяснить своего предательского поступка. Лишь позднее понял, что это была короткая вспышка мести. Не лично Волкову — его надёжному товарищу по охоте, уважаемому им человеку, а месть за свою неудачную жизнь, месть чужой, злой женщине, ставшей его женой и отобравшей у него сына.
— Не будем об этом, — вздохнул Волков. — Што было, то прошло.
— Нет, будем, Володя! Такие предают сначала друга, а потом страну.
— Ну, што ты, действительно, Андрей, не можешь остановиться! — повысил голос молчавший до того Савельев. — Видишь, он уже получил сполна.
— А што у тебя с отцом? — спросил Волков. — Мы его с Андреем видели… Познакомились на первомайской демонстрации в 93-м. Можно сказать, в боевой обстановке. Помнишь, Андрей?
— Я-то не забыл, — сказал Нестеренко, недовольный мягкостью Волкова. Тронул бровь. — Вот она первая метка. От Пашкиной власти…
Тут только Слепцов заметил, что левая бровь Андрея рассечена, и даже густые чёрные волосы плохо закрывают бело-фиолетовую складку кожи. Он поморщился от слов Нестеренко:
— Отец мне рассказал про вас. Он ведь пошёл не воевать. На мирную демонстрацию собрался…
В то утро, 1 мая 1993 года, Павел позвонил отцу. Он знал: Василию Павловичу ляжет на душу поздравление с праздником. После разгрома КГБ и расчленения страны генерала отправили в отставку. Казавшаяся поначалу приличной пенсия сжималась с каждой неделей. Но не только это тяготило немолодого аналитика. Ему всё время казалось, что он что-то не сделал такого, что могло предотвратить всеохватную беду. Может, надо было, думал он, нам с товарищами прийти к Крючкову и под пистолетом заставить его отдать приказ об аресте Ельцина вместе с близким окружением. В часы путча на Лубянке сразу стала проявляться группа руководителей, выступавших за решительные действия. Уничтожили бы десяток негодяев, но это спасло миллионы людей от убийства ельцинизмом. Василий Павлович часами сидел в своём кабинете, пересматривал различные документы, искал это что-то упущенное, не находил его и от того страдал, порой до боли в сердце.
Переживаний добавляло глубокое разочарование в сыне. Павел ещё ходил на завод, но там уже оставались только те, кто поддерживал угасающую жизнь предприятия: операторы котельной, электрики, охрана. Денег никому не платили. Генерал и жалел сына, и сердился на него. Раздражало ещё то, что сам он всё решительней втягивался в протестную борьбу, а Павел сторонился этого, замыкался в себе. Ошеломлённый тем, как сломали жизнь люди, поддержанные им, Павел был растерян, беспомощен и обижен на всех.
Позвонив утром отцу, младший Слепцов пошёл с Анной и ребятами в городской парк. Анна приберегла немного денег, чтобы купить сыновьям мороженого, а мужу пива. Когда возвращались домой, ещё за закрытой дверью квартиры услыхали требовательный телефонный звонок.
— Паша! — взволнованно закричала мать. — Папу привезли… Избили его.
Слепцов помчался на «волге» к родителям. Отец лежал в зале на большом кожаном диване — Павел с детства любил засыпать на нём под разговоры гостей. Разбитое лицо генерала опухло, на голове, среди редких волос, запеклась кровь, которую мать пыталась осторожно стереть влажным бинтом.
— Я вызвала «скорую». Долго едут…
— Давай я отвезу.
Отец зашевелился. Стараясь повернуться набок, чтобы разглядеть сына, застонал.
— Не надо. Приедут… куда денутся…
Тонкие губы Василия Павловича тронула улыбка.
— Зато познакомился с твоими друзьями. Спасибо им… Ельцинские мордовороты совсем озверели…
В последние несколько месяцев генерал ходил на все протестные митинги и демонстрации. Акции становились всё многолюднее и жёстче. Первомайский протест должен был собрать несколько десятков тысяч человек.
На бывшей Октябрьской площади, которую незадолго до того переименовали в Калужскую, собралось, по оценке Василия Павловича, тысяч пятнадцать москвичей. Кое-кто пришёл с детьми, многие — празднично одетые. Погода обещала тёплый день, и от этого у большинства было хорошее настроение. Над собирающейся массой колыхались где красные советские флаги, где трёхцветные имперские.
Демонстранты намеревались пройти от Калужской площади к центру Москвы. Но мэрия запретила. Вместо этого была предложена небольшая территория, где тысячи собравшихся не смогли бы уместиться. После короткого митинга на Калужской демонстранты двинулись по Ленинскому проспекту к площади Гагарина. То есть в противоположную от центра сторону. Замысел организаторов сводился к тому, чтобы колонну могли догнать опоздавшие, а митинг провести на Воробьёвых горах — на просторной площадке возле Московского университета.
Никакой агрессии демонстранты не проявляли. Молодые мужчины и женщины несли плакаты, осуждающие развал страны, шоковые реформы, политику Ельцина-Гайдара. Впереди шла большая группа смеющейся молодёжи с транспарантом: «Капитализм — дерьмо!» Через весь Ленинский проспект красовалась перетяжка «С праздником, дорогие россияне!» И как раз под этим поздравительным лозунгом демонстранты увидели перегородившие проспект тяжелые грузовики. Впереди них стояла цепь милиционеров без всяких спецсредств. За ней — цепь омоновцев с прозрачными щитами и в шлемах, похожих на космонавтские. Дальше — ещё одна цепь хорошо экипированных бойцов, но почему-то в разноцветных шлемах.
Увидев впереди милицию и заграждения, широкая, во весь проспект, колонна остановилась. Организаторы предложили выдвинуться вперёд крепким мужчинам. Образовался авангард человек из пятисот. Над ним поднялся транспарант: «Фронт национального спасения».
Василий Павлович считал себя ещё крепким мужчиной. Вместе с двумя своими бывшими коллегами, с которыми всегда ходил на протестные акции, и новыми знакомыми, один из которых был конструктором из какого-то авиационного КБ, генерал оказался в головной части колонны. Через несколько минут авангард подошёл к первой цепи, смял её, прорвал цепь омоновцев-«космонавтов», попутно отняв у некоторых дубинки, щиты и шлемы. Двигающийся рядом с генералом конструктор, в руках у которого оказался шлем, надел его на себя, постучал кулаком по пластмассовой поверхности и со смехом отдал молодому мужчине.
— Бери, сынок! Меня должны знать в лицо. Прятать его не надо.
Мужчина глянул на конструктора, потом на Василия Павловича, с трудом натянул шлем на свою большую голову. Что-то знакомое показалось в нём Слепцову. Крупные губы, широкие чёрные брови… Брови… брови… Василий Павлович вспомнил. Это был Андрей Нестеренко, которого он один раз видел и который нередко упоминался в их спорах с сыном. Рядом с ним стоял высокий, примерно таких же лет, мужчина с пышными, словно сталинскими усами.
— Ну, што, батя, прорвёмся через ельциноидов? — сказал чернобровый, почему-то внимательно вглядываясь в лицо Василия Павловича. — Среди нас такой таран, — показал он на усатого. Тот усмехнулся и тоже задержал взгляд на лице генерала.
В это время опомнившаяся милиция пошла в контратаку. Началась ожесточённая драка. В омоновцев полетели камни, куски кирпичей, которые подавали выстроившиеся в цепочку женщины. «Космонавты» и «разноцветные шлемы», прикрываясь щитами, подбирали кирпичи и бросали их в незащищённую толпу. К раненным дубинками, щитами стали добавляться раненные камнями.
Получив команду действовать суровей, усмирители включили водомёты и направили сбивающие с ног струи на демонстрантов. К дрогнувшим омоновцам подошла конная милиция. Одновременно в тыл авангардной части манифестантов ворвались несколько сотен бойцов дивизии особого назначения имени Дзержинского. Специально тренированные для борьбы с вооружёнными боевиками, они начали громить безоружных людей. Те отбивались древками знамён, немногими отнятыми дубинками, кулаками.
Однако основная масса демонстрантов, насчитывающая несколько тысяч человек, растянулась по проспекту, не участвуя в прорыве. Люди митинговали, выкрикивали лозунги, вглядывались в то, что происходило впереди. И тут сзади к многотысячной толпе подошли две роты милиции. Началось избиение.
Теперь уже трудно было понять, где бывший авангард, а где не имеющие к нему отношения манифестанты. Били всех подряд. Люди падали, пытались уползти в сторону. Их пинали ногами, норовя попасть в лицо или под дых. Убегающих во дворы, в Нескучный сад догоняли. Истерично визжали женщины. Ревели и рычали избиваемые мужики.
Андрей Нестеренко, чтобы не выделяться в шлеме, бросил его в нападающих омоновцев. Рядом отбивался Волков. Вдруг он увидел, как того пожилого мужчину, с которым заговорил Андрей и чьё лицо показалось обоим отдалённо знакомым, схватил за пиджак небольшого роста омоновец и притянул к себе. Владимир сделал только шаг, как рядом с пожилым оказался Нестеренко. Он хотел оторвать руку «космонавта», но тот ударил резиновой дубинкой сначала по руке Андрея, а потом по его лицу. Нестеренко прижал неударенную ладонь к лицу, и Волков увидал, как из-под неё потекла кровь. В то же мгновенье омоновец боднул головой в шлеме лицо пожилого. Мужчина стал оседать. Милиционер, не давая ему упасть, два раза изо всей силы, с оттяжкой, приложился к голове манифестанта и уже в момент падения ветерана ударил того тяжёлым ботинком в грудь.
Волков одним прыжком оказался рядом с омоновцем. Тот успел только поднять глаза на высокого усатого мужика, как вдруг почувствовал, что его отрывают от асфальта. Ещё мгновенье — поднят прозрачный щиток на шлеме. Следом как железными клещами схвачено горло.
— Ты што ж, сука, делаешь? — заорал Владимир. — Ты кого, тварь, убиваешь? Отца своего! Старика беззащитного!
— Я не убивал его, дяденька! — задыхаясь, прохрипел омоновец. — Нам командир сказал: зажрались москвичи… Надо им дать по мозгам.
Волков схватил за край щита и так его рванул, что рука омоновца повисла, словно перебитая. Тут же ударил рантом ботинка по кости ноги и, когда милиционер согнулся от дикой боли, дёрнул за голову вверх. Оттолкнув обмягшее тело, увидел Нестеренко.
— Ты его не убил? — обеспокоенно спросил Андрей, держа на брови промокший от крови носовой платок.
— Очухается, сволота. Надо вот этого старичка спасать.
— Батя, ты как? — наклонился Нестеренко к пытающемуся подняться Слепцову.
— Кажется, живой, — хрипло выговорил тот. — Живой вроде, Андрюша. Вы ведь Андрей? Нестеренко?
Удивлённый Нестеренко молча покивал.
— А это, я думаю, Волков… Володя. Паша мне про вас много говорил.
Тут только оба товарища поняли, почему его лицо показалось им таким знакомым: оказывается, отец и сын Слепцовы были очень похожи. Пока они поднимали Василия Павловича, из дерущейся толчеи вырвались коллеги генерала. Увидели его окровавленного и стали быстро выводить из побоища. Волков и Нестеренко прикрывали группу, опасаясь не только озверевшей милиции, но и теряющей разум толпы. В таком аду могли затоптать едва передвигающегося человека. Когда группе удалось вырваться в один из дворов, Волков предложил сопровождать Василия Павловича до дома. Но бывшие коллеги генерала сказали, что с этим они справятся сами. Прощаясь, Слепцов слабо пожал руки товарищам сына. «Спасибо, што вы есть, ребята. Может, ещё не пропадёт страна».
— Ты сказал про отца «был», — вспомнил Волков. — Это как понимать? Рассорились што ль окончательно?
— Он умер, Володя. Через восемь месяцев после той демонстрации. Часто говорил о вас. Благодарил… Я хотел позвонить, но… На поминки тоже собирался позвать… Но не мог… Ты так последний раз говорил… Грубо… На себя непохоже. Ты со мной никогда так не разговаривал.
— А как я должен был с тобой говорить? — посуровел Волков. — Мне до этого тоже никогда не сообщали… не задыхались от радости: советской власти конец! Сова кричала! Теперь вон погляди за окно, што из всего этого вышло. Виктор правильно вам с Карабасом сказал: всё от людей зависит, от их ума и прозорливости.
— Не надо о нём. Я бы сейчас Карабасу задал несколько вопросов.
— Раньше надо было, — усмехнулся Нестеренко. — Достанешь ты его теперь. Карабас давно где-нибудь в Америке. И Марк ему машину заправляет.
— По-моему, он нам говорил: Марку надо переезжать сюда, — сказал Волков. — В здешней мутной воде ловить рыбу. Такой мутной, как у нас сегодня, нигде и никогда не было. Это доктор угадал.
— А где он, в самом деле, сейчас? — с мрачноватым интересом спросил Савельев Павла. — Не помогает вам? Всё-таки вы с ним были одних взглядов. Идейные, так сказать, соратники.
— Ему самому бы кто помог, — насупившись, сказал Слепцов. И, увидев удивленье на лицах, хмуро проговорил:
— В мутной воде оказалось много ям…
Глава третья
После крушения Союза Павел увиделся с доктором только поздней осенью 93-го года. До этого под разными предлогами от встреч отказывался. Карабанов звонил сперва часто, потом — реже, а затем — перестал совсем. Однако в тот раз Павел сам поехал к доктору без звонка. Отцу, так и не оправившемуся после первомайского побоища, становилось всё хуже. Как объясняли врачи, удар в грудь омоновским ботинком вызвал нарушение деятельности костного мозга, находящегося в грудине. А поскольку он является важным элементом кроветворения, началась болезнь крови. Даже при развитой советской медицине не всегда можно было найти необходимые для лечения крови лекарства. А в разрушенном российском здравоохранении врачи только разводили руками. «Попробуйте поискать, — говорили Павлу. — Может, есть знакомые за границей…»
Слепцов приехал к Сергею в больницу. Пока поднимался на второй этаж в ординаторскую, с тоской смотрел по сторонам. Кровати стояли и на первом этаже у входа, и по всему коридору второго этажа. Неухоженные люди жались под лёгкими, изношенными одеялами — в больнице было не намного теплей, чем на улице.
Поздоровались оба сдержанно. Слепцов объяснил, зачем приехал.
— Ты бы позвонил, — нахмурился Карабанов. — Я б тебе сразу сказал… Нет у нас такого лекарства.
Он помолчал. Всё так же мрачно добавил:
— Ничево у нас нет вообще. Нет денег на бинты, на питание… Я не говорю про одежду. Лекарства больные должны приносить свои. Видишь, как живём? — обвёл рукой неопрятную комнату. — Зарплату не дают с августа. Сейчас разгромили Верховный Совет, может, начнут платить.
— Говорят, это лекарство можно найти за границей. Ты Марка не попросишь? Он там, в Штатах?
— Там.
Карабанов остановился, раздумывая: говорить или не стоит?
— Только в тюрьме Марк. Придумали эти сволочи-американцы… русскую мафию нашли. Налоги, говорят, не платили… Разбавляли бензин. Несколько человек посадили. И Марка тоже. Напринимали законов. С ними бы надо, как с нашими законниками.
— Ты считаешь, Ельцин поступил по-человечески: расстрелял парламент, поубивал безвинных людей?
— Какие это люди, Паша!? Это коммуно-фашисты! Из-за них… из-за их законов мы не получаем зарплату. Теперь Ельцин наведёт порядок.
— Выходит, мой отец тоже коммуно-фашист? — наливаясь яростью, медленно спросил Слепцов. — Его изувечили ельцинские негодяи Первого мая. Если бы не лежачий, он пошёл и в октябрьские дни.
— Мой тоже готов воевать с Ельциным. Но они, Паша, вчерашние люди. Те, кто за будущее, пришли 3 октября к Моссовету… Гайдар позвал, и мы пришли защищать демократию…
Карабанов вспомнил ту холодную октябрьскую ночь. Он добрался до центра Москвы почти в двенадцать часов. Чтобы не замерзнуть — температура опустилась ниже нуля, надел охотничью куртку. Под ней, на ремне, охотничий нож, когда-то подаренный Андреем Нестеренко. Кого он им собирался резать, доктор не представлял. Драться с вооружёнными до зубов коммуно-фашистами, как круглые сутки телевидение и радио обзывали сторонников Верховного Совета России и противников Ельцина, надо было иными средствами. Поэтому нож взял на всякий случай. Возле здания Моссовета уже собралось немало народу. На улице ярко светили фонари, тут и там слышался смех, пьяные выкрики. С двух машин коммерсанты раздавали пиво в банках, бутылки водки и закуску. Подъехали несколько иномарок. Из них выбрались здоровенные мужики в дорогих костюмах и с оружием. Карабанов понял, что это охранники коммерческих структур. Подумал: «Ну, этим есть что защищать». Поодаль горели костры, люди громоздили баррикады. Доктор стал протискиваться вглубь толпы — подсознание отмечало: здесь безопаснее, чем с краю. Попутно оглядывал собравшихся. Такая же, как в дни ГКЧП, разноликость. Встретилось несколько известных артистов и писателей. Тех, кто в августе 91-го отвергали диктатуру и хотели демократии. Теперь они были против самими же избранной демократии и требовали от Ельцина уничтожить её. Громко кричала средних лет дама в шубе и с собачкой на руках. Её поддерживали несколько пенсионеров с выпученными от голосового напряжения глазами. Пройдя немного дальше, доктор остановился неподалёку от группки раскрасневшихся мужчин. Похоже, они «согревались» уже давно, и почти каждую фразу выступающей перед ними женщины встречали пьяным рёвом.
— Нас с вами ничему не научил августовский путч! — громко выкрикивала высокая, плоская, как доска, ораторша в очках. — Вместо того, што-бы уничтожить всех, хоть мало-мальски причастных к путчу, мы пожалели коллективную гадину! И вот результат! Фашисты взялись за оружие, намереваясь захватить власть. Смерть депутатам и их прихлебателям!
— Да-а! О-о! Правильно! — вразнобой взревели «разогретые» слушатели. Экстаз охватил и плоскогрудую комиссаршу. Карабанов увидел, как расширились за стёклами очков её тёмные глаза, а на щеках, на лбу и подбородке выступили красные пятна. Женщина подняла руки, зашевелила согнутыми пальцами, словно царапая кого-то.
— Красно-коричневые оборотни обнаглели от безнаказанности! Тупые негодяи понимают только кулак! Поддержим символ демократии — нашего президента Ельцина!
«Во даёт баба!» — с некоторой оторопью подумал Карабанов, в основном согласный с её призывами. Даже отойдя от ораторши на значительное расстояние, он всё ещё слышал этот пронзительный голос.
Но многие люди имели интеллигентный вид, и доктору было приятно, что таких, как он, противников парламентской болтливой демократии, собралось немало.
— Мы помогли, Павел, Ельцину удержать власть. Теперь он в долгу перед нами.
— Он вам отдаст долги, — усмехнулся Слепцов. — Один раз уже лёг на рельсы… Клялся: цены поднимутся в два-три раза. Не больше. Где эти рельсы, на которых Ельцин лежит?
— Ему мешали работать коммуно-фашисты. Я видел, как их выводили 4 октября из Белого дома. Был там… Не дали нам разорвать их. «Альфа» влезла…
— Ты бы и наших отцов разорвал? Миллионы таких, как они? Страшный ты, однако, Карабас.
Уходя из больницы, Слепцов думал, что с Карабановым они больше не встретятся. Их дороги разошлись совсем. Однако ещё одна встреча всё-таки состоялась. В прошлом, 98-м году, ранним апрельским вечером, закончив развозить по Москве конверты, Павел вышел из метро, чтобы подхватить машину частника. Он торопился к матери. После смерти отца она потеряла интерес к жизни. Заходила в кабинет мужа, садилась за его стол, подолгу смотрела на фотографию, где они были сняты вдвоём. Молодые, оба весёлые, нежно прижавшиеся друг к другу. Время от времени начинала разговаривать с фотографией. Потом как-то сразу обострились прежде терпимые болезни. Павел привозил дорогие, трудно доставаемые лекарства, однако матери не становилось лучше.
На этот раз ей стало плохо ещё днём, но Слепцов приехать не мог. Он должен был развезти конверты по всем адресам — недавно пожилого курьера уволили только за одно недоставленное письмо.
С «бомбилами» можно было сторговаться за небольшие деньги. Когда на ходу была «волга», Слепцов сам выезжал вечерами подработать и знал цены. Павел встал на обочине, поднял руку. После трёх проехавших машин четвёртая затормозила.
— Куда, отец? — услыхал он сквозь открытое окно хриплый, однако показавшийся ему знакомым голос. Слепцов нагнулся к окну и, не успев назвать адрес, воскликнул:
— Сергей!
За рулём был Карабанов. Тот тоже разглядел Слепцова.
— Паша! Эх ты! Вот где… ну, и встреча. Ты куда?
— К маме… Она болеет…
— Садись. Да не раздумывай! Много не возьму.
Они ехали некоторое время молча. Только искоса взглядывали друг на друга. Каждый думал о том, как изменился его давний товарищ. Карабанов обрюзг, верхние веки сильно нависли над глазами, с низа щёк бульдожьими складками свисала дряблая кожа. На большой голове блестела просторная залысина. А Сергей, в свою очередь, невесело отмечал, как ещё больше исхудал Слепцов, морщины на впалых щеках делали лицо старее, нос заострился, а при взгляде на Павла сбоку доктор не всегда видел в провале его глаз.
— Где работаешь? — спросил, наконец, Карабанов.
— Курьером. А про долги тебе, вижу, Ельцин забыл?
— Плохо всё, Паша, плохо. Больница готова бастовать, но людей ведь не выбросишь на улицу. Мы сократили приём больных. Пациентов после некоторых операций держим вместо недели два-три дня. Выписываем: долечивайся дома. Ты у матери долго будешь?
— Нет.
— Ну, я тебя подожду? Не возражаешь?
Слепцов пожал плечами и пошёл к подъезду. С матерью, против ожидания, он пробыл больше часа. Выходя из дома, равнодушно подумал, что Карабанов наверняка не стал ждать. Но старый «жигулёнок» доктора стоял на том же месте.
— Извини, — бесцветно бросил Слепцов.
— Ничево, ничево, Паша. Мать есть мать. Я свою потерял. Не вписалась в новую жизнь. Отец, тот живёт не столько медициной, сколько борьбой. А мама не выдержала. Да и как вынести? Племянник в американской тюрьме. Сестра — тётя Рая наша — разорилась на адвокатах… Любимая внучка… ох, Паша, што нам Леночка преподнесла!..
Карабанов расстроенно кхэкнул и даже, как показалось Слепцову, понизился за рулём. Все в охотничьей компании знали, что младшая дочь Сергея — самый дорогой для него человек. Он старшую не так любил, как Леночку, отца с матерью только уважал, жену выдерживал и не уходил лишь из-за младшей дочери. В ней он видел своё продолжение, но более одарённое и даже талантливое. Леночка училась по классу фортепиано в музыкальной школе, завораживающе пела, хорошо рисовала, и учителя порой растерянно говорили отцу, что сами не знают, по какой дороге идти его дочери: на каждой она могла стать знаменитостью.
— Чем же вас так расстроила Леночка? — с лёгким участием спросил Слепцов. Ему стало жаль в один миг изменившегося Сергея. — Родила што ль без мужа?
— Если бы, Паша! Она… В это трудно поверить… Я теперь не могу ездить по Ленинградке… Куда угодно пассажира беру, а на Ленинградское шоссе — лучше колёса проколоть…
Карабанов уставился на дорогу и замолчал. Он не раз вспоминал тот поздний осенний вечер. Возвращаясь в Москву из аэропорта Шереметьево, куда за хорошие деньги отвёз опаздывающего пассажира, доктор увидел впереди стоящих вдоль шоссе женщин. Он знал по рассказам новых коллег — «бомбил», что это за дамочки. Как их только ни называли: путаны, девицы лёгкого поведения, «ночные бабочки». Однако суть была одна. Проститутки.
Сергей не считал себя ханжой. Кроме медсестры Нонны у него перебывало много женщин. Но каждая из них если не влюблялась, то, по крайней мере, была увлечена. Так же, как он сам. А тут женщины продавались за деньги.
В свете фар доктор увидел поднявшего руку мужчину. Остановился. К окну наклонилась немолодая, плохо выбритая физиономия. Пахнуло спиртным.
— Командир, к Трём вокзалам.
Карабанов задумался: надо было уже возвращаться домой, в свой город когда-то военно-космической ориентации.
— Заплачу. Прилично дам, — торопливо заговорил хмельной мужик. — Хорошую девочку снимаю. На всю ночь…
Доктор неохотно кивнул. Мужчина кому-то махнул рукой, и к машине заторопилась молодая девушка. Что-то показалось в её походке, фигуре Карабанову знакомым. Мужчина открыл дверцу, пропустил проститутку на заднее сиденье, и доктор в зеркале увидел дочь. У него споткнулось дыхание.
— Лена! Ты?! Как ты здесь?
Пассажирка слегка смутилась, но выходить не собиралась.
— Здравствуй, папа. Вот… работа такая…
— Какая работа?! — вскричал потрясённый Карабанов. Повернулся к садящемуся мужчине:
— А ну, вылазь отсюда, козёл!
— Полегше, водила! Вот как дам по рогам!
Доктор выхватил из-под сиденья монтировку, замахнулся на мужика. Тот выскочил из машины. Карабанов, не закрывал задней дверцы, сорвал «жигулёнка» с места. Опомнился уже у поста ГАИ.
— Про Ленинградку, Паша, теперь не могу слышать. Сломалась жизнь моя… Мне когда-то отец говорил… Предупреждал… Не сова, Паша! Люди видели!
Тут только до Слепцова дошло, что имел в виду доктор. По телевидению не раз показывали стоящих зимой и летом вдоль Ленинградского шоссе проституток. Большинство были совсем молодыми. Корреспонденты не без интереса расспрашивали девиц об их прошлой жизни в разных городах страны, с удовольствием комментировали новое занятие, причём ни журналисты, ни сами путаны не находили ничего плохого в этой придорожной жизни.
— Я видел по телевизору, — пробормотал ошарашенный Слепцов. — Девушек показывали… Ты про них?
— Она мне сказала… Когда я спросил, как она пошла на это… Клиентов ждать… Лена заявила, што это я её толкнул. Паша! Да я из шкуры лез! Видишь: «бомбилой» стал… у меня руки какие были! Добывал деньги, где мог… Взятки стал брать от больных… Всё для неё… На втором курсе университета сказала: не хочет ездить из Москвы. Как будто тысячи не ездят. Вроде бы нашла с подружками квартиру… Мы с Верой опять впряглись.
Одежду надо супер-пупер, обувь — от самых лучших… Говорит: не хочу быть хуже других…
— Конешно. Телевизор учит.
— Я бы этот телевизор взорвал! Там в героях одни бандиты и проститутки. Лена мне сказала, когда стал её стыдить… Ты сам, говорит, хотел другой жизни. Вот она пришла. Помог ей прийти… этой жизни.
— Телевизор сегодня не взорвёшь, Сергей. Хозяева самых порнографических каналов сидят в Госдуме. Не тех ты с Ельциным расстреливал.
Павел поглядел в окно: надо было выходить. Карабанов остановил машину на привокзальной площади. Здесь собирался взять новых пассажиров. Вышел со Слепцовым, чтобы купить сигарет: курить он так и не бросил. На площади кипела бурная, но какая-то нездоровая жизнь. Несметное количество палаток, павильончиков, киосков хаотично теснили друг друга, занимая всю большую территорию. Сотни людей уезжали из столицы домой — в подмосковные города и посёлки. Одни — после трудной, но всё же найденной работы, другие — после бесполезных поисков её. Людская масса растекалась между киосками и павильонами, покупала что-то в дорогу, что-то для неблизкого дома. Многие наскоро перекусывали прямо здесь, возле заполненных обёртками и разным мусором урн.
Купив в газетном киоске пачку сигарет, Карабанов огляделся. Ни одного улыбающегося лица. Словно какая-то незримая, но в то же время огромная тяжесть давила на людей, и они, сжимаясь под нею, отрешённо жевали еду, мрачно несли свои тусклые лица мимо таких же сумрачных обличий.
— Для кого мы ломали ту жизнь? — неожиданно спросил Карабанов. — Для них?
Он показал на площадь. Потом глянул на газетный киоск, возле которого стоял.
— Или для них? — ткнул пальцем в выставленный за стеклом журнал. Слепцов обернулся. Всю обложку занимала цветная фотография: Ельцин и вокруг него известные олигархи.
Глава четвёртая
После той встречи они больше не виделись. Но каждый раз, подумав о докторе, Павел вспоминал и разрываемую горечью, сбивчивую речь Карабанова, и влажный блеск серых глаз под нависшими веками. Поэтому сказав сейчас о ямах в мутной воде, он нисколько не преувеличивал того провала, в котором оказался бывший товарищ.
— У него неприятности, — торопясь быстрее насытиться, проговорил с набитым ртом Слепцов.
— Эт какие же? — с иронией спросил Нестеренко. — Мало мути в воде для Марка?
— Марк не здесь. В Штатах он. Только в тюрьме, — сказал Слепцов почти словами Карабанова.
— Ни хрена себе! — воскликнул удивлённый Нестеренко. — За што ж эт его?
— С бензином чево-то мухлевали. Их там целая шайка-лейка была.
— Жалко, у нас этим шайкам раздолье, — помрачнел Андрей.
— Но это не все неприятности. Дочка у него… Младшая…
— Леночка? — подсказал Волков. Он вспомнил красивую девочку, которую видел у Карабановых после их приезда из Америки, и нежность, с какой доктор глядел на свою любимицу.
— Леночка, Леночка… Сергей встретил её на Ленинградке… Среди проституток.
— Как! — вскрикнули одновременно Волков и Нестеренко. А Савельев отодвинул тарелку с бифштексом и мрачно проговорил:
— Это уже не неприятность. Это беда.
Слепцов пересказал разговор с Карабановым. Поражённые, все четверо молча взялись за еду. Павел после выпитого осмелел, стал есть не торопясь, тем более что уже основательно насытился. Он даже забыл, когда последний раз видел такое изысканное изобилие на столе.
— Я ж вам говорю, Виктор: ему самому… Карабасу самому нужна помощь, — сказал Слепцов, вглядываясь в лицо журналиста. Он его видел всего один раз, на той давней весенней охоте, и потому не особенно запомнил. Тем не менее, ему показалось, что Виктор не сильно изменился за девять прошедших лет. Единственное, что сразу заметил Павел — это обилие седины при довольно моложавом ещё облике.
— Жалко, конечно, человека, — откликнулся Савельев. — Но… (он помолчал, глядя в глаза Слепцову) за што боролся, на то и напоролся. Также как с выборами Ельцина в 96-м… Сколько внушали людям: граждане, народ, опомнитесь! Неужель не видите, што натворил Ельцин со своей, как вы говорите, шайкой-лейкой?… Дальше будет только хуже. Так оно и получилось. Я с братом жены поругался. Он мне: буду голосовать за Борис Николаича. «Почему?» «Свободу дал». А сам на работу ходит уже два раза в неделю. Зарплату не видит по несколько месяцев. Завод — такие станки делали! за границу продавались! — завод почти встал.
— Но ты же помнишь, што начала вытворять к выборам ельцинская камарилья, — проговорил Волков с неожиданной для него злостью. — Особенно перед вторым туром. Ташка от возмущения чуть инфаркт не получила. Вырвал её с телевидения. А то остался бы вдовцом. Лгали круглые сутки! Да нет, не лгали… Это даже нельзя назвать ложью! Бандитизм это! Преступление! С утра до ночи показывали кадры, как кто-то кого-то расстреливает. Больше всего смаковали выстрелы в затылок. По всем каналам, особенно по Гусинскому НТВ, повторяли: «Так будут делать коммунисты, когда вернутся к власти». Зюганова, который по всем опросам опережал Ельцина, изображали Гитлером. Да Геббельс им в подмётки не годится! Заправлял всем этим какой-то Малашенко…
— Знаю, — сказал Савельев. — Работал в международном отделе Це-Ка, а в последний горбачёвский год — у него консультантом. Потом перебежал к Гусинскому, возглавил НТВ и стал хулить вчерашнюю кормилицу свирепее своего идейного учителя Яковлева.
— Чево же не хватало этим перевёртышам? — возмутился Нестеренко. — Жили ведь получше, чем весь народ.
— Денег, Андрюша. Денег. Купили их за большие деньги. А большие деньги мог дать только воровской ельцинский режим. Штобы переизбрать его с рейтингом в три процента, правительство стало продавать за границу даже государственные драгоценности. Огромные капиталы бросили для победы Ельцина олигархи. Спасая его, они спасали полученные, благодаря Ельцину, сказочные богатства. Я сказал тебе, за сколько был продан «Уралмаш-завод». А кто купил? Некий Бендукидзе. Ещё недавно заведовал маленькой лабораторией… клетки животных изучал. Жил в однокомнатной квартире и носил единственные залатанные джинсы. А потом Ельцин с Чубайсом дали ему возможность накупить безымянных ваучеров у нищих людей и стать хозяином «Уралмаша». Разве такие не будут спасать Ельцина? «Наличку» раздавали миллионами. Покупали популярных певцов, танцоров, знаменитых режиссёров, артистов… Помнишь историю с коробкой из-под ксерокса? Полмиллиона долларов! Поймали прямо на проходной Белого дома двоих помощников Чубайса. И чем кончилось? Прокуратура не нашла хозяина этих денег. Где-нибудь в мире такое возможно?
Савельев разволновался. Он ввязался в ту избирательную кампанию на стороне Зюганова. При всех своих сомнениях относительно него Виктору казалось, что это наиболее оптимальный кандидат. В случае победы олигархические средства массовой информации, по команде хозяев, будут следить за его деятельностью через увеличительное стекло. Не то что ошибочные, даже правильные шаги станут подвергаться жёсткой критике, как внутренней оппозицией, так и зарубежными силами, кровно связанными с российской олигархией. Работать президенту будет трудно. Но такая обстановка заставит его действовать строго в рамках закона. А главное — в интересах народа, который, в случае чего, может оказаться единственной поддержкой против проигравших сторонников ельцинизма. Савельев видел, как встречали Зюганова на Всемирном экономическом форуме в Давосе — словно будущего президента России. Помогать Ельцину в избирательной кампании отказались даже те американские политтехнологи, которые за четыре года до того привели к власти Клинтона. «Мы можем участвовать только в выигрышных кампаниях», — заявили они, объясняя, что законным путём Ельцин выиграть не может. И приводили аргументы. Он стар, сильно болен (перенёс два инфаркта), косноязычен, хронический алкоголик и бессовестно лжив. А главное, развязал войну в Чечне, породил неимоверную коррупцию, упразднил социальные блага и почти лишил миллионы людей пенсий. Поэтому вместо прежней популярности имеет ненависть обманутого и обнищавшего народа.
Впрочем, Виктор сам знал это лучше американцев. Массовые опросы показывали, что мнение «при коммунистах было лучше, и мы хотели бы вернуться к прежнему» полностью разделяли 30 процентов населения. Ещё 33 процента в значительной мере соглашались с такой оценкой. Потрясены были и демократы первой волны — такого опущения жизни они не могли представить. Возврата к советской власти эти люди не хотели, но и Ельцин вызывал отвращение. Миллионы граждан готовы были поддерживать Зюганова не из любви к нему, а из-за ненависти к Ельцину и его режиму. Самым распространённым стал лозунг, рождённый на родине Ельцина в Свердловской области: «У кого в голове полено, тот пусть голосует за ЕБээНа». Савельев не мог простить Ельцину ни разворованной страны, ни разрушенной экономики, ни расстрела парламента в октябре 93-го, когда его самого едва не убили озверевшие омоновцы при уходе из Белого дома.
Помня разгул извращённой, всё переворачивающей с ног на голову лже-пропаганды о защитниках парламента в 93-м, Виктор был готов к чему-то подобному и во время избирательной кампании. Но действительность показала, что Геббельсы нового времени способны на такое, до чего не доходили даже их предшественники. На голодную, измордованную страну обрушился Великий Потоп клеветы и дезинформации. Миллиарды украденных у народа денег заговорили продажными устами купленных знаменитостей и полуживыми голосами зомбированных бедняков. Двадцать три часа пятьдесят пять минут в сутки дикторы, комментаторы, корреспонденты, «простые телезрители» работали на Ельцина. И только подлинные «интересанты» сохранения ельцинизма любой ценой — олигархи: Березовский, Гусинский, Ходорковский, Смоленский, Фридман, Авен, Потанин, высказав перед выборами угрозу противникам действующего президента, теперь не озвучивали публично своих пристрастий. За них работала армада спущенных с цепи нравственных извращенцев от пропаганды.
Чтобы участвовать в борьбе с максимальной отдачей, Савельев взял в редакции отпуск. Это дало возможность ездить по разным городам, выступать на митингах и собраниях избирателей. Он не уклонялся от споров с противниками. Наоборот, искал их, чтобы на глазах слушателей фактами опровергать ложь ельцинистов. Как журналист, он располагал большим количеством информации, а отчаянный по натуре и порой резкий до грубости, не раз публично позорил оппонентов. Особенно не церемонился с теми, кто в заслугу Ельцину ставил «создание класса собственников» с помощью приватизации, и утверждение «настоящей демократии после подавления коммуно-фашистского парламентского мятежа в октябре 93-го года». Однажды во Владимирской области, на собрании в районном Дворце культуры, Виктор даже устроил потасовку с ельцинским агитатором. Владимир Волков, которому он рассказал об этом, неодобрительно покачал головой. «Надо, Витя, словами их бить. А кулаком действовать — так народ оттолкнёшь». Но Савельев на этот раз был не согласен с близким товарищем. «Добро должно быть с кулаками!» — часто повторял он слова известного поэта и потому нисколько не жалел о том происшествии на встрече с избирателями.
Зал мест на 400 был полон. Люди стояли и вдоль стен. Для агитаторов и члена участковой избирательной комиссии — молодой блондинки с серьёзным лицом, на сцене поставили стол и традиционную трибуну. Представителями Ельцина выступали двое: средних лет женщина — завуч местной школы и небольшой, подвижный мужчина с откормленным лицом, которого представили как предпринимателя. Савельев был один. Завуч довольно сдержанно, словно выполняла не очень приятное поручение, рассказывала о Ельцине. Говорила, как он боролся за интересы народа с партийной номенклатурой и лично с Горбачёвым, как ему трудно работается сейчас, «поскольку кусают Бориса Николаевича всякие критики, вроде Зюганова, а сами ещё ничего не сделали». Виктор до собрания поговорил с разными людьми, в том числе с учителями, а потому без труда дезавуировал все похвалы Ельцину.
— Всё, што появилось в нашей жизни плохого за последние годы, — заявил он, встав не за трибуной, а рядом с ней, — всё имеет прямое отношение к Ельцину. При нём, а не при ком-то, страну залила преступность. При нём стали нищими миллионы людей. Его счета в зарубежных банках называют газеты, а он молчит. Если молчит, значит, правда. От него берёт начало коррупция в ближайшем окружении и как зараза распространяется вширь и вглубь. Все социальные блага, которые были у народа, Ельцин отнял. В школе… в вашей школе (показал на завуча) дети падают в обморок от голода. Может, вам лично (снова жест в сторону оппонентки) зарплату дают, но остальные учителя её не видят. Детские сады за взятки берут бизнесмены, и матерей вынуждают сидеть дома. При этом даже мизерные пособия, на которые ребёнка нельзя прокормить и двух дней, не платят по полгода. Отцы тоже остаются дома, поскольку заводы прекращают работу.
Савельев заранее узнал у журналистов местной газеты про состояние здешнего градообразующего завода, который, будучи продан, на 90 процентов сократил число рабочих. Несколько раз Виктор касался заводских дел, и детальное знание ситуации, знакомой большинству сидящих в зале, находило у них поддержку.
Но если женщину-завуча Виктор в какой-то мере пожалел — ему было видно, что она отстаивала Ельцина против воли, то за предпринимателя взялся основательно. Невысокий, сытый по виду мужчина с запомнившейся Виктору странной фамилией Назаретов, стал преподносить в качестве одной из главных заслуг Ельцина приватизацию. А для Савельева это была кровоточащая тема. Когда он изучал документы для будущих статей, его трясло от гнева. Иначе как огромной диверсией против государства Виктор эту операцию не называл.
— Господин Назаретов уверяет нас, што приватизация по Ельцину создала в России класс собственников. Класс, как все, наверно, понимают, это нечто большое, многолюдное… Не десять тысяч человек… Не двадцать… А хотя бы миллион. Тем более, для 86-ти миллионов трудоспособного населения страны это совсем не много.
Виктор сделал паузу, вгляделся в зал:
— Есть тут хоть один собственник? С нефтяной скважиной? С угольной шахтой? С заводом? Ну, в крайнем случае, с маленькой обувной фабрикой или цехом мороженого?
В зале засмеялись.
— Нет. Это и понятно. Приватизация Ельцина-Чубайса задумывалась не ради вас. Она сделала собственниками… владельцами фантастических богатств сделала не миллионный класс, а небольшой отряд. Вроде пионерского. Но пионеров жадных, как голодные волки. Нас — десятки миллионов граждан — обманули. Просто ограбили. И государство получило крошки с воровского пира.
— Надо было спешить! — громко сказал из-за стола Назаретов. — В других странах также было.
— Вы обратили внимание, товарищи: надо было спешить! Я вам сейчас объясню, почему торопились Ельцин с Чубайсом. Но сначала про другие страны. В одном только 94-м году ведомство Чубайса — Госкомимущество — продало около 47 тысяч государственных предприятий. В том числе таких, как ваш завод. Запомнили? 47 тысяч! Российская казна за них не получила даже одного миллиона долларов! А в тот же год в Чехии приватизировали в два раза меньше предприятий — около 25 тысяч. И как вы думаете, сколько пришло в чешский бюджет? Миллиард двести миллионов долларов! Вы понимаете разницу? Миллион и миллиард с лишним!
В зале зашумели, какая-то женщина крикнула:
— Стервецы они там, в этом имуществе!
— Кто они есть, судить вам. А теперь — почему спешили. Верховный Совет России, тот, который Ельцин расстрелял в октябре 93-го, принял закон о приватизации. В нём записал: приватизационные чеки — каждый равен десяти тысячам рублей — должны быть только именными. Но Ельцину внушили, а мы теперь знаем, как это не трудно сделать с алкоголиком, што приватизацию надо проводить иначе и решительному человеку. С подачи Гайдара президент поставил во главе Госкомимущества Чубайса. И тот придумал, как обойти закон. Уговорил Ельцина издать указ, которым вместо именных чеков были введены обезличенные ваучеры. Теперь у ловких людей появилась возможность скупать эти самые бумажки и на них приобретать заводы, фабрики, нефтепромыслы, комбинаты.
— Што вы хотите? Дело было новое, а на новой дороге кто не спотыкается, — опять громко, чтобы услышали и в дальних рядах, заявил Назаретов. — Незначительные ошибки у каждого могут быть. Наверно, были они и у Анатолия Борисыча.
— Незначительные? — переспросил Савельев. — Ну-ка, товарищи, оцените сами. Лишь за один год приватизации потери от разрушения экономики страны превысили потери в Великой Отечественной войне в два с половиной раза! Представляете масштаб этих «незначительных ошибок»? Четыре года самой разрушительной в нашей истории войны нанесли стране меньше ущерба, чем один год приватизации по Ельцину-Чубайсу! Да и были эти «ошибки», как вы понимаете, я беру это слово в кавычки, далеко не случайными. Большинство предприятий продавалось иностранцам. Через подставных людей, по ценам в сотни раз дешевле, чем они стоили. Например, московский автозавод имени Лихачёва, который стоил один миллиард долларов, продали всего за четыре миллиона. В 250 раз дешевле! Челябинский тракторный завод, где было 54 тысячи работников, отдали за два миллиона двести тысяч долларов. В Европе столько стоит небольшая пекарня. Представляете? — пекарня и завод, где пятьдесят тысяч человек. Недавно Ельцин приехал в Челябинск… На встречу с избирателями. Ему стали кричать: «Долой!», «Убирайся!», «Ограбил страну!».
Но самое преступное, што Чубайс с Ельциным стали продавать оборонные предприятия, приватизация которых вообще была запрещена законом. Я вам приведу только два примера из многих сотен. Американская фирма приобрела контрольный пакет акций курского завода «Кристалл», где выпускались важные детали для ракетного комплекса «Игла». После этого уникальную технологию американцы забрали себе, а мы остались и без ракет, и без завода.
Савельев специально упрощал разговор, чтобы донести до людей серьёзную информацию. Он видел, что в зале даже движения не было: так внимательно слушали люди.
— И второй пример. Некто Джонатан Хэй купил 30 процентов акций московского электродного завода и работающего с ним в паре института «Графит». Это были единственные в стране (Савельев сделал ударение на слове «единственные») разработчики графитового покрытия для космических аппаратов и авиации. Здесь была создана несгораемая «рубашка» для нашего космического «Бурана». Тут же готовилось графитовое покрытие для военных самолётов — вы, наверное, слышали про самолёты-невидимки, сделанные по технологии «стэлс». После покупки Хэй сразу отказался выполнять заказ наших военно-космических сил и стал работать на американскую корпорацию.
По залу покатились волны ропота. Люди нервно заговорили другу с другом. Сидевшая за столом завуч встала и ушла в боковую дверь на сцене. Во втором ряду поднялся крупный мужчина лет сорока.
— Скажите, а кто привёл нам этого Ху… как вы сказали: Хея? Он чей вообще?
— Заместитель Чубайса. Кадровый сотрудник ЦРУ. Чубайс пригласил для такой приватизации больше двухсот иностранцев. Среди них оказалось несколько десятков американских кадровых разведчиков. Представляете, сколько государственных секретов, сколько технологий уникальных они перетащили в Штаты. А наши заводы уничтожили…
— Да кто ж его держит — этого Чубайса? Его расстрелять мало! — раздались возмущённые голоса. — Может, Ельцин ничево этого не знал?
— Держит Ельцин. А знал он всё доподлинно. Я вам называю только отдельные факты, а подробные сведения посылали Ельцину и Черномырдину Генеральная прокуратура, Счётная палата, контрразведка ФСБ.
— Господа! Господа! Вас обманывает этот человек! — нервно вскочил за столом Назаретов и показал пальцем на Виктора. Предприниматель уловил настроение зала — оно было резко против Ельцина. — Борис Николаич уволил Чубайса из вице-премьеров. Он учёл недовольство народа — ваше недовольство, господа! и расстался с ним.
В зале послышались саркастические возгласы. Какая-то женщина громко, с насмешкой, спросила соседку:
— Ты почему, госпожа, пришла в рваных колготках? Миллионов што ли нет?
— Забыла нарисовать! — со смехом ответила та. — Сейчас возьму вон у того — за столом — карандаш и нарисую.
Савельев тоже хмыкнул, довольный реакцией народа.
— Как раз врёт именно он, — кивнул Виктор в сторону Назаретова. — Ельцин убрал Чубайса из правительства, штобы дать более ответственное задание. Знаете, где сейчас «приватизатор всея Руси»? Руководит избирательным штабом Ельцина! Вся эта бешеная ложь о Зюганове по телевизору и в газетах — дело Чубайса с подручными. Газету «Не дай Бог!» видели?
— Кладут в ящики! Видели! — раздались выкрики. — Тошнит от неё! Безобразие!
Виктор и сам не предполагал, что такое возможно. Перед началом избирательной кампании страна вдруг увидела новую газету. С необычным названием: «Не дай Бог!», красочную, на великолепной бумаге и омерзительную по содержанию. Как говорили Савельеву даже сторонники Ельцина, читать её нормальным людям — «всё равно, что есть дерьмо». Она была вся — от первой до последней буквы — нацелена на дискредитацию Зюганова. Его не просто сравнивали с Гитлером — прямо называли фюрером. В статье «Зюг Хайль!» говорилось, что пока одни политики работают в меру сил, чтобы преодолеть стоящие перед страной трудности (это Ельцин-то?), другие предпочитают спекулировать на них с целью добраться до власти. «Именно таким образом, — писала газета, — в 1933 году пришёл к власти в Германии Адольф Гитлер. И именно таким способом пытается сегодня стать президентом России Геннадий Зюганов». В газете под своими именами и фотографиями выступали против Зюганова не только купленный российский кино-, театральный и эстрадный бомонд, но и оплаченные зарубежные артисты, которые, если и видели противника Ельцина, то разве что на фотографии. А без подписей, анонимно, печатались совсем фальшивки — письма якобы сторонников Зюганова. Специально с грамматическими ошибками, с грубым, корявым текстом, с обещаниями всех пересажать и перестрелять, «когда мы придём к власти».
В каждом номере многостраничной газеты разные авторы повторяли одни и те же тезисы: если победит Зюганов, в России вспыхнет гражданская война, наступит голод, начнутся массовые репрессии, расстрелы.
В одном из номеров было напечатано «Письмо из будущего» вроде бы простого россиянина: «Страну нашу по просьбам трудящихся, может, слышал, переименовали — теперь мы живём в Зюгославии. Столица Зюгодан называется. Недавно денежную реформу провели. Новые деньги ввели — зюгрики. Ходят по городу оборзюги. Все — с зюгомётами. А в помощь им совсем пацанов, подзюганков набирают — из активистов „Гитлерзюгенда“. Телевизор не включаю уже. Там каждый день два фильма крутят — „Небесный зюгоход“ да „Зюгарка и пастух“».
Редакция предлагала читателям сочинять такие «письма», а в качестве награды обещала турпоездку за границу. «В одну из тех стран, граждане которых проголосовали правильно».
Избирательный штаб Зюганова протестовал, обращался в избиркомы и суды, но там на всю эту вакханалию не обращали внимания. Даже когда в одном городе-миллионнике, по приказу местных властей, во всех магазинах с прилавков и витрин убрали продукты, а вместо них разложили газету «Не дай Бог!» с фотографиями и статьями о Большом голоде (смотрите, что будет в случае победы Зюганова!), разгул тотальных подтасовок не остановился. Газета продолжала выходить каждую неделю 10-миллионным тиражом и бесплатно раскладывалась по почтовым ящикам в городах и посёлках российской провинции. Ельцинская власть вместе с олигархатом тратили на её выпуск громадные деньги, которых хватило бы кормить средних размеров город. Но цель оправдывала средства. Если учесть мнения социологов, что каждый номер обычно читают в среднем три-четыре человека, то информационному изуверству подвергались до 40 миллионов избирателей.
Напомнив залу об этой газете, Савельев снова заговорил о предстоящем голосовании во втором туре. В него вышли Ельцин и Зюганов. Первый набрал 26 миллионов голосов, второй — 24 миллиона. Но за бортом остались ещё 20 с лишним миллионов. Тех, кто голосовал за других кандидатов. За них и развернулась ожесточённая борьба.
— В ближайшие дни будет решаться судьба нашей страны, — сказал Виктор. — Вами будет решаться. Вашим разумом. Подумайте, на кого вы можете надеяться. За генерала Лебедя проголосовали 11 миллионов человек. Однако Ельцин пообещал ему большую должность, и генерал продал свою армию тому, с кем боролся. Сейчас они должны сделать выбор. Так же, как миллионы других. Некоторые думают: што может решить один мой голос? Но миллионы складываются из единиц! И если мы поймём, што от каждого из нас зависит, как будет завтра жить его семья, а послезавтра — его внуки, мы откажем в доверии ельцинскому режиму. У нас была возможность иметь другую страну. Многие из вас, может быть, помнят, как осенью 93-го года руководители 62-х субъектов Российской Федерации из 88-ми потребовали от Ельцина отменить свой антиконституционный Указ о ликвидации Советов в стране, снять осаду Белого дома. В случае неисполнения пригрозили перекрыть все дороги в Москву, объявить всеобщую забастовку, прекратить поставку продуктов и перечисление денег. Если бы они сделали это раньше, чем Ельцин начал расстрел народного парламента, мы жили бы сейчас в иной стране и, может, по-другому…
— Правильно Борис Николаич их опередил! — крикнул Назаретов, перебив Савельева. — В этом Белом доме… Ха! Народный парламент! Там собрались одни красно-коричневые. И защищать их пришли подонки! Надо было всех расстрелять! Тех и других.
Виктор вдруг почувствовал, как у него часто-часто забилось сердце. После 93-го это происходило каждый раз, когда что-нибудь напоминало о тех страшных днях. Он повернулся к маленькому, откормленному человечку, уставившемуся на него злыми чёрными глазами, и, чётко выговаривая каждое слово, сказал:
— Я был там, господин Назаретов. Выходит, тоже подонок? Как и ни за што убитые люди?
— Они получили по заслугам!
Савельев стремительно подошёл к предпринимателю. Тот сообразил, что противник сейчас ударит его по лицу, и выставил вперёд руки. Но Виктор перехватил его кисти и, как щётками по барабану, начал хлестать назаретовскими же руками по откормленной физиономии человечка.
— Перестань! Ты што делаешь, коммуняка?
В зале сначала изумлённо замолчали, а потом по рядам покатился смех. К Савельеву подбежала блондинка из участковой комиссии, стала оттаскивать от предпринимателя. Тот вырвал наконец руки и замахнулся на Виктора. Но тренированный журналист увернулся, и Назаретов ударил по голове девушке.
С гамом, смехом, с угрозами предпринимателя подать на Савельева в суд собрание закончилось, и, уходя, Виктор с удовольствием слушал, как люди обсуждали сказанное им, как ругали Ельцина, и тогда ему казалось, что при таком настрое народа, а он этот настрой чувствовал на многих встречах, не бывать больше нынешнему президенту во власти. Однако результаты повторного голосования потрясли журналиста. Человек, достойный, по глубокому убеждению Савельева, тюрьмы, вместо этого получил поддержку немалой части растоптанного народа.
Теперь, по прошествии двух с половиной лет, острота потрясения вроде бы притупилась, но достаточно было Виктору вспомнить тогдашнее послевыборное торжество ельцинистов, как глаза наливались кровью и прежний гнев, смешанный с презрением, искажал его лицо. А презирал Савельев, с трудом признаваясь в этом даже себе, именно ту самую часть народа. Да, на него обрушили небывалый в истории словопад дезинформации, прямой лжи и подсудной клеветы. Но разве слушающий всё это безработный инженер, голодная мать, разорённый крестьянин не видели по собственной жизни, при ком они получили свои беды? Поэтому, соглашаясь сейчас с Волковым по поводу массированного зомбирования миллионов людей, Виктор не снимал вины и с самих этих миллионов.
— Малашенки и другие, как говорит Андрей, «перевёртыши» — это, конечно, продажная шушера, — сказал Савельев. — Кто больше заплатит, тому будут служить. Но народ-то наш! Народ!.. Што ж он за глина такая, из которой то и дело лепят топор на его собственную шею?!. Я не могу себе представить, как в какой-нибудь другой стране люди знали бы столько же про убийственные дела своего президента и захотели добровольно снова дать ему власть.
— Народ, — сыто усмехнулся Слепцов. — Мой хозяин, у которого я работал сторожем на даче… из этих, какие разбогатели в один момент… он мне сказал однажды… Я ему тоже вот так: «А как же народ?…» Он поглядел на меня… знаете, как на козявку глянул, поглядел и сказал: «Народ… Плюнь ему в рот — обижается… Два, говорит, полагается».
— И ты не дал ему по морде? — рыкнул Нестеренко.
— Как дашь, когда кормит.
— Тогда ты и есть козявка!
— Конешно, за такое, Андрей, можно любому хозяину врезать, — согласился Савельев, с лёгкой брезгливостью глянув на Слепцова. — Но объясни мне, как может голосовать за Ельцина мать убитого в Чечне солдата, отец парня, которому вместо института дорога только в наркоманы и бандиты, как родители проституток не зачёркивают ненавистную фамилию? Сейчас любой бомж скажет тебе, што приватизация в России — это «прихватизация», што залоговые аукционы — это бесплатная раздача самых драгоценных «жемчужин» индустрии, таких, как «Норильский никель», нефтяные и газовые месторождения, нескольким банкирам за их поддержку на выборах. Разве этого мало, штобы народ вышвырнул Ельцина из власти?
— Ты ещё забыл 93-й год, — сказал Волков. — Вот где преступление, цена которого — виселица.
— Не забыл. Не знаю, как вы, а я, наверно, буду помнить это до конца жизни, — нахмурился Савельев.
— А я-то уж тем более, — произнёс Нестеренко. — Вместе с первомайским подарком ношу и октябрьский.
Глава пятая
Первое время после разрушения Советского Союза Андрей Нестеренко считал депутатов Верховного Совета РСФСР такими же врагами, как Горбачёва и Ельцина. Ведь они почти поголовно (188 — за) поддержали Беловежское соглашение, которое ликвидировало Советскую державу. Против голосовали только 6 человек. Вот эти шестеро и были, по мнению Андрея, настоящими представителями народа. Остальных он презирал и даже не интересовался их делами. Тем более, жизнь пошла такая, что надо было, прежде всего, думать о семье. Усыхающую пенсию матери не платили по три-четыре месяца. Детский сад, где работала жена, закрыли и всех воспитателей уволили. Завод почти остановился. Новый директор (прежний, демократ, пристроился в каком-то департаменте у Гайдара) как-то ухитрялся находить микроскопические средства, но их не хватало даже на оплату электричества и мазута для котельной. Несколько цехов отключили от тепла, и они стояли мрачные, холодные, словно декорации для фильма о конце света.
Андрей искал любую возможность заработать. Не оставляя завода, в гараже у себя начал ремонтировать электрическую проводку машин. Постепенно клиентов становилось больше, но все они были такие же нищие, как Нестеренко, и у него не поворачивался язык запрашивать высокие цены, хотя провода он покупал за свои деньги.
Чтобы уйти от перекупщиков, электрик начал связываться с кабельными предприятиями, с которыми до разрухи сотрудничал его завод. Так пришла мысль самому стать связующим звеном между кабельщиками и небольшими потребителями. Занять одну из ниш ликвидированного Госснаба.
Переговорив с директором, Андрей взял под склад маленькую подсобку в своём остановленном сборочном цехе. На заработанные деньги купил компьютер. Экономил на чём только можно. Сам договаривался с заводами и покупателями, на своей машине ездил за кабелями и развозил их по клиентам. Был грузчиком, продавцом и даже бухгалтером. Семье жить стало немного легче. Андрей мог бы начать успокаиваться, но происходящее в стране, наоборот, всё чаще приводило в гнев. Ельцинская власть по всем направлениям действовала против поверившего ей народа. Обманула с ростом цен и отняла все сбережения. Провела жульническую операцию с ваучерами — Нестеренко, как миллионы других, вложил все бумажки семьи в какой-то инвестиционный фонд, а тот безнаказанно пропал. Только когда началась скупка за ваучеры заводов, Андрей понял, где всплыли эти бесплатно собранные у населения «картинки Чубайса». Позволив вмиг разбогатевшим прохиндеям вывозить миллиарды за границу, власть обрекала на голод и вымирание миллионы остальных граждан. Поэтому в массовые акции протеста Нестеренко включился без колебаний.
Радовало и то, что так же были настроены его товарищи: Владимир Волков и Виктор Савельев. Правда, журналист, в отличие от учителя, ходил не на все демонстрации. Зато при встречах много рассказывал о начинающихся разногласиях между Ельциным и депутатами Верховного Совета России. Нестеренко сначала слушал об этом равнодушно.
«Одна гоп-компания, — сказал как-то Савельеву. — Того и тех надо гнать».
Но с каждым разом всё внимательней прислушивался к словам товарища, начиная понимать, что Верховный Совет становится последней преградой на пути вероломных действий кремлёвского властолюбца. К осени 1993 года симпатии всех троих были уже на стороне парламента. И когда Ельцин издал Указ о роспуске Верховного Совета России, Нестеренко возмутился не меньше остальных двоих.
В первые дни противостояния товарищи обсуждали развитие событий по телефону. Савельев несколько раз бывал в Белом доме и после каждого возвращения оттуда рассказывал Волкову и Нестеренко о положении в парламенте. Уже в день появления Указа, 21 сентября, в Доме Советов по приказу московского мэра Лужкова была отключена всякая связь. В отличие от сопливых «путчистов» августа 91-го, которые не догадались отключить даже городские и междугородние телефоны, здесь было «обрублено» всё, включая телевидение. Через два дня столичный градоначальник велел отключить свет, тепло и горячую воду. А как раз в это время начало резко холодать. Необычно ранняя осень покрыла снегами неубранные хлебные и картофельные поля Нечерноземья. Снег с дождём принесло и в Москву. Минусовая температура случалась уже не только ночью, но и днём. Огромное белое здание стало напоминать замерзающий корабль.
Отрезанный от мира парламент не имел возможности донести стране свою оценку ситуации. Сведения из Белого дома разносились, как из осаждённой крепости, листовками и добровольными информаторами. Оппозиционная пресса блокировалась.
Зато ельцинисты круглые сутки заливали страну ложью о сторонниках Конституции, называя их «красно-коричневыми», пьяницами и дегенератами, которые убивают сотрудников милиции и противодействуют президенту навести порядок в стране.
28 сентября Савельев позвонил товарищам из редакции и сказал, что недавно вернулся от Белого дома. Его изолировали окончательно. По всему периметру оцепили «спиралью Бруно», за этой колючей проволокой стоят бронетранспортёры, повсюду посты ОМОНа и милиции. Не пропускают ни машины с продовольствием и горючим, ни «Скорую помощь». Виктор сообщил также, что в воскресенье 3 октября будет митинг на Октябрьской площади. Он был намечен давно, задолго до этих событий. Однако теперь станет грандиозной акцией в поддержку парламента. Ведь с требованиями прекратить блокаду, дать в Белый дом свет и тепло выступили руководители субъектов Федерации. Тысячи людей готовы встать на стороне Верховного Совета. Сам же он, сказал Савельев, попробует проникнуть в Белый дом, как журналист. Если не получится, пойдёт на митинг.
1 октября Виктор позвонил опять. Говорил из телефона-автомата за пределами оцепления. Сообщил, что в Доме Советов ненадолго включили свет, дали горячую воду, а главное, — должны пропустить корреспондентов. В основном иностранных. Им ельцинисты хотят показать, что никакой блокады парламента нет. Заодно пройдут и немного российских журналистов. «Я с ними, — сказал Виктор. — Вечером расскажу вам с Володей».
Но ни вечером, ни на следующий день Савельев не позвонил. Волков разговаривал с его женой. Она была в панике. Ей сказали, что Дом Советов снова наглухо изолирован, а милиция избивает всех, кто приближается к оцеплению.
В воскресенье Андрей Нестеренко объявил матери и жене: «Иду на митинг. Теперь каждый человек — дополнительная сила».
Они встретились с Волковым в вестибюле станции метро «Октябрьская». На площади уже собралось много народу. Милиционеры по мегафону требовали разойтись. Предупреждали, что митинг запрещён властями. Накалённая толпа то тут, то там вступала в стычки с милицией. Послышались призывы: «К Дому Советов!», «Долой блокаду!» Людская лавина, выстраиваясь на ходу в колонну, двинулась в сторону Смоленской площади. Перед Крымским мостом Нестеренко оглянулся. Подтолкнул Волкова:
— Ты погляди!
Сзади шла огромная, шириной во всю улицу Крымский вал, людская река, конца которой было не видно. Владимир снова вспомнил армейскую науку старшины Губанова и стал определять «сэгмэнты»:
— Тысяч под триста. Если не больше.
В это время головная часть колонны, где они оказались, начала перестраиваться и уплотняться. Идущие в первых рядах мужчины двигались всё быстрее, пока колонна не перешла на ускоренный шаг. Топот тысяч ног превратился в грозный гул. На Смоленской площади колонну встретили кордоны милиции и ОМОНа. Они попытались задержать лавину, но были смяты. Скандируя лозунги: «Банду Ельцина — под суд!», «Руки прочь от Советов!» люди отбирали у омоновцев щиты и дубинки, но самих бойцов не били. «Мы не бандиты! Мы — народ!» — раздавались выкрики теперь уже из бегущей людской массы.
В таком же порыве передние шеренги достигли заграждений вокруг Белого дома. Сразу началась агитация стоящих в оцеплении солдат внутренних войск. Переговоры скоро закончились братанием. На сторону Верховного Совета перешли двести солдат дивизии имени Дзержинского и рота Софринской бригады внутренних войск. Воодушевлённые демонстранты обнимались с солдатами, ветераны с орденскими колодками на пиджаках жали руки молодым бойцам, ребят в униформе угощали сигаретами.
Волков и Нестеренко тоже не сдерживали эмоций. Улыбаясь из-под усов, учитель втолковывал худощавому солдату, что тот и его товарищи поступили ответственно, не направив оружие против стариков, женщин и детей, которые в это время радостным толпами шли к разгороженному Белому дому. А там уже начинался митинг. Многие выступающие говорили о том, что отрешённый от должности, по решению Конституционного суда, Ельцин последнее, что может сделать для спасения себя от тюрьмы — это не допустить кровопролития и отдать приказ о полном отводе войск и военной техники от Дома Советов.
Но в тот самый момент, когда к площади перед парламентом ещё подходила основная многотысячная масса демонстрантов, отставшая от передовой колонны, в спину безоружным людям началась стрельба из автоматического оружия из здания мэрии и гостиницы «Мир».
Сразу были убиты несколько человек и десятки ранены. Народ заметался по площади, пытаясь укрыться от пуль. В разных местах раздавались крики: «Они начали первыми! Патриарх их должен проклясть!» Это люди напоминали об обещании Алексия Второго предать анафеме тех, кто первый прольёт кровь.
Началась суматошная организация отрядов. Вооружённые и безоружные сторонники парламента пошли на штурм мэрии. Волков и Нестеренко оказались среди них. Андрей нёс омоновский щит. Владимир шёл с милицейской дубинкой. Захват лужковской резиденции произошёл стремительно. Уже через полчаса были заняты пять этажей. С балкона мэрии коротко выступил генерал-полковник Макашов. Когда произнёс: «Больше нет ни мэров, ни пэров, ни херов!», Нестеренко весело рассмеялся: «Вот это правильно! А то развели всякую вшивоту».
Вернувшись на площадь перед Белым домом, товарищи вспомнили, что тут где-то может быть и Савельев. Но вскоре поняли: найти журналиста в большой мигрирующей массе народа маловероятно. Поскольку оба оказались здесь впервые после августа 91-го, с интересом ходили от баррикады к баррикаде, постояли возле временного деревянного креста, рядом с которым было устроено что-то вроде походной часовенки. Останавливались у палаток: похоже, в них холодными ночами пытались уснуть женщины и ребятишки, которые сейчас то носили какие-то ящики для костров, то подходили к кресту и слушали меняющих друг друга священников.
— Виктор, скорее всего, в здании, — показал на Белый дом Волков. — Работа журналиста сейчас там.
Помолчал и добавил:
— Вот где собирается исторический материал.
Они подошли к подъезду, но охрана внутрь не пустила. Не очень расстроенные, товарищи двинулись к большой группе людей, выстроившихся возле двух грузовиков. И вдруг услыхали голос Савельева:
— Зря вы оголяете Белый дом! — громко сказал он мужчине в мятой шляпе и лёгком пиджаке, только что закончившему призывать к «походу на Останкино». — Они не отдадут телевидение. Аппаратуру выведут из строя, но не допустят к эфиру. А люди нужны здесь.
Интеллигентного вида предводитель махнул рукой на Савельева и приказал забираться в кузова машин.
— Витя! — вскричал Нестеренко. — Вот так «везуха»! Мы с Франком и не надеялись.
Товарищи с радостью потискали друг друга, стали рассказывать, что происходит в городе и что здесь. Савельев повеселел, видя, как площадь и все окрестности заполняет людское море.
— Теперь Ельцину хана! Такую массу народа не задавить. Завтра Совет Федерации берёт на себя временное управление…
— Ну, вот, а ты говоришь: не дадут телевидения, — заметил Нестеренко. — Как раз сейчас и надо рассказать всей стране. Поехали? Тебя-то пропустят.
— Нет, ребята. Мне надо поговорить с Хасбулатовым. Когда всё закончится, напишу большой материал. А вы езжайте, — показал он на отобранный у омоновцев автобус, который заполняли молодые мужчины, девушки.
Чем ближе подъезжал автобус к Останкино, тем мрачней становился Волков. Кто-то сказал, что в телецентр для его защиты направлено спецподразделение «Витязь». А Владимир знал подготовку этих ребят. Потом увидели едущие в том же направлении машины с омоновцами. «Эти не простят своего позора», — показал учитель Андрею в окно на сидящих в кузове милицейских «отморозков».
Но когда добрались до Останкино, Владимиру показалось, что он ошибся. Шёл митинг. Выступающие без особой агрессии требовали пустить в телецентр представителей Верховного Совета и дать им возможность «рассказать России правду». Так продолжалось довольно долго. От Белого дома приезжали машины и автобус, выгружали новые партии людей и отправлялись за следующими. Стали подходить демонстранты основной многотысячной колонны. Она двигалась медленно, что было вполне объяснимо: в колонне шли не только крепкие мужчины, но и ветераны-старики, женщины с детьми, поскольку погода в этот воскресный день выдалась хорошая, и многие воспринимали дальнейший поход после разблокирования Дома Советов как праздничную демонстрацию. В густеющих сумерках ничего тревожного не наблюдалось.
Тем неожиданней взревел впереди мотор грузовика, зазвенели разбитые стёкла, и тут же началась ошеломляющая, интенсивная стрельба. Многие сначала ничего не поняли, Но через секунды, увидев падающих рядом соседей, услышав крики раненых и искажённые лица убитых, остающиеся в живых сами забились в истерике, стали разбегаться, ища хоть какое-нибудь укрытие.
— Што ж они, суки, делают! — заревел Нестеренко, обернувшись к учителю. Тот мгновенно сжался, словно приготовился к прыжку.
— Мы ничево не успеем. Перекрёстный огонь. К ним не подобраться, — быстро говорил Волков, озираясь по сторонам.
А стрельба нарастала с каждой минутой. В наступившей темноте от двух зданий телецентра в обезумевшую толпу сверкающими светляками летели трассирующие пули, и смертельный этот поток рвал людей, прошивал машины «Скорой помощи», пытающиеся подъехать ближе к десяткам разбросанных по площади тел, зажигал брошенные грузовики.
— Надо отступать, Андрей! — бросил товарищу Волков. Он увидел, как к площади двигаются несколько бронетранспортёров. Послышались голоса: «Наши подошли!», «Дадут убийцам!». Но Владимир по обстановке понял: подошло, наоборот, подкрепление к расстрельщикам. БТРы приблизились к многотысячной толпе и открыли огонь на поражение. Крики и вопли поднялись такие, что моментами заглушали грохот пулемётов. Где-то рядом послышалось: «Миткову сюда! С камерой! Пусть снимет своих эсэсовцев!»
— Ух, блин! — вдруг вскрикнул Нестеренко и схватился за левую ногу выше колена.
— Ранен? — тревожно спросил Волков. Он быстро усадил товарища на асфальт. Пуля вошла в мякоть, кровь заливала штанину. Учитель снял рубашку, надев куртку на голое тело. Вспомнив спецназовское обучение, перевязал рану. Пригибаясь, потащил Нестеренко к оказавшимся поблизости кустам. Пули вжикали над головой, ударялись в асфальт.
— Всё, Андрюша. Главное сейчас — вырваться отсюда. Думаю, скоро начнут окружать и прочёсывать.
Нестеренко попробовал встать. Глухо ойкнул. Волков положил его левую руку себе на плечи, и они медленно двинулись по тёмной пустой дороге. Когда дошли до освещённой улицы, Волков спросил у прохожего о ближайшей больнице. Идти дальше было трудно и опасно. Владимир остановил машину, не зная, кто там: свой или чужой? Оказался противник Ельцина. В больнице Андрею сделали перевязку — пуля, к счастью, не задела кость. Хотели отправить в палату, но Нестеренко наотрез отказался. Его ждал Владимир, который считал, что надо как можно быстрей увезти Андрея из Москвы. По жестокости расстрела тысяч абсолютно безоружных людей Волков почувствовал, что бойня у Останкино — это не конец, а только начало репрессий. «Раз они пошли на это, значит, сжигают мосты, — сказал он Андрею. — Теперь им — дорога по трупам. А если так, то начнут проверять и больницы».
Снова остановив частника, товарищи поехали к Трём вокзалам. Уже выбираясь с трудом из машины, Нестеренко проговорил:
— Витя нас, наверно, ждёт. Не знает, чем кончился поход.
— Отвезу тебя, и утром поеду к Белому дому. Встретимся с ним…
Но ни на следующий день, ни днём позднее их встреча не состоялась…
В ночь с 3-го на 4 октября Савельев почти не спал. Сначала его потряс не только вид раненых, которых привозили из Останкино в Дом Советов, но и их количество. Виктор встречал каждую машину, вглядывался в темноте в лица, надеясь и в то же время боясь увидеть товарищей. Их не было, а это означало одно из двух: или убиты, или сумели уйти. Но если б ушли, то появились у Белого дома. А если нет среди раненых и вернувшихся живых, то где?
Виктор старался подавить щемящие мысли разговорами с защитниками «оплота Конституции», как он назвал для себя Дом Советов, представлениями о завтрашнем дне. Ходил от костра к костру, садился погреться, поражаясь выдержке многих людей, оказавшихся возле Белого дома в лёгкой одежде ещё в погожие дни, да так и не сумевших выбраться за тёплыми вещами.
Потом, устроившись на стульях, он начал было засыпать, но разбудила возня и приглушённый шум среди иностранных журналистов. Они явно получили какую-то команду по своим спутниковым телефонам. Стали торопливо собираться, кое-как укладывая аппаратуру и тревожно глядя на своих российских коллег.
— Это не к добру, — сказал Савельев знакомому журналисту из яростной оппозиционной газеты.
С плохими предчувствиями снова лёг на стулья, подложив сумку с диктофоном, зонтом и блокнотами под голову. В комнате было ещё темно, когда зыбкий сон оборвали звуки выстрелов. Виктор сел на стульях, не понимая, где стреляют. Подшагнул к окну и в слабеющих утренних сумерках увидел, как на том самом месте, где он сидел вчера поздним вечером у костра, «восьмёркой» ходит бронетранспортёр, давя походную часовенку, палатки, женщин и детей в них и одновременно стреляя из пулемёта по убегающим безоружным баррикадникам. Несколько человек упали и лежали неподвижно. Другие, видимо, раненые, пытались ползти к подъезду Белого дома, но БТР опустил ствол пулемёта и начал стрелять по мёртвым и недобитым. Лежащие на асфальте вздрагивали, и казалось, люди ещё живы. Но это крупнокалиберные пули рвали и подбрасывали силой удара уже безжизненные тела.
С этих минут начался кошмар расстрела парламента. Некоторые депутаты накануне перебежали к Ельцину, но большинство оставалось в здании. Тут же находились сотрудники аппарата, работники столовой, различных технических служб. В здании оказалось много женщин и детей. Савельев не знал, сколько народу точно: одни говорили — десять тысяч, другие называли меньшее количество. Но то, что людей в Доме Советов много, журналист видел и сам. Те, кто не занимал оборону, собрались в зале Совета национальностей. Он находился на третьем этаже, внутри дома, был без окон, и это делало помещение безопасным, поскольку стрельба началась беспрерывная. Били пулемёты БТРов. Поливали из автоматов омоновцы. Стреляли по любой движущейся цели снайперы. А потом раздались залпы танковых орудий. Снаряды рвались на верхних этажах. Знакомые депутаты и офицеры охраны раза два рассказывали Савельеву содержание радиоперехватов. По ним Виктор понял, что уничтожены должны быть все. В первую очередь Руцкой и Хасбулатов.
Не имея оружия, он добрался до зала Совета национальностей. В нём было сумеречно — свет давали только несколько свечей, и тепло от сотен собравшихся людей. В полумраке Виктор разглядел двоих знакомых журналистов, поздоровался с некоторыми, знающими его, депутатами. От взрывов танковых снарядов вздрагивало всё здание, но люди не паниковали. Сдержанно, без надрыва, вели себя женщины. Глядя на них, бодрились мужчины. Плакали только раненые дети, но их в этом зале, к счастью, было пока не много.
Особенно томительно переносилась неизвестность. Выстрелы почти не затихали. В зале, даже при закрытых дверях, слышны были крики, усиленные мегафоном команды. Чтобы узнать, что происходит, в грохот смертоносного обстрела время от времени выходили депутаты и журналисты. Возвращались то с одной, то с другой надеждой. Поначалу кто-то сообщил, что ожидается прибытие представителей субъектов Федерации. Потом ждали членов Конституционного суда во главе с его председателем Валерием Дмитриевичем Зорькиным.
С самого начала расстрела из Дома Советов по рации обращались к кому только можно с призывами прекратить огонь, дать возможность вывести хотя бы женщин и детей. В ответ слышался мат, обещание перестрелять всех находящихся в здании коммуно-фашистов.
Через несколько часов в зал вошли представители парламента с двумя офицерами «Альфы». Спецназовцы прибыли по своей инициативе. Перед этим они провели переговоры с Руцким, Хасбулатовым, Макашовым и другими руководителями обороны о сдаче. Ввиду безвыходности ситуации предложение было принято. Теперь офицеры начали разговор с теми, кого они собрались выводить под своей защитой. Один из них — высокий, с мужественным лицом, в ответ на вопрос, как его зовут, ответил: «Называйте Володя». Он сказал, что «Альфа» не хочет никого убивать, что они гарантируют вывод всех находящихся в Белом доме людей, независимо от того, депутат он или нет.
Вместе со всеми Савельев был выведен во двор. Руцкого и Хасбулатова увезли отдельно. Остальных — кого повели к автобусам, кого просто отпускали за пределами ограждения. Группе, в которой был Виктор, предстояло идти в сторону гостиницы «Мир» и мэрии. Но там за ограждением, едва сдерживаемая офицерами «Альфы», бесновалась толпа разъярённых людей. Савельев вспомнил выход работников ЦК КПСС на Старой площади, и неприятный страх замедлил движение. Сзади шёл известный депутат. Виктор знал его ещё с российских выборов в марте 90-го года. Узкая, вытянутая вверх лысая голова, похожая на узбекскую дыню, энергичный голос уверенного в своей правоте оратора. Он был безоговорочным солдатом Ельцина. С гордостью носил единственную в своей жизни медаль «Защитнику свободной России», которую получил после ГКЧП. Но ещё до того Виктор увидел эту «демократическую дыню» на Старой площади, среди ревущих крушителей тоталитаризма. Несколько дней назад они встретились в осаждённом Белом доме. «Как же смеет Ельцин топтать Конституцию?» — с возмущением проговорил тогда депутат. «Так же, как вы два года назад нарушили Конституцию и развалили Союз, — напомнил Савельев. — Бумеранг вернулся назад». Теперь идущие сквозь беснующийся строй люди надеялись только на защиту «Альфы». В них плевали, пытались достать кулаками, матерно обзывали и, если бы не скалоподобные спецназовцы, ни один человек не прошёл бы к автобусу без разбитого лица.
Чтобы не видеть озверелости негодующего людского коридора, Виктор шёл, глядя себе под ноги. Неожиданно рядом раздался вроде бы когда-то слышанный им голос. Савельев поднял взгляд, и что-то знакомое показалось ему в лице обрюзглого, с нависшими на глаза веками мужчины. Больше того, ему даже почудилось, что мужик как раз узнал его и с какой-то вспыхнувшей яростью дёрнулся к нему. Но тут Виктора подтолкнул идущий сзади депутат, и он ускорил шаг.
При посадке в автобус сопровождающий офицер сказал, что их развезут подальше от Белого дома, а если кто захочет выйти раньше, может это сделать. Савельев решил сойти первым: у станции метро «Маяковская». Это была прямая линия до его дома. Но не успел сделать нескольких шагов, как рядом затормозил милицейский «уазик». Выскочившие два омоновца с автоматами направили оружие на журналиста и велели садиться в машину.
Его привезли в какое-то отделение милиции. Ещё в машине, где сильно пахло спиртным, отобрали сумку, тычком ударили в зубы, а когда ввели в помещение, сразу начали избивать. Он успел только крикнуть: «Я — журналист. Отпущен из Белого дома», как подбежали и те, кто находился за перегородкой дежурного. Бить стали прикладами автоматов, ногами в тяжёлых ботинках, кулаками. Доставившие Савельева громко объясняли остальным, что они от Белого дома следили за автобусом, что две других машины ещё едут за ним, что эта сучья «Альфа» сама заслуживает хорошей дубинки и надо всех переловить, кто «мочил наших ребят». Потом остановились, вывернули у Виктора карманы, тот, кто достал удостоверение журналиста, бросил его на грязный пол, каблуком ботинка провернулся на нём, а бумажник передал старшему. Увидев растоптанное удостоверение, пьяные омоновцы и милиционеры взбеленились ещё сильнее.
— Ты, б…ь, писака сраный!.. От таких, как ты, вся зараза!
— Чево его держать? Счас я его пристрелю!
Рукояткой пистолета Савельева ударили по голове. У него стали подкашиваться ноги, но в последний момент Виктор понял: если упадёт, его убьют. Удары влетали со всех сторон. Кто-то попал в глаз, и Савельев словно ослеп. Били под рёбра, по почкам, по лицу, по голове. Рот заполнила горячая жидкость — Виктор понял, что это кровь. Уже едва стоящего на ногах, его вытащили в задний двор и поставили лицом к стенке. В какой-то смутности колыхнулась мысль: смерть надо встретить лицом. На подгибающихся ногах он с трудом повернулся и увидел прямо перед собой дуло пистолета. Но в этот момент открылась дверь и кто-то крикнул:
— Брось его! Привезли новых! Бабу привезли!
Тут же из дверей выбежали два милиционера. Вместе со стоящим возле Виктора омоновцем они схватили журналиста и не столько отвели, сколько оттащили в камеру.
В маленькой камере лежали и сидели пять человек. Савельева подняли с пола, положили у стены, чтобы не дотрагиваться до избитого человека и не добавлять боли. Сознание было, как при глубоком опьянении: все плыло, кружилось, куда-то проваливалось. Иногда проходила мысль: пока не застрелили… пока жив… В коридоре снова кого-то били, потом из дальней камеры донеслись крики насилуемой женщины. Мужчины в камере заволновались, но они сами были избиты и взаперти.
Утром в камеру вошли двое: майор и вчерашний дежурный, сержант. Он почему-то бил Виктора рукой в перчатке, и после каждого удара голова как будто отрывалась.
— Где тут Савельев? — спросил майор сержанта. Тот переводил взгляд с одного лица на другое и не узнавал.
— Кто Савельев? — повторил майор, обращаясь теперь к сидящим в камере. Держась за стенку, Виктор поднялся:
— Я.
— Выходите, Виктор Сергеич.
В кабинете, куда журналиста привели под руки, майор с сожалением сказал:
— Нам приказали задержать и допросить каждого, кто был в Белом доме. Сотрудники разозлены… Их можно понять: возле вашего Белого дома убито несколько работников милиции. Мы не будем вас допрашивать… Хотя могли бы. Вот ваши вещи. Диктофон. Блокноты. Бумажник… Вы, наверное, потеряли деньги там… где защищали врагов президента… Удостоверение… Испорчено немного… Но вам, я знаю, дадут новое.
Виктора на милицейском «уазике» довезли до самого дома. Откуда они узнали адрес, его затуманенное сознание на это не отреагировало. Потрясённая жена вызвала «скорую помощь». Савельев долго лечился, а когда вышел из больницы, все увидели у молодого ещё человека необычно обильную седину. Он писал заявления в прокуратуру, опубликовал статью о Белом доме и зверствах милиции — к собственному опыту добавилось много других фактов. В какой-то момент появилась даже надежда. Новый Генеральный прокурор России Казанник, когда-то отдавший своё место в Верховном Совете СССР Ельцину, а после Кровавого Октября поставленный президентом-должником на пост блюстителя законности, публично заявил: «Допросив тысячу военнослужащих, мы получили следующие доказательства: …события 4-го октября надо квалифицировать как преступление, совершённое на почве мести, способом, опасным для жизни многих, из низменных побуждений».
Но прокурора-идеалиста через пять месяцев вынудили уйти, а на его место ельцинские кадровики поставили сначала жулика, потом — угодливое подобострастие.
Глава шестая
С годами горечь тех чёрных дней немного ослабевала, однако совсем забыть их, а также поведение людей по обе стороны разделительной черты Савельев не мог. Тем более что каждое напоминание опять сдёргивало с рубцующейся раны утишающую боль повязку времени. Вот и сейчас, услышав в уютном ресторане слова Волкова о 93-м годе, он как будто снова прошёл и ад горящего парламента, и ревущую толпу, и милицейскую пыточную камеру.
— Ты говоришь: достоин виселицы? — раздумчиво проговорил Савельев, глядя куда-то мимо товарища. — Согласен с тобой. Это самое подходящее место, где должен висеть не портрет Ельцина, а он сам. Но я не могу и другого забыть. Народа нашего в те дни. Не всего народа… Пусть части его, но какой! Ты видел кадры, как стоящие на мосту рядом с танками люди реагировали на выстрелы по Белому дому? Молодые мужчины… С детьми на руках… Веселились… Некоторые даже аплодировали удачным попаданиям. А там в это время погибали их ровесники… Такие же русские люди… И это один и тот же народ… Наш народ… А посмотрел бы ты на лица тех, кто встречал нас при уходе из Белого дома. Готовы были разорвать.
— Таких, Витя, немного, — сказал Волков. — Они боялись потерять полученное от ельцинизма.
— Интересно, чево терял Карабас? — негромко проговорил Слепцов. — Он ведь тоже там был.
— Вон как! — воскликнул Савельев. — То-то мне показалось знакомым лицо! Я ведь видел вас, Павел, и его… как он: Сергей? всего один раз. И помнится, мы не поняли друг друга. Вы уже тогда стояли на другой стороне.
Услыхав слова Слепцова, Нестеренко заволновался. Посмотрел на Волкова:
— Чёрт, как хорошо, што ты не отвёз тогда меня в больницу к Карабасу. Верно угадал: шарили везде.
— Я после Белого дома долго не мог спокойно проходить мимо стадиона, который рядом, — сказал в волнении Савельев. — Знаете, иду — и сердце, кажется, лопнет. Дышать не могу. Душат слёзы… Это у меня-то слёзы! А душат… На заборных столбах стадиона… На каждом столбе чёрно-белые снимки убитых… Студент, 18 лет… Инженер, 28 лет… Школьница, 16 лет… И так десятки… сотни. Какие ж это боевики?! А их по приказу Ельцина расстреляли…
— Ельцин — враг народа, — тихо, но с убеждённой каменностью произнёс Слепцов. — Его люди, убивающие безоружных, озверели. А почему? Он снял с них ответственность за зверские дела. На себя взял. Это самая большая вина. Антихристовая. Власть захотел сохранить. Я тоже ходил мимо того стадиона. Каждый раз, когда глядел на фотографии, со слезами в душе, с криком немым просил Бога: «Господи! Не оставь ты зверей в двуногом обличии без своего праведного гнева! Накажи ты их невиданными карами! Их накажи! Ихних детей накажи! Штобы все знали — и они сами — эти убийцы, и дети их, штоб знали, как страдали безвинные люди, терзаемые ельцинскими зверьми».
— Не Бога надо просить, — оборвал его Нестеренко. — Свою голову иметь. Бог-то Бог, да сам не будь плох. А у тебя то сова, то Бог… Если бы все нормально соображали, Ельцина давно бы не было. Смотри, што натворил, паскудник! Страна разорена, людей пустил по миру.
— Ну, глядя на вас, этого не скажешь, — остывая от внутренних страданий, проговорил Слепцов. — «Новые русские».
Он нетрезво подёргал полу дорогого нестеренковского пиджака.
— Повезло вам.
— Везёт тем, кто везёт, — отбросил его руку Андрей. — Ты на нас не гляди. Мы — исключение из правил. Если не считать воровских олигархов, то таких, как мы, раз-два и обчёлся. Володю ученик нашёл. Много ума в них вкладывал. Я чуть ли провода не грыз… Царапался, штоб вылезти из ямы. Витя — у него профессия прокормит. А вот миллионы пошли с котомками. И сейчас идут. Особенно после дефолта. Некоторые только из «мусорки» вылезли — Ельцин их — раз! и опять туда.
— А они до сих пор не понимают, от кого беда, — усмехнулся Волков. — Перед Новым годом встретил свою бывшую — не знаю, как сказать: директрису? завуча?
— Это которая хотела врагов царапать? — вспомнил Савельев Старую площадь.
— Она. Даже сначала подумал: ошибся.
В тот раз Волков опять был без машины с шофёром. Незадолго перед тем он вернулся из Франции и, чтобы снова почувствовать обычную московскую жизнь, проехал на работу, как делал иногда, на метро. Вышел из подземного перехода и, прежде чем двинуться в сторону своего офиса, который был дальше по улице, огляделся. Площадь у входа в метро, почти вкруговую охваченная зданиями, напоминала какую-то огромную кастрюлю, где кипела, булькала и колыхалась людская каша. После августовского дефолта, когда разорилось много средних фирмочек и мелких предпринимателей, значительная часть выброшенных из экономического бульона людей, чтобы выжить после очередного ельцинского удара, перетекла в самую простую, примитивную торговлю. Возле станций метро, в подземных переходах, на тротуарах с раннего утра вырастали лёгкие лотки, открывались складные будочки, расставлялись длинные ряды дощатых ящиков. Всё это было заложено и завешено мужскими носками, женскими бюстгальтерами разных размеров: от крошечного блюдца до астраханского арбуза, трусами, стиральными порошками, самой ходовой сантехникой и множеством других товаров первоочередной необходимости, которые к ночи собирались, складывались и загружались в помятую иномарку или старые советские «жигули» и увозились до следующего утра.
Волков уже двинулся было к своему офису, арендуемому в новом современном здании, как вдруг услыхал где-то в людской толчее призыв газетчицы:
— «Спид-инфо»! Газета «Спид-инфо»! Покупайте, молодой человек! Это газета для вас!
Владимир остановился. Подумал, что ошибается. Голос был похож на овцовский, но в то же время заметно отличался. Вместо жёстких интонаций в нём слышалась усталая хрипотца и какая-то придушенность. Волков пошёл на голос и вскоре увидел газетчицу. Это была Нина Захаровна. Одетая в толстый, немодный пуховик, в тёплые штаны, заправленные в сапоги, Овцова держала на левой согнутой руке пачку газет. На этой же руке висела большая и, похоже, тяжёлая сумка. Женщина опасалась ставить её на грязный, в окурках и плевках, асфальт и время от времени поддерживала сумку правой рукой.
Волков не хотел подходить. Он понимал, какая это будет неприятная для Нины Захаровны встреча. Однако газетчица тоже увидела его и криво усмехнулась. Владимир подошёл, поздоровался.
— Откуда вы такой нарядный? — сумрачно спросила она. — Прямо как «новый русский».
— Из Парижа.
— Из Парижа? — не поверила Овцова.
— Ну, да! Вы ведь мне предсказывали… Быть в Париже… Как всем противникам революции, работать дворником.
— И вы им работаете? — с сарказмом оглядела дорогую одежду Волкова Нина Захаровна.
— Нет. Я работаю вице-президентом французско-российской компании.
— Ну вот, благодарите нас. Мы вам такую жизнь устроили.
— А другим? — сурово спросил Волков. — Десяткам миллионов?
Окинул взглядом поношенную шапку, старые захватанные очки, обветренное лицо, на котором, как маленькие раскаляющиеся конфорки электрической плиты, начали проступать красные пятна.
— Себе вы тоже такую жизнь хотели?
— Я, как миллионы других, получила свободу. Вам этого не понять, што это такое, когда нет никакого насилия, когда человек свободен и может делать всё, што захочет.
Волков не стал продолжать бесполезный для него разговор. Отходя, он снова услыхал громкие, с хрипотцой призывы:
— «Спид-инфо»! Покупайте газету «Спид-инфо»! А вам, молодой человек, рекомендую взять и пачку вот этих… да, гофрированные… А хотите — с усиками…
Владимир ещё не успел отойти далеко, как вдруг услыхал неожиданно изменившийся голос Овцовой:
— Ну, почему, сержант? Чево плохого я делаю? Если хотите, можете…
— Не положено! — перебил плаксивые причитания мужской баритон. — Ты долго ещё будешь собираться? А ну-ка, проваливай, тётка!
— Я потом позвонил в школу, — сказал Волков заинтересованно глядящим на него товарищам. — Узнал… Нина Захаровна работала на какой-то частной кондитерской фабрике. Дефолт их разорил. Овцова сразу пошла в отдел образования. Всё-таки была директором… видная активистка. Места не нашлось. Посоветовали попроситься в нашу же школу. Она пришла к Надежде Аркадьевне — это одна из фурий Овцовой. В директора её рекомендовала Нина Захаровна. Но та отказалась взять свою бывшую благодетельницу хотя бы учителем химии.
— Говорю ж тебе: волчьи нравы, — заметил Нестеренко. — Даже зайцы становятся волками.
— А вы на охоту ездите? — спросил Слепцов.
— Бывает, — сказал Волков. — Игорь Фетисов помер, ездим втроём.
— Не дождался Игорь Николаич карабановского рая, — усмехнулся Нестеренко. — Спросить бы сейчас с этого предсказателя, да он сам в дерьме.
— А я оставил охоту. Ружья пришлось продать — оба… жить было не на што. Но я бы всё равно ушёл от этого. Больше не подниму оружия. Даже на зверя. Хватит убивать. Ельцин… Чечня… Красные… Белые… Пусть Бог разбирается, кто прав, кто виноват. Человеку не дано… И на митинги не хожу… На демонстрации… Вы вот говорили про выборы… А мне они теперь совсем безразличны. Аня пошла, а я остался.
— Во, блин! — вскинул чёрные бровищи Нестеренко. — Только што сказал про Ельцина: враг народа, — правильно сказал, а теперь: не подниму ружья. Бог он, Пашка, неизвестно, когда накажет. Да и будет ли возиться? Церковь наша слишком уж добрая. Прям по Ленину. Только тот звал учиться, а эта: молиться, молиться и ещё раз молиться… Дубину надо взять, врезать падле по башке за то, што невинных, как ты говоришь, убивал, а потом за него, грешного, помолиться.
— Бороться, Паша, за нормальную жизнь, достойную человека жизнь, надо на земле, — сказал Волков. — Каждый может это делать в меру своих сил и, конечно, разумения. Я, например, больше признаю политические методы борьбы. Поэтому поддерживаю кое-кого деньгами. Витя борется — идеи распространяет. Хотя сейчас на телевидение с такими идеями, где народные интересы присутствуют, не допускают… Там с утра до ночи из людей животных делают…
— А это тоже идеи, — вставил Савельев. — Давние идеи наших врагов. Старшее поколение оплевать, заставить детей презирать отцов, а из детей вырастить безмысленную траву. Надо сказать, многое им удалось. Поэтому ведут себя, как оккупанты. Прошлой осенью, когда исполнилось пять лет Октябрьскому расстрелу, я встретил одну перепечатку. Из «Огонька» 93-го года. Статью Новодворской…
— Ф-ф-у, — с отвращением поморщился Нестеренко. — Мерзость…
— Да. Я взял ту статью… Хочу сделать работу… Её смысл: опора сегодняшней власти.
Савельев нагнулся, поднял стоящий возле его стула портфель.
— Вот послушайте, што написала после расстрела Белого дома Новодворская: «Мне наплевать на общественное мнение. Рискуя прослыть сыроядцами, мы будем отмечать, пока живы, этот день — 5 октября, когда мы выиграли второй раунд нашей единственной гражданской. И „Белый дом“ для нас навеки — боевой трофей. 9 мая — история дедов и отцов, чужая история».
Виктор проглотил комок в горле, выпил минеральной воды. «Я желала тем, кто собрался в „Белом доме“, одного — смерти. Я жалела и жалею о том, что кто-то из „Белого дома“ ушёл живым. Чтобы справиться с ними, нам понадобятся пули. Нас бы не остановила и большая кровь…
Я вполне готова к тому, что придётся избавляться от каждого пятого. А про наши белые одежды мы всегда можем сказать, что сдали их в стирку. Свежая кровь отстирывается хорошо.
Сколько бы их ни было, они погибли от нашей руки, от руки интеллигентов. Оказалось также, что я могу убить и потом спокойно спать и есть.
Мы вырвали у них страну. Не следует винить в том, что произошло, мальчишек-танкистов и наших коммандос-омоновцев. Они исполнили приказ, но этот приказ был сформулирован не Грачёвым, а нами… Мы предпочли убить и даже нашли в этом моральное удовлетворение».
Савельев закрыл палку, положил в портфель. Все сидели потрясённые. Наконец, Волков провёл руками по лицу, словно стирая с него что-то.
— А ведь это уголовное дело, — проговорил он. — Призыв к массовым убийствам и оправдание их.
— О чём ты говоришь? — воскликнул Савельев. — Кто судить-то будет? Свои? Ворон ворону глаз не выклюет.
— Это не человек, мужики, — трудно выговорил Нестеренко. Он вспомнил многотысячную колонну безоружных демонстрантов на Садовом кольце, смертельные трассирующие «светляки» из телецентра, грохот пулемёта БТРа по толпе женщин и детей возле Останкина. — Так не может думать человек… Тем более — говорить… Я сейчас же поручу найти её портрет…
— Разве можно, Паша, не бороться с этими нелюдями, с их идеологией, с их властью? — обратился Волков к Слепцову. — У каждого свой метод борьбы. Сегодняшней борьбы. На земле… Андрей, тот вообще придумал невероятный способ. Наш Вольт борется унитазами. И у него неплохо получается.
Слепцов в недоумении оглядел по очереди каждого:
— Да ладно вам. Какие ещё унитазы?
— С портретами, — сказал Нестеренко, — наливая в фужер апельсиновый сок. — Когда вы с Карабасом помогли развалить страну, я слово дал. Теперь выполняю обещание. Могу и тебе подарить… штобы помнил: в чьей компании оказался.
* * *
Андрей Нестеренко, действительно, слово сдержал. Но получилось не сразу. Пока он выбирался из безденежной трясины, было не до реализации замысла. Однако он о нём не забывал. Нашёл книги по изготовлению фаянса. На одном из кабельных заводов увидел помещение, где арендаторы начали выпуск керамической посуды, фотографий для могильных памятников и декорированных настенных тарелок. Продукция эта Андрея не заинтересовала, а вот о технологии производства он расспрашивал каждый свой приезд за кабелями.
Когда стал понемногу денежно «оперяться», завёл разговор с директором своего завода. Тому нужны были хоть какие-нибудь деньги, и он разрешил в том же нестеренковском цехе поставить муфельную печь. Электричество Андрей пообещал оплачивать сам. Вдобавок, заводу — арендная плата.
Первые унитазы Нестеренко делал лично. В помощники взял безработного бригадира слесарей Анкудинова. Вдвоём смешивали глину, каолин и кварцевый песок. Сырую массу процеживали через сито. Вручную долго мяли. Некоторого оборудования ещё не хватало — не было денег, чтобы купить. Поэтому компенсировали энтузиазмом.
Андрей узнал, как серое сырое изделие сделать ещё до обжига белым. Для этого будущий унитаз надо покрыть тонким слоем ангоба — жидкой белой глины. Затем должна начинаться работа художника — на влажной поверхности создаётся изображение того, что увидят люди после нанесения прозрачной свинцовой глазури и обжига в муфельной печи.
Художника у Нестеренко не было, и они с Анкудиновым по очереди пробовали себя в непривычном деле. Первый портрет Горбачёва, который переносили на унитаз, глядя на фотографию «пятнистого», оказался таким уродливым, что оба долго не могли отсмеяться. Этот унитаз Нестеренко взял себе, как память о начале нового дела.
Для росписи следующих изделий Андрей позвал художника, которого ему рекомендовал один из знакомых. Много заплатить не мог — расплатился унитазом. Художник продал его и получил хорошие деньги. Трое первопроходцев поняли, что это может стать хорошим бизнесом.
Однако Нестеренко помнил предупреждение Савельева: продавать нельзя, могут подать в суд за оскорбление личности. И он стал дарить. Знакомым. Знакомым знакомых. При этом всем объяснял: это подарок. Но люди понимали цену такому подарку и, в свою очередь, начали дарить обществу с ограниченной ответственностью «Очищение» различные суммы денег, как пожертвования меценатов. Производство фаянсовых изделий разрасталось. Андрей купил необходимое современное оборудование, расширил штат, приняв на работу людей из бывшего сборочного цеха. Унитазы шли нарасхват. В каждом блистало какое-то конкретное лицо. Сначала спросом пользовались изделия с портретом Горбачёва и «Беловежской троицы». Все в цветном изображении, похожие, словно живые. Горбачёв глядел прямо на посетителя туалета. Ельцина, Кравчука и Шушкевича художник изображал барельефно, как когда-то рисовали Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина. Чтобы не обижать женщин, в унитазе размещались два портрета: на задней и передней стенке.
Потом интересы сдвинулись. После начала российского разрушения подскочил спрос на Ельцина, Гайдара, Чубайса, Черномырдина. При этом Горбачёв в сортирном рейтинге по-прежнему занимал почётные первые места.
Но настоящую революцию в унитазном бизнесе совершил новый молодой технолог «Очищения» Борис Механик. Он придумал то, чего никому не удавалось сделать в фаянсовом производстве за все века его существования. Андрей и сам не знал, как это получалось у Механика, однако фантастический результат потрясал. При попадании струи мочи на лицо изображённого «героя» лицо это начинало морщиться, хмуриться, брезгливо кривиться, словно было живым и испытывало мучительные страдания.
Так как фирма, кроме серийных изделий, выполняла индивидуальные заказы, портретный ряд мог быть расширен за счёт новых «героев» своего времени.
После внедрения ноу-хау Механика спрос на продукцию фирмы «Очищение» стал расти ещё быстрее. Теперь уже половину бывшего сборочного цеха, откуда когда-то выходили способные защитить страну зенитные ракетные комплексы, занимало производство унитазов с портретами тех, кто эту защиту разрушил. Поскольку изделия можно было не продавать, а только дарить, за ними на завод приезжали со всей страны. Кое-кто просил нарисовать сразу нескольких «личностей».
О том, что частное стало переходить в общественное, Нестеренко догадался, когда поступил первый заказ на писсуар. В квартире, даже с двумя туалетами, вряд ли кто будет ставить эту сантехническую штуковину. Значит, Лица пошли в массы. К тому же писсуары оказались гораздо лучше унитазов приспособлены для крупных, красочных портретов. Начало положила, как всегда, Москва. Здесь изделиями «Очищения» оснастили двадцать общественных туалетов. Однако традиционно ревнивый Петербург взял реванш в другом. Он установил портретную галерею разрушителей в тридцати туалетах.
Власти не сразу поняли, что их подставили. Ведь народ бил струями мочи в таких же, как они. Начался демонтаж унитазов и писсуаров. Но победа давалась с трудом. Днём сантехники изделия демонтировали, а следующим утром лица разрушителей опять ждали необычной расправы. У большинства туалетов вырастали очереди, как перед входом в самый популярный музей. Особый восторг вызывали конвульсии и гримасы обливаемых физиономий. Тем более, что к портретам главных разрушителей страны добавились изображения главных разграбителей России — олигархов и их пособников. Из общественных туалетов до стоящих в очереди то и дело доносился рёв удовлетворения. Это народ мстил тем, кого не мог наказать заблокированным правосудием.
Нестеренко был доволен. Он мобилизовал людей на критическое отношение к существующей власти не хуже, чем его товарищи своими партиями, митингами, газетами. И это сейчас лишний раз подтвердил Владимир Волков. Но Пашка, Пашка! Неужели они были когда-то близкими людьми, полностью понимали друг друга?
— Ты опять, Слепцов, не на той стороне, — проговорил Андрей. — Не посредине ты — между ими и нами, хотя тоже ничево хорошего: как дерьмо в проруби, а на ихней стороне. С теми, кто эту паскудную жизнь устроил. Чем больше таких, как ты — отстранённых, безразличных, тем лучше им. Безопасней творить свои дела. Значит, ты с ними. А против кого? Против тех, с котомками. Против своего отца, которого они убили. Да против себя ты!
Павел слушал бровастого соседа сначала без всяких чувств. Рассеянно помешивал ложечкой принесённый официантом кофе, мысленно готовился к скорому уходу из этой уютной обстановки в промозглый, сырой переход с текущей мимо него рекой озабоченных лиц. И вдруг представил отвратительно жирную Новодворскую, идущую мимо ограды стадиона, оклеенной портретами убитых юношей… таких, как его сын… торжествующую при виде этих вырванных из жизни детей, представил её довольных соратников и вспомнил слова Карабанова у газетного киоска. «Для кого мы ломали ту жизнь? Для них?» Поднял голову. Из провалов глазниц на товарищей блеснул острый, как когда-то, взгляд. «Купили нас, дураков. Но, может, не до конца?» Волков понял его. Подумал: не страшно упасть. Страшно не захотеть вставать.
— Ты свою специальность-то не забыл? Не растерял в демократической дороге советскую науку? У меня освобождается место экономиста.
Нестеренко и Савельев с удивлением поглядели на товарища.
— Ладно, ладно вам. За битых двух небитых дают. А впереди ещё долгая борьба. Фирма «Очищение» не скоро останется без портретов.
2010–2013
1
«Макдональдс» — сеть ресторанов быстрого питания. В Москве первый такой ресторан был открыт в 1990 году на Пушкинской площади. Его открытие вызвало небывалое столпотворение. Чтобы попробовать легендарный «Биг-Мак», москвичи и гости столицы выстраивались в огромные очереди. Однажды за день работники ресторана обслужили больше 30 тысяч человек. Очередь попала в Книгу рекордов Гиннеса. Людей потрясла необычная еда, невиданные ранее контейнеры для бутербродов, бесконечные улыбки персонала, что особенно контрастировало с манерой поведения в советской торговле и общепите тех лет. Цены: «Биг-Мак» — 3 руб. 75 коп.; двойной чизбургер — 3 руб.; одинарный чизбургер — 1 руб. 75 коп. Средняя зарплата в СССР в 1990 году: у рабочих (по всем отраслям промышленности) — 285 руб.; у шахтёров — 611 руб. (Прим. авт.).
(обратно)2
МЦ 21–20 — одноствольное ружьё-автомат с магазином на 5 патронов для любительской и промысловой охоты. Изготовитель — Тульский оружейный завод (Прим. авт.).
(обратно)3
«Бойтесь данайцев, дары приносящих» — выражение из «Энеиды» Вергилия. По преданию греки (данайцы), чтобы захватить Трою, которую безуспешно осаждали 10 лет, прибегли к хитроумному плану. Его предложил Одиссей. Была изготовлена огромная деревянная скульптура коня и поставлена у ворот Трои. Ночью в неё забрался отряд лучших воинов, а основную часть войск греки отвели от города. Родственник Одиссея Синон сдался в плен троянцам и сказал, что это дар греков-данайцев защитникам Трои в знак уважения к их мужеству. Коня вкатили в город, а ночью данайцы вышли из коня, перебили стражу и открыли ворота. Так была уничтожена непобедимая Троя (Прим. авт.).
(обратно)4
Николае Чаушеску — Генеральный секретарь ЦК Румынской компартии, Президент Социалистической Республики Румыния. Активный противник советской перестройки. «Скорее Дунай потечёт вспять, чем состоится „перестройка“ в Румынии», — говорил он. Застрелен 25 декабря 1989 года вместе с женой Еленой без открытого суда на задворках военной базы. По некоторым сведениям, свержение Н. Чаушеску было одобрено на переговорах между Дж. Бушем и М. Горбачёвым (Прим. авт.).
(обратно)5
ГРУ — Главное разведывательное управление Генерального Штаба.
(обратно)6
Звиад Гамсахурдиа — грузинский националист и шовинист. Один из организаторов выхода Грузии из СССР. Готовил ликвидацию автономных образований в Грузии — Абхазии, Аджарии, Юго-Осетинской области. 26 мая 1991 года избран президентом страны. В январе 1992-го отстранён от власти вооружённой оппозицией — своими бывшими соратниками. Убит 31 декабря 1993 года (Прим. авт.).
(обратно)7
Карга — ворона (южно-русск.) (Прим. авт.).
(обратно)8
На Краснопресненской набережной в Москве размещался Верховный Совет РСФСР (Прим. авт.).
(обратно)9
Пигмалион — в греческой мифологии царь Кипра, который сделал из слоновой кости (другой вариант — из мрамора) статую красивой женщины и влюбился в неё. По его просьбе богиня Афродита оживила статую, и Пигмалион женился на ней. Эта легенда, в переносном смысле, стала сюжетом одноимённой пьесы Бернарда Шоу.
(обратно)10
Кен Ливингстон — в 1991 году член палаты Общин парламента Великобритании от Лейбористской партии. В 2000-м стал первым мэром Лондона. Занимал этот пост два срока подряд. Провёл ряд удачных преобразований. При нём Лондон избавился от автомобильных пробок. (Прим. авт.).
(обратно)11
Дети лейтенанта Шмидта — (нарицательное) аферисты из романа Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев».
(обратно)12
ПГУ — Первое Главное Управление КГБ СССР (внешняя разведка).
(обратно)13
Двор — пристройка к крестьянской избе, где содержался скот, хранилось сено, сельскохозяйственный инвентарь. (Прим. авт.).
(обратно)
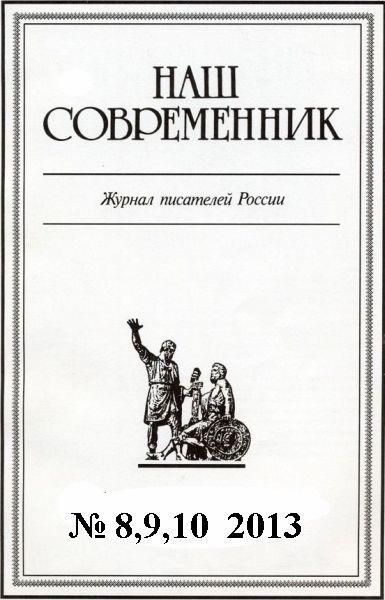







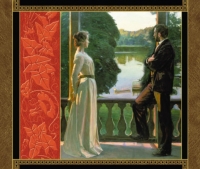


Комментарии к книге «Крик совы перед концом сезона», Вячеслав Иванович Щепоткин
Всего 0 комментариев