Марина Ахмедова Крокодил
Часть первая Яга
Яга поджала большой палец, выглядывающий из резинового шлепанца. Палец был синим. В руке она несла пакет. У аптеки было пусто. Яга пригладила жесткие волосы, сунула руки в карманы куртки и, вихляя бедрами, поднялась по лестнице.
Аптекарша кинула на нее взгляд, узнала и больше в сторону Яги не смотрела. Яга выпрямилась, спрятала пакет за спиной и пошла твердо и быстро.
Несколько секунд она сонно разглядывала витамины, презервативы, кремы и леденцы на полках за стеклом.
– Десять упаковок, – хрипло сказала Яга и назвала таблетки.
Аптекарша не пошевелилась, будто не слышала.
– И капли для глаз, – Яга посмотрела под ноги. – Йод… и еще шприцы.
Аптекарша разглядывала свою пухлую руку. Потом медленно оторвала грудь от прилавка. Достала с полки пачку таблеток, перетянутую зеленой резинкой. Пузырьки йода звякнули друг о друга в ее коротких пальцах. Следя полуприкрытыми глазами за Ягой сбоку, она выдвинула ящичек, достала шприцы. Яга обернулась на дверь.
– Семьсот тридцать два, – тихо проговорила аптекарша, выдавив слова в щелочку еле разлепленных губ. Тоже метнула взгляд на дверь.
Яга, зажав пакет коленями, вынула из кармана деньги и положила на прилавок. Как только аптекарша взяла деньги, живая и меткая рука Яги сгребла таблетки, йод и шприцы в пакет. Пригнув голову, Яга засеменила к двери.
На улице по-прежнему было пусто. Яга спустилась по лестнице и быстро пошла по асфальтированной дорожке через двор какого-то дома, бросая взгляды по бокам. С желтым пакетом в руках.
Свернув на свою улицу, состоящую из деревянных домов, Яга на секунду застыла перед лужей, тянувшейся от одного края дороги к другому. Она пошла по кромке, обходя лужу и медленно переставляя резиновые шлепанцы, поджимая пальцы и высоко поднимая ноги. Она была похожа на цаплю. Шлепанцы чавкали в черной грязи. В луже отражались деревья и кусок неба.
По обе стороны дороги стояли косые заборы и низкие дома. Мимо проехала белая «Лада», разворачивая лужу до самых внутренностей. Яга трусливо втянула голову в плечи. Свернула влево. В глаза сунулась черная верхушка яблони – отсыревшая, как все заборы в этом районе. На яблоне змеем металась зеленая лента, привязанная к ветке.
Забор гулял – падал назад, выпрямлялся и заваливался вперед. Яга застыла с поднятой ногой. Тупо уставилась на забор.
– Светка, блядь! Сука, блядь, выходи…
Услышав голос Олега, Яга быстро отвела руку с пакетом за спину.
Олег висел на заборе, раскачивая его. Залаяла собака.
Боком, крадучись, Яга начала обходить Олега.
– Свет-ка! Шлю-ха! – после каждого слога Олег сглатывал и сипло втягивал воздух. Слова выходили сухими, будто вдыхал он не весну, а плохой табак. – Мать твоя – шлюха. И сестра твоя – шлюха.
– Сестру мою не тронь! – вылетел из дома каркающий голос Светки.
Когда до калитки оставалось два метра, Яга полуприсела, как от удара под колени, боднула воздух, резко выпрямилась и побежала, размахивая свободной рукой. Олег задохнулся на полуслове.
Распахнув калитку, Яга влетела во двор. Олег прыгнул за ней, нырнув в открывшийся проем. Захлопнувшись, калитка стукнула его по спине.
У самого крыльца он схватил Ягу за капюшон. Двинул кулаком ей в спину. Яга упала на коленки, мазнув ладонями по шершавой ступени. Перекатилась на спину, села на пакет и ткнула Олега ногой в грудь. Одной рукой он сгреб ее волосы на макуше, другой дернул за пакет. Яга вжалась в землю сильнее. Замычала и засучила ногами. Шлепанцы с ее ног упали на землю.
Дверь открылась, из дома выскочила худая высокая Светка. Повисла на Олеге сзади.
– Сестру мою не тронь! – крикнула картаво.
Олег двинул локтем назад, попал Светке в живот. Светка упала. Олег выпустил Ягу, повернулся к Светке. Не вставая с земли, она подтянула к подбородку коленки. Ее глаза, не мигая, смотрели на Олега из-под тонко выщипанных бровей и дергались вместе с ресницами.
– Коза сливочная! – выдохнул Олег, скалясь широкими зубами.
Одежда болталась на его худом теле, и казалось – под ней пусто. Олег, шаркнув о землю, пнул Светку по почкам. Светка подтянула колени выше. Олег обошел ее и снова ударил в то же место. Он прыгал и пинал, трясясь на ветру тряпичной куклой. Светка, не отрываясь, смотрела на зеленую ленту, пляшущую на яблоне. Тело ее дергалось от каждого пинка.
Яга схватила пакет, рванула к крыльцу, споткнулась на первой же ступени, ухватилась за верхнюю, уперлась обеими руками в дверной проем и с силой качнулась в дом. Захлопнула дверь. Села на пол, прислонившись к двери, обнимая пакет и вслушиваясь в звуки, доносящиеся снаружи.
Скоро шея ее перестала держать голову, голова упала на грудь.
Яга открыла глаза, только когда в дверь постучали.
– Кто, блядь? – спросила она, встрепенувшись.
– Это я, – отозвалась Светка.
Яга поднялась, с трудом распрямляя затекшую спину. Открыла дверь. Посторонилась, пропуская Светку и глядя на нее, будто в первый раз.Яга вытащила из пакета мятую пластиковую бутылку, пузырек с кислотой, таблетки, шприцы.
Из пластикового окна виднелись огород и передняя часть двора. В почерневшей стене дома белая пластиковая рама выглядела вставной челюстью на старых деснах. На грядках уже появились перья лука, росли они неровно, то там, то сям. Земля начала оттаивать в середине апреля. Сейчас, в конце месяца, она снова замерзла и держала в холодных тисках поспешившие лук и траву. Посреди огорода стояла покосившаяся теплица, закрытая мутным стеклом. За забором, отделяющим этот участок от соседского, земля была вскопана ровными грядками. Но лук там еще не рос.
Пугало хлопнуло полами старого пальто. Яга встрепенулась. Она достала из шкафа глубокую миску, налила в нее горячей воды из эмалированного чайника, поставила на стол. Села на табурет. Взяла со стола губку, макнула в воду… Мелкие черные трещины на руках Яги покраснели. Ее тело качалось то вправо, то влево, а глаза, не отрываясь, смотрели на чайное пятно на столе, словно между ним и ею была невидимая опора, не дававшая Яге упасть.
Она подняла голову и посмотрела в окно.
– Где Миша? – хрипло спросила она.
– Придет, – ответила Светка из комнаты. – Он у Вадика варится.
– Везде хочет успеть, – пробубнила Яга.
Светка ничего не ответила.
– Че, блядь, разлеглась! – крикнула Яга, словно через стену видела, как Светка лежит на кровати. – Мне одной, что ли, все надо?!
В комнате скрипнула кровать. Послышался звук вспоротой бумаги. Светка вошла в кухню со страничками, неровно вырванными из книги. Взяла со стола таблетки. Положила на табуретку листы. Верхний начинался словами «Все мы знаем, что продажа – это искусство». Выдавила таблетки из упаковок. Взяла со столешницы скалку и принялась раскатывать таблетки в порошок. Таблетки хрустели. В кофте с узкими рукавами Светкины руки выглядели совсем худыми. И Светка, и Яга поглядывали в окно.
Яга встала, зажгла конфорку, чиркнув спичкой. Сухой звук вспорол кухню, деля ее на две половины – ту, где в пятне света нависала над табуретом Светка, и ту, где в тени у плиты стояла Яга.
Яга поставила миску на огонь. Наклонилась и надолго уставилась в нее. Из миски полез сизый пар, Яга заморгала опухшими глазами, но от миски оторвалась не сразу – словно и из нее росла невидимая опора.
Она сняла миску с огня, поскребла дно лезвием. Посыпался бордовый порошок. Его частицы ударились друг о друга со звуком металлической стружки. Яга вздохнула.
Залаяла собака. Мимо теплицы шмыгнула мужская тень.
– Миша идет, – без выражения произнесла Светка.
Миша юркнул в дом и, ни слова не говоря, сразу направился к истолченным таблеткам. Аккуратно взял лист с табурета и засыпал порошок в кастрюльную крышку, уже стоявшую на плите.
– Еще Анька и Старая придут, – предупредила Яга.
– Капле´й нет? – спросил Миша, ударяя второй слог.
– Нет, – отозвалась Яга и, не удержавшись, метнула взгляд на куртку, висящую у двери на крючке. Там в кармане лежал пузырек.
Сестры уселись на табуретки и молча смотрели на Мишину спину, на то, как дергаются его лопатки, когда он крутит крышку, греющуюся на плите. На то, как серый свет, падая из окна, растворяется в спине Миши в тонком черном свитере. Внизу света не было, только тень, и худые Мишины ноги сливались с темнотой. От этого казалось, что ног у Миши нет и он просто висит в воздухе. Временами он переступал с ноги на ногу, вставал к сестрам боком, скрипя половицей. Его нижняя губа была вывернута вперед, на ее бледном внутреннем мясе отпечатались следы верхних зубов.
Яга пошевелила губами, когда Миша открыл бутылку. Пополз маслянистый запах. Миша звякнул о стол нагретой крышкой.
– Анюта идет, – сказала Светка, заметив в окне сгорбившуюся фигурку.
Анюта шла согнувшись, выставив голову вперед, как будто несла на спине что-то тяжелое. Руками она постоянно запахивала на груди куртку.
Войдя, Анюта первым делом посмотрела на плиту. Ее загораживал Миша, и на лице Анюты промелькнуло радостное выражение – еще не начинали.
– Привет, – поздоровалась она.
Никто не ответил. Она сняла с плеча дерматиновую сумку и бросила на пол. Ее темные волосы были собраны в хвост, доходивший почти до пояса. Овал лица одряб, но кожа на лбу держалась туго.
– Капли принесла? – спросила Яга.
– Нет, – быстро ответила Аня. – Лешка обещал, не принес.
– А че пришла, если нет? – хрипло спросила Яга.
Анюта промолчала.
– Вообще… – прошипела Яга.
В расстегнутой куртке Анюта стояла у двери и не двигалась дальше. В ее карих глаза появилось выражение готовности – не уходить, что бы ей сейчас ни сказали, что бы ни сделали.
– Олег приходил, – лениво прокартавила Светка в сторону Анюты, и та восприняла это как приглашение войти.
– Зачем? – коротко спросила она.
– Мириться, – ответила Светка.
– Он бухой был, – сказала Яга.
– Кричал такой на всю улицу, – добавила Светка.
– И че ты? – спросила Аня, всем видом выражая интерес.
– Ниче. Он мать мою оскорбил – шлюхой назвал.
– Анюта, – хрипло затянула Яга, – че ты там стоишь, не раздеваешься? Как бедная родственница. Садися, – глазами Яга показала на свободную табуретку.
Аня поспешно села на нее.
– Вчера знаешь че было? – спросила она Ягу пугливо и подобострастно, как будто хотела интересной новостью заменить капли, которых не принесла.
– Ну? – спросила Яга.
– Вчера Оля чуть не отъехала, – быстро начала Аня. – Она четыре куба взяла. Я ей еще говорю: «Оля, не ставь столько, отъедешь». Она такая не послушалась, половину-то загнала. А я смотрю, она уже падает. Мы в туалете были. Тут ванна, тут унитаз. Она чуть головой не ударилась. А она же в два раза больше меня. Как я ее удержу? Она так медленно сползает, синеет и не дышит.
– И че? – безучастно спросила Яга.
– Я давай ее по щекам бить, всякое разное. Привела в чувство кое-как, – договорила Аня и замолчала, поглядывая на Ягу.
– Сколько наливать? – повернулся от плиты Миша.
– На пятерых наливай – еще Старая придет.
Когда Яга произнесла эти слова, подбородок Ани дрогнул.
Яга достала из пакета шприц со светло-зеленым поршнем. Подошла к плите и потянула шприцем раствор, похожий на мочу заболевшего гепатитом. За ее спиной со своими шприцами уже стояли Светка, Аня и Миша.
Яга пошла в комнату, опустилась на узкую кровать. У стены напротив стояла Светкина – такая же узкая и накрытая таким же голубым покрывалом. Яга сняла кофту, оставшись в лифчике, расстегнула пуговицу на джинсах и легла, закинув правую руку за голову.
Побродила глазами по стене, оклеенной голубыми обоями. Над кроватью висела картинка в гипсовой рамке – речной залив, окаймленный осенними деревьями. Масляные мазки позолотили залив отражением заката. Зеркало, стоящее на подоконнике, ловило отражение этого залива, и, глядя в него, можно было подумать, что сейчас вместе весны – осень.
Слышно было, как в кладовке мягко затворилась дверь, и Яга, положив шприц на живот, закрыла глаза. Вошла Светка и постояла над Ягой, упав тенью на ее молодой гладкий живот и тенью же будто отрезав его от старого Ягиного лица. Потом Светка отошла, сняла кофту, легла на кровать, так же, как сестра, закинула руку за голову, блеснув синевой бритой подмышки.
– Еще раз подумай, – откуда-то издалека сказала Яга.
– Я подумала, – живо бросила Светка.
– Че ты подумала? – заворчала Яга. – Полгода не кололась, нахуй сейчас начинать.
– Меня никто не толкает, – отозвалась Светка.
В кладовке Миша расстегнул штаны, спустил их на колени вместе с трусами. Присел на мешок с прошлогодней картошкой. Из нее уже выросли глазки – короткие живые усики. Сами клубни, на которые опустились сморщенные Мишины яички, были пожухшими, словно глазки выпили из них всю жизнь. Миша защипнул между ног складку кожи, поросшую редкими светлыми волосами, поводил пальцами, нащупывая в скользком худом мясе вену. Та спряталась под бугорок, который оканчивался вислым отростком. Миша расслабил пальцы, вена обманулась, вышла из-под бугорка, и Миша ее ухватил. Вена вся напряглась и запульсировала. Миша прицелился и воткнул в нее иглу. Откинул голову, но до стены еще оставалось расстояние. Голова его мотнулась, губы вытянулись в нитку, глаза ушли под глазницы.
Через минуту Миша открыл глаза, встал, натянул штаны, взял с мешка пустой шприц, аккуратно закрыл колпачком и спрятал в карман.
Когда Миша коснулся легкими пальцами подмышки Яги, покрытой сосочками черных бритых волос, там проступила крупная фиолетовая вена. Яга открыла глаза. Миша взял с живота Яги шприц, снял с иглы колпачок и прошил вялую кожу подмышки. Игла уперлась в твердую глянцевую стенку вены, поскользнулась, но Миша не пустил ее в сторону, надавил, проколол. Опустил поршень до упора.
Сочно потекла кровь – темная и тугая, словно все время стояла в вене, не двигаясь. Яга почувствовала, как в пальцах забегали мурашки. И сама кровь забегала, разгоняясь. Яга сразу что-то вспомнила и что-то забыла. Тело зашевелилось, принимая позу, на которую Яга не могла посмотреть со стороны, но знала, что поза эта – главная в жизни. Наконец, кровь добежала до стоп, затекла в вечно холодный большой палец правой ноги, палец стал гибким и поведал мозгу, что он, а не мозг, тут главный. Когда палец себя осознал, Яга спустила ноги с кровати, встала и, двигаясь прерывисто, словно постоянно натыкаясь на тонкую скорлупу, которую надо ломать, пошла к окну.
Окно предстало занавеской – голубой с разводами. Яга растопырила ноги, готовая стать тем, кем уже когда-то была. Присела. Вывернула запястья. Отъехала от одного конца подоконника к другому, ухватилась за оконную ручку, чуть не упала, но упасть она не могла – от глаз до окна росла невидимая опора, которая выдержала бы десять таких, как Яга. Сдвинув колени, Яга прижала локти к бокам, подвернула кисти рук. Изумилась, застыла, не шевелясь и не падая. Кровь текла по жилам, не стояла. Точка в занавеске держала, не отпускала.
Светка смотрела на Ягу до тех пор, пока Миша, наклонившись, не загородил ее. Миша тронул подмышку Светки.
– Гонишь? – она подняла на него лицо и выгнулась, когда Миша ее проколол.
На лице Светки мелькнуло выражение – «Ах, вот оно как может быть!» и быстро исчезло, как исчезла и сама Светка. Но она вдруг вернулась.
– Яга, че расселась?! Вставай давай! – Светка поднялась, подошла к Яге и пнула ее. Яга не пошевелилась. Она сидела с закинутой головой, и по всему ее опухшему лицу разливалось тупое блаженство.Поставив на табуретку ногу, покрытую язвами, Анюта тыкала в нее иглой. Из самых глубоких язв вытекал гной, и Анюта вытирала его концом белой кружевной косынки, повязанной на щиколотку.
Светка прошла мимо нее, прихватив с кухонного стола бутылку с бензином.
Она спустилась с крыльца. Потянулась до хруста в костях. На ее спине по всей длине обозначились позвоночные бугорки.
Подошла к яблоне.
– Я тебя садийа, я тебя йюбйю, – сказала стволу, похожему на ящерицу, застывшую и затянутую темной корой.
Яблоня росла высокая, неподрезанные ветки уходили в разные стороны. Кое-где на них висели буро-коричневые, сгнившие за зиму и высохшие за весну плоды, которых никто никогда не ел. Они и похожи были на младенцев, которых не срезали с пуповины потому, что уже в момент рождения те были мертвы.
Светка потянулась за веткой, наклонила к себе и принялась развязывать мокрый узел. Яблоня качнулась под порывом ветра, Светка выпустила ветку из рук, лента метнулась от нее. Но Светка снова поймала ветку и развязала узел.
Зеленую атласную ленту покрывали темные крапинки.
Светка пошла в теплицу. Открыла раскисшую за зиму дверь. Внутри оказалось холодней, чем снаружи. Посередине были свалены пустые коробки, в которые мать по весне сажала рассаду.
Светка положила ленту на землю, полила из бутылки бензином. Достала из кармана спички, чиркнула.
– Забирайте своего Ойега, – громко сказала она.
Светка сидела на корточках и смотрела, как огонь жрет ленту, сначала превращая ее в черную.
– Вот каким Ойег оказался, – тихо проговорила Светка. – А строий из себя… Пусть уходит.
Она резво встала, но тут же согнулась, обхватив рукой коленки, будто кто-то дернул за жилы в ногах.
Светка потрогала коленные чашечки, поплелась в дом, вошла в комнату, переступив через вытянутые ноги еще не вернувшейся Яги, открыла шкаф и долго смотрела на моток новой фиолетовой ленты.Похабно растянув рот, Старая с закрытыми глазами сидела в кухне. Она раскачивалась, как будто находясь в полусне.
– Ты че, реально потолок недо… белила? – спросила Яга, заплетаясь языком.
– Реально все бросила, сюда побежала, – Старая открыла мутные глаза. – Хозяйка вернется, че будет… Скандал будет.
– Так невтерпячку, да? – злобно спросила Яга, но Старая из осторожности промолчала.
– Че, хата хоть крутая, скажи, Старая, – снова заговорила Яга уже другим голосом.
– Круче, чем у Анькиных родителей, – ответила та, и лицо ее дернулось.
– А че там? Такая же широкая плазма?
– Шире, – Старая шмыгнула носом.
– А кухня какая?
– С вытяжками всякими.
– Еще че там?
– Круто там.
– Была бы у меня такая хата, я б никогда не кололась, – сказала Яга. – И ребенка, может быть, родила б.
– Как можно колоться, когда у тебя своя хата есть, – вяло сказала Светка. – Хоть какая, все равно своя. Я б ремонт делать начала.
Анюта промолчала.
– Че, блядь, все такие умные! – вдруг закричала Яга. – Бляди! Я одна по точкам хожу, одна закуп делаю! Надоело всех тащить! Сами никто не встанут! Жоп не оторвут! А как сваришься, все первые лезут!
Ее злые голубые глаза остро вспарывали не только пространство вокруг, но и само ее одутловатое лицо.
– Опять ты на психах, – проворчала Старая и ушла в комнату.
За ней потянулась Светка.
– Че, блядь, все такие ранимые? – забубнила Яга. – Я тут королева, блядь. Моя кухня, блядь. Закуп – мой. Блядь. Сдохли б тут без меня… Опять, блядь, кровь не течет. Стоит, блядь, стоймя. Как хуйня пластиковая. Как болит, блядь… Миша, давай быстрей. Скоро мама придет. Говорю, мама придет. Миша, быстрей. Кому говорю – Миш-ша… Ижди-венцы, блядь.
Миша не обернулся и ничего не ответил, но начал быстрее крутить кастрюльную крышку.
– Че ты, Миша, а? – с угрозой спросила Яга. – Че ты такой Миша, а?
– Да, такой Миша, – ответил он, не оборачиваясь.
– Че ты, Миша? – заулыбалась Яга. – К Вадику ходишь. А мы тут тебя ждем.
– Нич-че, – бросил Миша.
– Анюта! – требовательно позвала Яга. – А-ню-та!
Аня показалась из комнаты. Ее лицо покрывал толстый слой тонального крема.
– Тоналку мою схватила, – сощурилась Яга, улыбаясь.
Под тональным кремом лицо Анюты казалось старше, словно она выдавила на него из чужого тюбика и чужую старость.
– Ты когда завтра у меня будешь, я тебе голову знаешь чем дам помыть? – затараторила она. – Материным кондиционером. От него волосы такие – живые.
– Мне краску для волос купить не на что, – сказала Яга. – Хожу, как пугало позорное.
Аня села на табурет. Распустила волосы – темные и густые.
– Ты этим кондиционером волосы моешь? – спросила Светка, заходя в кухню. – Они у тебя так блестят.
– Так я ж с Лешкой маленько уже не живу, – ответила Аня, проводя рукой по волосам. – Мы ж маленько поругались, я ж у родителей теперь.
– А че так? – спросила Светка.
– А у меня же это, бунт в душе. Против матери его. Она же как приехала, сразу Лешка переменился.
– В этой церкви была, протестантской, куда хотела пойти? – спросила Светка.
– В четверг была, – скромно ответила Анюта.
– И че там? – спросила Яга.
– Ничего так, – ответила Анюта. – Лекцию писали. Пастор всякое рассказывал.
– Лек-ци-ю? – растянула Яга. – Ни хуя себе, все какие вокруг умные. Че, Анюта, нам тоже расскажи, про что лекция была.
– Я так не помню, только своими словами могу.
– Давай своими, нам чужими не надо, – сказала Яга, стрельнув глазами в спину Миши.
Анюта потянулась к сумке, достала из нее тонкую тетрадь и пролистала исписанные листы.
– Там пастор как бы сказал, что слова, которые говорит Иисус, – они есть как бы жизнь для каждого из нас, – быстро заговорила она, глядя в написанные ручкой буквы.
– Че? – спросил Яга. – Какая еще жизнь?
– Это метафора, – не оборачиваясь, проговорил Миша.
– Ну давай, че там дальше, – сказала Яга.
– Он еще сказал, что Иисус знает сердце каждого из нас. Ну, типа, что мы говорим, как мы говорим. Короче, слово имеет силу, когда мы его произносим.
– Че ты толстую тетрадь не купишь? – спросила Яга. – Эта у тебя скоро закончится.
– Потому что, как бы это, толстая тетрадь пятьдесят рублей стоит. А я вчера попросила у бабушки сорок рублей, а она такая сразу отчиму позвонила – Анюта опять денег на наркотики просит. Он мне вчера скандал устроил… Вот и получается… – она запнулась, – опять двадцать пять.
– Еще че этот пастор говорил? – требовательно спросила Яга.
– Он еще, короче, вопрос поставил, на который мы… типа каждый из нас должен для себя ответить.
– Че за вопрос?
– Сейчас… – Анюта полистала тетрадь. – Короче, почему змей подошел к Еве?
– Че? Какой еще змей?
– Искуситель, – снова повернулся Миша.
– С яблоком! – подала из комнаты скрипучий голос Старая.
– Ага, – подтвердила Анюта.
– И че он к ней подошел с этим блядским яблоком?
– Я еще не нашла ответа на этот вопрос, – сказала Анюта и почесала голову. Из головы выпал волос.
– Может, влюбился? – спросила Светка.
– Она хоть красивая – Ева, что ль? – спросила Яга.
– Змей – это метафора, – произнес Миша.
– Че, блядь, заладил – метафора! – заорала Яга. – Че мне, блядь, мозги пудрите. Какие-то змеи, блядь. Яблоки какие-то. Вообще… Сейчас мама, говорю, придет!
Светка ушла в комнату, а Анюта осталась и сидела смотрела на черный волос, который, не долетев до пола, опустился на ногу и увяз в гное.Больше ничего не было. Ягу смыло водой – теплой, прохладной и пенной. Вода была повсюду, и Яга была в ней одна. А больше ничего. Яга поняла, что когда повсюду что-то одно и его много, многажды множе тебя самой, но ты с ним – один на один, значит, то, что повсюду, – это ничто. Поняв это, Яга распустилась в ничем, как будто в ней открылись разные створки. Как будто у ней по всему телу были такие узенькие полосочки – жабры. Она ими в воде дышала, а когда надышалась, они ожили окончательно и начали раскрываться, как лепестки цветка. Наверное, большой розы. Роза была тяжелее, чем ничто, но именно потому, что она дышала ничем, она как бы тоже обезвесилась, сохранив при этом вес. И этот вес потянул розу вниз, на дно ничто. Внизу, как ни странно, Яга почувствовала себя еще невесомее. Раскрылась всеми жабрами ему навстречу, хоть оно и было повсюду, и куда ни поплыви – везде оно. Даже если просто будешь колыхаться на месте, оно тоже – везде. Дна не было, потому что у ничто дна быть не может. Яга об этом не догадывалась, но роза с самого начала знала об отсутствии дна. Телом Яга чувствовала, куда она движется – вверх или вниз. Яга двигалась вниз – к самому сердцу.
Она еще не дошла до низа, потому что низа не было и дойти до него было невозможно, но ничто ее уже обняло и пенно убаюкало. У Яги между ног потекла нега, и она поняла, чем мужчина отличается от женщины. Чем Ева принципиально отличается от Адама. Яга погружалась в негу, погружалась, жабры дышали сами по себе, а нос тонул. Нос задыхался. Носу нужен был кислород. Нос потянул наверх, Яга разозлилась и вынырнула.
– Нахуй, блядь? – хрипло спросила она, имея в виду нос, который был, и она не могла этого изменить.
Яга встала с кровати и пошла к зеркалу, висящему на стене. Так они и стояли друг против друга – Яга и Яга. На выпуклом лице другой Яги, которая появилась, оспорив право этой Яги на единоличное присутствие в разлитом повсюду ничто, опухшие веки прорисовывались скобками. Из них выглядывали зрачки – голубые, как вода и ничто. Яга подняла руку и, кажется, хотела потрогать макушку, но бросила руку вниз на полпути, потрогала между ног под джинсами.
– Конец, нахуй… – прохрипела она. – Конец – всему пиздец…
Яга повернулась к окну. Посмотрела на занавеску. Ее ноги подогнулись, она упала, растопырила ноги. Хотела расстегнуть джинсы. Поковырялась в пупке. Бессильно вывернула запястья.Мать откинула голову, будто с порога ей нанесли прямой удар в лицо. На секунду прикрыла глаза. По лицу как будто прошла судорога, поделив его на две половины.
Замерев, Яга смотрела на мать с пола так, словно та не рожала ее. Словно сама Яга никогда не была младенцем. Словно никогда между ними ничего не было и эта посторонняя женщина случайно вошла в эту кухню.
Лицо Яги стало злым. Мать посмотрела дочери в глаза, быстренько отвела взгляд, медленно повернулась к мойке, в которой стояла миска с бордовой фосфорной водой. Прижала руку груди, будто там сильно жгло, отвернулась совсем и вышла в распахнутую дверь.
Яга посмотрела в окно. Мать шла мимо покосившейся теплицы, мимо первых перьев лука. Яга перевела взгляд на свою руку. Рука опухла от фосфора.Стеклянная дверь «Гринвича» шумно распахивалась, пропуская покупателей. Яга стояла сбоку, засунув руки в карманы.
Ветер подул снизу.
– Че, уже весна, – пробубнила Яга.
Через дорогу виднелся другой магазин – маленький, но тоже продуктовый.
Из супермаркета выезжали тележки, нагруженные продуктами. Яга постояла еще немного и, вихляя бедрами, пошла к двери.
– Столько, блядь, всего надо сделать, – пробубнила она, входя в разъехавшуюся дверь.
В овощном отделе пахло пластиком. Фрукты и овощи, лежавшие на прилавке, отливали глянцем. Яга шла по проходу между лотками, а увидев женщину с тележкой, выскочила впереди нее.
Тележка завернула в молочный отдел. Из-за стеллажа с кефиром показался мужчина в синем пальто и розовом галстуке. Яга, глядя в сторону от него, поправила волосы и укусила губу.
Тележки столкнулись в узком проходе. Яга, оказавшись рядом с мужчиной, повернулась к полке с кефиром и зашевелила губами, беззвучно читая названия упаковок. Рукой она сделала колесо по карману пальто – прижалась тыльной стороной согнутой ладони и прокатилась по нему. В чужом кармане хрустнули деньги. Руки Яги затряслись, как бывает от сильного страха или азарта. Она скользнула пальцами по шершавым ворсинкам пальто. Пальцы юркнули за отворот кармана. Яга поддела указательным и средним пальцами купюру, подтолкнула ее под большой, плавно потянула руку, не сгибая пальцев. Сжала деньги в ладони и, не отрываясь глазами от кефирных полок, обогнала тележку.
На повороте она на миг разжала кулак, мелькнул голубой уголок. Яга сунула кулак в карман.
Возле темной застекленной полки с бутылками коньяка Яга покрутилась, ловя то отражение, в котором меньше были видны припухлости на лице. Их стало меньше, только когда она откинула голову и посмотрела на себя сверху вниз.
В рыбном отделе Яга застыла перед лотками со льдом, где были разложены куски розовой семги. Она вытянула лицо, как это делала Старая, ее отчего-то передернуло.
– Супер-блядь-маркет, – пробубнила она.
Она потрясла ногой, как будто разгоняя кровь. Пошла в сырный отдел. Взяла с полки камамбер в холодной упаковке, понюхала. Лицо снова стало как у Старой. Вернула сыр на полку, походила, изучая и трогая, ушла в хлебный отдел. Вернулась. Дрожащими руками взяла три головки камамбера, сунула за пазуху.
Идя к выходу, Яга сделала разочарованное лицо. Когда она поравнялась с охранником, стоявшим у стеклянных дверей, лицо ее стало злым. Ноги дрогнули в коленках. Охранник на Ягу не смотрел.
Вынырнув из супермаркета, Яга расправила плечи и, виляя худыми бедрами, пошла через дорогу в продуктовый магазин – относить сыр.Яга скатала трубочкой пять сторублевок, полученных за сыр, и закрыла их в кармане на молнию. Тысячную сунула во внутренний карман куртки. Пошла по тротуару. Ветер дул сзади, разделяя волосы на затылке прямым пробором.
Дома, ударенные весенним солнцем, отдавали каменный холод. Яга съежилась. Ее мотало и качало. Она остановилась возле двухэтажного здания с кирпичной облицовкой. Над стеклянной дверью было написано желтыми буквами: «Солярий». «О» была обведена короткими лучами.
– Жестоко, – протянула Яга. – Как, блядь, жестоко…
Она открыла дверь и вошла в узкое светлое помещение. На стойке стоял горшок с живой орхидеей. За стойкой сидела администратор – девушка с белым лицом, темными волосами и голубыми глазами. Свет, падавший из стеклянной двери, казалось, играл с тонкими костями, из которых было составлено ее лицо.
Зазвонил телефон. Девушка повернулась к нему, оказавшись к Яге полубоком.
– Салон красоты «Орхидея», добрый день, – прожурчала она в трубку.
Как бы свет ни играл с ее лицом, на нем не проступало ни впадин, ни опухлостей. Глаза Яги загорелись злостью. Она поправила волосы, потрогала пирсинг на пупке и посмотрела на администраторшу сверху вниз.
– Извините, кха… – кашлянула она. – Ой, вы не подскажете, сколько пять минут солярия стоят?
Говоря, Яга отводила глаза от белого лица администраторши, словно оно обжигало их.
– Сто рублей, – ответила девушка таким голосом, как будто у нее в горле правда тек ручей.
– Спасибо, – протяжно ответила Яга, доставая из кармана трубочку сторублевок.
Яга положила деньги на стойку. Администраторша взглянула в лицо Яги, и глаза у нее стали слезливыми – как у кошки, которой сломали хвост. Яга придвинулась и задержала руку, покрытую черными трещинами, на деньгах. Администраторша отпрянула.
Яга сняла руку со стойки.Белый солярий, похожий на саркофаг, стоял у стены. Яга сняла куртку, свитер и лифчик. Из-за тонкой перегородки доносились телефонные трели и журчание администраторши: «Салон красоты “Орхидея”, добрый день».
– Орхидея, блядь, еще какая-то, – проворчала Яга и стянула трусы. Пощупала их. Почесала волосы между ног. Понюхала руку.
Открыла солярий, подтянула колено к его плоскому стеклу. Другая нога задрожала в икре. Напрягая зад, Яга подтянула и ее. Встала на колени. Села. Ягодицы растеклись по стеклу. Легла. Опустила крышку. Нажала на кнопку. Солярий загудел. И Яга лежала неподвижно, расставив большие ступни, вся пронзенная фиолетовыми лучами.Оперевшись о стойку локтями, Яга, как завороженная, разглядывая орхидею. Администраторша куда-то ушла. Все тот же свет из двери просвечивал молочную белизну лепестков, на которые словно капнули бледно-фиолетовыми чернилами.
Зазвонил телефон. Яга встрепенулась, выпростала из кармана руку, приблизила к орхидее два тугих, покореженных фосфором пальца, взяла лепесток и дернула. Лепесток скрипнул.
Она поспешно вышла из салона. Двинулась по тротуару, качаясь. Налетела на дерево, остановилась.
– Я что ли на заправке не работала? – сказала она дереву. – Я что ли не знаю, как с клиентами надо? Да я в эти солярии каждую неделю ходила. У меня по три тысячи в день чаевых было. Я сумки себе покупала за восемь тысяч. Я сколько этих педикюров сделала. А все такие жестокие, блядь. Без… душные.
Яга разжала кулак, и из него вылетел лепесток орхидеи. Покружив, он упал у корней дерева и казался бабочкой, хотя для бабочек было еще рано.Яга срезала дорогу дворами. У некоторых домов были вскопаны палисадники. В одном из дворов мать качала ребенка на качелях. Качели скрипели на весь двор. Яга остановилась и стала вертеть головой вслед за движениями качелей. Вздрогнула и снова пошла. Солнце скоро должно было сесть, но перед этим набросало пятен на асфальт, как будто выдавливая из себя последние капли неиспользованного света. Яга шла, наступая аккуратно в них.
Вошла в подъезд одного из домов. Заковыляла по лестнице. Поднялась на третий этаж и постучала в железную дверь – два раза и еще два.
За дверью было тихо. Яга постучала еще.
– Ванька! – позвала она шипящим на весь подъезд шепотом. – Вань, это я!
Никто не ответил.
– Опять, блядь, двадцать пять! – взорвалась Яга и пнула дверь ногой.
Подождала.
– Ваня! – позвала ласково. – Ван-ня…
Наконец, с той стороны заворочался замок. Дверь приоткрылась, и Яга сразу втиснулась в проем.
Ванька стоял, уперев руки в бока, и мутно щурился на Ягу.
– Где Ирка? – хрипло спросила она.
– Какая на хуй Ирка? – спросил Ванька, отступая.
– Такая на хуй Ирка, – Яга скинула шлепанцы и пошла в комнату.
Неразложенный диван был прикрыт голубым стеганым одеялом.
– Какая на хуй Ирка? – повторил вопрос Ванька, появившись у нее за спиной.
Яга схватила одеяло, тряхнула и отшвырнула в угол к стене. На дивне осталась только подушка. Яга схватила ее и задушила.
– Че попутала, блядь? – с угрозой спросил Ванька.
Яга бросилась на кухню, по дороге расталкивая воздух руками. На кухне тоже было пусто. День за окном пожелтел и, казалось, раздел бледную кухню догола, подсинив известку на стенах и грязно-белый стол с пачкой рафинада на нем.
По бокам от стола стояли две табуретки. В углу – газовая плита. На ней – перевернутая кастрюльная крышка. Яга улыбнулась.
– Капли принесла? – спросил Ванька.
– Завтра принесу, – мягко проговорила Яга.
– А че пришла? – спросил Ванька.
– Че ты сразу?
Ванька встал между ней и плитой. Ухмыльнулся. Из уголка рта выглянул металлический зуб. Яга сначала смотрела на него, как бы играя с ним в гляделки, потом не выдержала и отвернулась. За окном день почти закончился.
– Че, Вань, завтра никогда не настанет, да? – обиженно спросила она.
Ванька еще шире осклабился и отошел от плиты. Яга вытащила из кармана шприц и трясущимися руками набрала в него из кастрюли желтую жидкость.
– Я ж люблю тебя, Вань, – сказала она.
Ванька стоял сзади и насмешливо смотрел ей в спину. Закат выжимал из его глаз красивый медовый оттенок. Уперев руки в бока, Ванька раскачивался, и лицо у него было такое, будто он собирается пнуть Ягу сзади или плюнуть ей в спину.
– Я ж тебя конкретно так люблю, – сказала Яга, не отрываясь от плиты. – Че ты меня унижаешь, Вань?
– Блядь ты скатившаяся, – сказал он, что-то перекатывая во рту.
– Вмажешь? – робко спросила Яга.
– Ну пошли, – Ванька развернулся и повел ее в комнату.
Яга сняла кофту, лифчик и легла на диван. Закинула руку за голову.
– Че ты, Ванек? – с хриплой лаской спросила Яга.
Ванька залез ногами на диван, сел ей на живот, вошел в нее иглой и повел поршень вниз.
– Че ты? Че ты? Че-ты-че-ты? – приговаривала Яга.
Снизу она ласково смотрела на сосредоточенное лицо Ваньки. На его четко очерченные губы и твердый подбородок с ямочкой. Она вдруг отвернулась к стенке и закрыла рукой свое опухшее лицо, на котором начал проступать красный загар. Поджала большие ступни.
– Я в солярии, Вань, была. Поэтому опухшая, – кротко сказала она.
– Пошла ты на хуй со своим солярием, – Ванька вынул иглу из вены и швырнул шприц ей на живот.
Яга развела ноги.
– Че-ты-че-ты? – она приоткрыла рот.
Она свела колени и сжала Ваньку.
– Пошла ты на хуй, – Ванька слез с нее и сел в противоположном конце дивана. Яга подсунула свои стопы под него. Ванька похабно ухмылялся ей в лицо, и Яга снова отвернулась к стене. Из стены приподнялось одеяло. И потекло. Одеяло подтянулось к дивану. Обступило его. Плеснулось на Ягу. Заползло в ее открытый рот. Затекло ей между ног. Яга захлебнулась, вытаращилась.
– Давай трахаться, – сказала она, раздвигая ноги перед лицом Ваньки.
– Не сегодня, – ухмыльнулся он.
– Давай, Вань.
– Я усталый.
– Че ты такой? – Яга потянулась к нему.
– Пошла на хуй, Яга позорная, – оттолкнул ее Ванька.Яга вышла из подъезда и оказалась во времени, которое трещиной проходит по суткам, деля их на день и ночь, поселяя вокруг тревожность.
Согнув ногу, Яга подняла ее и постояла недолго, как цапля. Шлепанец отвис. Подул ветер, Яга встрепенулась и пошла к проему, открывавшемуся между двумя домами. Дойдя до него, она снова остановилась. И было ей явлено чудо.
Сквозь черное на небе все равно проглядывала синева – глубокая и нездешняя. Плыли облака – крупные, с формами. Непонятно было, синева подсвечивает их или они синеву. В каждом облаке будто горел слабо мерцающий светильник. Будто кто-то забыл закрыть небо декорациями. Будто на небе каждые сутки свершалось нечто – в миг, когда день переходил в ночь, и тогда только на нем можно было увидеть настоящее. Не игру. Будто кто-то специально закрывал настоящее картонками, разрисованными звездами, от тех, кто смотрит снизу. Будто кто-то хотел, чтобы настоящее было тайной.
Но сегодня декорации убрать забыли, и Яга познала тайну.
Ей явлен был человек, собранный из кучевых облаков, – мужчина с выпирающим задом. Руками он держал за оба крыла летящую птицу. И непонятно было – продолжает ли птица лететь, неся за собой человека, или стоит, потому что человек, ухватив ее, не движется с места. Непонятно было, движение это или стояние.
Ягу пронзило ощущение, что сейчас все закончится. И больше никогда ничего не будет. Что сейчас момент порвется. Человек не пересилит птицу. Птица не пересилит человека. На грани разрыва момента Яге было послано ведание: птица – ни хорошая, ни плохая, человек – ни хороший, ни плохой. Добра и зла нет. Есть только среднее – между ними. И оно зальет все вокруг, когда птица и человек раздерут небо и землю напополам. И Яга упадет в разлом, и с тех пор больше ничего не будет.
Яга уже почти ступила в проход, но снова остановилась – пришло еще одно ведание. Она сама и есть трещина мира. А нет Яги, нет и разлома. И будет мир стоять, бултыхаясь в добре и зле, и пока она, Яга, того не захочет, ничто не придет. Птица так и зависнет в полете, а человек – в держании за крылья.
Злобно хихикая, Яга развернулась и пошла в другую сторону – от чуда. Она шла мимо окон, в которых уже зажгли электрический свет, хихикая и унося свою трещину прочь.
А значит, стоять этому миру, и будь он проклят.Анюта плюхнулась в кресло, ударив подлокотником стоявший рядом диван. Голова матери мотнулась по подушке. Мать не издала ни звука. Анюта поджала ноги, поерзала. Мать смотрела на желтые обои.
На полу лежал темно-синий палас. Кроме полированной стенки, кресла и дивана, мебели в комнате больше не было.
Анюта сначала просто бегала глазами по материному лицу, улыбаясь. По ее лбу, желтому как воск. Анютины глаза забегали в ее морщины, проходили по ним вдоль. Поперек.
Кожа на материном лице болталась, словно совсем отстала от черепа, и ее можно было отщипнуть и скатать.
Под Анютиным взглядом восковые черты матери заострились и, как всегда, напряглись. Но глаз от стены она не оторвала. Анюта тоже принялась смотреть на обои, прислушиваясь к звукам из кухни. Оттуда доносилось сопение спящего Лешки.
Точка, куда смотрела мать, блестела, выделяясь на стене, словно мать засалила стену глазами. Или пятно было отражением материного лба.
Обои были разрисованы ромбами с закругленными концами. Внутри ромбов сидели равномерные палочки и кружки. В зависимости от угла зрения они то представлялись слонами с попонами, то переливались в человечков с антеннами, то в женскую голову, а то в животастого мужика.
Анюта вытянула ногу вперед. Губы ее растягивала улыбка – тоже сальная. А может, обойное пятно отражалось на ее губах. Анюта выпустила из носа комок горячего воздуха, прикрыла глаза и как будто начала вспоминать.Анюта лежала на этом самом диване животом вниз. На кухне Лешка открыл окно, и вместе с запахом сигарет в комнату потянуло новым днем. Из дверцы шкафа торчал подол свадебного платья. Он одним своим защемленным уголком придавал всей комнате праздничный вид.
Лешка зазвенел бутылками в холодильнике. Стеклянный звон разбил атмосферу сна. Сон прошел.
Окончательно раннее утро прогнал неожиданный и от того тревожный дверной звонок.
– Это кто, бля? – услышала Анюта тихий бас Лешки, и потом – как одна бутылка стукнула о другую и как Лешка пошел в коридор.
Послышался женский голос. Анюта оторвала голову от подушки, вслушиваясь.
– Че, правда, что ли? – долетел Лешкин голос.
Лешка вошел в комнату. Ладонями он ерошил волосы.
– Мама приехала, – сказал он и судорожно улыбнулся.
– Какая еще мама? – Анюта села.
– Моя мама…
Его грудная клетка бугрилась под несвежей майкой.
В комнату бочком вошла женщина. Анюта исподлобья осмотрела ее с ног – смуглых, заплывших, с высоким подъемом, как у Лешки, – до коротко стриженной головы. Женщина сделала несколько шагов и остановилась, как будто нерешительно. Ее живот, обтянутый сиреневой футболкой с бледно-розовыми узорами, сильно выдавался вперед. На животе лежали груди, объемные и, судя по всему, потные. Анюта выпустила пивную отрыжку.
– Мама, что вы стоите? Идите, садитесь, – торжественно сказал Лешка, показывая на кресло.
Женщина села боком к Анюте.
– Вот жена моя, Анюта, – сказал Лешка, глотнув воздуха. – А это – мать моя…
– Какая мать, я не поняла! – повысила голос Анюта.
– Рот закрой! Я кому сказал, рот закрой! – заорал Лешка высоким голосом.
– А че я рот должна закрывать?! Какая мать, спрашиваю!
– Рот, я сказал, закрой!
– Свой, я сказала, закрой!
– Ты че, блядь такая… Ты че, блядь, за разговоры тут при матери моей?! – Лешкин голос поднялся почти на женскую высоту.
– Какая мать? Ты ее первый раз видишь!
– Твое какое дело? Твое собачье какое дело? Я спросил, твое, блядь, какое дело? – на Лешкиной груди появились розовые пятна, похожие на узоры с материнской футболки.
– Такое мое дело! – крикнула Анюта.
Женщина молчала, а Анюта переводила возмущенный взгляд с нее на Лешку. Щеки у Анюты покраснели, и она начала задыхаться.
– Какое твое, блядь, дело?! – крикнул Лешка и потряс в воздухе руками.
Анюта промолчала. Женщина опустила голову ниже, чуть наклонив вбок. Она раскачивалась – с усилием и внезапно откидывая голову, которая все равно клонилась вниз, словно на спине у нее лежал камень.
– Какое твое дело собачье? – повторил Лешка, поперхнувшись.
– Никакого, – мрачно ответила Аня.
– Тогда пасть заткни!
Все замолчали, тишина сделалась давящей, как будто на комнату тоже лег камень. Мать не шевелилась. Лешка подошел к окну и отдернул занавеску. Свет впрыснулся и потек, но до противоположной стены не дошел, остановившись у ног женщины. Она отдернула их, как обожженная. Дневной свет смягчил ее надутый живот. Разводы на Лешкиной коже поползли по плечам и вниз – по рукам.
– Че ты тогда на мать мою наезжаешь? Ты кто такая, чтоб мать мою попрекать? – крикнул Лешка, встав к матери спиной.
Лешкины глаза выпучились. Как будто он просил Анюту о чем-то. Зрачки расширились и светились. Словно Лешка, отдернув занавеску с окна, впустил в глаза весь дневной свет, и только остатки потекли по комнате, захватив Анюту, но материных ног едва коснулись.
– Какая она тебе мать?! – истерично закричала Анюта. – Приперлась, такая умная, на все готовое! Где она раньше была?
– Че ты мне? – Лешка присел, словно колени его внезапно ослабли, выставил в стороны пятнистые руки. – Че ты мне… – он захлебнулся и шевелил губами, как будто хотел сказать слишком много, но слишком много за раз не выходило. – Че ты мне, сука, блядь…
– Сам такой!
– Ах ты, сука… Ах ты, блядь… – задыхался он и глотал воздух. – Ах ты, блядь, тварь последняя… Задохнись, я кому сказал! – Лешка смотрел на Анюту так, будто это ее, а не мать свою, видел в первый раз.
– Как за воровство отмазывать, так сразу мой папа! Теперь пусть тебя твоя мать отмазывает! Мой отец больше палец о палец для тебя не ударит!
– Че ты – воровство? Че ты – при матери моей? А? Че ты – отец? Какой отец, бля? Где ты своего отца видела? Ты когда своего отца видела?
– Папа Петя любит меня, как родную! – голос Анюты сорвался.
– Он Маринку любит, как родную, – Лешка снова присел и хохотнул. – Маринку он любит, че, не знала? Ты им нахуй не нужна. Че, не знала? Вот они тебе покажут, – он ткнул в сторону Анюты фигу. – Вот, видела? – тыкал он. – Вот тебе папы Петина квартира. А вот тебе машина. Папа Петя… Да папа Петя… – Лешка хлебнул воздуха, – Маринке своей квартиру купил, когда она замуж выходила. А че, если он тебя так любит, тебе не купил?
– Да потому что ты бы все пропил! – крикнула Анюта и зарыдала. Увидев ее слезы, Лешка прояснился лицом. – Ты и женился на мне, надеялся, тебе что-то перепадет!
– Че мне перепадет от твоих родственников-крохоборов? Они тебя даже на Кипр с собой никогда не брали. Че, забыла, как они тебя бабушке оставляли, сами с Маринкой ехали? Забыла, да? Сама ко мне прибежала – Лешка, женись на мне, не могу с ними. Че, не было? Че, выкусила, да? Выкусила? – Лешка еще раз показал Анюте фиг, из которого сильно высовывался большой напряженный палец.
– Уйду я, если так, – проскулила Анюта.
– Уебывай на хуй! – Лешка потер руками виски и захохотал – высоко, истерично. – Че расселась тогда? Уебывай давай к своему папе Пете! Пошла вон! Давай, вали отсюда.
– И уйду! – взвизгнула Аня, не вставая с дивана.
– Сына… – женщина метнула взгляд на Лешку и снова опустила голову. – Сына, тут кафе через дорогу. Я уже договорилась, сына, туда меня берут – посудомойкой. Я – еще рабочая, сына…
– Ма, ты че? – задохнулся Лешка. – Ма, ты че сразу – через дорогу? Ты че, ма, отдыхай. Ты че сразу – рабочая? У нас все есть…
– Ты в жизни никогда не работал! Что у тебя есть? – крикнула Анюта.
– Пасть закрой! Задохнись, сказал! Работная, бля…
Анюта замолчала.
– Че, деньги где? – спросил Лешка, почему-то успокоившись.
– Какие деньги?
– В магазин, сказал, пойду! Деньги где?!
– Вчера четыре бутылки пива я на что купила?!
– Ты че, бля, все мои деньги потратила?!
– Сына, сына… – женщина засуетилась, поднимаясь из узкого кресла. – Сына, деньги есть…
Она встала и, прижимаясь икрами к креслу, сунула руку через горловину в лифчик. Вынула прелую пачку пятисотрублевок, сложенных вдвое.
– Деньги есть, сына… – она взяла из пачки сверху две бумажки – самые потные – и протянула их Лешке.
Лешка смотрел на деньги, не трогаясь с места.
– Не надо… – вяло сказал он.
– Бери, сына. Я ж для вас копила.
Лешка приблизился и, не глядя женщине в лицо, взял деньги.
– В магазин пойду, – тихо сказал он.
Вышел из комнаты, недолго возился с обувью. Входная дверь открылась и закрылась. Аня смотрела вбок – на желтые ромбы. Свет из окна вышибал из них золотистый оттенок, хотя никакой золотой краски на обоях не было. Женщина сделала глубокий вдох, на полпути судорожно его прервала, словно испугавшись, что нарушает чужую тишину. Повернулась к Анюте задом, ссутулилась и пошла на кухню. Оттуда донеслась струя из крана и звон посуды.– Если б ты, сына, знал, какую твоя мать жизнь прожила, ты б меня сейчас не стал попрекать…
– Ма, да я ж тебя не попрекаю. Я ж слова не сказал.
На кухне повисло недолгое молчание, звякнувшее в конце бутылками. Аня по-прежнему сидела на диване и прислушивалась.
– Давай выпьем, мам… За встречу, – послышался голос Лешки.
Они сидели на кухне за столом, с которого, пока Лешка был в магазине, мать убрала грязную посуду. Лешка – на табурете, скособочившись, подобрав одну ногу. На мать не смотрел. Говорил, глядя поверх бутылки и только иногда бросая косые взгляды исподлобья. Мать тоже не поднимала на Лешку глаз, не смотрела открыто ему в лицо. Она смотрела на только что протертую клеенчатую скатерть, на которой еще высыхали тонкие разводы воды. Камень, который лежал у нее на спине, как будто не давал поднять голову. Но когда она бросала на сына такие же быстрые взгляды исподлобья, то вся застывала, как будто от внезапной и незнакомой боли в спине.
– Барон-то меня выгнал, с этого все и началось, – снова заговорила мать.
– Какой барон, мам? – спросил Лешка.
– Ихний барон, с этого же и началось, говорю. Я ж пять лет у цыган прожила…
– В таборе? – Лешка поставил рюмку и бросил в мать короткий взгляд.
– Да ты что? Какой табор? В доме. В общем, там, неважно, – мать махнула рукой и отпила из рюмки, опустила голову, подперла ее рукой и закачала, будто причитая про себя беззвучно. – В семье его домработницей. А потом он меня погнал – барон-то. Там история получилась такая… неприглядная, – она подняла голову, скривилась.
– Ма, ты че, не плачь, – сказал Лешка.
– А куда мне идти, сына, как не к сыну родному…
– Правильно сделала, мам, что пришла, – сказал Лешка басцом.
Женщина тихо заголосила.
Аня отвела длинные пряди темных волос за уши. Щеки у нее горели.
– Так ты уж меня не гони, сына… – сказала женщина, перестав скулить.
– Ты че, мам, ты че вообще такие вещи говоришь… Правильно сделала, что пришла. К кому тебе еще идти, ма…
Мать выпила еще, и Лешка подлил ей в опустевшую рюмку. И она снова выпила, запрокинув голову. Пила она водку с каким-то смирением, с видом каким-то – раз налили, надо испить.
– Я ж тогда еще к бабке ходила, сына… Когда беременная тобой была, – слово «беременная» мать произнесла тихо, вскользь, как будто не хотела, чтобы его было слышно. Как будто слово было лишним. И получилось оно у нее съеденным и неполноценным – «бременная». – Матери своей я сильно боялась. Хотела на аборт пойти. Но до консультации не дошла, к бабке сходила – она на воду смотрит. Она в миску с водой посмотрела и сразу говорит… А там еще такая рябь по воде пошла, как бы молочная… – мать провела по воздуху толстой рукой. – И говорит: «Вижу. Сын у тебя будет. Родишь. Не можешь прокормить, оставь кому-нибудь. А через тридцать лет он сам тебя найдет. Бизнесменом будет. Найдет тебя и озолотит», – мать улыбнулась, из самого уголка растянутых губ выглянула тусклая золотая коронка. Она, словно луч света, упавший на старый медный поднос, подсветила коричневую желтизну материнской кожи, которая, судя по Лешкиной бледной груди, от природы смуглой не была.
– Ты че, мам, какой из меня бизнесмен? – проговорил он, двигая кадыком, словно желая проглотить каждое слово.
– А никто не знает! – мать впервые повысила голос, и слова ее очень хорошо дошли через стену. – А никто не знает, сына, кем ты еще станешь. Я ж тебя в восемьдесят девятом родила. Я посчитала, что к две тысячи девятнадцатому ты станешь бизнесменом.
– Ты че, мам? У меня же образования нет… – сказал Лешка, косо глядя в стену. А женщина теперь смотрела на него, сверлила его прямо глазами, и вид у ней был, как у торговки, которую хотят обмануть.
– А ты верь, сына, – она потянулась к сыну рукой, но, дойдя до Лешкиной рюмки, остановилась и положила руку на стол, а по столу прошло дребезжание бутылок – уже не слабое, не просительное, но как бы говорящее: «Не трогай. Мое».
Лешка посмотрел на материнскую руку – широкую, смуглую. На кольцо, впившееся в материн палец – некрасивое, с тусклой овальной серединой. Поднял глаза к ее шее, где в складках пряталась тонкая цепочка. Женщина оторвала зад от табурета, навалилась на стол обеими руками, отчего у нее на запястье вздулись рыхлые вены, пристально посмотрела Лешке в лицо. Смотрела долго, сощурившись и с усмешкой мотая головой, будто говоря: «Кого ты хочешь обмануть?» Лешка задвигал кадыком, сглотнул. Сглотнул еще раз. Мать оторвала руки от стола, взяла бутылку за пузо и налила – сначала Лешке, потом себе.
– Сглотни, сына, – сказала она. – Я же слова этой бабки двадцать три года с собой проносила. Чего только я не пережила, сына. Рассказать тебе – нет, пожалею тебя. Не знай, не знай, какую твоя мать жизнь несправедливую прожила. Не буду я этот камень на тебя вешать. Сама понесу. А я же, как жизнь совсем прижмет, притиснет к краю, сразу бабкины слова вспоминала – сын мой станет бизнесменом, сам меня найдет. И так сразу – тю-ю-ю… – она снова провела рукой гладко по воздуху, – сразу все, что всколыхнулось, успокоится. В норму придет. И я снова готова терпеть. Терпеть и ждать… А потом думаю – чего ждать? Тридцать лет – срок. А я ж не знаю, сына, сколько мне еще осталась.
– Ты че, мам? Ты еще молодая, – пробубнил Лешка.
Они помолчали. Мать отпила еще. Лешка выпил за ней следом. Поджав губы, мать покрутила рюмку в пальцах, глядя в нее так, словно в остатках водки читала всю свою жизнь.
– А то, что я тебя тогда в подъезде оставила, так это я тебе добра желала, – давящим шепотом заговорила она. – Дома-то вот ни кусочка ничего не было, – она отмерила большим пальцем кончик указательного. – А ты еще спасибо мне скажи, что аборт не сделала. Я ж тебя убить могла, а не убила…
Она смотрела на Лешку сощурившись, почти с вызовом. Лешка всхлипнул и порывисто крутанулся на табурете к стене, взломав локти над головой, обхватив теплыми ладонями затылок, как будто построив над собой прочную крышу.
– Ой, сыночка, – запричитала женщина, – ты только не плачь, только бы слезок мне твоих не видеть.
Она встала и твердым шагом, от которого заскрипел линолеум, пошла к Лешке. Со словами «Дай я тебя приголублю» схватила Лешкину голову растопыренными пальцами, как берут вазу с водой, и прижала к своему животу. Лешкина голова провалилась в мягкий живот, отодвигая собой материны внутренние органы, и заняла там место, как будто давно приготовленное для него и подходящее по размеру тютелька в тютельку, словно заранее с его головы были сняты мерки.
Анюта подскочила, но осталась сидеть на диване. И уши ее, и щеки горели, пока она слушала всхлипы, доносящиеся из кухни.
Вжимая в себя голову сына, женщина стояла, будто изваянная из меди, с высоко поднятой головой. А Лешка слушал материно дыхание, дышал ее животом – кислым и мягким. Сначала он сдерживал всхлипы, потом перестал.
– А то, что я тебя оставила тогда, так ты никого не слушай, сына, – заговорила она, из уголков ее глаз вышли две слезы, недостаточно крупные, чтобы скатиться по щеке. Слезы застряли в морщинах у глаз. Мать вытерла нос тыльной стороной ладони, шмыгнула. – Ты еще не знаешь, сына, какие матери бывают. На холоде детей бросают. Убивают, душат. А я же, сына, как тебе полтора годика исполнилось, пособие на тебя перестала получить. Пошла в кассу, последнее получила и в тот же день от безысходности отвела тебя в тот подъезд. Как сегодня помню, – она запрокинула голову, продолжая держать Лешку за виски. Улыбнулась, приветствуя какое-то видение из далекого прошлого. – Помнишь, голубая курточка на тебе была и коричневые штанишки, – полузакрыв глаза, она качала головой и улыбалась горько-сладкой улыбкой. – Не помнишь? А я помню, сына, еще как помню. Сколько дней и ночей потом мне слезы глаза застилали, и ты маленький в этой курточке все… маячил. А я не сразу ушла, сына. Я ж спряталась там под лестницей, подождала. А ты стоишь, маленький такой, и плачешь беззвучно…
Плечи Лешки напряглись – он насильно прервал всхлип. Открыв рот, он дышал запахом матери – сначала кислым на поверхности, а потом каким-то другим – глубоким, желтым, похожим на аромат моченых яблок. Он хотел отстранить голову, вытащить ее из живота, но мать погладила его по волосам, и по хребту Лешки прошла дрожащая волна.
– Тю-у-у, – потянул он.
– А то, что тебе будут говорить, так ты не слушай, – снова заговорила мать. – Осень была, тепло еще было, и подъезд я выбрала теплый на кодовом замке… Сколько раз меня, сына, жизнь припирала. Столько всего я в этой жизни перенесла, что ни одна святая, может быть, такого не испытывала. Но я, как за ниточку, за тебя держалась. Как за ниточку путеводную. А потом, как эта история с цыганами вышла, так я…
До Лешки голос матери доходил из глубины и темноты, будто это органы ее говорили. Слова шмякались в живот, как куски горячего сала.
– А ты никого не слушай, сына, – сказала мать. – Пусть они языками своими говорят, а ты одно знай – не было такого, чтоб я, мать родная сыну родному… чтоб судить меня. Вот такая вот моя исповедь перед тобой. А те, кто судят, пусть они сначала вовнутрь себя заглянут. А ты суди меня, сына, ты суди, потому что виновата я перед тобой. Бог простит, и ты прости.
– Я ж это… ма, я ж тоже ждал тебя, – проговорил Лешка слюняво и глухо, и губы его всосали ткань материнской футболки, а когда она отняла голову сына от себя, на ее животе остались мокрые разводы.
Анюта решительно встала с дивана, вдела ноги в шерстяные тапки и пошла в кухню, ступая твердо и шумно, словно собиралась на скандал.
– А вот и Анюта пришла, – мать обернулась на Анюту. – Садись, садись, – заворковала она, выдвигая из-под стола еще одну табуретку и как бы приглашая Аню.
Анюта села. Мать пододвинула к ней полную рюмку. Анюта взяла рюмку, опрокинула и потянулась еще за бутылкой, воровато поглядывая на мать.
– Еще? – хлебно спросила та. – Так давай я тебе, Анюточка, сейчас налью. Давай поухаживаю за тобой.Мать спала на диване. Лешка тоже – в кухне на дерматиновом уголке.
Мутными глазами Анюта обвела стол. На тарелке – остатки нарезанной колбасы и сыра с заветренными краями. Из-под тарелки торчало несколько сторублевок. Анюта потянулась за ними и спрятала в карман. Постояла еще, глядя на колбасу. Тихо жирно выругалась и сама вздрогнула, опустила глаза, сжалась, как если бы ее в этой кухне не было и сказала эти слова не она.
Из открытого рта Лешки повисла слюна. Анюта выпустила отрыжку, которая прошла рвотной волной по всей кухне.
– Вот че за человек такой? – тихо и с сожалением спросила она.
Свет падал выше Лешкиной головы. Его приоткрытый рот казался глубокой дыркой, и, глядя в ее темноту, можно было подумать, что Лешка пустой.
Анюта взяла пустую бутылку со стола. На дне еще болталась водка – пронзительно прозрачная. Аня потрясла бутылкой над рюмкой. Несколько капель упали на стекло, поползли резко, как живые. Она опрокинула рюмку на язык, и, чмокая, начала высасывать из него горечь.
Вышла из кухни. Остановилась у зеркала, висящего в коридоре. Оно смотрело в противоположную стену. Свет, идущий из кухни, растворялся в полумраке коридора. Анюта заглянула в темное зеркало, как в Лешкин рот. Высунула язык. На языке сидело коричневое пятно, казалось, оставленное теми словами, которые она только что произнесла.
Анюта тихо, стараясь не скрипеть полами, прошла в комнату. Взяла со стенной полки псалтырь и, не удержавшись, обернулась на мать. Та спала, коротко похрапывая и завалившись на бок. Бесформенный ее живот утек вниз. Прижав псалтирь к груди, Анюта сощурились и зашевелила беззвучно губами. Со стороны можно было подумать – она причитает или проклинает.Анюта шла по улице Восьмого марта, по узкой кромке, отделявшей жилой дом от проезжей части. Мимо нее проносились машины, блестящие на солнце боками. Плечом она касалась шершавой штукатурки дома. От дома пахло тенью.
Большой зеленый супермаркет остался за спиной. Там же – вход в метро. И купол цирка – белый, ребристый, похожий на костяной остов большой рептилии.
Анюта шла и видела все – дома, людей и машины, но как бы на каком-то завихрении мысли переносилась в другое время – когда Аня была большой. Когда ногой могла попрать всю ширь пространства. Когда видела пространство выпуклым и многогранным. Когда в ней тяжелым яйцом билось большое сердце. Когда ноги были холодны, а голова – вертка. Когда вокруг была девственность. А Анюта была первой. Когда она была как бы младенцем с хвостом, чешуей и тонной мяса. И как бы ведала, что не повзрослеет никогда – потому что первые не стареют, ведь не знают, что жизнь кончается. Когда другие рептилии умирали вокруг, – но она не знала главного: что она – тоже рептилия. И потому умереть не боялась. И было это время, когда под ее тяжелой ногой дрожала земля. Когда твердокаменная голова поднималась на длинной шее, смотрела вдаль, но дали не было. Когда она видела свое отражение в озерах, блестящих на солнце водяными подносами, но не знала, что это – она. Когда она сама несла опасность. Тем, кто меньше нее. Когда ее саму окружала опасность – от тех, кто больше нее. Когда она не ведала жалости и никому не было жалко ее. Когда она, сотрясая ширь, убегала, нутром чуя: мир – это зло. А родивший его – не отец. Когда ведала, что мир есть добро, – глядя на тех, кого родила сама. Когда засыпала, не зная, что завтра будет. И каждое утро, просыпаясь, удивлялась, что она есть.
Пройдя Восьмое марта и поравнявшись с телебашней, Анюта сделала благостное лицо. Уже виднелись ворота Новотихвинского монастыря.
Время шло к закату.
От этого дня было чувство – время как бы вскользь по нему прошлось. Только он все равно еще не закончился. Но как бы чего теперь куда ни повернулось, все пойдет по-другому. Предчувствие какое-то в этом дне носилось. Неприятное.
По небу ползли скученные облака. И хотелось уйти с простора, забиться вглубь и ждать нового дня. Все вокруг было плоским и покатым, кроме белых башен Новотихвинского монастыря.
Калитка, вырезанная в цельном куске коричневого железа, была настежь открыта. Анюта остановилась в нескольких шагах от нее, перекрестилась и нагнулась, чтоб поклониться.
Нагнутая Анюта приподняла подбородок и посмотрела на лицо Христа над калиткой. В его позолоте мелькали первые признаки заката. И зачем-то Анюта стояла так, не распрямляясь, напрягая позвонки, с затвердевшим подбородком, без смирения, но с каменным горбом, точь-в-точь маленькая рептилия, не ведающая, чье лицо перед ней. Не ведающая, что у Бога есть Сын, а у Сына – Отец, просто смотрящая, чтоб по игре позолоты определить, когда солнце сядет.И за калиткой монастыря все выглядело покатым – как будто с земли можно было скатиться. Во дворе, усаженном розами, на скамейках сидели женщины в платках с благостными лицами.
Анюта зашла в церковную лавку. Христос в серебряной раме на полке встретил ее бесстрастным взглядом. К нему была прикреплена бумажка: «Господь – 1200 рублей».
– На что я тебя куплю, ты думал? – сказала Анюта про себя, глядя строго ему в глаза.
Она наклонилась к стеклу, под которым лежали золотые и серебряные крестики и цепочки. И еще амфорка в виде кулона для ношения святой воды на груди. С яркой красной крышечкой.
– Мне одну свечку за двадцать и ладан, – сказала Анюта продавщице, придыхая.
Продавщица так легко и проворно подала Анюте длинную тонкую свечку и пакетик с ладаном, будто ее под руки держали порхающие благодатные силы. Лицо у нее было постным и безжизненным, словно в ее желудке давно не было ни жиринки.
Анюта расплатилась взятыми на кухне деньгами и вышла из лавки. Остановилась на верхней ступеньке, раскрыла пакетик с ладаном и высыпала несколько горошин себе на ладонь. Они были похожи на мертвые яйца. Пахли терпко и постно.
Прямо напротив ступенек за ажурным столиком сидели монахини в черных рясах и покрывалах. Скамейки из свежего лакированного дерева были взяты в черные металлические рамы с гнутыми ножками. Одна из монахинь сидела к Анюте лицом – сцепив руки на столе и подавшись головой вперед. Вокруг росли розы и даже небольшие фруктовые деревца.
Шум города если и перелетал через белую каменную ограду, то особо далеко не шел. На зеленой площадке, усаженной цветами, непонятным образом чувствовалась осень. И если вспомнить лицо Христа над калиткой, то и оно о том же говорило – об осени.
И все жужжало вокруг, звенело как бы траве. Монахини молчали. Из их пальцев змеями ползли черные ниточные четки. И казалось, что все эти жужжания, шорохи и звон воздуха исходят от них. Как будто журчало и звенело под рясами.
За спиной Анюты краснела кирпичная стена. Арочная дуга обнимала головки окна. Их было как бы три окна – в одном. Дуговое центральное стояло на двух полукруглых столбцах. К нему с боков жались окна пониже, тоже дуговые. Окно было похоже на складень, где посередине – Христос, а по бокам – Мария и Николай Чудотворец.
Оконные дуги шли ступенчато – тремя рядами кладки, спускавшейся вовнутрь, к деревянной раме. Рамы делились перекладинами на десять прямоугольных окошек, и сверху на них сидело еще одно – сферическое. В пыльных окошках отражались монастырский двор и небо.
И вдруг солнце брызнуло в стекла, напоследок выдавливая из себя золотой осадок, скопившейся за день. Анюта расслабила подбородок, ее губы мягко открылись, выпуская кисло-сладкое дыхание. Она смотрела в стекла, как в телевизор. В каждом стекле была своя картинка, хотя все они смотрели на одно. Картинка удлинялась в глубину, выпячивалась, оживляя в потустороннем пространстве золотой клен, растущий напротив кирпичной стены. И сразу стало понятно, что уже девятый час.
Монахиня, сидевшая лицом к Анюте, поднялась и отправилась по дорожке, перекатывая под рясой плотный зад. Анюта спустилась с лестницы и пошла за ней на расстоянии.
Они вошли в церковь, которая своей тишиной, приглушенностью, иконами и подсвечниками как бы говорила: в какую церковь ни войдешь, она всегда будет одной и той же.
Монахиня прошла к гробовому ларю на красном бархатном постаменте. Коснулась его лбом. Анюта подошла и тоже коснулась лбом ларя. Под затягивающим его стеклом на темной ткани лежали косточки, похожие на просмоленные курительные трубки.
Монахиня отошла к стене и приложилась к иконе святого – с головой коричневой и треснутой, будто печеная картошка. Анюта потянулась за монахиней, все заглядывая ей в лицо, но не поворачивалась и держалась в тени.
Монахиня молилась. Анюта безмолвно стояла у нее за спиной. Наконец, та подошла к иконе Николая Чудотворца, под которой стояла застекленная деревянная шкатулка. Анюта пошла за ней. Приложившись к шкатулке, та повернулась и встала перед Анютой. Ее лоб был усыпан гнойными прыщиками. Анюта отстранилась от нее.
– Одна монахиня старенькая в Масленицу захотела поесть блинчиков, – ни с того ни с сего заговорила монахиня сильным молодым голосом. – Время было советское. Скудность. Блинов ей никто испечь не мог. Она по привычке начала молиться о блинах Иоанну Крестителю, покровителю монашества. Иоанн Креститель явился к ней во сне и говорит: «Что ты меня о блинах просишь? Я же в пустыне жил. Как блинчики выглядят, даже не знаю. Ты лучше Николая Чудотворца попроси. Он все время вас утешает и балует». А через несколько минут стук в дверь, – улыбнулась монахиня. – Пришла соседка с блинами. Говорит: «Блины пекла. И вдруг мысль так настойчиво – надо матушке отнести».
Анюта подошла к шкатулке. За стеклом лежала одинокая косточка, неотличимая от сгнившего корешка. Анюта поцеловала уголок стекла, не задевая середины, потому что посередине лоб монахини оставил жирный отпечаток, круглый, как блин.
Монахиня развернулась и подошла к иконе, за которой начиналась солея. Анюта двинулась за ней.
Икона стояла на деревянной подставке. Над ней на цепях висела круглая двухъярусная люстра с лампадками – красными, зелеными, синими, словно драгоценности в золотой короне.
Взглянув на икону, Анюта сильно вздрогнула.
Написанная краской женщина в монашеском платье как бы зависала в воздухе над монастырем с белыми башнями и зелеными куполами. И непонятно было – то ли женщина такая большая, то ли монастырь маленький. У нее было молодое лицо и брови темные, как у Анюты. Кожа смуглая, как у Анюты. В руке она держала длинную свечу. Анюта тоже держала такую. Щеки у нее были набухшие и румяные. Подбородок – острый. А во лбу, прикрытом черным покрывалом, горела точечка красная, издалека на яблоко похожая. И вся она – в целом если смотреть – пугала и отталкивала. Особенно ноги пугали – торчащие из-под подола острыми носками черных ботинок. Пугали тем, что упирались в воздух властно и торжествующе, и пощады быть не могло.
– Кто это? – шепотом спросила она монахиню.
– Божья Матерь в одеянии игуменьи, – ответила та, и ее голос раскатился во всю ширь. – Сестры ее писали с другой иконы. А когда ту икону вынули из оклада, увидели, что образ Богородицы на стекле отпечатался – лоб, нос, губы.
Монахиня перекрестилась.
Свеча в Анютиных пальцах нагрелась и согнулась, словно была живой. У Анюты в голове случилось завихрение, и ей захотелось сорваться с места, выбежать на солею и там потоптаться, попрыгать перед царскими вратами.
Богородица с иконы на свечу смотрела, будто знала, зачем Анюта пришла и о чем попросить хочет. Будто знала, зачем все приходят.
Желание выбежать на солею в Анюте окрепло. Даже в лицах святых виделись ей сообщники, которые не подначивали, но ждали. И Богородица в платье игуменском как бы тоже специально сюда прилетела и над монастырем повисла, чтобы посмотреть, как Анюта будет прыгать. Не потому, что им всем нравилось или хотелось, чтобы Анюта запрыгала на солее, а просто потому, что так должно было быть.
Монахиня снова перекрестилась, и Анюта за ней – через силу, будто не сложенными пальцами к себе прикасалась, а иголки втыкала. Заплакала и отошла к Христу – распятому на кресте и принимающему молитвы за мертвых. В квадратном подсвечнике со множеством лунок не горела ни одна свеча.
– Умер кто? – спокойно спросила монахиня.
– Да, – всхлипнула Анюта.
Монахиня коротко кивнула, опустила голову. Заспешила из храма.
Анюта осталась одна. Она хватала мягкими губами церковный сладковатый воздух. Ребра Христа натягивались под кожей. Чем-то похожие на белый каркас цирка. Анюта разрыдалась.
– За что они тебя? За что? – спросила сквозь всхлипы.
Успокоившись, она глубоко вздохнула, словно поняла – все правильно было. Она подняла руку, судорожно перекрестилась. Распрямила свечу. Поднесла головкой к лампаде. Кончик белой нити радостно загорелся. Анюта воткнула свечу в пустую лунку – поближе к Христу – и прошептала:
– Прими, Господи, душу рабы твоей Лешкиной матери, свекрови моей. И упокой.
Монастырский двор потемнел и опустел. Только все та же монахиня стояла у маленького деревца – яблоневого. Читала из черной книжицы, которую держала в руках перед собой. Казалось, она молится деревцу, – из-за того, что она странно голову держала – почти прямо, не сгибая шею, а книгу ни разу выше не подняла, чтоб глазам помочь.
Черное покрывало иногда поднималось за ее спиной от ветра и мягко хлопало концами. Казалось, когда темнота совсем зачернеет, а ветер подует сильней, монахиню поднимут бесовские силы. Она хлопнет черными крыльями, подлетит вверх и повиснет над бело-зеленым монастырем.
Анюта спустилась с лесенки, пошла по дорожке мимо скамеек. Они тоже были пусты. Дошла до закрытой калитки и загадала:
– Если калитка заперта на замок, меня без наказания не отпустят.
Она спокойно толкнула калитку, и та открылась без скрипа.Шелковая простыня съехала, и Анюта ворочалась на голом матрасе. Она то садилась и растирала холодные ступни, то снова ложилась.
Анюта перевернулась на живот, закряхтела. Укутала ноги одеялом. По всей ноге тянуло жилу, которая начиналась в животе, а заканчивалась в ступнях.
Встала и на согнутых ногах пошла в ванную.
Электрический свет с потолка грел кафель розовым теплом. Глянцевая ванна ослепляла белым. Анюта подставила руку под кран. Из крана потекла горячая вода. Анюта убрала руку, и вода прекратилась.
В белом шкафчике за стеклом кремы и лосьоны блестели золотыми головками. Из теплого зеркала на Анюту ласково и с состраданием смотрели ее же глаза. Она поморщилась, открыла рот в беззвучном стоне и отвернулась переждать судорогу.
Она пустила в ванну горячую воду. Струя вспенилась, ударившись о гладкое дно. Анюта залезла в ванну и стояла, пока вода размягчала и согревала ее маленькие стопы. Анюта села, заткнула отверстие в ванне прозрачной пробкой на золотой цепочке. И сидела, обнимая себя за плечи и раскачиваясь, пока вода не дошла до груди. Выключила воду. Тишина сделалась очевидной. Такой, какая бывает в квартирах, где живут семьями, и тишину всегда сопровождает ожидание – скоро кто-то придет.
Анюта поплакала. Зачерпнула пригоршню воды и умыла лицо. Ее длинные волосы расползлись по воде и сначала лежали на ее поверхности, потом намокли и упали, прилипнув к спине.
Анюта вдруг вскочила, подняв брызги воды, плеснувшие через бортик. На трясущихся ногах вышла из ванной. Сделала шаг к унитазу. Откинула крышку, плюхнулась на него скользким телом.
Натужилась. Закряхтела. Замерла. Выдохнула. Закрыла лицо руками и натужилась еще раз. Из заднего прохода с тихим свистом вышел вихрящийся воздух. Анюта еще посидела. Встала. Оторвала кусочек туалетной бумаги. Сунула ее между ног.
– Ай! – она отдернула руку, наткнувшуюся на что-то мягкое и теплое. Ее ноги, обхватывающие гладкие стенки унитаза, задрожали.
– Мамочки… – выдохнула она, глядя в наполненную ванну так, словно на ее дне лежал покойник.
Потрогала пальцами то, что висело между ног. За секунды оно успело похолодеть.
– Мамочки… что это? – прошептала Анюта.
Сделала глубокий вдох, задержала дыхание и потянула несильно. Оно на чем-то держалось. Она пошла по нему пальцами вверх, нащупала влажную нитку, идущую из промежности. Обхватила ее клочком туалетной бумаги, надула ноздри, сделала решительное лицо и дернула. Подставила другую руку и поймала оторванное. Выдохнула.
Что-то мягко опустилось на ладонь и как бы обняло ее. Анюта подняла руку, чтобы посмотреть. На ладони лежало уродливое, похожее на внутренний орган. Студенистое, как желе, сваренное из крови.
Анюта брезгливо дернулась. Обвела глазами чистую ванную. Глянцевый кафель на полу. Белые полочки. Гладкие бортики ванны. Все сияло чистотой.
Она отстранилась от унитаза. По его стенкам растекалась свежая кровь. Анюта занесла руку над унитазом. Накренила ее. Оно не падало, успев присосаться к ладони. Накренила сильней. Встряхнула.
Оно упало в темную воду. Дрожащей рукой Анюта потянулась к кнопке смыва и, пристально глядя внутрь слива, нажала.
Вода вырвалась из бачка с напором, вспенилась, на миг приподнимая выброшенное. Оно приблизилось, и Анюта его снова увидела. Унитаз заревел, глотая. Вода бросилась в слив.
Анюта поднесла к лицу покрасневшую от крови ладонь. Сунула ее под кран.
Унитазный бачок журчал, наполняясь водой.– Мать где? – Яга подобрала ноги и воткнула подбородок между колен.
– В бане, – точечными движениями Светка оттирала фосфорные пятна со стола.
– Давно? – спросила Яга.
– Уже час как ушла, – Светка покосилась на часы над дверью.
– Че-то долго, – сказала Яга. – Олег больше не приходил?
– Нет.
– Сама к нему сходи, – сказала Яга проникновенно.
Светка перестала тереть. Яга, оттянув уголки рта, продолжала критически изучать пальцы ног.
– Зачем мне к нему ходить? – спросила Светка. – Между нами все кончено.
– Иди, блядь, к Олегу. К Олегу иди, – через нос заныла Яга.
– Че ты меня к нему тойкаешь? Вот че ты меня тойкаешь?
Яга подняла на Светку узкие голубые щелки, раздула ноздри, сжала губы зло.
– Тебе же лучше будет, – сказала почти с угрозой.
– Он меня избий! – крикнула Светка, опершись рукой на тряпку, прижатую к столу. – Избий!
– Слова правильно говори! – прикрикнула Яга. – Ты че такая тупая, блядь? Сейчас мать услышит, догадается, что ты опять вмазывалась. Ты о матери подумала?!
– Ты сама когда о матери думайа? – Светка тоже повысила голос. – Раньше надо быйо о матери думать!
– Я всегда, блядь, думала! – Яга опустила ноги. – Вот так, блядь, всю жизнь тут просидела в этом, блядь, курятнике, замуж, блядь, ни хуя не вышла, только, блядь, о матери и думала.
– Кто тебя держай? Вечно на мать свои неудачи списываешь.
– А кто мне говорил: за этого не выходи, он – нищий?! За того не выходи – нищий?! Че-то Валерка сейчас на «Шевроле Крузе» ездит. А я тут, блядь, сижу, потому что мать слушала. И нахуй я теперь Валерке не нужна. На улице встретит, не узнает. Как опустилась я! Еб вашу мать. Докатилась, бля, до этих таблеток позорных! Вообще, блядь!
Светка подошла к раковине, включила воду, прополоскала тряпку под струей, хорошенько выжала ее двумя руками и вернулась к столу. Яга наблюдала за ее движениями тяжелым тупым взглядом, как за мухой, ползающей по столу.
– Че, ты пойдешь к Олегу или нет? – низким голосом спросила она.
– Ийи нет! – голос Светки прошила истеричная нота.
– А че ты, блядь, делать будешь, если к Олегу не пойдешь? – растягивая слова, с интересом спросила Яга.
– Я все знаю, зачем ты меня к Ойегу гонишь! – визгнула Светка.
– Ну че, блядь, если ты такая всезнайка, скажи мне тоже. Удиви меня, блядь.
– Есйи б мать умейа, ты бы тойко рада быйа! Меня к Ойегу спихнешь, мать – в могийу, а сама тут хозяйка, со своим Ванькой, да?
– Ты базар свой отключи нафиг!
– За дурочку меня держишь! Думаешь, я ничего не понимаю?
– Иди работай, если понимаешь!
– Оставь меня в покое. Не бойся, мне ничего от тебя не надо.
– А че ты такая, если не надо, сегодня вставлялась?
– Больше не попрошу, себе оставь.
– Кто тебе даст, даже если попросишь?
– А кто возьмет?
– Я посмотрю, как ты не возьмешь.
– Посмотри, посмотри.
– Я посмотрю.
– Давай смотри.
– Че ты самая борзая стала, да? Че распелась? Мать дома, осмелела? Овца тупорылая.
– Сама ты овца.
– Я тебе за овцу пасть порву.
– Давай.
– Сейчас дам.
– Ну, давай. Че ты пугаешь. Давай.
– Сказала, сейчас дам. Сейчас так, блядь, дам. Полетишь, блядь, отсюда верх тормашками, полетишь.
– Ну, давай.
– Ов-ца. Веди себя по-человечески. Ты слышишь, овца?
Яга бубнила, сидя на табуретке, злыми глазами прилипнув к Светкиному животу. Светка терла стол нервно, короткими штрихами.
– Я – не овца! – Светка вдруг выпрямилась и кинула в Ягу тряпкой.
Попала ей в лицо. Яга лениво дернулась. Застыла, тупо глядя на Светку, и, казалось, раздумывая, отрываться ей от табурета или нет. Светка часто моргала, ее пустые красные руки прижимались к плоскому животу.
Поднимаясь, Яга медленно загребла рукой назад. И хотя двигалась медленно, ее движения с такой силой рассекали воздух, что злости в них и энергии было больше, чем в резком прыжке. Светка отступила на шаг. Яга толкнула ее в плоскую грудь. Светка качнулась.
– Ты че? – крикнула она и ткнула Ягу в ответ.
Яга ударила Светку в живот – прямыми твердыми пальцами. Светка визгнула и вцепилась Яге в волосы. Яга мотнула головой, сбрасывая Светкины пальцы, ухватила хвост на ее затылке, дернула, словно хотела оторвать Светке голову, а потом запустила обе руки в волосы на ее висках.
Светка упала спиной на стол, выгнулась. Яга навалилась на нее. Светка подняла коленку и ударила Ягу в твердый живот. Яга шумно выдохнула, сопя, приподняла Светкину голову и опустила ее на стол с глухим стуком.
– Мамочка! – Светка влажной теплой ладонью оттолкнула лицо Яги от себя.
На нем проступило противное, злое, почти мужское выражение. Яга раздувала ноздри, на подбородке под кожей проступила железная шишка. Яга сопела. Светка шлепала ее по лицу. Яга мотала головой, отбрасывая влажные шлепки. Ее пружинистые волосы рассыпались.
– Овца, бля, – выдохнула Яга и схватила Светку за шею.
Светка шмыгнула носом и закричала:
– Пусти!
Яга засопела громче, злоба с лица ушла, уступив место интересу. Светка снова закричала. А Яга только приникла к ней ближе, давя руками сильнее, словно хотела поскорее закончить дело, которое началось, когда она не по своей воле встала с табуретки.
Светка гибко изогнулась. Оскалилась, натянув тонкие губы над желтоватыми зубами, и впилась Яге в руку, почти у сгиба, там, где мясо было рыхлым, как вата. Прикусила.
– Блядь! – взвизгнула Яга и сбросила Светку на пол. На толстой коже Яги проступил зубатый круг.
Светка, скрючившись, дергала одной ногой и собакой скалилась на Ягу. Яга обошла Светку, прицеливаясь.
– Мама… – заскулила Светка.
Дверь открылась, и на пороге встала распаренная мать с красными пятнами на щеках. Тонкие кольца мокрых волос с затылка липли ей шею. Запахло водой из кадушки и березовым веником. Яга обернулась.
– Марина… Марина, – мать позвала с надрывом, будто они были в лесу – ломали березы, а Яга заблудилась, но отошла недалеко, и материн голос ей был еще слышен.
– Она первая начала, – моргнула Яга и спрятала от матери лицо. – Она тряпкой в меня вообще кинула. Я тут сидела, никого не трогала. Вообще…
Светка заплакала громко, задыхаясь.
– Доченька, – сказала мать и повторила снова издалека: – До… чень… ка…Яга лежала вытянувшись, задевая ступнями спинку узкой кровати. В комнате было темно. У соседей через двор свет уже не горел. От обоев, которые при свете дня были голубыми, отходила синеватая дымка.
На кровати, стоящей у другой стены, скрючилась Светка. Яга могла протянуть руку и дотронуться до ее ног.
По дороге за домом проехала машина. Судя по звуку, прошла медленно и осторожно – то ли объезжала лужу, то ли водитель полуспал. Свет фар прошел по стене, высветив звезды, наклеенные поверх обоев. Яга проследила за ним глазами: свет двигался медленно и вязко, потом оборвался.
– Светка… – позвала Яга негромко.
Светка не пошевелилась.
– Свет… – снова позвала Яга.
– Че? – грубо отозвалась Светка.
– Замуж тебе надо выйти, вот че, – сказала Яга примирительно.
– Ага, – хрипло отозвалась Светка. – Кому я нужна?
– Слышь че, – Яга приподнялась на локте и уставилась на Светкину спину. – Слышь че, тебе в порядок надо себя привести.
– Чтоб в порядок себя привести, деньги нужны, – огрызнулась Светка.
– Че ты, Свет? – хрипло заворковала Яга. – У тебя же внешность, как у модели.
– А сколько мне лет, ты забыла?
– Теть Анина дочка в тридцать один замуж вышла. Ты видела, на какой машине ее муж возит?
– Ты откуда видела?
– Я, короче, возле «Гринвича» стояла, они за продуктами такие подъехали, – зачастила Яга горячим шепотом. – Меня, короче, не узнали, мимо прошли.
– Мать говорила, они еще на Кипр отдыхать ездили, – отозвалась Светка, тоном давая понять, что ввязывается в разговор.
Они помолчали. Яга смотрела на звезды и улыбалась.
– Свет… – позвала Яга.
– Че? – отозвалась Светка.
– А я ж на море ни разу не была, – мечтательно сказала Яга.
– А-то я была.
– Может, поедем, Свет?
– На какие шиши? – грубо спросила Светка, и Яга замолчала.
Яга смотрела, смотрела на звезды, наконечники которых временами поблескивали, хотя за окном не горело ни одного фонаря, и небо тоже было темным.
– Только знаешь че, Свет? – снова заговорила она. – Я ночью на море купаться не пойду. Ночью вода страшная. Еще утянет кто-нибудь за ногу. Боюсь я…
Светка промолчала.
– Свет… – с мягкой хрипотцой позвала Яга и подождала. – Свет…
– Ну че еще?
– А я ж решила… – сказала Яга и снова подождала, глядя на Светкину спину и по ней проверяя эффект, произведенный словами.
– Ну че ты решила? – не выдержала Светка.
– Короче, я обратно на заправку пойду работать…
– Кто тебя возьмет? – Светка усмехнулась в стену.
– Ты че, дура, что ли? – забасила Яга. – Фадик ко мне вчера такой, короче, подходит, говорит: «Про тебя Глеб Борисович спрашивал». Я же там какие продажи делала. Я же этот… дипломированный сотрудник.
– Че ты этому Фадику веришь? Он же сам на тебя стукнул, что ты на работе вмазываешься, – сказала Светка.
– Свет, ты че, блядь! – обиженно сказала Яга. – Я тебе говорю, Глеб Борисович спрашивал про меня. Делюсь с тобой. А ты мне – бу-бу, бу-бу. Я че, сама не знаю про Фадика все?
Светка замолчала. А Яга, приподнявшись на локте, тянула шею и смотрела обиженно.
– И ты пойдешь? – наконец спросила Светка.
– Пойду, – кивнула Яга.
– Когда пойдешь?
– Завтра, как встану, так и пойду.
– Че, правда, что ли? – Светка повернулась к Яге.
Яга надувала щеки и одновременно улыбалась. Темнота замазывала одутловатости на ее лице, складки на длинной шее. Темнота как будто расчесала и уложила патлатые волосы Яги.
– Конечно, правда, – ответила Яга. – Помнишь, я еще за два дня восемь тысяч сделала.
– Помню, – отозвалась Светка.
– Еще сумку за семь пятьсот купила себе, помнишь?
– Помню.
– В «Заре». Потом еще на нее скидки были.
– У Алинки такая же.
– Че за Алинка?
– Олега двоюродная сестра.
– Да мы себе таких сумок купим – ни одна Алинка с нами рядом не стояла… Свет?
– Че?
– Я тебе сумку куплю.
– Че, правда, что ли?
– Оденем тебя, Свет. Че всякие лохушки лучше нас одеваются. У нас от природы фигуры. Нам повезло, Свет.
– Да, – сказала Светка.
– Жилетку кожаную тебе купим. Ты же хотела жилетку кожаную, – сказала Яга.
– Это когда было – сто лет назад. Сейчас жилетки не в моде.
– Мы тебе то, что в моде, купим. И телефон.
– Сенсорный?
– А какой еще?! Сенсорный, конечно…
– Еще я видела на одной такую юбку типа брюки широкую. Ее с майкой надо носить.
– Короче, мы тебе купим такую юбку. Еще знаешь че сделаем?
– Че?
– На море поедем. В Турцию. Или в Сочи.
– Лучше в Турцию. Там иностранцев много. Замуж можно выйти.
– Короче, в Турцию поедем, – согласилась Яга. – Я еще в одном журнале смотрела, там можно это… как его… бля-я-ядь, слово забыла… А, во, бунгало целое можно снять.
– А ты правда пойдешь завтра на заправку?
– Ты че, Свет? Я же сказала. Я еще Фадику сказала – короче, ждите меня, я приду.
– С утра пойдешь?
– С утра, как встану, пойду.
Светка улыбалась. Яга смотрела на нее и улыбалась тоже.Яга щупала мясо – плечи, локти, бока, ноги. Оно слоилось, отделялось от костей и болело, как разодранная скотина на прилавке. Болело не на руках, ногах и плечах, а в красной точке в голове, укрытой жирным мозгом.
Яга поковыряла лоб. Двинула ногой и заковыляла в сторону заправки.
Дождь пошел мелкий – капли с иголочную головку. Все та же черная лужа не рябилась, не вздрагивала и скорее сама сотрясала сброшенные с неба капли, чем сотрясалась ими. Яга ковыляла по вспаханной машинами дороге без асфальта. От волос, усыпанных нелопнувшими каплями, запахло перхотью.
Одна нога хорошо гнулась, а другую, прямую как палка, Яга с трудом отрывала от земли.
В конце улицы Яга свернула влево на асфальт и пошла – руки в карманы. На запястье у нее болтался потертый пакет с нарисованными желто-красными розами и надписью «Райский сад». Мимо проносились машины, но асфальт еще не был мокрым. Яга приостановилась, потому что отчетливо увидела, как мелкие, с иголочную головку капли проходят по черным затвердевшим лабиринтам желобков асфальта, спотыкаются, растекаются, разбиваются, но какие-то, может, доходят целыми до земли. А закатанная земля чмокает, влажно всасывает. Яга замерла на пустом тротуаре, засосала воздух, зачмокала. А потом стала скрести руку ногтями, как будто сдирая с себя что-то твердое. На руке появились царапины. Яга встряхнула рукой и даже отступила, словно боясь испачкать ноги тем, что могло посыпаться с руки.
Уже было слышно, как дождь барабанит по гладкой крыше заправки. Мелкие капли стали крупными. На темени у Яги, в непромокаемых волосах собралось озеро. Она подняла руку, тронула макушку, и озеро заструилось по шее, за воротник.
Возле самой заправки Яга замедлила шаг. Заправка была большой и такой блестящей, что ее бликующая серым крыша даже без солнца отражала дождливое небо и безлюдье. Яга приостановилась, пропуская машину, шорох которой послышался по асфальту сзади. Но машины не было – это шумела от дождя молодая листва на деревьях, растущих у трассы.
Резиновые рукава изгибались на синих бензоколонках. Яга почмокала мокрыми губами, как будто высасывая из них бензин на расстоянии.
На заправке было пусто. Крупный дождь перестал, только редко какая-нибудь тяжелая капля из любопытства бросалась с неба головой вниз и разбивалась о железную гладкую крышу, заставляя ее гудеть. Сзади наплывал шелест, будто за спиной – синее море, пеной подбирающееся к заправке.
Яга, виляя задом, пошла к колонкам. Она высоко поднимала пятки, словно боялась замочить ноги. Зеркальное окошко будки опрокинулось. Из проема выглянули большой нос и глаз, густо поросший бровью. Яга сделала еще несколько шагов. Окошко нервно захлопнулось, и пока оно поднималось, вместе с ним поднималось отражение асфальта, деревьев и колонок.
Из будки выскочил Фадик – на коротких кривых ногах, обтянутых вареными джинсами, в куртке с меховым воротником и красной кепке.
– Ты че, русского языка совсем не понимаешь, да? – крикнул он.
Яга отступила на шаг.
– Давай, пошла отсюда. Пошла! – крикнул Фадик харкающим голосом и махнул рукой.
– Че ты, Фадик, – обиженно сказала Яга. – Че, тебе пол-литра жалко?
– Бля, задолбала! Тебе когда сказали – дорогу сюда забудь! Пошла отсюда, давай двигай!
Фадик дернул толстой шеей вбок, красная кепка на миг прижалась к плечу и резко встала на место. Он фыркнул и еще раз размял шею. Глаз от Яги не отрывал.
– Че, тебе пол-литра жалко? – тише повторила Яга и отступила еще на шаг.
– Я твой дом труба шатал! – заорал Фадик, фыркая. – Ноги тебе поломаю, еще раз здесь увижу! Еще близко сюда подойди, пизду порву!
– Че ты, Фадик… – еще тише сказала Яга.
– Пошла отсюда! – Фадик подпрыгнул и, завалившись коротким туловищем набок, прижав ухо к плечу, поднял одну ногу, согнул ее и резко выпрямил в сторону Яги, задев кроссовкой ее куртку.
Яга отскочила.
– Ты че, Фадик? – заплакала она. – Куртку мне новую испортил. Я же тебя на эту заправку привела. Че ты мне даже спасибо не сказал.
– Пошла на хуй отсюда! Порву! – заорал Фадик, и Яга, вжав голову в плечи, затрусила в сторону деревьев.
Фадик развернулся, сунул руки в карманы джинсов, встряхнул курткой на плечах и, раскачивая квадратными плечами, вразвалку пошел к будке.
Яга дошла до деревьев, растущих на обочине, и спряталась за одним, прилипнув к нему боком. Джинсы намокли, и постепенно она начала ощущать бедром глубокие узоры на сырой коре.
Устав, Яга переступила с ноги на ногу, оторвав бедро от ствола. Теперь она прижималась к дереву правой стороной груди. И сердце сразу стало стучать. Яга застыла надолго, как будто тоже стала деревом. Она пристально следила за пустой молчаливой заправкой.
Скоро она услышала, как стучат другие деревья, будто на них сидят дятлы, – но птиц не было.
Яга встрепенулась. Темно-синяя машина притормозила у заправки. Из нее вышел мужчина – высокий и стройный. В светло-розовой рубашке.
– Светке бы такого, – сказала Яга и, сорвавшись с места, как птица с дерева, понеслась, на ходу вынимая мятую пластиковую бутылку из пакета.
– Мужчина! – хрипло закричала она, подбегая. – Мужчина!
Мужчина бросил короткий взгляд через плечо и снова повернулся к колонке. В руках он держал рукав шланга.
– Мужчина! – Яга схватила его за рукав рубашки. – Не бойтесь, мужчина, у меня руки чистые, это грязь въелась, я на огороде работала.
Мужчина, не оборачиваясь, стряхнул руку Яги.
– Дай пол-литра, – Яга приподняла бутылку и потрясла ею в воздухе.
Дверь будки хлопнула, из нее выскочил красноголовый Фадик.
– Пошла отсюда!
Добежав до Яги, он притормозил и еще сделал пробежку на одном месте, как будто стоял на беговой дорожке или танцевал.
– Эти попрошайки надоели уже, покоя от них вообще нет. Простите, пожалуйста, – обратился он к мужчине, приложив руку к груди.
– А че, жалко? – спросил мужчина. – Налей ей бутылку.
– Да она попрошайка позорная! – обиженно сказал Фадик. – Им всем давать, они отсюда не уйдут никогда. Облепили, как мед.
– Налей ей за мой счет, – сказал мужчина.
Яга протянула бутылку Фадику. Фадик цыкнул, вырвал у нее из рук бутылку и пошел в будку, бубня какие-то нерусские клацающие слова.
– Мужчина, вы только не уходите, пока он мне не нальет, – жеманно сказала Яга. Она поправила волосы, укусила губу и похабно улыбнулась. – Я в солярии была, поэтому такая опухшая.
Мужчина залил бензин в бак, повесил шланг, открыл дверцу машины, вставшую между ним и Ягой. Он замешкался, как будто не нарочно, Яга увидела свое отражение в стекле и отражение деревьев за своей спиной и отшатнулась. Стекло сплющило ее лицо, и оно выглядело пластиковой маской, вздутой и деформированной, с нахлобученным на нее свалявшимся париком. Деревья отражались зелеными, красивыми, шевелились.
Фадик вышел из будки. В вытянутой руке он нес бутылку, полную желтой жидкости. Раздувая ноздри, он коротким движением, похожим на удар, протянул бутылку Яге. Она поспешно схватила ее и сунула в пакет.
– Чтоб я тебя тут больше не видел, – процедил Фадик и, повернувшись к мужчине, снова прижал руку к груди в извиняющемся жесте.
– Мужчина, спасибо, – сказала Яга, растягивая слова.
Мужчина, повернувшись к ней виском, сплюнул в сторону, пружинисто сел в машину.
Яга заспешила и, пока машина выезжала со стоянки, дошла до деревьев и спряталась за ними так, чтобы Фадику, следившему за ней из-под кепки, было ее не видно.Тучи впереди висели над дорогой, похожие на снега Антарктики. Яга шла по городу. Высотные здания постепенно закрывали тучи или даже разбивали их. Темные стекла, одетые в крепкий простой бетон, отражали индустриальное небо, а снизу – машины, идущие на размеренной скорости. Зеркальный город поглощал все пространство, но от этого в нем только удваивалась пустота.
Яга прошла несколько кофеен, заглядывая в широкие окна. Увидела в них сначала себя, а потом углубилась в шоколадную мякоть затемненных помещений с диванами и столиками. Яга подошла к одному из окон и остановилась. Уставилась. За столиком возле окна сидела девушка с гладкими, разделенными ровным пробором волосами, ела изогнутую булочку с рассыпчатой начинкой. Отпивала из высокой чашки маленькими глотками. Смотрела в ноутбук с белым яблоком на крышке.
Яга дотронулась до стекла. Темное, оно очень хорошо отражало. Можно было смотреть на себя, а можно – углубляться в девушку. Девушка только один раз подняла на нее глаза и сразу отвернулась. А Яга не уходила – стояла, улыбалась. Ползала глазами по лицу этой девушки, как муха. Девушка перестала пить, выпрямилась и напряженно смотрела в одну точку на ноутбуке.
Яга приложила руки ко рту рупором и мягко врезалась коленками в стекло.
– Мать мне тоже сказала: «У всех дети как дети. Ноутбуки родителям покупают», – грустно сказала она в стекло. – А мне родители ничего не дали – училище закончила, и все. Продавец я. Хороший. И вот как бы не знаю… Мать на нас всяко шипит – вы неудачницы, у всех вот… А я считаю, это она нас на ноги не поставила, – вдумчиво и сердечно сказала Яга. – Хотя не знаю… У нас сестры в деревне жили, приехали, нашли богатых женихов, сейчас на джипах ездят… Хер его знает, кому какая судьба или че… Когда человек рождается, у него уже на ладони все написано – вся судьба. А Светка говорит, когда человек рождается, судьба у него уже на шее висит. Битву экстрасенсов вы не смотрите? – спросила Яга и подождала.
Девушка сидела прямая, как палка.
– Пойду я на хуй тогда. На хуй пойду… – сказала Яга и пошла дальше.В подъезде, куда вошла Яга, пахло плесенью и мышами. Вздутая пупырышками краска на стенах осыпалась. Яга подошла и поковыряла пальцем. Из-под краски хлопьями повалилась известка. Яга поковыряла еще в одном пупырышке, раздирая слой разбухшей от зимней сырости, но уже высохшей известки. Здесь ее было больше, и она сухим снегом сыпалась на ноги.
Яга приблизилась к почтовым ящикам и быстро заглянула в открытые, громко хлопая железными дверцами. Звон тонкого железа разрезал тишину подъезда. Лестничные перила завибрировали, Яга засмеялась и мыслью метнулась по лестнице вверх – к салеевской двери.
Когда лестница успокоилась, Яга поставила на ступеньку одну ногу, вздохнула, подтянула вторую и заковыляла наверх.
На четвертом этаже вся лестничная клетка была пропитана тяжелым запахом бензина и тонким запахом чего-то еще, Яге хорошо знакомого.
Дойдя до светло-синей двери, выглядевшей в этом подъезде пятном непонятного происхождения, Яга прислушалась. Такого синего в природе не существовало. Как и того тонкого запаха, которым сейчас с наслаждением и страхом дышала Яга. Даже небо никогда не было таким синим, как эта дверь. Даже море не было никогда.
Яга негромко постучала. Из-за двери не донеслось ни шороха. Яга снова постучала и отстранилась, прислушиваясь с расстояния. Ждала и раскачивалась.
– Салеева… – наконец, хриплым шепотом позвала она. – Открывай. Это я.
За дверью что-то метнулось.
– Это я, – повторила Яга.
Дверь приоткрылась, потом открылась совсем, и на пороге возникла Салеева с топором в руках. За ее спиной висело клетчатое шерстяное одеяло, прожженное в нескольких местах. Салеева была в коротких грязно-белых шортах, облегающих смуглые атлетические ноги. На ее плечах, выглядывающих из широких лямок майки, сидели крупные пигментные пятна. Такие же рассыпались по всему облупленному носу. Льняные волосы были собраны в пучок на макушке и по сравнению со смуглой кожей казались совсем белыми.
– Нахуя тебе топор? – спросила Яга.
– Короче, Олег вчера приходил, стучал, я не открывала, он дверь сломал, она и так на соплях держалась, – низким голосом ответила Салеева.
Салеева пропустила Ягу. Яга переступила порог. Одеяло ударило ее по лицу, вбивая в кожу сырые споры плесени.
– И че, блядь? – спросила Яга.
– Ниче. Всю дозу взял, унес такой, – низко сказала Салеева и заморгала.
– Иди ты на хуй… – разинув рот, Яга уставилась на нее.
– Отвечаю.
Яга прошлась по коридору. Цементные стены без обоев были покрыты темными разводами. Ступая, Яга выжимала из синтетического паласа тухлую влагу. В углу возле кухни сидел белоснежный котенок.
– Топор тебе нахуя? – снова спросила она.
– Короче, дверь закрывать.
Салеева накинула топор на ручку двери, упирая его головкой в дверной косяк.
– Хило, – сказала наблюдавшая за ней Яга. – Короче, замок надо менять.
– Ага, – отозвалась Салеева.
– И че Олег? – спросила Яга.
– Пришел в самый такой момент – когда реакция шла, как будто знал. Мишу, короче, оттолкнул так по-хамски. Так все нагло взял, как будто для него варили, и ушел. Он же бухал всегда. Доза ему зачем?
– Его просто жаба давит, что без него колются, – сказала Яга.
– Пусть ему Светка скажет… – начала Салеева.
– Светка с ним больше не встречается, – отрезала Яга.
– Да ты че?
– Вчера такой пришел, меня попинал. Я, короче, с закупа шла, испугалась – таблетки отнимет. Потом Светку избил, по лицу ее ударил. Мать нашу оскорблял.
– Че про мать говорил?
– Что любовник у ней.
– Че, правда – любовник?
– Неправда.
– Вот че за человек такой?
– Похуй мне, – сказала Яга.
Яга прошла на кухню. Плита стояла остывшая. Кроме плиты, стола, мойки и кастрюли, в кухне больше ничего не было.
– И че Светка? – Салеева вошла следом за Ягой и встала посреди кухни, широко расставив ноги.
– Он, короче, прощения просил, – сказала Яга. – Такой борзый, сначала избил, потом еще прощения просит. Вообще…
– И че Светка?
– Че, блядь, Светка, – раздраженно сказала Яга. – Взяла, блядь, и вмазалась вчера.
– Да ты че-е-е? – протянула Салеева на низкой частоте.
– Да ниче…
Она сняла с кастрюли крышку. Кастрюля была пустой и неправдоподобно чистой.
– Яга, возьми котенка, – Салеева нагнулась, схватила белого котенка с пола и протянула Яге.
Котенок вытянул вперед лапы и откинулся назад, сопротивляясь. Яга тупо посмотрела в его голубые глаза.
– Мне не надо, – сварливо сказала она.
– Я тебе его принесу, – сказала Салеева. – У вас там огород. Будет в огороде бегать.
– Не надо, – повторила Яга.
– У вас свой дом, я принесу.
– Я не хочу котенка из подвала, – злобно сказала Яга.
– И че мне теперь делать? – заныла Салеева. – Взяла его, пожалела. Мне его кормить нечем. Он тут все равно сдохнет от этих запахов, – она снова протянула котенка Яге. – Возьми, мне некуда.
– А мне, блядь, есть куда! – прикрикнула Яга.
Котенок оттолкнулся задними лапами от груди Салеевой, извернулся в ее руках, спрыгнул и спрятался под столом.
– У него еще по ходу глисты, – хрипло сказала Яга.
– Я тебе скажу, у кого глисты, – Салеева понизила голос. – Короче, у Миши глисты. Кружечки за ним мойте, ага.
– Че, правда? – спросила Яга.
Салеева кивнула.
– Блядь, рассадник какой-то этот Миша. Тубик открытый, вич, еще глисты какие-то на хуй. Вообще… Нахуя ему глисты? Завел, блядь. Зверинец, блядь. Зоопарк ходячий, блядь. Еще молчит, блядь. Из общих кружечек пьет. Ебаный в рот этот Миша. Че, придет он или нет? Вариться будем?
– Он в комнате давно сидит, бензин ждет, – сказала Салеева.
– В комнате он такой борзый сидит, – снова завелась Яга. – Ждет он, блядь. Нет, чтоб жопу от дивана оторвать, самому за бензином сходить. Че я, блядь, одна хожу, как попрошайка, блядь. А все такие жадные, блядь. Че я одна, как эта… Я по прошлой колке не почувствовала, что ли, как он себе половину таблеток замышил? К Вадику, наверно, понес. Такой Миша – везде он Миша.
– Наркоман скатившийся, – поддержала Салеева.
– Миш-ша, – позвала Яга. – Миш-ша!
Яга вошла в комнату. Миша сидел в кресле, подперев голову рукой. В комнате находился еще один человек – молодой мужчина с широким лицом и бледной, ядовито сияющей кожей. Он сидел на диване и лениво обводил глазами разводы на ободранных стенах. В комнате воняло сырым паласом и клопами. От дивана приходил сладковатый запах мочи. На голой стене – той, что напротив дивана, – нацепленная ленточкой на гвоздик, висела спортивная медаль. Ее дешевую позолоту покрывали такие же пигментные пятна, как на носу и плечах у Салеевой.
Яга хотела что-то спросить у Миши, но обернулась и заметила в другом кресле девушку. Толстую, со вторым подбородком, раздутым, как коровье вымя. Она сидела, сложив короткие ручки на рыхлом животе, и щурилась. Ее кожу покрывал тонкий слой зеленки.
– Это еще че за хуйня? – спросила Яга.
– Это – Жаба. На ней по ходу инопланетяне высадились, – ответила Салеева у нее из-за плеча.
– Какие инопланетяне?
– Микроскопические, – девушка приоткрыла глаза-щелки и снова их закрыла.
– Вы прикалываетесь, что ли, надо мной? Че за инопланетяне? – басом переспросила Яга.
– По ходу с коллективным разумом, – сказала Салеева.
– Как у муравьев или пчел, – сонно проговорила девушка, снова приоткрыв глазки.
Яга пнула Мишино кресло.
– Ебаные в рот! – крикнула она. – Че тут? Пока я за бензином бегаю!
– Че ты орешь? – повысила голос Салеева, уперев мускулистые руки в бока. – Че распелась, не видишь, балкон открытый? Сейчас менты нас тут всех примут, будешь орать! Сейчас на хуй уйдешь отсюда, сама будешь вариться!
– Че, блядь, все нервные такие, – сбавила тон Яга.
– Да, нервные, блядь, – кивнула Салеева.
– Ранимые, – добавил Миша.
Яга молча отошла к балкону.
Тучи окончательно рассеялись. На улице было светло, и свет в достаточном количестве падал сквозь заляпанные старыми дождями стекла. Балкон был пуст, только посередине на полу стояла керамическая урна. Основной поток света падал на нее и преобразовывался в пепельную муть, вползающую с балкона в комнату. Урна словно стояла на черте, отделяющей свет от мути, или сама была этой чертой. Световым фильтром с забитыми прахом порами.
– Еще не подкопала? – Яга повернулась к Салеевой, как ни в чем не бывало.
– А когда? – недовольно спросила та.
– Сейчас земля талая, мягкая. Подкопай к матери его, – сказала Яга. – Он к матери, наверное, лечь хотел.
– Время будет, подкопаю, – отрезала Салеева.
– Человек все-таки, – добавила Яга.
– Можно развеять, – угрюмо сказал Миша. – В других странах развеивают.
– Такой Миша, все он знает, – пробубнила Яга.
– Нет! – резко сказала Салеева.
– Еще, короче, бриллиант можно из праха сделать, – сказал Миша.
– Че?! – повернулись к нему Яга и Салеева.
– Короче, передачу показывали. Мертвых сжигают, их потом прессуют в бриллианты. Чтобы родственники носили, – Миша вытянул лицо, как бы зевая. – На груди, короче.
– Че, блядь, в натуре покойника на груди носят? – спросила Яга.
– Не покойника, а бриллиант, – ответил Миша.
– Я тут и то каждую ночь трясусь, что у меня покойник на балконе. Еще чтоб на груди носить… – сказала Салеева.
– Это ж бриллиант, – бесцветно сказал Миша.
– Че ты боишься? – спросила Яга Салееву. – Муж все-таки.
– Ага, – протянула Салеева. – Из-за Сашки отомстить может.
– Он же тихий был, – сказала Яга.
– Он же покойник, – спокойно сказала Салеева. – Че, знаешь, как они мстят. Покойники – они уже другие.
– А где Сашка? – спросила Яга.
– В ванной играет, – ответила Салеева. – Миша, че расселся?! Варить кто будет? Он от Вадика пришел, ему хорошо, такой умный, а нам – ни о чем.
Миша встал и пошел на кухню.
– Ваджик когда умер, помнишь, – обратился к Салеевой мужчина, сидевший на диване. Все время, пока Яга с Салеевой стояли у балкона, он ощупывал Ягу взглядом.
– Ну помню. И че? – отозвалась Салеева.
– Друг его Женька-кот на похоронах подошел к могиле, споткнулся. А Ваджика же мать сразу… памятник поставила. Споткнулся такой, рукой за памятник ухватился. Короче, все сказали, что Ваджик его за собой потянет.
– И че, потянул?
– Три дня назад в «Последнем пути» умер.
– А че они терлись? – спросила Яга.
– Женька-кот и Ваджик? Он телефон сенсорный украл, хороший такой. Принес Ваджику. Ваджик две дозы дал. А потом Женьку взяли, так он все расклады сдал – где, кому, что. Ваджика в отделение увезли, чемодан ему сделали.
– Отомстил… – хрипло сказала Яга.
– Я ж говорю, они мстительные.
Раздался стук в дверь, и все замолчали. Звуки, производимые Мишей в кухне, тоже прекратились. На квартиру словно накинули шерстяное одеяло, за которым в темноте прели рты, глаза, ноги и руки. Мужчина на диване замер, в тихой полутьме стала заметней сияющая бледность его лица. Он похож был на гриб в мшистой чаще.
– Я же говорила, у балкона не стойте, – прошипела Салеева.
Стук повторился.
– Может, Олег, – хрипнула Яга.
– Он знает, что дверь сломана… Блядь, я же говорила, не собирайтесь у меня, – тихо проныла Салеева. – Мне одной потом отвечать.
В коридоре заскрипел линолеум. В проеме показался Миша, бесплотный, как черная тень.
– По ходу, это Вадик, – тихо сказал он.
– Откуда ты знаешь? – спросила Салеева.
– По ходу он говорил, что зайдет.
Салеева пошла открывать. Она откинула сырое одеяло, сняла топор и, поигрывая им в руке, как гимнастическим снарядом, толкнула дверь. Вошел Вадик – в солнечных очках, в наглухо застегнутой черной куртке. Он плелся за Салеевой на таких же спичечных ногах, как у Миши, раскачиваясь и как будто слегка пританцовывая.
Вадик прошел по комнате, ни на кого не глядя. Выглянул на балкон.
– Может, отойдешь от окна? – недовольно сказала Салеева.
– А че все такие нервные, боже мой? – громко спросил Вадик, оглядывая присутствующих.
– Да в говне быть не хотим, – с вызовом ответила Салеева.
– Че в очках, Вадик? Модный, да? – с издевкой спросила Яга.
– Солнце, – ответил Вадик.
– Где ты солнце увидел? – спросила Яга.
Вадик снял очки. Его опухшие веки наполовину прикрывали глаза c лопнувшими в нескольких местах капиллярами.
– Че глаза такие, Вадик? – не отставала Яга.
– Не спал три ночи, – мотнул головой тот.
– Че пришел? – спросила Салеева.
– А че все такие? – Вадик снова обвел всех глазами.
Миша шмыгнул на кухню.
– Шары свои зальешь, борзеешь, – сказала Салеева, уперев руки в бока. – Твое присутствие бесит.
– Да ладно, – примирительно сказал Вадик.
– Сам ладно на халяву приходить, – повысила голос Салеева. – Вот че за человек такой? Тебе сказали – уходи.
– Распелись, – подал из кухни бесстрастный голос Миша. – Сейчас соседи опять ментов позовут.
– Это че за хуйня! – неожиданно взвизгнула Яга и подпрыгнула на месте, указывая на девушку в кресле.
– Блядь! – завопила Салеева, и все бросились к Жабе.
Салеева прыгнула на нее первой, обхватив мускулистыми ногами ее толстые ляжки. Яга, подлетев, навалилась с другой стороны, пытаясь ухватить верткую зеленую руку.
– Блядь, держите ее! – крикнула Салеева, плотнее седлая брыкающиеся ноги.
– Дай сюда, дай… – сопела Яга, ловя мельтешащую в воздухе руку.
Вадик навалился сбоку. Мужчина, вскочив с дивана, схватил Жабу за ноги, стянул с кресла на пол. Салеева съехала вместе с ней и сидела, обхватив коленками ее рыхлый живот. Вадик прижал руку Жабы к полу. Другую с остервенелым выражением лица ловила Яга.
– Пус-ти-те! По-мо-ги-те! – завыла Жаба, бугрясь на полу и дергаясь, как от электрического разряда. Ее зеленую кожу на руках и ногах усыпали красные глазки, из которых текли тонкие струйки крови. – Помогите!
– Сейчас всех менты примут! – задохнулась Яга.
– Заткните ей рот! – Салеева подскочила на Жабе, взгромоздилась на ее грудную клетку и обхватила толстую шею гибкими пальцами. С высо-ким пучком на голове она была похожа на наездницу, оседлавшую рыхлую гидру.
Жаба оскалила верхнюю губу и зашипела.
– Да заберите, блядь, у нее! – сипела Яга, уворачиваясь от взмахов толстой руки.
– Дайте! – вопила Жаба, извиваясь. – Последнего поймаю! Дайте! Дайте-дайте, у-у-у.
– Я держу! Держу! – крикнула Яга, поймав зеленый кулак.
Салеева схватила его тоже, вцепилась в намертво сведенные пальцы, разжимая их. Жаба подскочила животом, подбросила Салееву и ударила ее кулаком в нос. Салеева, выпустив ее руку, схватилась за нос.
Из кулака Жабы высунулся гвоздь, она метнула его к виску и проткнула, крича, воя и извиваясь. Висок надулся фиолетовым. Брызнула кровь. Глаза Жабы выпучились от ужаса, она зарычала и затряслась. Сбросила мужские руки с икр. Рыча, ударила Вадика ногой в лицо.
– Да блядь! – завыл от боли Вадик, вскочил и пнул Жабу в живот.
Салеева, размахнувшись, звонко ударила ее по лицу.
– Сука, лежать! – Яга вцепилась Жабе в волосы и с силой ударила ее голову об пол.
Вадик пнул Жабу в живот еще раз.
– Мамочки… – обмякла Жаба, разинула рот и пустила слюни. – Мамочки…
– Нахуя ты себя расковыряла?! – крикнула Салеева, уже стоя над ней и упирая руки в бока.
– Инопланетян убивала… – провыла Жаба басом. – Последний на виске оставался.
Жаба лежала на полу, волнуясь жирным телом, прикрываясь руками от ударов. Дырки на руках, ногах и груди вздулись под зеленой кожей. Слезы размыли зеленку на щеках, капали на грудь, и, смешавшись с кровью, затекали в глубокую полоску между двух опухших грудей.
– Че с ней теперь делать? – спросил Вадик.
– Снотворное ей дадим. У меня феназепама до хуя от мужа осталось, – сказала Салеева.
Она обернулась в сторону кухни. У стены тихо стоял светловолосый мальчик лет семи. Увидев его, Салеева заорала:
– Ты что здесь делаешь?! Я тебе где сказала играть?!
Ребенок не пошевелился. Он шумно дышал открытым ртом, влажным от слюней. Его глаза смотрели на Жабу без интереса.
– Иди в ванную играть! – снова прикрикнула Салеева. – И высморкайся! Де-ге-не-рат…
Мальчик перевел на нее равнодушные глаза и пошел в ванную.
– Вот че за ребенок такой? – проворчала Салеева.
– Сейчас буду реакцию делать, – позвал Миша из кухни, и все потянулись туда, словно звери на водопой.– Не гони, Яга, – сказала Салеева, крутя в пальцах сигарету. – Все знали, ты, блядь, одна не знала.
Она открыла деревянную раму со скрипом и замахала руками, прогоняя синтетический воздух из кухни. Яга сидела у стены, привалившись плечом к батарее.
– Не знала я, блядь, ни хуя не знала, – пробормотала она, как будто из полусна.
– На всех квадратах знали, – сказала Салеева, глядя на Ягу сверху вниз.
– Я думала, он с Иркой втихаря крутит, – мрачно сказала Яга.
– И че ты, блядь, терпела?
– Он с ней просто в одной постели спал, секса у них не было, – убежденно сказала Яга и заморгала.
– Нахуй он ей такой Ванька – сексом не занимается, наркоман конченый… Ты подумала?
– Любит она его, – хрипло простонала Яга.
– За что его любить, урода такого? – спросила Салеева, беря со стола дешевую зажигалку.
– Душевный он, – Яга надула щеки и заулыбалась. – Че, она ему на закуп денег дает, обувает, одевает.
– Хорошо устроился, – сказала Салеева и щелкнула зажигалкой. Сделала затяжку, выпустила дым к потолку. Закинула голову и следила за дымом.
Яга тоже следила за дымом, но скоро ее голова завалилась на грудь, и она так сидела, крутя ей и бормоча неразборчиво.
– Че, блядь, знали, что эта тварь беременная ходила, и мне никто не сказал… – встрепенулась Яга. – Она – тоже хвостатая?
Прежде чем ответить, Салеева выпустила дым перед собой, который дошел до цементной стены и осел на темном разводе. Она стряхнула пепел в чистую кастрюлю.
– Ты че как маленькая? – хрипло спросила она. – Ты живешь на квадрате варочном. Совсем уже ебнулась? Че за гон?
– А че ты сразу, Салеева? Ответить нормально не можешь?
– А ты че, блядь, сама не знаешь, что хвостатые не беременеют. На гере, наверное, сидит. Хуй я знаю. Спроси у своего Ваньки, он лучше знает.
– Да, своего… – усмехнулась Яга. – От него тут рожают… Чтоб он сдох, сука. Увижу, порву.
– Ага, – отозвалась Салеева.
– Порву я их всех на хуй, – забубнила Яга. – Урод, блядь. Проститутка. И его порву, и бабу эту порву, и ребенка ихнего… Предал он меня, Салеева. Предал.
– Да нахуй он тебе вообще нужен? – спросила Салеева.
– Я ж люблю его, – Яга снова заморгала.
– Ты, в натуре, как маленькая.
Салеева сделала последнюю затяжку, потушила сигарету о дно кастрюли, налила в баночку воды из крана и позвала:
– Кс-кс-кс.
– Она хоть красивая, ты видела ее? – спросила Яга.
– Говорят, симпатичная. Сама не видела.
– Молодая?
– Лет двадцать. Откуда я знаю?
Яга потыкалась подбородком в коленки.
– Я тоже в солярий вчера ходила, – сказала она.
– Шикарно живешь… Жаба проснется, ее тоже надо в солярий отправить, – сказала Салеева, залезая под стол и доставая оттуда котенка. – Пусть пойдет своих инопланетян выжигать. Достала, блядь.
– Нахуя ты ее пускаешь? – спросила Яга.
– Ага, а кто на закуп дает?
– Откуда у ней?
– Как все – на вокзале стоит.
– Иди ты на хуй… – выдохнула Яга и открыла рот, отчего на ее лице усилилось тупое выражение.
– Я тебе врать буду? – уставилась на нее Салеева.
– И че, есть клиенты?
– Бабло же приносит.
– …Вообще… – выдохнула Яга.
Салеева прижала к груди котенка, погладила его по голове.
– Яга, возьми котенка. У тебя мать работает, пельмени каждый день покупает.
– Да не возьму, блядь! – взорвалась Яга. – Сто раз сказала, не возьму!
Салеева отвернулась и опустила котенка возле баночки с водой. Котенок не стал пить и юркнул под стол.
– Порву всех на хуй. На хуй порву, – забубнила Яга.Выйдя из подъезда, Яга обернулась, задрала голову и подставила лицо холодному ветру. Скорчила рожу. Стояла так, пока не заслезились глаза. У нее тряслись коленки. Она обхватила себя рукой за пояс для равновесия. Другую руку подняла, выставив средний палец. Она трясла задом, мелко приседала, и можно было подумать, на ее торчащем пальце собрался весь небосвод, который она не в силах держать.
– Че, охуели тут летать? – харкнула Яга. – Как у себя дома вообще… Че вам тут… вам тут не это… Пошли на хуй отсюда… Полетели…
Яга спрятала палец в карман. Потопталась.
– Вот че за люди такие? – спросила она проникновенно. – Все изменяют. Никому верить нельзя. Я, может, тоже секса хочу… Может, я такими словами с вами некрасивыми говорю… А я ж если не люблю, не пойду. Даже если за деньги, не пойду… А теперь эта девушка евонная – родила ребенка ему, – сказала Яга и помолчала. – Был бы у меня мужик нормальный, я б колоться перестала и ребенка, может быть, родила б… А у меня же эти… ноги, как у модели. Я в эти солярии каждый день ходила. Маникюры делала, педикюры. Сумки себе за восемь тысяч покупала… Че, бог меня наказал… Я же, когда мама прошлый раз пошла в баню, сказала, хоть бы она там умерла. – Яга снова задрала голову, сузила глаза, чтоб не видеть неба или чтоб небу не видно было ее, и зашептала: – Я ж сказала – хоть бы она умерла, хоть бы у нее приступ сердечный был. Чтоб она туда пошла и не вернулась… Короче, наказали меня. По делу так конкретно меня наказали…
Яга достала палец из кармана, покрутила им в воздухе, как будто сверлила дырку.
– Че, видели? – спросила она. – Я вас не боюсь вообще… Всех порву… Усталый он, блядь. Других трахать – не усталый… Унижаюсь, блядь… Сейчас я как пойду, всех порву, всем как навтыкаю… А вы на хуй отсюда летите… Как у себя дома… Вообще…Яга постучала – три раза. Подождала. Присела и заговорила в замочную скважину шепотом, таким хриплым, словно в горле у нее была терка, шинкующая голос на острые хрипы.
– Вань? Вань… Открой, это я…
Она открыла рот, сосредоточилась, приставив ухо к двери.
– Вань, – позвала просительно. – Вань, че ты? Открой.
За дверью было тихо.
– У меня, короче, к тебе дело, важное…
Постучала еще трижды. Оглянулась на соседние двери. Из-за них тоже не доносилось ни звука. В подъезде было тихо, и его бетонные пролеты удесятеряли звуки и шорохи, производимые Ягой.
– Вань… – позвала в скважину.
Эхо ее голоса возвращалось со спины, как если бы скважина была закупорена или как если бы за дверью была стена. Как если бы этот подъезд не углублялся квартирами, а только высился пролетами вверх, к крыше, а дальше – в небо.
Эхо, которое возвращал ей подъезд, было таким глубоким и несовместимым с тишиной за дверью, что можно было подумать – оно действительно побывало на небе.
– Я каплей тебе принесла, Вань… – прошептала Яга. – Че ты, я же знаю, что ты дома…
Послушала. Тихо.
– У тебя же свет в окне горел, я с улицы посмотрела, – сказала Яга громче и обиженно замолчала.
Громкие слова пробили скважину, и эхо, пришедшее сверху, оказалось слабей. Яга молчала, только шевелила губами, видимо, не зная, что еще сказать.
Она встала. Долго смотрела на дверь. Тупое выражение сходило с ее лица, уступая место злости. Раздула ноздри, кончик носа заострился.
Пнула ногой дверь. Застучала в нее кулаками.
– Открой, сука-блядь! Че ты там прячешься с этой проституткой?! Открой, я вас всех сейчас порву!
Перевела дыхание.
– Че ты мной, сука, пользовался, когда я на заправке работала! – крикнула. – Как денег не стало, сразу усталый, блядь… – Яга сжалась. Прислонилась плечом к двери и поскользила по ней вниз. По подъезду, тоже сверху вниз, прошел шорох, разделивший его напополам.
– Че, теперь не нужна тебе, Вань, да? – спросила она с обидой и укоризной, прорвавшейся из ее хриплого горла неожиданно тонкими, почти детскими нотками. – Деньги все решают, да, Вань? А я ж тебя люблю… – Яга помолчала. – Че ты меня так унижаешь, Вань? …Вань! Вань-ка! Открой!
Она прислушалась, приподняв брови. Как будто сильная атака должна была извлечь с той стороны хоть какой-то звук. Но не было ничего. Она тупо ткнулась в дверь лбом.
– Ванька, че ты меня унижаешь вот так? – хрипло спросила она. – Я же тебе каплей принесла. Ты че, думаешь, я больше заработать не смогу? Ты же знаешь, сколько у меня точек… Хочешь, я тебе завтра тысячу рублей принесу?
За дверью скрипнуло, и Яга встрепенулась.
– Ваня, я еще здесь! – крикнула она.
Но за скрипом ничего не последовало. Яга вскочила и начала бить кулаками в дверь.
– Сука конченая! – хрипела она. – Кобель, ебаный в рот! Думаешь, тебе кто-то больше принесет?! «Последний путь» по тебе плачет! Сдохнешь там, я близко не подойду… Сука сколовшаяся…
Из-за двери больше не доносилась ни звука. Яга подождала. Вытерла ноги о коврик, шаркая на весь подъезд.
– Тогда пойду я, если так… – мрачно сказала она и заковыляла по лестнице.
Выйдя на улицу, она сузившимися глазами посмотрела вверх и сказала с угрозой:
– Унизили меня, блядь.Под стеклянным навесом остановки ждали старик и женщина. Старик сидел на скамейке, опираясь обеими руками о клюку. Светка остановилась рядом, под навес не заходя, ссутулилась и выставила ногу вперед.
Закрапал мелкий дождь. Пупырышками он сел на стекло. Старик смотрел на проезжавшие мимо машины с таким равнодушием, словно это были одни и те же машины с одними и теми же людьми, идущие по кругу. Он встрепенулся, когда троллейбусные провода дернулись. Показался троллейбус. Старик вышел из-под навеса и встал впереди Светки.
Троллейбус остановился и, клацая, раздвинул передние двери. Старик и женщина вошли в троллейбус. Тогда только Светка зашла под навес, села на край скамейки, закинула ногу на ногу и, сведя руки в карманах, смотрела на носок кроссовки. Она нащупала в кармане бумажку и не переставая трогала ее.
Под навес вошла женщина и, окинув Светку взглядом, тоже села на скамейку. Светка отодвинулась.
Дождь застучал по стеклу. Стук перешел в шуршание. Совсем перестал. Светка сидела не шевелясь, как каменная, только пальцы ее незаметно двигались в кармане куртки, щупая бумажку. Она разжала плечи, только когда троллейбусные провода резко ушли вниз, словно за них кто-то потянул.Светка огляделась и пошла в сторону железной ограды, которая замыкала кусок пустой земли, поросшей желтыми кустиками прошлогодней травы. За оградой начинались сосны, ободранные до самых верхушек. То ли из-за заброшенности той части города, в которой они росли, то ли оттого, что квадрат земли за оградой напоминал еще не занятое кладбище, сосны выглядели худыми и слабыми, несмотря на свой рост.
Левее виднелась автостоянка с бросающейся в глаза деревянной будкой цвета такого голубого, каким не было даже небо в этой части города.
Светка прошла мимо автостоянки, сразу за ней свернула и оказалась в заасфальтированном и взятом в бетонные ограждения дворе. Пошла по узкой дорожке, ведущей наискосок к бежевому зданию. Навстречу Светке по дорожке шла худая женщина в берете и солнцезащитных очках. Падающие из берета прямые ржавые волосы закрывали половину лица. Виден был только мертвенно-бледный острый подбородок. Женщина говорила по телефону, держа трубку у уха и костяшками пальцев постоянно поправляя сползающие очки.
Когда Светка с ней поравнялась, в роще истерично закричала птица: у-у-у. Светка пошла быстрей. У центрального входа она остановилась, сощурила глаза, читая вывеску. На площадке перед входом стояли каменные вазы с трепещущими низкими цветами красного цвета, похожими на маки.
Сзади из-под деревьев раздался мужской смех с высокими истеричными перепадами. Светка обернулась. На спинке скамейки сидели несколько худых парней и одна девушка с короткой стрижкой, в широких штанах. Они смотрели на Светку недружелюбно, и она, поглубже засунув руки в карманы, заспешила внутрь.Светка присела на стул с железной спинкой, стоящий напротив двери. Просидев несколько минут, она наконец подняла голову и бросила взгляд по сторонам. На таких же стульях в длинном коридоре сидели еще несколько человек. Один из них – худосочный парень с редким мышиным ежиком на голове – в тихой судороге сжимал сцепленные руки. Остальные с таким же безразличием, как Светка, рассматривали что-нибудь – пол, стены, – подолгу упираясь в них взглядом. Свет падал из широких окон со спины. Коридор казался пустым. На дверь никто не смотрел.
Светка обернулась и поглядела в окно. Весенние дожди оставили на нем пыльные разводы. Виднелись верхушки сосен. Под углом, с которого смотрела Светка, было не видно, что внизу они ободраны. С сосны на сосну черной точкой летала какая-то птица и, наверное, кричала. Светка не отрывалась от окна, словно это оно, а не дверь, должно было распахнуться.
Дверь открылась. Светка не обернулась. Кто-то прошел мимо нее. Дверь тихо закрылась. Тогда только Светка снова села лицом к двери и, закинув ногу на ногу, уставилась на черный носок кроссовки.
Оставшись в коридоре последней, Светка вдруг встала и пошла по коридору к выходу, вихляя бедрами, как Яга. Возле последнего окна она остановилась. Теперь с высоты полного роста ей хорошо были видны ободранные стволы и ограда, за которой пусто и которую снова нужно будет пройти.Свет и тени чередовались на выкрашенном светлой краской полу. Напротив окон на него ложилась светлая полоса, напротив стенных промежутков – темная. Светка стояла на краю светлой полосы. Она подвинулась и встала в ее середину. Затем вернулась к стулу.
Дверь выпустила молодую женщину с вытянутым, как у лошади, лицом и впалыми щеками. Они встретились глазами. Светка быстро отвернулась и не вставала со стула, пока та, ступая по полоскам света и тени, не исчезла в конце коридора.
Стол стоял у стены, на нем – белый светильник с длинной спиралью голубоватого света. С этой стороны окно выходила на теневую сторону. Сосен не было видно.
За столом сидела седая женщина в белом халате и писала в журнал с желтыми разлинованными листами. Она не обернулась, когда Светка зашла, и та застыла у двери, щурясь.
Женщина отложила ручку и повернула к Светке простое некрасивое лицо. Светка сощурилась еще больше.
– Что не проходишь? – спросила она.
Светка подошла к столу, села на краешек стула. Луч светильника попал ей в лицо, подсинив его.
– Боишься? – спросила врач, глядя в журнал и морща подбородок так, словно сама не могла разобрать только что написанное.
Светка кивнула. Женщина сняла очки, к дужкам которых была прикреплена серебряная цепочка, и очки повисли у нее на груди.
– Что там у тебя? – она протянула руку.
Светка вынула из кармана бумажку, протянула. Женщина снова надела очки, приспустив их на кончик носа, и посмотрела сквозь темные стекла, кривясь уголками рта.
– Это тебе в женской консультации дали? – спросила она, уставившись на Светку затемненными глазами.
– Да… – тихо сказала Светка.
– Ответ положительный, знаешь?
– Да…
– Ну, если ты все знаешь, будем ставить тебя на учет. Будешь получать льготные препараты, – женщина взяла ручку, вдавила пальцем очки в переносицу и начала писать, поддерживая дужку рукой.
– Я хотела спросить… – слабо сказала Светка.
– Что? – женщина перестала писать и посмотрела на Светку, держа руку на дужке.
– Сколько я еще проживу? – сглотнув, спросила Светка.
Женщина откинулась. Потрогала нагрудный кармашек над старой грудью.
– Сколько проживешь, столько и проживешь, – ответила она. – Все от тебя зависеть будет. Есть люди, которые по двадцать лет с ВИЧ живут. А ты молодая…
– Что от меня зависит? – давящим шепотом спросила Светка.
Женщина отодвинула журнал, поерзала на стуле и развернулась грудью к Светке. Светка сидела с синим от светильника лицом. Моргала. Женщина отвернула от нее светильник, и спираль легла сиреневым пятном на бежевую стену.
– Здоровый образ жизни – раз, правильное питание – два, – бодро сказала она. – А главное – никаких наркотиков, – договорив, она пристально посмотрела на Светку.
Светка опустила глаза и кивнула.
– А если нет, то и нет… – врач развела руками и снова села к Светке боком, пододвинув к себе журнал.
– Партнер знает? – спросила она.
– Он пропал, – ответила Светка.
– Куда?
– Не интересовалась.
– Наркоман?
– Пил…
– Я тебе буклеты дам, там все прочтешь, там все написано.
– Спасибо, – сказала Светка.
– Психолог нужен?
Светка отрицательно замотала головой.
– Тогда сейчас спустись на первый этаж, зайди в регистратуру, вот эти бумажки туда отнесешь…
Женщина взяла из стопки на столе два верхних листа и начала их заполнять крупными неразборчивыми буквами. Достала из ящика стола буклет.
Зажав бумажки в руках, Светка пошла к двери.
– Зови следующего, – сказала женщина, не отрывая головы от журнала. – А с ребенком что будешь делать?
Светка остановилась.
– А он же это… больной будет… – негромко сказала она.
– Ну, больной не больной, это еще не факт. Может и здоровым родиться. Месяц у тебя какой?
– Четвертый пошел, – сказала Светка, сильно заев на «р» и сглотнув.
– Это большой срок, – сказала женщина и, встав со стула, пошла к Светке, заложив руки в карманы халата.
Она была низкой и коренастой. Коротко обрезанные седые волосы доставали до плеч.
– Тебе самой-то ребенок нужен? – она подошла к Светке вплотную.
– Не знаю, – Светка пожала плечами.
– Ну ты иди… И подумай… Следующего позвать не забудь!Сидя на диване, Ваня зашнуровал кроссовки и завязал тугими узлами. Потер щеку с отросшей щетиной. Встал. Прошелся, нажимая на носки. Повел плечами назад, выпячивая грудь. Поправил тугой ремень на джинсах. Выключил в комнате свет. Прошел по коридору, заглянув в темное зеркало и взъерошив волосы. Повернул ручку двери, открыл, сделал шаг за порог и сразу отступил назад.
– Это еще че за дела, я спрашиваю? – спросил он голосом злым и одновременно испуганным.
На лестничной клетке стояла девушка в узких джинсах и серой короткой куртке. Ее длинные обесцвеченные волосы, разделенные прямым пробором, светились желтым в темноте. Она придерживала ручку большой закрытой коляски, которая плохо прорисовывалась в темноте.
Увидев Ваню, она выпустила коляску, кошкой метнулась к нему и встала на пороге.
– Вань, пусти переночевать…
Ваня побледнел. Он молча смотрел на коляску с освещенного порога, перекатывая что-то во рту, как будто нащупывая языком подходящее слово.
– Вань, ну че, тебе жалко на одну ночь, что ли, пустить? – затянула девушка, вцепившись обеими руками в дверь, клацнув по ней ногтями.
– Ты прикалываешься, что ли, надо мной? – высоким голосом спросил Ваня и надавил на дверь коленкой.
– Это же твой ребенок, Вань! – заорала она пискляво, наваливаясь на дверь грудью.
– Какой мой?! Я тебе говорил его рожать?! – Ваня толкал ее назад, отдирая руки от двери.
– Вань, пусти меня, я только с роддома… – она рухнула на порог, выпуская дверь, та захлопнулась с грохотом, оставляя коляску в полной темноте.
Она поползла к Ване на коленках, обхватила его руками за пояс, сомкнула их замком и заныла тонким пронзительным голосом:
– Наташку с квартиры выкинули, сегодня она у подруги ночует, меня с младенцем туда не пустили. Завтра она на новую заезжает, я говорю медсестре, короче, завтра меня выписывайте, сегодня мне некуда, а она такая – у нас мест нету, другим тоже надо рожать. Вань, пусти меня на одну ночь. Че тебе, жалко? Мне реально некуда. А завтра я к Наташке. Вань, ну, Вань?
Запрокинув голову, она смотрела на него слезящимися глазами, как кошка, которой наступили на хвост и не убирают ногу. Ваня стоял, опустив бессильно руки, выпятив подбородок, шумно и тонко втягивая воздух. У него на шее гулял кадык, словно он вытягивал из-под языка слюну, чтобы плюнуть в глядящие на него снизу белесо-голубые глаза.
– Ты прикалываешься надо мной… – упавшим голосом повторил он.
– Только на одну ночь…
– Чем ты, блядь, раньше думала? Я тебе говорил – иди на аборт.
– Ванечка, ты же говорил, он ненормальным родится, – заскулила она, – а он нормальный… Мальчик…
– Ты че, блядь, хочешь остаться? – Ваня дернул коленом. – Нахуя ты мне вообще про него рассказываешь? Мне реально пофиг, какой он!
– Нет-нет… – замотала она головой. – Ванечка, нет… Мне только до завтра… Реально до завтра. Сегодня Наташка ночь отработает, утром за нами придет.
– Блядь… – Ванька закатил глаза к потолку и бессильно покрутил головой. – Заходи. Только чтоб завтра тебя тут не было.
Она вскочила, открыла дверь и, не переступая порога, придерживая дверь ногой и с опаской оборачиваясь на Ваню, перегнулась, дотянулась до коляски и вкатила ее в коридор.– Че, не спишь, Ягуша? – спросила Светка.
Яга кряхтя повернулась на другой бок. Занавеска на окне была задернута. Вечерний свет с улицы выбивал из нее синий, и занавеска бросала темное отражение на стены, на пол, на лицо Светки, сидящей на кровати, надевая на них вуаль, сплетенную из синих теней. Казалось, в комнате чего-то недостает.
– Поспишь тут, – хрипло отозвалась Яга. – Руки-ноги как пластмассовые.
– Иди в баню, она хоть как-то спасает, – сказала Светка. – Выйдет из тебя там эта отрава.
– Ага, – просипела Яга. – Как выйдет, сразу сдохну. А где мать?
– Не приходила еще.
– Свет, принеси мне водички, – просипела Яга.
– Сама себе принеси.
– Руки-ноги не гнутся, Свет, – застонала Яга. – Все тянет. Особенно в ноге жила так, блядь, тянет. Как до сортира дойти, не знаю. До кухни не дойти, воды себе не налить.
– Меньше колоться надо, – огрызнулась Светка.
– Нахуй ты мне это говоришь? – Яга оторвала голову от подушки и посмотрела на Светку. По опухшим векам Яги было видно, что она действительно давно не спала. Но глаза смотрели живо, осмысленно, как будто она четко осознавала все происходящее, как будто в ее разбитом теле сидел кто-то другой, не знающий усталости и не нуждающийся во сне. Этот другой был так гибок, силен и несовместим с этой комнатой, что даже оконная занавеска не могла задернуть тенью глаза Яги, из которых он выглядывал.
Светка молчала.
– Святая, блядь, – сказала Яга сварливо. – Я тут одна, блядь, колюсь, остальные все – святые.
– У меня ВИЧ, – сказала Светка.
– Откуда ты знаешь? – спросила Яга, не меняя позы.
– В диспансере сегодня была. Там сказали.
– А ты че, анализы, блядь, сдавала? – повысила голос Яга.
– Они же каждый месяц сыпали бумажки в почтовый ящик – вызовы.
– Я ж тебе сказала: каждый день, блядь, ящик проверяй, чтобы мама не видела. Нахуй ты туда пошла?
– А че мне, без терапии жить? У меня и так уже иммунитет упал!
– Блядь, пей свою терапию. Залечат тебя теперь, от их лечения быстрей сдохнешь.
– Иди сдай анализы, – пробубнила Светка. – Может, у тебя тоже ВИЧ.
– А мне похуй, – ответила Яга и откинулась на подушку.
– Че тебе похуй? Других заразишь.
– А мне похуй… – Яга покрутилась в кровати, выгибая руки и ноги. – Че, воды принесешь? – спросила она.
Светка промолчала, прислонилась спиной к стене, сложила на животе руки, но сразу их отдернула. За окном стемнело. Занавеска почернела. Почернели и тени, собравшись в выемках на Светкином лице, особенно в глазницах.
– Еще я, короче, в консультации сегодня была.
– В какой? – насторожилась Яга.
– В женской.
– Там ты что забыла?
– У меня еще беременность… – проговорила Светка.
– И че тебе врач сказал? – спросила Яга напряженным голосом.
– Она сказала, срок большой, надо вынужденные роды делать, – спокойно ответила Светка.
– И че, когда ты пойдешь?
– Я еще не решила.
– Че ты, блядь, еще не решила? – повысила голос Яга.
– То не решила!
– Че не решила?
– Говорю же – то!
– Ты – дура, блядь? Кому он тут нужен?! – Яга села на кровати и уставилась в темные глазницы Светки.
– Не дави на меня! – крикнула Светка.
Она не шевелилась, сидя в темноте. Не было видно, что происходит на ее лице.
– Кто на тебя давит?
– Ты всю жизнь на меня давила… Всю… жизнь… – последние слова Светка произнесла сдавленным голосом.
– Блядь, он вичовый родится… – произнесла Яга зловещим шепотом.
– Может, ты тоже вичовая! – растягивая слова, ответила Светка. – На меня одну, что ли, эти вызовы приходили?
– Че ты каркаешь?! – с угрозой спросила Яга. – Иди вон Олега своего обрадуй, через дом, блядь, живет.
– Чтоб он меня опять избил, да? – визгнула Светка.
– А на кого ты его хочешь повесить? На мать?
– Будто ты о матери так заботишься!
– Чем ты раньше думала?!
Светка не ответила. Она шмыгала носом, всхлипывала, и с каждым разом ее всхлипы становились глубже, судорожней, а паузы между ними – дольше.
– Ну ладно, Свет, – сказала Яга другим голосом. – Он же родится, это… нежизне… способным, – она запнулась на длинном слове. – От каждой простуды может умереть…
Светка плакала и не отвечала.
– Ну че ты, Свет, – продолжила Яга, видимо, желая, чтобы ее голос звучал мягче, но он становился только глуше и шершавей. – Ты сама подумай, сколько нам осталось?
– Я же давно не кололась, – сдавленно сказала Светка.
– А ВИЧ, блядь, у кого?! – снова вышла из себя Яга, и Светка заплакала громче.
Яга замолчала, с ее кровати доносилось только шумное дыхание, горячее даже на слух. Она стала раскачиваться и что-то мычать про себя.
– Яга, – наконец, подала слабый голос Светка.
– Ну че? – спросила Яга.
– Вон у тети Поли дочки замуж вышли, – произнесла Светка через заложенный слезами нос. – Почему мы такие невезучие?
– А то ты не знаешь…
– Не знаю, Ягуша, – Светка шмыгнула носом.
Яга придвинулась к краю кровати, ближе к Светке. Та тоже подалась от стены вперед.
– Потому что мать нас прокляла, – давящим шепотом произнесла Яга.
– Ты че? – испуганно выдохнула Светка.
– Да? – повысила голос Яга. – А сколько раз она нас проклинала?
– Это тут при чем? Она просто так говорила, не серьезно.
– Материнское проклятие самое сильное, – пробубнила Яга.
– И че?
– И то.
Яга замолчала и смотрела на Светку из темноты, как будто давая ей время осознать и принять сказанное.
– И че нам теперь делать? – наконец спросила Светка.
– Теперь уже ничего не поможет. Может, когда умрет только. Ее проклятие уйдет с нею.
– Не говори так, Яга, – строго сказала Светка.
– Тогда не спрашивай, если не веришь, – обиженным басом ответила Яга.
Они снова помолчали.
– Ну, че ты решила? – спросила Яга.
– Не дави на меня! – окрысилась Светка.Соседи погасили в доме свет, и яблоня отодвинулась в тень. Высокая, она уходила вверх до тех пор, пока было видно небо – без звезд, без луны. В некоторых домах окна горели, выпуская из черных стен жидкое золото электричества.
Поблизости не было ни продуктовых магазинов, ни других заведений, работающих круглосуточно. По дороге, не убранной асфальтом, не ездили машины и никто не ходил. Ночь не звучала, но приносила сюда, на эту окраину Екатеринбурга, как будто отрезанную от остального города, ощущение звуков, движений и голосов, которыми бурлила его сердцевина и которые стекались сюда по наклонной невидимыми волнами, неся с собой черную тревогу.
Светка прислонилась к яблоне животом. От коры пахло сыростью.
– Ты – умница моя, – сказала Светка, прижимаясь к яблоне. – Все мои желания исполняешь, что ни попрошу.
Яблоня казалась безжизненной, как часто бывает в середине весны в холодных городах – почки не успевают еще набухнуть до той степени, когда в них видна жизнь. Только сгнившие яблоки на верхних ветвях напоминали о том, что в прошлом году яблоня была жива.
Светка посмотрела через забор. Там, на соседском участке, росла такая же высокая яблоня. Светка смотрела на нее, смотрела, прижимаясь животом к стволу все плотней. Нос ее дернулся, за ним дрогнули рот и подбородок. Все ее лицо как будто вспышкой озарилось, хотя в соседских окнах свет никто не зажигал.
– Хорошо деревьям, – блаженным голосом сказала Светка. – Они сами от себя родят…
За калиткой мелькнула тень.
– Кто? – испуганно обернулась Светка.
– Свет, это я, Ваня, – послышался мужской голос, растягивающий слова.
– Че надо?
– Яга дома?
– Нет ее.
– А где?
– Не знаю, – коротко бросила Светка, как будто говорила в себя. – Может, у Салеевой.
Тень еще немного повисела над калиткой и исчезла. Светка заспешила в дом.
– Где так долго была? – встретил ее с порога шершавый шепот Яги.
– В туалет ходила, – раздраженно ответила та. – Мать спит. Не буди.В просторной комнате с белыми обоями на теплом ветру плясала белая занавеска. Яга лежала на диване у открытого окна. Занавеска порхала над ее лицом, то одевая фатой, то поднимаясь над головой.
Со двора доносились женские голоса, позолоченные солнечным звоном, и крики младенцев. Яга прижимала к подмышке вату и смотрела на фотографии в серебряных рамках, стоящие на красивом коричневом комоде с темными завитушками. Рука Яги ослабла, из-под ваты вырвалась густая темная кровь и поползла вниз, к сгибу руки.
На фотографии, стоящей по центру, лысеющий мужчина и рыжая женщина притискивались друг к другу полными плечами. Мелкий нос женщины терялся на круглом лице. Они улыбались, словно только что получили счастье – сиюминутное, погасшее вместе со вспышкой фотоаппарата. Счастье круглое, его трудно удержать, потому что оно с тебя скатывается. Мужчина и женщина выглядывали из рамки, как из окна – на людный двор, откуда со всех скамеек присматриваются к их распахнутому окну. И счастье их катилось из окна, как будто для того только и нужно было, чтобы на него посмотрели.
За их спинами зеленели пальмы, и, наверное, рядом было море.
Яга передвинула тугие глаза в сторону. На другом фото улыбались рыжая невеста в белом платье и рыжий жених в темном костюме. Они были похожи, как брат и сестра. Как дети одних родителей. Все четыре лица были похожи. Как урожай одного сорта, одной яблони, только снятый в разное время.
Яга улыбнулась. По ее лицу расползлось масленое выражение.
Из третьей рамки выглядывал мальчик трех лет – рыжий, круглый, румяный, все то же яблоко с того же фамильного древа.
Рядом с фотографиями лежали белые ракушки – с отходящими щупальцами белыми завитушками. Яга вслушивалась в ракушки, пока в них не зазвучало ничто. Она повернула голову к противоположной стене, на которой висел очень широкий плазменный телевизор. Яга уставилась на него. Открыла широко рот, чтобы глотнуть, выкинула вперед руки, раздвигая перед собой черные рамки, и утонула.
Она всхрапывала и постанывала. Занавеска гладила ее лицо, упархивая в окно и надуваясь с той стороны пузырем. Ватка с кровью упала на пол.
Через несколько минут Яга открыла глаза, встала и бодро пошла на кухню.– Он говорил, что, как бы это… не имей друзей, которые чем-то плохим занимаются, – говорила Анюта, сидя за столом у белого подоконника, на котором были рассыпаны луковицы гладиолуса.
– Это он нас, что ли, имел в виду? – спросила Старая, закинув голову.
– Нет, – испуганно сказала Анюта. – Он это… грехи, наверное, имел в виду наши собственные.
– Тогда тебе, Анюта, от себя надо бежать, – злобно сказала Яга.
– От себя не убежишь, – сказал Миша, стуча пластиковой бутылкой по столешнице.
Из кастрюльной крышки, лежащей на белоснежной электрической плите под вытяжкой, вился тонкий дымок. Анюта открыла окно и замахала рукой, прогоняя запах.
– В прошлый раз мать запах учуяла, – сказала она. – Пришла с работы, говорит: «Что у нас так воняет?»
– И че ты? – спросила Яга.
– Я сказала, это с улицы.
– И че, поверила?
– Вроде поверила, – неуверенно ответила Анюта.
– Надо было освежителем побрызгать, – сказала Старая.
– Я побрызгала, еще борщ поставила варить, но он же… запах, въедается.
– И че, они не брезгуют твой борщ есть? – спросила Яга, и у Ани на лице появилось обиженное выражение. – У тебя же нога гнилая, ты в ней целыми днями ковыряешься.
– А я же это… им не показывала. Мать прошлый раз меня на дачу звала, я, короче, не поехала. Там они на речке собирались купаться. Думаю, чтоб не раздеваться… Они еще недавно на Кипр ездили, – добавила Анюта, – с Маринкой, Сережкой, со всей семьей.
– И че, тебя не взяли?
– А я же это… Я за бабушкой, матерью папы Пети, присматривала.
– Ага… – отозвалась Яга. – И кто из вас, блядь, за кем присматривал?
– Я звонила ей каждый день, – сказала Аня, дергаясь лицом. – Сестра Маринка – не такая, она не позвонит родной бабушке, а у меня сердце болит, надо позвонить, узнать, как они.
– Ты, блядь, святая у нас, Анюта, – с издевкой сказала Яга.
– А я же это… когда у астролога была, она меня даже спросила: «Вас в церковь не тянет-то?» Я говорю: «Тянет. Я хожу». Она сказала, это потому, что вы в прошлой жизни святой были…
– Блядь, Анюта, теперь не знаю, как рядом с тобой сидеть, не заслуживаем, – Яга оперлась рукой о стол.
– Садись-садись, – засуетилась Анюта, уступая ей табуретку.
Яга села. Анюта отошла и прислонилась к розовой стенке.
– А еще че-нибудь сказала астролог эта? – спросила Старая. Она сидела, закинув ногу на ногу, и покачивалась. Уголки ее рта уходили вниз, утягивая за собой все лицо.
– Она еще сказала: «Но что вам мешает». Ну, во-первых, это – неуверенность. Она сказала: «Вы очень неуверенный в себе человек». А это я и сама знаю, – серьезно отвечала Анюта. – Она сказала: «Вы смотрите на мир сквозь розовые очки. Вы снимите их как бы… и будет все по-другому».
– Ну и как их снять? – спросила Старая.
– Этого она не сказала.
– А я, блядь, тоже на мир сквозь очки смотрю, через голубые, – сказала Яга. – Особенно когда вмажусь.
Старая затянулась и засмеялась.
– Это ты пуху на себя накидываешь, Анюта… – сказала она, выпуская из себя дымный смех.
– Нет, я просто по возможности пытаюсь всем помочь. Даже незначительная какая-то эта… я и то… Даже если не родной, а чужой с улицы, я и то не могу пройти мимо… Из-за этого я и страдаю… – тихо сказала Анюта и замолчала.
– Ты страдаешь, блядь, от того, что бухать и вставляться любишь, – злобно сказала Яга.
– А че ты свекрови своей не помогаешь? Она ж у тебя с раком лежит? – Старая зажала нос пальцами и шмыгнула. Вытянула подбородок, подняла лицо и смотрела на Анюту из-под полуприкрытых век.
– Да потому что если б не она… ничего бы этого не было бы, – с горечью сказала Анюта. – Она же шлялась всю жизнь непонятно где, у цыган убирала там, готовила. Лешку моего она вообще не воспитывала. Она его как оставила в подъезде, так вообще с тех пор не видела. И явилась такая – на все готовое, в однокомнатную квартиру… Она на работу сразу устроилась – в кафе, посуду мыть. Еду оттуда таскала. А потом ее рак взял… Ой, я даже про нее говорить не хочу.
– Не говори, – глухо сказала Старая и скинула пепел от сигареты в чайное блюдце.
– А ты, блядь, помолись за нее, ты ж святая, – сказала Яга, – вдруг поможет.
– Я за мать с отцом молюсь. Че мне за нее молиться?
Анюта стояла, упираясь локтями в стену, словно желала продавить ее и оказаться с той стороны. Из-под широких спортивных штанов, розовых, как и стена, выглядывал конец кружевной косынки, повязанной на щиколотку. Надувшись, Анюта поднимала глаза на Старую и Ягу, но сразу опускала, как будто боялась их видеть или боялась, что они увидят ее.
– Что вы Анютку мою обижаете? – хрипло заговорила Яга, растягивая слова. Улыбка развела в стороны ее опухшие щеки. – Не парься, Анютка, иди садись. Не парься, бога вообще нет.
– Бог есть, – невзрачно сказал Миша, не оборачиваясь.
– И че, какой он, если есть? – спросила Яга.
– Он, как бы это… – начала Анюта, выдвигая из-под стола еще одну табуретку. – Пастор сказал, он, как бы, как отец небесный. Короче, ты ему как ребенок, и если ты падаешь, он тебя поймает…
– Тихо! – Яга, до того глядевшая в окно, отъехала на табуретке к стене. – Кажется, Олег идет.
– Что ему тут надо? – испуганно прошептала Анюта. – Меня мать убьет.
– Может, Светку ищет, – прошептала Яга. – Может, узнал, что беременна.
Миша, взяв бутылку с белой пенной жидкостью, повернул ручку на плите, гася конфорку, и бесшумно удалился в угол.
– Меня нет… – тихо сказал он.
Посередине за столом, прямо напротив окна, осталась только Старая и смотрела перед собой полуприкрытыми глазами.
Олег остановился напротив окна, у свежевыкрашенных желтых колышков, вбитых в землю квадратом. Земля уже была вскопана. Заложив руки за спину, Олег разглядывал окно на первом этаже, из которого вырывалась занавеска, то приоткрывая лицо Старой, то закрывая его снова.
– Старая, ты, что ли? – позвал он.
– Ну я… – ответила Старая и втянула воздух, раздув ноздри.
– Миша там? – спросил Олег.
– Меня нет… – еле слышно прошептал Миша.
– Его нет… – равнодушно отозвалась Старая.
– А кто есть?
– А кто тебе нужен? – проскрипела она.
– Миша мне нужен.
– Его нет.
– Я щас поднимусь проверю! – крикнул Олег.
Старая шмыгнула носом, еще больше уронила уголки рта, как будто вдохнув чего-то неприятного, открыла глаза, высунулась в окно.
– Не поднимешься, – сказала она. – Тут замок кодовый… В подъезде…
– Скажи номер квартиры, я по домофону позвоню, – сказал Олег.
– Не говори… – пропищала из своего угла Анюта.
– Короче… – Старая несколько раз сильно зажмурилась, словно прочищая глаза, вытерла пальцами нос, сильно потянув его вниз и еще больше удлинив лицо. – Короче, сейчас Анькины родоки приедут, ментов позовут, все в говне будем. Миши тут нет.
– Че, в натуре нет?
– Говорю же, нет.
– Ну я пошел тогда…
– Иди…
Олег еще постоял, расставив худые ноги. Пнул колышек, пригнув его к земле. Пошел, оборачиваясь. Старая продолжала смотреть в окно, ее лицо оставалось неподвижным, как театральная маска, повешенная на стену. Только занавеска обмахивала его.
– Ушел? – спросил Миша.
– Да, блядь, – ответила Старая, не шевелясь.
Миша вышел из угла, снова повернул ручку, и кольцо фиолетового огня трескуче взялось за кастрюльную крышку.
– Зачем ты ему? – спросила Яга.
Миша ухватил нагревшуюся крышку плоскогубцами и сосредоточенно начал двигать ее по конфорке против часовой стрелки. Яга не сводила с него глаз. В них, суженных затекшими веками, с такой силой билась злая, все и всех на свете подозревающая мысль, что, казалось, Мишина спина вот-вот разломится на куски.
– Миш-ша, – повысила голос она. – Я вопрос задала.
– Не знаю, – выдохнул Миша.
– Гонишь, – сказала Яга, переглянувшись со Старой.
Миша застучал бутылкой по столешнице. При каждом стуке в бутылке всплескивалась пенная жидкость. Вся кухня заполнилась такими сильными глухими звуками, что казалось – со стен облетит розовый кафель и известка. Глядя на Мишу, трудно было представить, что его костлявое, почти бесплотное под широкой черной одеждой тело способно извлекать из столешницы такой звук. Казалось, что не он держит бутылку, а бутылка сама поднимает и опускает его руку. Кухня словно сжималась каждый раз, как бутылка ударялась о столешницу, и расслаблялась, когда бутылка взлетала вверх.
Наконец, стук прекратился.
– Светка правда беременна? – спросила Анюта.
– Смотри, не говори никому, – предупредила Яга.
– Вот что за человек такой? – сказала Анюта, выглянув в окно. – Взял колышек сломал. Мать сегодня собиралась там гладиолусы сажать.– Че за проходной двор! – проворчала Старая.
Возле желтых колышков стоял Ванька. Темно-синие джинсы плотно облегали его тонкие бедра, переходя в тугой пояс черной кожаной куртки, застегнутой до самого горла. Руки он упирал в бока. Дышал, раздувая ноздри, и смотрел на Старую недобрым взглядом.
– Яга, спрашиваю, тут? – крикнул он.
– Иди спроси у Яги – она тут? – обернулась Старая к Анюте.
Анюта побежала в комнату с задранной штаниной и шприцем в руках.
– Старая, я тебе сейчас все кости переломаю! – крикнул Ванька. – Яга, спросил, здесь!
Старая вытянула нижнюю часть лица, закинула голову и смотрела на Ваньку ничего не выражающим взглядом. Ванька несколько раз ударил по колышкам ногой.
– Она здесь! – вернулась Анюта.
– Она здесь, – равнодушно сказала Старая в окно.
– Зови ее, блядь! Зови, она мне срочно нужна!
Старая не пошевелилась.
Яга выбежала из комнаты, шатаясь и распихивая рукой невидимые преграды. Она одернула на себе наспех надетый свитер и занесла ногу над шлепанцем, но ее отбросило назад. Тогда она ухватилась за стену, полуприсела, выпрямила трясущиеся коленки и просунула сначала одну, потом другую ногу в шлепанцы. Открыла дверь и заспешила вниз по лестнице, клацая резиной на пятках и хватаясь за перила.
– Ваня… – выбежала она из подъезда.
Ванька тут же схватил ее под локоть и, зло шевеля четко очерченными темно-бордовыми губами, потащил ее со двора. Яга прямила ногами и заваливалась назад.
– Ван… ня… – бормотала она. – Ты при… шел… Ты при… шел… Ва… ня…
– Да, блядь! Пришел!
Ваня встряхивал ее грубо, поднимал за локти и сплевывал на каждом шагу. Из окна за ними следила вытянутая застывшая маска.В коридоре Ваниной квартиры Яга остановилась. Она больше не тряслась, стояла твердо. Насторожилась и, резко обернувшись, посмотрела Ване в лицо. Он по-прежнему держал ее за локоть и теперь сжал его в руке, словно боялся, что Яга вырвется и убежит.
Она что-то учуяла и старалась увести локоть из цепкой Ваниной руки. Ваня дернул ее. Фыркнул нетерпеливо. Яга прошлась глазами по всему его лицу – яростным медовым глазам, твердым скулам, небритым синим щекам – и застряла в ямочке на подбородке. Взгляд Яги стал жестким, а ее собственный подбородок заострился и потемнел, будто через кожу проступила кость. Яга повела локтем вниз – резко и сильно, сбрасывая Ванину руку.
– Ты охуел, что ли? – спросила она.
– Блядь, Яга, помоги мне, – процедил Ваня. – Не бросай в трудную минуту. Дай только ее найти.
Яга поджала губы.
– Да п-похую мне! – губы лопнули, и слова вырвались из них с напором.
– Яг-га! – позвал Ваня рваным от сдерживаемой ярости голосом. Снова схватил ее за локоть, и какое-то время они, раздувая ноздри, пристально смотрели друг другу в глаза. Яга сопела. Ваня не мигал. Она первая отвела взгляд, и Ваня еле заметно вздохнул, поняв, что победил.
– Тебе, блядь, это так с рук не сойдет, – жестко сказала Яга. – Будешь дозой платить. Я тебе не нанималась.
– Не вопрос, – резко сказал Ваня. – Дай только эту суку найти. Я ей голову в натуре проломлю, суке.
– Похуй мне, – отозвалась Яга.
– Короче, я пошел, – Ваня повернул ручку двери, но, перед тем как открыть, обернулся. – Ты с ними обращаться умеешь? – спросил он.
– Да, блядь, всю жизнь только этим и занималась! – Яга сверкнула на него глазами. – Найди кого-нибудь другого! Я не умею.
– Мне больше некого…
– Попробуй тогда дозу не принести, я уйду отсюда на хуй и ни на что не посмотрю. Ты меня знаешь.
– Сказал, принесу… Ты не знаешь, че им надо?
– Че?
– Че купить, говорю!
– Блядь, иди у своей проститутки спроси! Че ты у меня теперь спрашиваешь?!
– О, бля-я-ядь… – выдохнул Ваня, сжал кулак и вышел, цедя сквозь сжатые зубы: – Найду, голову проломлю.В углу, куда Яга в прошлый раз откинула одеяло, стояла синяя коляска с белой ручкой. Скрипя большими стопами по старому ламинату, Яга в несколько шагов приблизилась к ней. Остановилась и, вытянув шею, заглянула внутрь. Она вздрогнула и отшатнулась, как от сильного удара.
В двух мутно-синих глазах, смотрящих на нее из коляски, было столько страдания, что можно было подумать – они видели что-то такое. Будто младенец только что вырвался из цепких вод синего ничто. Будто пришел с той стороны, которой нет, но куда Яга ходила каждый день. По нескольку раз в день. Глаза смотрели на Ягу так, словно видели и ее начало, и ее конец. На морщинистых щеках проступала бронзовая синева, словно младенец только что был покойником – умершим во сне стариком только что лежал в гробу на кружевной подушке, продолжая видеть непрерванный сон. Будто его только что вырвали из гроба, ударили по синему темени молотком – тем самым, что забивает гвозди в крышку. Намеренно сплющили, омыли в синих расплавленных водах и положили в эту коляску.
– У-тю… – хрипло сказала Яга.
Она откинула тонкое голубое одеяльце. Под ним сгибались, прижимаясь к животу с недавно перерезанной пуповиной, короткие сморщенные ноги. Яга уставилась на розовую пятку, задохнулась и чуть не упала лицом в коляску. Схватилась за ручку и качнула коляску вниз. Младенец сжал лицо и закряхтел.
Он кряхтел и отталкивал что-то от себя то одной, то другой пяткой. Как будто не хотел видеть ни Ягу, ни все, что ее окружало. Как будто хотел уплыть, вернуться назад.Яга протянула к нему костлявые длинные руки. Ее лицо стало злым и сосредоточенным. Она коснулась пухлой кожи младенца шершавыми ладонями. Взяла его за туловище, пощупала мягкие ребра. Улыбнулась улыбкой, какой улыбаются, только когда остаются одни. Ее изъеденные фосфором большие красные руки сжимали маленькую грудь клещами кузнеца, тянущего болванку из огненной печи.
Яга подняла его над коляской, осмотрела с головы до ног. У нее затряслись руки. Время от времени она пружинила коленями и приседала. От этого младенец кряхтел громче.
Она поднесла его к себе, положила голову на сгиб руки и прижала к груди, придерживая другой рукой. Все это она делала так, словно кто-то ее учил. Младенец замолчал.
Яга подалась вбок, прислушиваясь к чему-то неслышному. Она втискивала младенца в себя до тех пор, пока он не захныкал. Яга понюхала его фиолетовое темя.
Вернула младенца в коляску, грубо накинув на него одеяло, словно желая больше не видеть. Отошла от коляски, села на диван и смотрела в одну точку на стене – долго и непроницаемо. Младенец плакал.
Яга встрепенулась. Сморгнула.
– Нахуй ты родился? – равнодушно произнесла она. – Че ты здесь потерял?
Одни заходили в белые двери автовокзала. Другие шли мимо, в том направлении и в этом. Второй этаж вокзала немного выдавался вперед и походил на две коробки, неровно положенные одна на другую. Длинные затемненные окна были заклеены рекламными постерами. И хотя небо в этот день и в этот час было на редкость светлым и ярким, красные буквы, выстроившиеся на крыше в слово «Автовокзал», погружали в атмосферу неубранности, непорядка. Пачкали небо своим грязным цветом, притушенным индустриальными дождями. И даже облака, выплывавшие из-за соседнего серого здания, в соседстве с этими буквами казались выхлопами заводских труб, хотя никаких заводов поблизости не было.
Ваня прошел киоск «Роспечати» и остановился у одного из входов на вокзал, под табличкой «Авиакассы», рядом с большим ядовито-красным холодильником «Coca-Cola». Сунул руки в карманы и засвистел. Постояв так минут десять, он зашел за угол. Повертел головой. Вернулся к центральному входу, постоял еще недолго и юркнул в открытую дверь. Смешавшись с идущими мимо касс в сторону зала ожидания, Ваня пошел в их ритме, расслабив лицо, вынув руки из карманов и глядя перед собой. Прошел мимо охранников в пухлой синей форме. Мимо круглых столиков кафе, уставленных пластиковыми стаканчиками. Быстрыми взглядами проредил толпу собравшихся в зале. Прошел в глубь и сел на свободное место, лицом ко входу, рядом с дремавшим мужчиной. Он достал из кармана ключи на металлическом кольце и покрутил связку на указательном пальце. Мужчина рядом с ним открыл глаза, окинул Ваню сонным взглядом и снова закрыл их, устраивая голову поудобней – на ладошке, положенной на большой рюкзак.
Время от времени Ваня бросал косые взгляды на электронные часы, и ключи на пальце замирали. Он усмехался красным горящим цифрам, словно не мог поверить, что они показывают правду.
– Каплями глаза залили, ничего не видно. У окулиста была, – раздался за Ваниной спиной старческий голос, мягко сплетающий слова. – Триста пятьдесят рублей заплатила. Еще семьсот на лекарства надо.
Ваня обернулся. Сзади сидела бабка в голубом плаще, покрытом серым налетом. Такой садится на одежду деревенских жителей, ходящих далекими от городов картофельными полями. Туго повязанный платок держал ее желтые, надутые старостью щеки. Она говорила в плечо молодой женщины. Та читала журнал, прикрываясь от бабки прядью длинных волос. Она ничего не отвечала бабке и даже не оборачивалась, но плечо ее приподнялось, как бы защищаясь от деревенского кружева слов.
– Пятьсот рублей я у соседки заняла – на дорогу, тысяча у меня своя была, – продолжила бабка, связывая гласные глубокими петлями, – итого…
– Екатеринбург – Рудный через Кастанай, – зазвучал голос – электронный, как цифры на табло. Бабка замолчала. – Отправление в семнадцать пятьдесят.
Ваня сплюнул и выругался.
– Сетчатка, говорят, отслаивается, – продолжила бабка. – Капли накапали, все размылось в глазах, люди чего-то мельтешат, а из границ своих вышли, как река из берегов. Где мужчина, где женщина, не разберу.
Ваня еще раз обернулся. Бабка смотрела перед собой голубыми круглыми глазами, словно недавно только с луны свалилась и видела все в первый раз. А главное – все, что видела, ее веселило и забавляло, как ребенка. Ваня мотнул головой и усмехнулся.
– Свой автобус-то хоть разгляжу? – весело спросила бабка.
– Яр – Ирбит. Отправление в восемнадцать десять, – заговорил электронный голос, и Ваня поднялся.
Засунув руки в карманы и глядя под ноги, он пошел к выходу, прошел туалет, притормозил, повел головой в стороны, еще раз дернул плечами и вернулся к туалету.
Опершись каблуком о стену, в узком коридоре, ведущем к мужскому и женскому туалетам, стояла Жаба. Ваня бесшумно приблизился к ней.
Увидев его, Жаба опустила толстую ногу, затянутую черным капроновым чулком, и двинулась в сторону женского туалета. Ваня мягко положил руку ей на спину под капюшон и повел из зала прочь.
– Че те надо? – спросила Жаба, не сопротивляясь.
– Сейчас узнаешь, – процедил Ваня. – Давай только выйдем.
Она выставила голову вперед, словно под тяжестью Ваниной ладони, челка падала ей на лицо, и Жаба откидывала ее рукой.
Они вышли из центрального входа. Ваня отвел Жабу за угол и остановился. Она откинулась к стене, ее грудь в глубоком бордовом декольте колыхнулась. Ваня заглянул в вырез наполовину застегнутой куртки. Кожа на груди Жабы отливала зеленым и была покрыта выпуклыми бордовыми точками. Ваня усмехнулся.
– И че, кто-то покупает?
– Говори, что надо, или уйду, – огрызнулась Жаба.
Ваня подошел к ней вплотную, вывернул губы наружу, будто собирался плюнуть ей в выемку на груди, и сказал, цыкнув:
– Че, Линда где?
Голос его прозвучал спокойно и даже ласково. В глазах Жабы появился злорадный блеск.
– А я откуда знаю, – нагло ответила она и оперлась каблуком о стену, ее мини-юбка задралась, показывая толстые ляжки.
– А она говорила, вы квартиру с ней вместе снимать собираетесь, – сказал Ваня. – Она сказала, ты утром за ней заехать должна…
– Че? – протянула Жаба. – Я ее уже неделю не видела. Нахуй мне с ней квартиру снимать? И так работа ночная. Еще днем мне вопли детские слушать?
– Где она? – Ваня оперся рукой о стену и, следя краем глаза за проходом, говорил Жабе в ухо. – Блядь, где она?!
– Я откуда знаю?!
– Блядь! – Ваня ударил кулаком по стене.
Жаба вжала в голову в плечи. Казалось, на своем жирном горбу она держит сейчас все здание автовокзала.
– Я не з-знаю.
– Найду ее, голову проломлю, – Ваня отстранился от Жабы. – Увидишь ее, передай суке. Узнаю, что ты ее прячешь… – Ваня выдохнул с напором. – Я тебе жирные твои ноги переломаю, поняла?
– Сказала же, поняла! – с вызовом ответила Жаба.
У тротуара напротив прохода притормозила серая «Лада». Ее дверцы и затемненные окна оставались закрыты. Машина не трогалась с места. Жаба смотрела на машину с вызовом. Перевела взгляд на Ваню, и было в нем столько приглушенной злобы, словно она ненавидела всех мужчин, а Ваню особенно.
– Мне пора работать, – толстой пятерней она отодвинула его от себя. Достала из кармана серебристую пачку «Орбита», выдавила одну подушечку в рот.
Она пошла к машине. Каблуки под ней прогибались. Жаба заглянула в окошко с пассажирской стороны, отошла к задней двери, открыла нее, и по тому, как она втискивала свое затянутое тело в машину, было видно – на заднем сиденье тоже кто-то есть.Ваня прошел несколько кварталов. Вечер словно тянулся за ним хвостом и, наконец, обогнал его. Ваня свернул на безлюдную улицу, и темнота съела его черную спину. В домах, вымерших с окончанием рабочего дня, окна не светились. Казалось невероятным, что Ваня только что прошел живые улицы – яркие и многолюдные.
Из-за угла выплыла фигура. Мужчина был в черном, силуэт его сливался с темнотой, и с расстояния невозможно было разглядеть, где его границы.
Ваня остановился, коснувшись его плеча. Вложил ему в руку сложенную купюру. Тот взял, прошелестел несколько слов Ване в ухо и пошел туда, откуда пришел.
Ваня повернул назад, добрался до оживленной части города и остановил на дороге машину.
– Улица Восьмого Марта, – сказал он, открыв переднюю дверцу «Жигулей».
Захлопнул ее, открыл заднюю и мягко опустился на потертое сиденье. В салоне пахло маслом. Водитель свет не зажигал. Ваня смотрел в окно, усмехаясь. Будто его забавляли виды города. Будто Ваня знал: он – зритель, попавший сюда проехаться и посмотреть. То, что город показывал, мало его интересовало. Ваня усмехался ухмылкой презрительной, словно знал – он не здесь должен быть, а в другом театре. Но раз уж он здесь, то пыжься, город, выворачивайся, развлекай.
«Жигули» проехали «Гринвич», вход в метро и с Восьмого Марта свернули на улицу Народной Воли.
– Останови, – выдохнул Ваня, когда машина поравнялась с большой белой гостиницей.
Протянув водителю сто рублей, Ваня вышел из машины и пошел вглубь дворов. Здесь тоже было тихо, хотя до входа в метро идти пять минут. У кирпичного дома Ваня остановился под деревом и, скрытый тенью его голых ветвей, долго изучал фасад, двигаясь глазами от окна к окну, от балкона к балкону. Можно было подумать, он считает кирпичи в кладке и простоит тут до утра.
Через некоторое время он не спеша сошел с места. Окна первого этажа, почти все забранные решетками, освещали балконы второго этажа. Обивка одного – ядовито-зеленая – отражала свет, идущий снизу, и отбрасывала едкое пятно на площадку перед балконом. Соседний балкон был обит рифленым листом железа, похожим на большую стиральную доску.
Ваня приблизился ко второму подъезду, вкрался в пространство между ним и окном первого этажа, нащупал на стене металлический желоб. Обхватил его руками, подтянулся. Закинул ногу на карниз первого этажа, громыхнув. На секунду замер. Оторвал одну руку от желоба и, распялившись по стене, схватился за перекладину белой оконной решетки. Держась за нее, оторвал вторую руку от желоба, стал двумя ногами на карниз, поставил сначала одну ногу на перекладину решетки, потом вторую, дотянулся до цементного козырька незастекленного балкона и пошарил по нему рукой. Продвинулся правее. Пошарил. Сжал в руке целлофановый пакетик, наполненный мягким и сыпучим. Сошел на карниз, все еще держась за решетку. Спрыгнул. Быстро посмотрел в ладонь. Сунул руки в карман и пошел прочь, не оборачиваясь, но по его напряженному затылку было видно – ему хотелось обернуться.Зайдя в «Гринвич», Ваня потер тыльную сторону ладони, словно убеждая себя в ее чувствительности. Он пробежался глазами по широким прилавкам с помидорами черри в стаканчиках и плоских упаковках. Прошел мимо ананасов, дынь, разрезанных пополам и затянутых пищевой пленкой. Остановился рядом с полочкой, где лежали манго разных сортов, ухмыльнулся и покачал головой, как бы говоря – я знал, я так и знал.
Ваня прошел дальше и остановился возле длинного стеллажа с бутылками вина. У другого конца стояла девушка с металлической корзинкой. На ней была пухлая жилетка с меховым капюшоном, надетая на полосатый шерстяной свитер. Обтягивающие джинсы. Гладкая кожаная сумка у бедра. Светлые волосы собраны в пучок на макушке. Она читала этикетки на бутылках. Ваня только один раз скосил глаза на нее и больше в ее сторону не смотрел. Задрав голову, он погрузился в изучение бутылок и медленно продвигался в ее сторону. Девушка шла по направлению к нему.
Раздался телефонный звонок. Она поставила корзинку на пол, порылась в сумке. Пальцем прикоснулась к экрану айфона. Ваня посмотрел на бутылки сбоку.
– Да, солнце… – сказала она в трубку таким тоном, словно вокруг нее все планеты солнечной системы совершали парад и, ответив на звонок, она сделала звонившему большое одолжение. Ваня глумливо ухмыльнулся. – В «Гринвич» заскочила… Сейчас буду. Целую, солн-це… – с лощенной усталостью в голосе пропела она.
Она положила телефон в карман и взяла с пола корзинку. Ваня подобрался, подбодрился и как будто стал шире в плечах. На дне его карих глаз промелькнула медовая искра. Можно было подумать, что он сейчас очень взволнован и возбужден одновременно.
Ваня заприметил какую-то бутылку на полке, сощурился, читая этикету, подался вперед. Девушка приблизилась к нему. В ее корзинке лежали кусок сыра с плесенью, стаканчик помидоров черри и виноград. Ваня в ее сторону не посмотрел. Девушка окинула его быстрым взглядом и вернулась к бутылкам. Ваня резко взял со стеллажа бутылку, на которую все это время смотрел и прошел близко от девушки.
Зайдя за соседний стеллаж, он сунул бутылку под резинку куртки. Опустил руки и, слегка ими раскачивая, пошел к выходу.
Ваня вышел из «Гринвича», никем не остановленный. Когда за ним съехались автоматические двери, он усмехнулся. Спустился в переход метро. Прошел его насквозь, поглядывая за колонны. За одним из поворотов, прислонившись к стене, стоял человек. Низко надвинутая кепка закрывала опущенную голову. Казалось, он дремлет стоя. Ваня негромко свистнул. Тот сразу поднял голову, подошел к нему. Ваня встряхнул рукавом, приподнял руку и показал прилипший к ладони айфон. Человек сунул руку в карман, вынул и передал Ване две голубые купюры. Ваня вытряхнул телефон в его ладони, сунул руки в карманы и пошел вверх по лестнице.
Выйдя из перехода на другой стороне, он посмотрел на «Гринвич». Его двери разъезжались, пропуская хорошо одетых вечерних покупателей, которые на расстоянии – а между Ваней и супермаркетом сейчас проходила широкая трасса – выглядели мелкими и одинаковыми. Ухмыляясь, Ваня покивал «Гринвичу», как будто хотел сказать – да, да, все это мы уже видели. Втянул щеки и смачно плюнул на асфальт.Жаба захлопнула дверцу машины. С водительского сиденья к ней повернулся мужчина лет тридцати пяти, с бледными мясистыми губами, широко расставленными водянистыми глазами и бровями, сведенными, словно щипком, двумя глубокими вертикальными морщинами. Одна щека его была выше другой, вздернутый кончик носа поднимал ноздри. Жаба смотрела в эти темные теплые дырки на его лице, пока с пассажирского сиденья не высунулся второй – молодой, бритый, худой, с опухшим носом, широкими бровями и затаенным взглядом темных глаз. Под носом у него была треснувшая язва с мелкими сухими пупырышками.
Жаба посмотрела на мужчину, сидящего рядом с ней. Этому было лет тридцать, но с передней части головы темные волосы уже сошли, оставив узкую полоску посередине. Черты его лица были правильны и обычны. Брови вскидывались, одевая домиком большие голубые глаза, прозрачные и застывшие, как стекло. Лицо его ничего не выражало, словно фасад дома, заброшенного и нежилого. Только за голубыми зрачками, как за наглухо закрытыми широкими окнами, бился кошмар.
– Что будем делать? – спросила Жаба.
– Минет, – промычал водитель, охватывая ее широкоугольником глаз.
– С презервативом пятьсот, без презерватива – семьсот. С каждого… – деловым тоном сказала Жаба, причмокивая жвачку.
– Поехали… – сказал водитель, крутанув руль.
За окном проносились размытые фигуры людей, словно вышедших из границ и слившихся с черной рекой вечера, растекающегося по автостраде. И не разобрать было, кто из них женщины, а кто мужчины. Только горящие витрины магазинов и окна кафе проливали на вечернюю реку островки желтого света.
Жаба, надув губы, смотрела на свои черные коленки. Мужчины молчали. Тот, что рядом с ней, не отрывал взгляд от дороги, и можно было подумать, он видит этот город после долгого перерыва.
Город пошел уменьшающимися домами, словно машина вносилась в другое пространство – туда, где можно спрятаться. И пространство это должно быть маленьким и укромным, чтобы в нем можно было делать никому не видные дела. Асфальт под шинами зашуршал, наверное, потому, что расстояние отрезало звуки центра города, как лезвием перерезают вены и артерии, идущие от сердца. Жаба не отрываясь смотрела на верхушки деревьев. Чем меньше становились дома, тем выше деревья.
Машина остановилась на проселке. Мужчина, сидевший за рулем, щелкнул включателем на потолке. Салон вспыхнул белесым светом, делая деревья за окнами призрачными, а людей в машине – явственными, хорошо прочерченными в замкнутом пространстве голубоватыми контурами.
Мужчины вышли из машины. Жаба ненадолго осталась одна, вглядываясь в темноту за окном. Дверь с ее стороны открылась.
– Подвинься, – сказал водитель, втискиваясь на заднее сиденье.
Жаба приподняла зад и плюхнулась посередине. Вытащила из кармана фантик, желтоватую жвачку изо рта, завернула ее в фантик и положила в карман. Повернулась к мужчине и сложила губы бантиком. Он ущипнул ее за ляжку под юбкой.
– Че, давай, – сказала Жаба.
– Сейчас дам, – ответил он и навалился на нее.
– Это еще зачем? – звенящим голосом спросила Жаба. – Секс классический – тысячу рублей. И вообще, платите вперед.
– Пасть закрой, жирная тварь.
Он засунул руку глубже и потянул за резинку чулок. Белое мясо жабы взбугрилось под резинкой.
– Трусы снимай, че сидишь, – приказал мужчина.
– Мужчина, вы платить будете?! – голос Жабы дрожал.
– Ты че, не въехала, тупая тварь? – он ткнул мякотью ладони ее в подбородок. Голова Жабы отъехала назад и ударилась о сиденье. – Жирная тупая тварь.
Жаба задрала юбку, стянула узкие черные стринги с серебряным сердечком и сунула их в карман.
– Ляг нормально, – он еще раз ткнул ее в подбородок.
Жаба опрокинулась на сиденье темной бугристой горой. Раздвинула ноги. Мужчина повалился сверху, приблизив к ее лицу широкие губы, бледные, как обескровленное мясо. Черные дыры его ноздрей обдували ее щеку, из его рта несло гнильцой, будто в зубе было дупло, в котором сдохла птица. Жаба повернула голову вбок.
– Жирная… сучья… тварь… – приговаривал он ей в щеку. – Жирное… свиное… вымя…
Он дернулся, надавив Жабе на грудь, закатил глаза до белков, брови в судороге сошлись ближе. Жаба повернулась к нему, ртом схватив горячего воздуха из его темных ноздрей.
Мужчина приподнялся над Жабой, натянул штаны.
– Попробуй сиденье испачкать, – сказал он, – похороню здесь.
Жаба подставила между ног ладошку.
– Отвезите меня к вокзалу, – проныла она требовательно и одновременно просительно.
Мужчина вышел из машины и захлопнул дверцу. Жаба села, не вынимая руки из-под себя. Она вытаращилась в окно на темные тени мужчин.
– Мамочки… – пискнула она. – Мамочки…
Дверца снова открылась. В салон ввалился молодой и сразу схватил Жабу холодными руками за шею. Он опрокинулся на нее, как уж, холодный и скользкий, раздвигая ее ноги в спущенных чулках.
– Че, в чулках, блядь? – выдохнул он. – Модная, блядь. Жирная вся такая… Зеленая, ё-моё…
Жаба молча отвернулась к спинке переднего сиденья и закрыла глаза. Ее покрытая темными точками грудь вылезла из декольте, растеклась и колыхалась, и каждый раз лицо молодого плюхалось на нее, как на подушку.
Он слез с нее и юркнул в темноту из машины, прошуршав листьями. Жаба снова села и положила под себя ладонь. В ладонь натекла мутная горячая жидкость. В салоне запахло сырой рыбой. Жаба смотрела себе на ладонь, хныча и распустив губы. Она приоткрыла дверцу машины, вылила из ладони, наклонилась и вытерла ее о мокрую листву. Закрыла дверцу, достала из кармана трусы и вытерла руку насухо. Скатала чулки до голенищ сапог. Трусы свернула и положила в карман.
Дверца открылась, Жаба обернулась. В тусклом свете белой лампы ее второй подбородок соединялся с вывалившейся грудью, которая в профиль казалась гигантским белым наростом на короткой шее.
– Выходи… – сказал третий мужчина.
– Зачем, скажите… – захныкала Жаба.
Он просунул голову в салон, приблизил свои неподвижные глаза к Жабе. Она вся сжалась и приподняла бедра, вываливая себя из машины. Мужчина захлопнул заднюю дверцу, открыл переднюю и включил фары.
Жаба щурилась. Призрачным светом фары пятнами выхватывали из сырой темноты тонкие стволы невысоких деревьев, за которыми начиналась густая темнота. Ноги Жабы отливали молочной белизной. Двое курили, стоя у капота, ломая собой два белых луча. Свет обводил их по темноте мутным желтоватым контуром, и казалось, они немного пролились за границы себя. А раскинувшееся лесное пространство, перерезанное полоской света, сжимало их с двух сторон, будто толстыми черными ляжками.
– Мужчины… – заговорила она протяжно, будто связки в ее горле отвязались и голос мог тянуться далеко, если б не рвался от грудного дребезжания. – Мужчины, отвезите меня на вокзал. Мужчины, пожалуйста, отвезите меня на вокзал. Денег не надо. Только отвезите меня на вокзал.
– Давай, раздевайся и на колени становись, – сказал третий, очередь которого была.
– Мужчина, я же вам ничего плохого не сделала… – начала задыхаться Жаба. – Не убивайте меня, пожалуйста.
– Давай, раздевайся и на колени становись, – равномерным голосом повторил он.
– Я вас очень прошу… У меня мать больная. Я же говорю – денег не возьму, – Жаба задрожала ногами.
Мужчина ее толкнул, она упала назад, во всегда сырые прошлогодние листья.
– Давай, раздевайся и на колени становись.
– Ой, мамочки… – заскулила Жаба, стянула с себя кофту, лифчик и юбку. – Сапоги снимать? – спросила она.
– Не надо, – ответил третий.
Жаба встала на колени. Ее грудь и живот потянулись к земле.
Мужчина поднял крышку багажника. Жаба заскулила. Захлопнул крышку. Жаба заскулила громче. Он приблизился к ней, чем-то гремя. Жаба зажмурилась, боясь посмотреть. Вжала голову в плечи. Она вздрогнула, когда он коснулся ее спины чем-то железным.
– Спокойно стой, – приказал он.
Жаба застыла, шевеля только губами, выпуская слюнные пузыри. Ее щеки покраснели, она поводила головой, как будто не веря в то, что она находится здесь и сейчас.
– Давайте, чай готов, – негромко позвал третий остальных мужчин.
Они подошли и сели вокруг Жабы. Третий налил из большого термоса кипяток в граненые стаканы, вдетые в металлические подстаканники. Жаба снова дернулась, и из стакана пролилось ей на спину.
– Спокойно стой, – сказал третий. – Еще прольешь, будешь всю ночь стоять.
Жаба застыла, упираясь негнущимися руками в сырую землю и стараясь подавить дрожь в локтях.
Третий, прошуршав фольгой, разломал плитку шоколада. Смахнул с ягодицы Жабы прилипший гнилой лист, положил шоколад на его место.
Какое-то время на проселке слышались только сиплые втягивания и хрумканье. Жаба со стороны походила на светящийся, молочной белизны гриб, выкормленный самой землей под слоями сухих листьев. А мужчины – на любопытных детей, собравшихся вокруг него посмотреть, до каких еще размеров он может дорасти.Жаба села на кровать, широко расставив белые ноги с черными, как кожура картофеля, коленками. Линда сидела к ней спиной на полу перед телевизором. На ней была розовая пижама, с капюшона свешивались длинные заячьи уши с атласной внутренностью. В ушах у Линды были наушники. Пережатым голосом Линда пела:
– Пусть мама услышит, пусть мама придё-о-от… Пусть мама меня непременно найдё-о-от. Ведь так не бывает на све-ете, чтоб были потеряны де-ети…
Линда шмыгала носом.
– Ведь так не бывает на све-ете… – ее голос проваливался назад в горло, и тогда Линда глотала в словах гласные. – …были потеряны де-ети…
Когда песня заканчивалась, Линда нажимала на кнопку видеомагнитофона. Было слышно, как он перематывает ленточную кассету, а Линда сморкается.
Жаба, не шевелясь, смотрела ей в розовую спину. Казалось, она спит с открытыми глазами.
– По синему морю, к зеленой земле-е плыву я на белом своем корабле-е… – начинала Линда с новой энергией, но все тем же забитым слезами голосом. – На белом своем ко… На белом своем ко… е-е.
Она обернулась и вздрогнула, увидев Жабу. Сняла наушники.
– Наташ… – прошептала она. – Наташ, ты себя вообще видела? Че с тобой?
– Производственные травмы, – ответила Жаба глубоким голосом. Поплевала на палец и потерла коленку. – Ванька приходил. Сказал, башку тебе проломит, если найдет.
– И че мне теперь делать? – заныла Линда. – На улицу вообще не выходить?
– Сдай его ментам, – Жаба зло блеснула глазами.
– Ты че? – испуганно протянула Линда.
– Как хочешь, – равнодушно сказала Жаба. – Тогда он тебя найдет, и ты пожалеешь.
Линда надела наушники, нажала на кнопку и снова зарыдала.– Че, Ваня, воруешь все, что не приколочено? – сонно спросила Яга, разглядывая бутылку, возвышающуюся на пустом столе.
Бутылка красного вина придала кухне с белыми известковыми стенами вид больной и даже умирающий. Словно она – кухня – потеряла много крови, стекшейся по черным трещинам стен и потолка в бутылку.
– Я с твоим выблядком до хуя времени убила… – надтреснуто сказала Яга. – Смесь, блядь, ему варила. Он обоссался. Чуть мне кофточку новую не испортил. Я тебе че… У меня че, Ваня, больше дел нет – вот так вот жизнь свою драгоценную тратить? – бубнила она на одной ноте.
– Какие у тебя дела? – цыкнул Ваня.
– Блядь, дела у меня. Понял? Срочные, блядь. Сейчас уйду, блядь. Понял?
Ваня выругался и отвернулся к стенке. Закрыл глаза, успокаивая себя. Яга смотрела на него с вызовом и возмущением. Ее рот приоткрылся. Волосы торчали над головой, словно парик, попавший под колесо машины. Глаза почти слипались. Все лицо у нее было таким затекшим и опухшим, словно она спала и не просыпалась неделю.
– Сдай его, Ваня, сдай, – сипло проговорила она.
– Куда? – глухо спросил Ваня.
– В детдом, Ваня…
– Ты че, охуела?! – Ваня повернул к ней искаженное лицо. – На! – Ваня бросил на стол пакетик с белым порошком.
– Это че? – выдохнула Яга, таращась на стол. – В натуре, что ли?
Ваня промолчал.
– Вань, блядь, че, в натуре… – бормотала она, и ее щеки раздувались от опухлой улыбки. – А то эти таблетки позорные… Полгода уже таблетки позорные… Сдохну я на них скоро, Ваня… Сдохну… И никто, блядь, не пожалеет. Может, ребеночек этот, блядь, вспомнит, как я его на руках держала. Может, только он меня, блядь, и пожалеет. Может, это самое лучшее, блядь, что я в своей жизни сделала…
– Фонтан заткни! – прикрикнул на нее Ваня. – И чтоб ни шагу отсюда! Поняла? Ни шагу…
– Ты че, Ваня… Я ж детей люблю, Ваня… Куда я уйду… Ты че?Яга приблизила лицо к зеркалу, оглядывая себя, приподняла подбородок, посмотрела на шею. Пальцами вытерла высохшие разводы воды с зеркальной поверхности. Заглянула себе в глаза – в один и в другой. Потрогала веко, передвигая в нем пузырь застойной жидкости справа налево. Опустила нижнюю губу, осмотрела зубы.
Засунула руку в ворот кофты, потерла подмышку. Понюхала руку. Включила воду, набрала пригоршню воды и побрызгала на подмышки, не снимая кофты.
Взяла красную пластмассовую расческу с белой полочки, прибитой к стене. Провела по волосам. Зубья расчески застряли на макушке. Яга взяла прядь волос и начала чесать снизу.
Она умыла лицо холодной водой. Пощипала щеки, покусала губы. Лампочка над зеркалом отражалась в ее голубых глазах серой четырехугольной звездой. Яга отстранилась от зеркала, посмотрела на себя издалека и улыбнулась.
Возвращая расческу на место, Яга уставилась злобно на полочку – туда, где стоял маленький тюбик. Она взяла его, открыла и выдавила каплю себе на палец. Красная капля переливалась сотней серебристых четырехугольных звезд-блесток. Яга растерла каплю по нижней губе, промокнула об нее верхнюю и теперь стояла, крутясь перед зеркалом, глазами ловя сверкание у себя на губах.
– Какая я красивая, блядь… – шептала она и улыбалась, даря зеркалу тысячи звезд. – Какая я красивая…
Раздался глухой стук в дверь. Яга встрепенулась.
– Иди заткни его, он плачет, – послышался Ванин голос.
Яга распахнула дверь, чуть не сшибая Ваню, стоявшего на пороге. Она приподняла подбородок, стрельнула в Ваню глазами из-под опущенных ресниц и оскалилась. Ваня отшатнулся.
Виляя бедрами больше обычного, Яга прошла в комнату.
Младенец кряхтел в коляске – слабо, будто умирающий старик, недовольный долго прожитой жизнью, обиженный на родственников, не обступающих его смертного одра.
– У-тю… – просипела Яга, наклоняясь над ним. – Малень-ки-й-й… Че плачем, маленький? У-тю…
Она протянула к нему костлявые руки. Младенец дрыгнул ручками ей навстречу.
– Ха-ха… – хрипло и радостно выдохнула Яга. – Ха-ха… У-тю, маленький, на ручки просишься, да? У-тю, мой хороший…
Хрипы перекатывались у Яги в горле. Ее лицо маячило над коляской – раздутое лицо, обездвиженное отечностью, через которую не могли продраться притупленные эмоции.
– Маленький… – повторила Яга, смягчая голос, но вместо мягкости в нем усилился тупой скрежет, и она сама его услышала, встрепенулась, словно слышала свой голос в первый раз.
Яга отдернула руки, повернула одну ладонью к себе и, опустив уголки рта, смотрела на короткие черные штрихи, испещряющие ее. Она провела ладонью по тыльной стороне другой руки. Опустила руки и посмотрела в мутные глаза младенца обиженным, настороженным взглядом. Он снова подался к ней всем голым телом. И Яга тогда улыбнулась. Ее губы разъехались, сжимая лицо в гримасу. Она снова наклонилась к нему, сверкая звездами, которые в необъятном количестве вышибал из ее губ луч голой лампы, висящий на потолке.
Яга завернула младенца в тонкое одеяльце, взяла на руки, прижала к себе и пошла на кухню.
Ваня сидел за столом, подперев голову рукой и, кажется, дремал.
– Памперсы кончаются, – деловым тоном сказала она. – Смесь нужна для грудничков. Че… Ползунки еще нужны всякие. Погремушки…
– Какие погремушки? Ты ебнулась совсем? – спросил Ваня сквозь зубы.
– Че ты? – обиженно спросила Яга, прижимая к себе тихого младенца.
– Он тут долго не останется, – сказал Ваня. – Я раньше найду эту суку…
– Че ты, Ваня, совсем к нему не подходишь, – строго сказала Яга. – Это ж твой сын…
– Блядь… Уйди отсюда и его унеси…
– Взял бы на руки, подержал… Ему же это… скучно… Он же все понимает, блядь… Ты че, ты видел, какой у него взгляд… Он же все понимает…
– Задохнись… – прошипел Ваня. – Убери его отсюда…
– Ты че… – Яга задохнулась, по лицу ее растеклась расслабленная тупость. – Ты че это…
Яга подошла к нему и подсунула младенца.
– У-тю… – присела она. – У-тю… Папа, смотри, какие мы…
Ваня зажмурился и отвернулся к стене. Закрыл лицо руками. Головка младенца касалась его кожаного плеча. Ваня сжался.
– Убери… быстро убери… – процедил он.
– Ты че, боишься его? – спросила Яга, выпрямляясь.
– Я наркоман, блядь! Наркоман! – Ваня ударил кулаком по стене, Яга отошла. – Мне пофиг все… Все мне пофиг… Мы живем от дозы до дозы… Сдохнем скоро… Нахуя… – сказал Ваня шершавым голосом, как будто вылезшим с самого дна, взбаламутившим собой скопившийся там осадок. – Нахуй мне к нему привыкать?– Че, блядь, ему одному теперь лежать? Без погремушки? Ты вконец охуел, Ваня. Ты конченый совсем человек…
– Я – не человек! – Ваня поднял на нее лицо, и в его глазах мелькнула злая радость. – Я – больной! Наркоман!
– Где ты, Ваня, такую болезнь видел, чтоб быть подонком… – сипло сказала Яга и вышла.
Ваня сидел, глядя в одну точку на стене и раздувая ноздри.
– Подонок… – повторил он, как будто пробуя это слово, но в его исполнении оно прозвучало не как у Яги. Она произнесла его низким голосом, Ваня – высоким.
– У-тю, – доносилось из комнаты воркование Яги. – Ты думаешь, никто тебя не любит? Ягуша тебя любит. Ягуша – добрая. Ягуша тебя никому не отдаст.
– Чертиха костяная… Овца тупорылая… Вмазалась, распелась, – усмехнулся Ваня и посмотрел в окно, на темный город, кивая ему и как бы говоря: да, да, да.
Жаба курила, глубоко затягиваясь, подперев каблуком стену. Тонкая дамская сигарета в ее толстых с черными ногтями пальцах казалась невесомой и не способной воплощаться в те густые пучки дыма, которые Жаба выпускала изо рта в темный воздух. Тяжелым, как все ее тело, взглядом она следила за тем, как пучки расщепляются, уносятся вперед, и, кажется, была в себе, оторвавшись от городской оживленности привокзального вечера, пучком мыслей растворившись в темноте сознания.
Мимо прошел лысоватый щуплый мужчина лет пятидесяти. Окинул Жабу нерешительным взглядом. Глаза Жабы на миг вспыхнули, но мужчина не остановился, и Жаба снова углубилась в себя, затягиваясь глубоко и выдыхая густо.
Было слышно, как отъезжают и подъезжают автобусы. Она оторвала ногу от стены, потопталась по холодному асфальту и снова прислонилась спиной к вокзальной стене, которая никогда не остывала, согретая движением сотен пассажиров.
– Стоишь? – за угол заглянул молодой полицейский в синей куртке.
Жаба шумно вздохнула, и дымный пучок получился таким густым и непроницаемым, что казалось – его можно потрогать.
– Стою, – любезно ответила Жаба.
– А че тебе в машине не погреться? – спросил полицейский, подходя к ней.
– Мне не холодно, – буркнула Жаба.
– А мне холодно, – ответил он.
Отодрав каблук от стены, Жаба, сопя, пошла за полицейским. Белая патрульная машина стояла у остановки. Жаба открыла дверцу и села. Лицо ее набрякло.
– Подвинься, – сказал полицейский, протискиваясь в ту же дверь.
Жаба продвинулась. Съехала немного с сиденья вниз, растопырила ноги и равнодушно уставилась перед собой. Полицейский закинул ногу на ногу, обхватил руками колено. Он улыбался. У него было худое продолговатое лицо с высокими округленными скулами и впалыми щеками. Пшеничные волосы и ласковые голубые глаза.
– Ну что, Наталья, много сегодня заработала? – спросил он.
В его голосе звучали веселые перекаты, как будто он сдерживал смех. Жаба продолжала смотреть перед собой и делать вид, что полицейский обращается не к ней.
– Денег сколько заработала сегодня? – повторил он, и в голосе его уже было меньше веселья.
– Я только на точку встала, – повернулась к нему Жаба.
– Ну так ты и вчера на ней стояла! – с прежней веселостью сказал он. – Или брешут?
– Дим, ты че? – посерьезнела Жаба. – Я только тысячу пятьсот вчера заработала. Знаешь, какие уроды попались… Че они меня делать заставляли, козлы вонючие…
– Карма у тебя такая, Наталья, – хохотнул он.
– Че?
– Карма, говорю. Но не суть важно… Тысячу сюда давай, – без смеха сказал он.
Жаба полезла в карман, повозилась там и достала тысячу. Протянула ее полицейскому.
Когда он брал тысячу из рук Жабы, что-то незаметно переменилось в его лице, а из глаз ушла ласковость.
– Я тебе сколько говорил – учись, работай, – к нему вернулась веселость. – Живи, как люди все живут. Нет, неймется тебе, Наталья… Терпенье ты мое испытываешь… Добротой пользуешься… Вон смотри, как себя опять расковыряла, ай-ай… Видок товарный подпортила… Стань честной женщиной. Детей роди. Мужа заимей. Наталь, ну че? Будем жить честно?
– Че, можно идти? – Жаба взялась за ручку дверцы.
– Не спеши… – вкрадчиво сказал он. – Сначала прокатимся.
– Куда? – тонким голосом спросила Жаба.
– Да так… В пару кафешек заехать надо…
– Дим, ты че? – заныла Жаба. – Че, ты меня запалить хочешь, чтоб меня потом к нормальным людям никуда не пускали?
– Что за люди, Наталья? – спросил он.
Жаба насупилась.
– Повторяю вопрос – что за люди, Наталья? Говорим или едем кататься?
Жаба вздохнула.
– Короче, есть один. Притон у себя собирает, – сказала она, и глаза ее снова потяжелели, словно вся тяжесть тела в них ушла, а она сама сидела, с виду невесомая и полая, как воздушный шар. – Ваня, с Ботаники он. Адрес точный не знаю. Кажется, дом сорок два. Он еще, по-моему, геру толкает. Короче, у него варятся, а сам он, говорят, крокодилом не колется, только герой.
– Кто говорит?
– Да так… Слышала… – Жаба сверкнула глазами.
– Ладно, свободна, – он открыл дверцу и сначала вылез сам.
Жаба, помогая себе локтями, выскочила из машины, пошла, нажимая на каблуки, и прислонилась к стене, круглосуточно теплой.Острие стальной иглы без сопротивления прокололо кожу и вошло в мясо так мягко, словно для него уже заранее был подготовлен желобок. Анюта покрутила иглой в разные стороны. Выдохнула и вынула ее из ноги. Она еще ниже наклонилась к ноге, стоящей на табуретке. Прицелилась глазами в точку возле щиколотки, приложила иглу, убрала.
Она отвела от окна тюлевую занавеску, посмотрела в окно и снова склонилась над ногой. Ей в глаза посмотрели красные глазки ее собственного мяса из глубоких язв. У кожи их окружали скопления гноя, густо-коричневого там, где он переходил в мясо. Между язвами кожу покрывали узоры, словно выжженные на коже паяльником. Анюта потрогала пальцем бугорок ниже колена. Он был темно-синий, в нем скопилась давно свернувшаяся кровь. Анюта потерла кожу ладонью, стараясь не задевать язв. Прицелилась, вздохнула, вонзила иглу в ногу почти до конца. Игла провалилась. Анюта вынула ее, и мясо едва слышно чпокнуло, как будто успело уже присосаться к игле и не хотело ее отдавать.
Белый день из окна освещал короткие темные волоски на ноге Анюты. На Анюте были только трусы – белые с голубой каймой. На щиколотке болталась кружевная косынка. Анюта отвела пряди длинных распущенных волос за уши и пощупала вену на стопе.
– В-с-с… – втянула она воздух через зубы, проколов иглой вену.
Вена надулась фиолетовым бугром. Анюта вытащила иглу. Выгнула затекшую спину. Поглядела пустым взглядом в окно – на двор и соседний дом. Вздохнула. Наклонилась. Воткнула иглу в ногу не глядя и надавила большим пальцем на поршень шприца.
– Опять мимо… – пробормотала она, сопя.
Положила пустой шприц на табуретку и вгляделась в глазки на ноге, открывшиеся ей навстречу тайнами внутреннего мира. Анюта поводила головой, заглядывая в глазок то с одной, то с другой стороны. Она обхватила его большими пальцами и надавила. Пополз коричневатый гной, и Анюта удовлетворенно засопела. Мясо приблизилось, выглядывая из язвы. Анюта долго смотрела на него, пригибаясь к нему, шатаясь и еле удерживая ногу на табуретке.
– А-а-а-а… – протянула и начала смотреть в глазок внимательней. – Вот почему змей подошел к Еве… А-а-а-а…
В дверь глухо постучали. Анюта выпрямилась. Посмотрела в окно сосредоточенно, словно стучали в него и она сквозь стекло могла разглядеть пришедшего. Голова заваливалась на правый бок, а нога соскальзывала с табуретки, но Анюта в последний момент удерживала и ногу, и голову, не падала.
– Анюта, стучат… – слабо позвала мать.
Анюта обернулась. Мать лежала на диване, смотрела ей в спину.
– Сама слышу, – огрызнулась Анюта и пошла открывать.Глазок удлинил нос Светки, сжав и приплюснув лоб. Через увеличительное стекло Светка стала похожа на рептилию, посаженную в круглую банку.
Анюта открыла дверь.
– Еле тебя нашла, – сказала Светка.
– А че меня искать? – спросила Анюта.
Светка вошла. Ее темные волосы были собраны в тонкий хвост. На ней были широкие шерстяные брюки, темная водолазка и золотисто-бежевая утепленная жилетка.
– Иди на кухню, – Анюта прошла по коридору, дрыгая отвисшими ягодицами.
Светка сняла кроссовки. Посмотрелась в зеркало и подтянула резинку на волосах. Вошла в кухню, села за стол. На столешнице под полотенцем сушились вымытые кружки и тарелки.
– Че, Анюта, всю посуду перемыла? – спросила Светка.
– Да я ж люблю по хозяйству… – отозвалась Анюта.
– Одна? – спросила Светка, закрывая колени ладонями.
– Да мать там… – ответила Анюта. – А так практически одна.
– Лешка где?
– А ему же это… – Аня почесала щеку, – исправительные работы выписали. Двести часов… Он теперь там работает – двор в больнице метет.
– Охота ему?
– А кому охота забесплатно работать, – зевнула Анюта. – Он то ходит, то не ходит. Сегодня, короче, хотел на кирпичный завод идти устраиваться, а этот мужик все названивает и названивает…
– Короче, я че… – сказала Светка, поджимая пальцы ног в капроновых чулках. – Ягу я ищу. Ты ее не видела? Уже третий день дома не появляется. Может, на притоне у кого? Не знаешь?
– А за ней Ванька позавчера приходил, она с ним ушла.
– Куда?
– Я откуда знаю? Он пришел такой, быстро, говорит, Ягу зовите. Мы ее позвали, она и убежала. С тех пор я ее не видела.
– Че, ты снова сама вмазывалась?
– Так Лешка рано ушел. Опять мимо вены попала. Вен же уже нет.
– Только в пах не коли, – сказала Светка. – В пах последнее дело колоть.
– Миша в пах колет, – Анюта пальцем осторожно потрогала край язвы на ноге.
– Миша – конченый…
Они помолчали. Светка поковыряла большим пальцем дырку на линолеуме. Анюта встала, взяла с подоконника спичечный коробок. Зажгла конфорку на старой, но вычищенной до блеска газовой плите. Поставила на нее красный чайник, на эмалированном боку которого распускался желтый цветок. Чайник затрещал, а через некоторое время загудел. Гудение как будто шло издалека, предвещая что-то, как гул земли предвещает приложенному к ней уху, что в эту сторону спешит кто-то тяжелый.
Светка еще раз подтянула резинку, подняла замок молнии на жилетке, наверное, думая, что ей уже пора, шмыгнула носом и осталась сидеть.
Гудение углубилось, расширяя чайник и кухню. Наросло, и Светка украдкой взглянула на Аню. Анюта ковырялась в ноге. Светка оперлась локтем о стол, помогая себе встать, но в этот момент чайник прыгнул, сотрясая желтый цветок на боку, заклокотал, крышка на нем подскочила и глухо клацнула, прихлопывая горячий пар, рвущийся вон. Анюта повернула ручку на плите, и чайник заглох.
– Черный с бергамотом будешь? – спросила она. Светка кивнула и распустила молнию жилетки на груди. – От него такой запах обалденный.
Анюта откинула полотенце и взяла со столешницы перевернутую вверх дном кружку, кинула в нее пакетик чая. Тяжело оторвала чайник от плиты – наверное, был полным. Вода из носика хлынула в кружку с шипением, но потом успокоилась. Пар отлетел от кружки, как душа отлетает от тела – моментально и пугливо. Так же быстро он растворился в кухонном воздухе. Анюта аккуратно взяла кружку за дужку и поставила перед Светкой.
– Тебе с сахаром? – спросила она.
– Сахар – вредно, – замотала головой Светка.
Она взяла кружку и отпила, скользя губой по ее горячему краю.
– А свекровь твоя так и лежит? – спросила она.
– Да ей уже маленечко осталось, – сказала Аня, присаживаясь напротив Светки.
– Слышит, наверное, тебя, ты хоть тише говори… – Светка понизила голос.
– А мне все равно, пусть слышит. Кто она мне?
– Лешкина мать все-таки…
– Ага… Мать она… Кукушка она, а не мать, – громко сказала Анюта и посмотрела в сторону комнаты. – Надоело за ней ейное говно выносить…
– А Лешка че?
– А Лешка ниче… Лекарства ей покупает. На эту… химию возит. Мне вот никогда ничего не купил. Короче, я поставила на них обоих крест. Конченые они люди.
Светка помолчала и отпила из чашки.
– Да, у бергамота такой запах, – сказала она. – Яга тоже говорит, что мать нас прокляла… – проговорила она, ударяя в слове «прокляла» первый слог. – Говорит, поэтому у нас счастья нет.
– А че она вас прокляла?
– Ну, мы как колоться начали, она сначала плакала, просила. Потом, как отец умер, она нас и прокляла.
– Ты сама слышала?
– Нет, я такого не слышала, чтоб мать нас проклинала. Яга говорит, слышала. Но я сомневаюсь. Отец нас не проклинал, че, мать родная своих дочерей, что ли, проклянет?
– Такая, как Лешкина, еще не то со своими детьми сделает, – сказала Анюта.
– Ждать, пока мать умрет, – как-то не по-человечески, – серьезно проговорила Светка и отпила. – А так жить – тоже жизнь проходит.
– Почему у Бога счастья не просишь? – спросила Анюта и нахмурилась. – Он все исполняет… – добавила она и посмотрела на Светку со строгим осуждением.
– Да как же, исполнит он… – буркнула Светка в чашку.
– Я когда просила, мне дано было… – с жаром сказала Анюта, и ее щеки покраснели. – Я очень верующая… Я сказала ему: «Помоги мне, Господи», и он помог.
– А я Боженькой его называю… – вставила Светка.
– В-вот… – произнесла Анюта тоном учительницы. – Там, наверху, купол есть. Там как бы точечка есть специальная… Как бы центр света, ну свет там сходится. Туда надо встать и просить – все что хочешь. Я просила, у меня все сбылось… Только взамен что-то надо отдать… – добавила Анюта и с вызовом посмотрела на Светку.
– А что ты отдала? – спросила Светка.
– Ребенка отдала… Выкидыш у меня был… Я ж тогда маленько беременной была, – Анюта заговорила шепотом. – Я еще не знала. Потом пошла в туалет, он из меня вывалился.
– И че ты с ним сделала? – подобралась Светка.
– Он как бы это… зацепился, а я ж всех тонкостей этих не знаю. Смотрю, что-то болтается. Я взяла бумажку – вот так вот оторвала… Потом когда уже в унитазе на него посмотрела – там ручки, ножки, зародыш, короче, такой. На котенка с ободранной кожей похожий. Потом бабушке рассказала, она говорит: «Ты хоть бы взяла, похоронила»…
– Салеева тоже своего мужа не хоронит, – сказала Светка.
– Не говори… – Анюта хлопнула ладошкой по столу и посмотрела на Светку, крутя головой, как будто не могла найти слов для Салеевой. – С покойником в одном доме жить – грех же. Когда мать-то умрет… – Анюта повысила голос и глянула в сторону комнаты, – может, тоже ее кремируем. Папа Петя говорит, сейчас места на кладбищах дорогие!
– Ты че, Ань, тише, она же все слышит… – прошептала Светка.
– А между прочим, – с укоризной сказала Анюта, – она сама все должна понимать. У нее уже четвертая стадия. Сколько ей осталось?
– А че ты сейчас у Бога ниче не просишь? – спросила Светка.
– А че мне просить? – сощурила глаза Аня. – У меня никаких желаний нет. Когда пойму, чего хочу, тогда попрошу. Я, может, только ребенка бы хотела, и Лешка очень хочет, только я знаю, что нормального уже не рожу.
– И че ты с ним будешь делать, если родишь? – Светка насторожилась и отставила чашку.
– Я знаю только одно… – по Анютиному лицу прошла легкая судорога. – Каким бы он теперь ни родился, я бы ни за что его не бросила.
Она снова посмотрела в сторону комнаты.
– А че ты у Бога не пйосишь йе-ебенка? Ноймального… – вдруг заела Светка.
– А мне, Свет, рассчитываться с Богом нечем, – жестко ответила Анюта. – У меня ничего нету. Даже шести рублей на новый шприц. Были б деньги, я б деньгами рассчиталась… У меня даже, знаешь, че… – Анюта подобрала ноги на табурете, – такая мысль была – дать объявление. Люди ж собираются на праздники. Может, кому-то надо салаты резать. А я ж готовить люблю больше всего, это – моя страсть. Просто люблю возиться с продуктами на кухне.
– У тебя ж медкнижки нет, – сказала Светка. – С такими ногами тебе никто не даст.
– Ну и вот… – вздохнула Анюта. – И выходит, что опять двадцать пять…
– Тебе еще нужен пакетик? – Светка достала пакетик из кружки за веревочку. – Не выбрасывать же…
– Давай, Лешка придет, ему заварю, – Анюта встала и поймала капающий пакетик в чистое блюдце.Ваня огляделся. Потом посмотрел под ноги и вверх – на небо – через ветви дерева, под которым стоял. Небо было высоким, как всегда, и гоняло по себе слои белесых туч и атмосферной рвани, закрывающей звезды. Даже если никаких звезд нет, через толстые слои их отсутствие не разглядеть. А так как звезды на небе предполагались, то слои несли с собой сожаление о том, что они тут вместо звезд и такие непроглядные. Поэтому в таких городах, как Екатеринбург, им – нижним слоям – всегда выносят обвинительный приговор, даже если их вины нет.
Ветки, прочерчивающие небо темными жирными полосками, изменились с позавчерашнего дня, вернее, ночи. Ваня усмехнулся, словно странно ему было, что все так быстро растет. Местами темная гладкая кора веток натянулась под бугорками, которые почему-то в этом пустом дворе, с этими уходящими вглубь желтыми окнами, за которыми не жили, а прятались, под этим непроницаемым небом, казались инородными, внедрившимися под кору для того, чтоб разрушить. Вытянуть зеленую жизнь и оставить опустошенным, умершим почти. Ваня зло схватил ветку, наклонил ее к себе и расковырял там, где был бугорок.
Его ноготь, продрав коричневую пленку, провалился в нежные, рвущиеся при одном прикосновении пелены. Ваню передернуло, будто от отвращения. Он посмотрел на вскрытую почку. Даже в отдаленном свете затянутых занавесками окон видна была нежность пелен и их пока несовместимость с жизнью наружу. Ваня схватил ртом воздух, отдернул руку от ветки, и она прыгнула вверх, как будто убегая, но тут же вернулась и коснулась его виска. Ваня сжался, как сжимался на кухне, когда Яга поднесла к нему младенца. Глянул в небо. Ухмыльнулся: да, да, да. Сплюнул – сочно и далеко.
Он вышел из-под ветвей. Приблизился решительным шагом, какой бывает, когда ходят по дорожкам уже знакомым, к стене. Нащупал желоб и, уже не проверяя его на прочность, подтянулся. Поставил ногу на карниз, другую. Зацепился за решетку, подтянулся, схватился за карниз балкона. Повис, передвигаясь на руках к другому его концу, щупая ладонями холодный бетон, покрытый мелкими бугорками.
Наткнувшись на пакетик, торчащий из щели деревянной обивки, он запрокинул голову к небу. Там, в далекой темноте, прорывая острыми лучами атмосферные слои, сияла звезда. Ваня усмехнулся. Звезда пожелтела и двинулась – уходя вправо, скрылась ненадолго в белесых прожилках неба и полетела дальше по ровной траектории. Ваня сжал пакетик. Оперся ногами о брусья решетки. Еще раз бросил взгляд на небо – на звезду-самолет, уносящую из этого города сотню людей, слившихся в одну точку, размером не больше белой песчинки из пакетика в Ваниной руке. Он оскалился в высоту. Отпружинил ногами от брусьев, повис на одних руках, сжался перед прыжком.
Внизу раздался шорох. Тень легла на Ванину спину. Он обмяк еще до прыжка, руки выпустили карниз, Ваня упал на спину. Было слышно, как в ней что-то мокро хрустнуло, словно переломленная ветка.
Он хотел приподняться, застонал, его лицо сморщилось в гримасе боли. Повернул голову вбок, его зрачки расширись от боли, вытягивающей из радужки медовый цвет. Оскалившись, он прилип глазами к звезде и двигался за нею. Звезда, наконец, ушла, и ее место заняло вытянутое лицо Дмитрия. За его спиной стояли еще трое, но в угол Ваниного зрения они не попадали. Дмитрий улыбнулся молодыми ласковыми губами. Пнул Ваню в бок. Ваня зарычал.
– Принят, – сказал Дмитрий, подошвой ботинка наступая на Ванину ладонь.– Ой-й… – захрипела Яга. – Ой-й-й… Я такую работу потеряла… Такую-ю… если б ты знал. У меня за сутки семь тысяч выходило. Три всегда было. Я все потеряла… Я норковую шапку потеряла… Это ты на меня сейчас не смотри… – Яга замотала головой. – Это я сейчас вся такая – чертиха ненакрашенная… Не смотри-и-и…
Сидя на диване, она навалилась на ручку коляски, приподняв задние колеса. Младенец приблизился к Яге. Он смотрел на нее.
– Мы ж у «Космоса» жили. Потом папа нас на Вторчермет перевез. Нет, чтоб квартиру возле «Космоса» оформить, сейчас сдавали бы, за деньги бы… Нет, взял нас привез на этот Вторчермет гребаный… Наркоманский… Вообще.
Младенец икнул. Потянул вперед руки с пальцами – бледными, разбухшими, словно он несколько месяцев лежал в воде. И словно теперь искал привычную воду вокруг себя. Слабыми кулаками он потер нос, пустил пузырь изо рта, лопнувший и прицепившийся нитью слюны к рукаву его распашонки.
– Цё ты, маненький! – тонко пропела Яга, и у нее сразу сперло дыхание, ее хрусткий голос сломался в горле. – А ты, маненький… Заслюнявился? Ягуша тебя вытрет. Ягуша тебя сейчас вытрет.
Краем пеленки она вытерла ему рот. Младенец сморщился недовольно.
– А ты – мой! – кудахтала она. – А ты холёсенький! У-ти… У-ти-тю… У тети Полиных дочек – квартиры, машины… – продолжила она и говорила уже не сюсюкая, а вдумчиво. – А мы со Светкой бегаем по Вторчермету и не знаем, где свалимся… Меня спроси имя президента, а я не знаю, кто у нас президент сейчас. Кха-ха-ха, – Яга запрокинула голову и рассмеялась. – Все люди одинаковые, – сказала она, прокашлявшись или просмеявшись. – Так говорят. Но не скажи, не-е… Не-е-е, все люди разные. Люди знаешь как нос задирают. Какие становятся. Кого-то власть портит, кого-то – деньги. Люди меняются, – она говорила нараспев, будто выпускала из себя застойную песню.
Младенец выкинул в ее сторону слабую пятерню, схватил что-то в воздухе, казалось, какое-то из слов Яги, и потянул его в рот.
– А ты – потягушечки?! Потягушечки маненький! – обращаясь к младенцу, Яга подскакивала, дергала плечами, суетилась вся, словно одновременно с движениями младенца в ее сторону из дивана выскакивало шило и кололо Ягу в зад. – Ягуша тебя любит, – сказала она и угрюмо замолчала. – А отец твой меня никогда не любил, только пользовался мной, когда я на заправке работала. Любовь – это вообще… – многозначительно сказала Яга. – Это – вообще, что-то такое… Как без нее. А что? – удивилась самой себе Яга. – Можно разлюбить? Если так любить, что потом можно разлюбить, то это и не любовь. А у меня всегда так – я кого-то люблю, а меня – нет… Ну почему так? Вот возьму сейчас, тебя полюблю, а ты меня любить не будешь. Почему так? – тонким жалобным голосом спросила Яга. – А я не знаю, – басом ответила самой себе. – Ну почему так? – снова спросила с жалобой. – А я не знаю, – ответила басом. – Почему? Не знаю я… А один раз мне один знаешь че сказал? Я тебя, короче, не люблю, давай будем друзьями. Пизде-е-ец… – протянула Яга. – А почему так? А я не знаю… Как жить? Все моешь, моешь эти спички. А жить как? А жить-то неохота вообще… Вообще неохота… – Яга посмотрела тяжелым взглядом на младенца. Он лежал с закрытыми глазами и время от времени издавал короткие звуки, похожие на довольное кряхтение. – А мне еще знаешь че говорят? В это пойти… в анонимное общество наркоманов… А это ж надо встать, с кровати сойти, доехать… А у меня знаешь как все болит? Как у меня подмышки болят. Не попадешь в вену, начинается этот… абс… абсцесс, – просвистела Яга. – А я же и так инвалид – пять тысяч получаю. Поэтому ты не парься… Деньги есть. А раньше я на заправке восемь тысяч каждый день делала, сумки себе покупала, в солярии ходила. Вот Старая в неделю тридцать тысяч получает. За неделю – это много. А мама отработала месяц без выходных, она же в этот салон устроилась, там кровати массажирующие, короче, без выходных отработала, шесть тысяч получила. А я же еще этот… английский в школе учила. Ты, короче, когда вырастешь, сразу учи английский, потому что без английского в нашей жизни – никуда. Я еще знаешь че могу сказать? Ландан из э кэпитал оф Грейт Британ. Надо было сразу в дамки пролезть, чтоб не копошится во всяком говне… Вот тети Полины дочки, они пролезли, теперь, короче, не здороваются такие… Вот гольфы новые купила – уже дырка… – Яга вытянула вперед свою стопу в черном капроновом гольфе, порванном в нескольких местах. – У всех ноги как ноги, – проворчала она, – у меня – какие-то ласты… Я еще иногда думаю, когда умру, может, мать мне купит новые туфли. Че, буду лежать с этими ластами в гробу, может, еще крышку закрыть не смогут – ноги-то большие. Я хотела, чтоб мать первой умерла, чтоб пошла она в баню, и там приступ у нее случился. На сердце же пар действует. А меня баня только спасает – токсины всякие выводит. Мне раньше нравилось, когда мы с родителями сидели на диване телевизор смотрели. Тогда телевизоры были не на пульта´х, – она ударила на последний слог, и прозвучало, как если бы она ахнула. – Мы вместе сидели, так хорошо было. Еще я очень в тире стрелять любила. Че, были у нас счастливые дни. Только я их все проколола. Сейчас мать отдельной жизнью живет со своим мужчиной. У некоторых матери – как подруги. У нас такого не было. Лет пятнадцать уже живет, как будто я не знаю. Больше нас она его любит. А Светку Олег избил. А я не могу, когда меня бьют, не могу с такими тряпками жить. Че, думаешь, меня не били… Я хочу, чтоб мужчина мной командовал, чтоб он сказал: «Больше не будешь колоться», и я бы послушалась. А таких мужчин нет… вообще… А Ванька меня не любит… А я же думала, он – импотент, а он, видишь, тебя сделал… А я же влюбчивая очень, быстро привязываюсь к людям. Меня погладят, и у меня сразу – чувства к ним. Уже столько всего… но все равно хочется…
Ерзая запрокинутой лысой головой по дну коляски, младенец издавал равномерные звуки, словно новорожденный слепой зверь с безволосой кожей. Яга молчала, не успокаивала его, только шумно раздувала ноздри. Ее лицо застыло, и, казалось, сейчас она смотрит в лицо младенца, как в зеркало прошлого, и в зеркале этом они похожи – оба опухлые, словно вымоченные в околоплодных водах.
– А не буду я тебя любить, – мрачно сказала Яга. – А может, и буду… Буду? – спросила она себя. – Не буду, – ответила. – Буду? Нет, не буду.
Младенец открыл глаза-щелки, обвел ими пространство, остановился на лице Яги. Схватил в воздухе пальцами.
– А ти! – взвизгнула Яга, подпрыгнув на диване. – А ти мой маненьки-и-ий… А ти к Ягуше на ручки захотел?! Ягуша сейчас тебя возьме-е-ет. Ягуша покорми-и-ит…Миша спустился по ступенькам аптеки. На последней огляделся. В нескольких десятках метров по дороге проезжали машины. Их фары светили тускло. Кажется, их заглушал дневной свет, который смешался с темью, но еще до конца не ушел из воздуха. Миша быстро пересек асфальтовую площадку между аптекой и входом в чужой двор, огороженным деревьями, только что выбеленные стволы которых фосфоресцировали известкой. Миша втягивал голову в плечи, как будто ожидая чего-то. Его ноги растворились в темноте. Хорошо видны были только плечи и белесое лицо с двумя темными провалами вместо глаз. Над девятиэтажкой, к которой шел Миша, уже маячила луна – неполная, белесая, с темными пятнами.
Миша вошел в полосу деревьев. Ему оставалось сделать шаг из нее – в квадрат двора, замкнутый домами, окна которых лили желтый свет на палисадники и просвечивали щели в скамейках. Еще не зажженные фонари прореживали стальными столбами деревья, под которые ступил Миша, и смотрели им в кроны плоскими тупыми головами.
– Миш-ша, – зашелестело в голых ветвях.
Миша сразу остановился. Он не вздрогнул, как не вздрагивают люди, ожидающие чего-то вот-вот. Не двигаясь, Миша ждал. От дерева отделилась фигура.
– О, Миша, ты в очках, – сказал Олег, обойдя его и остановившись в шаге напротив.
– В очках, – подтвердил Миша.
– А че так? – спросил Олег.
– Солнце было.
– Солнце нам, вампирам, – не луна, – засмеялся Олег.
Уголки Мишиного рта расслабились и опустились, открывая бледную мякоть нижней губы.
– Ты прятался от меня, что ли, Миша? – спросил Олег.
– Я не прятался, – тихо ответил Миша, прилепляя губу назад к зубам.
– А че я тогда тебя найти не мог? – вкрадчиво спросил Олег.
– Не знаю. Я у Вадика был, у Салеевой был. Че меня искать?
– Что в карманах, Миш-ша? – Олег расставил ноги.
– Че? – переспросил Миша, как будто не расслышал.
– В карманах че? – переспросил Олег, как глухого.
– Таблетки, че, – почти безголосо ответил Миша.
– Доставай.
– Это – Вадика.
– Мне похуй чье.
Миша не шевелился, уставившись в расплывшееся от ухмылки лицо Олега. Вдруг зажглись фонари, и в черных кругляшках на лице Миши отразились два Олега. Тупая голова фонаря, бросая сноп света вниз, выхватила из темноты обоих мужчин, хорошо прорисовывая их черные силуэты. Свет зароился на груди Олега золотой пыльцой, как будто притянутый лимонным цветом его футболки в мелкую сетку.
Миша сунул руку в карман, вынул несколько пластинок таблеток, перетянутых красной резинкой. Олег взял их и положил в карман расстегнутой темной ветровки.
– Ну, я пошел, – сказал Миша, не трогаясь с места.
– Куда пошел? – по-собачьи огрызнулся Олег. – Стоять на месте. Тебе кто разрешил дергаться? Че за люди, блядь, охуевшие вконец.
Миша не шевелился. Олег пожевал губами, как будто собираясь рыгнуть. Губы его напряглись, открылись, показав сжатые передние зубы.
– Светку видел? – спросил он.
– Один раз на прошлой неделе у них на хате варился, – ответил Миша и подтянул плечи до ушей.
– Че, вставлялась?
– Не видел.
– Не видел или не знаешь?
– Не видел и не знаю.
– Че я тебе сделаю, Миш-ша, если узнаю, что ты ее вставлял? – вкрадчиво спросил Олег.
– Не знаю. Я не вставлял.
– Че я тебе сделаю, ты слышал вопрос?
– Не знаю, че.
– Тогда узнаешь, че.
– Я не вставлял. Ягу вставлял.
– Увидишь Светку на квадрате, сразу мне скажешь. Понял?
– Понял. Я пойду?
– Сто-я-я-а-ать. Еще ч-че… – Олег сунул руку в карман штанов и вытащил оттуда бумагу, сложенную вчетверо. – Письмо я этой ов-ц-це написал. Передашь, короче, как увидишь. В руки, понял?
– Эсэмэс ей напиши, – сказал Миша.
– Я письмо, блядь, написал. В руки, понял?
– Понял.
– Смотри, не забудь.
– Я пойду.
– Иди на хуй отсюда.
Двое мужчин вышли из полосы деревьев и двинулись в разных направлениях. Мишины плечи расслабились, отпустили шею, и он сделался выше.
– Вадику привет передавай! – хохотнул уже с расстояния Олег.Половицы скрипнули. Яга обернулась на коляску. Постояла так, навалившись на одну ногу. Из дырки на гольфе торчал большой палец. Нитки черного капрона впивались в него. Яга оторвала от пола вторую ногу, зашаталась, состроила коляске рожу, опустила стопу на пол, присела. Половица скрипнула тише.
В коридоре Яга, держась за стену, подняла ногу, освободила большой палец из капроновой петли, влезла в резиновые шлепанцы. Взялась за ручку. Обернулась. Подождала. В квартире было тихо. Яга открыла дверь, вышла за порог, нажала на ручку, медленно повела дверь вперед. Когда дверь закрылась, Яга, скорчившись, отпустила ручку и начала спускаться по лестнице.
Выйдя из подъезда, она сощурилась – солнечный свет сверху косо набросился на ее лицо, моментально проник в глаза, выедая из них комнатную темноту. Яга метнула взгляд вверх, тоже по косой. Ее глаза блеснули белесо-голубым. Яга быстро поднесла к лицу руку и навесила над глазами ладонь козырьком. Она огляделась и принюхалась. Возле подъезда росли невысокие кусты. От них пахло – чем-то желтым и сыпучим. Еле заметные шишечки набухли под тонкой глянцевой корой. Чувствовалось, что кусты уже проснулись. Она потерла грудь, словно там не помещался ни запах кустов, ни с порога набросившаяся на Ягу весна. Яга шмыгнула носом.– Жизнь мимо проходит, блядь, – проговорила она.
Яга нырнула под шерстяное одеяло. Замахала руками, отдирая его от лица. Перед ней, воткнув руки в бока, стояла Салеева.
– Дверь вообще не закрываем? – спросила Яга.
– Это Ваджик, урод, уходил, за собой не закрыл.
Яга разулась. Палец снова торчал из дырки. Яга наклонилась, потянула за концы дырки, гольф съехал вниз, она смотала его в жгут и подложила валиком под пальцы. Загребая по полу одной ногой, пошла в комнату. Медаль на стене поймала из окна свет и метнула в глаза Яги, как только та показалась на пороге.
– Бля-а-а… – Яга отвернулась к дивану.
Свет, входящий с балконной двери, выедал на диванной обивке темные пятна, и, казалось, желтый поролон из прорех выдавливал тоже он. Свет шел через спину ребенка, сидевшего на балконном полу. Он играл с маленькой красной машинкой, которую возил по урне, лежащей на полу боком.
На диване сидел Миша. На его бледной щеке под глазом голубело пятно. Анюта, сидевшая с другого края, закинув длинный хвост за плечо, обрывала с волос посеченные кончики.
– Привет, – быстро поздоровалась она.
– Еще кто-то придет? – спросила Яга, обводя глазами посветлевшую от весны комнату.
– Вроде нет, – сказал Миша.
Яга обернулась. В кресле, в самом темном углу, куда свет, кажется, боялся заглядывать, сидела Жаба. Запрокинув жирный подбородок и полуприкрыв глаза, она разглядывала Ягу.
– Светка тебя искала, – сказала Анюта.
– А-а-а, – протянула Яга, аккуратно присела на край дивана, закинула ногу на ногу и сцепила руки на колене.
Жаба продолжала давить на нее глазами. Вошла Салеева. Солнечный свет высвечивал пятна и на ней, как на диване. Казалось, что за несколько дней пигментные пятна на ее носу погустели, разрослись и расплескались по подбородку, груди и открытым плечам.
Жаба перевела взгляд на Салееву и смотрела на нее, пока та не повернулась к ней. Тогда Жаба подняла бровь и кивнула на Ягу.
– Яга… – сказала Салеева, расставляя ноги. – Ты Ваню не видела?
– Не видела, – буркнула Яга.
– А когда ты его видела?
– Ты очень низкого мнения обо мне, Салеева, – пробасила Яга. – От него другие будут рожать, а я за ним бегать буду?
Салеева перевела выразительный взгляд на Жабу. Та растянула поджатые губы, от чего ее щеки надулись буграми.
– А че тогда Анюта говорит, он прибегал к ней за тобой, и вы вместе ушли? – спросила Салеева.
Яга полуобернулась на Анюту. Анюта резко оборвала кончик волоса.
– А-а-а, это… – другим голосом протянула Яга. – Я уже и забыла. Это когда было – три дня назад, да, Анюта? – со сладкой улыбкой спросила Яга.
– Да, – тонко поддакнула Анюта.
– Приходил он, хотел меня на точку послать. Я сказала, прошли те времена.
– А че, он сам на точку сходить не мог? – Салеева переступила с ноги на ногу. Солнце золотило тонкие короткие волоски на ее крепких икрах.
– Я не поняла, че за допрос? – мрачно произнесла Яга, фыркнув. – Если б я хотела с Ваняткой видеться, – миролюбивей произнесла Яга, – я б ни у кого разрешения просить не стала. Только нахуй он мне после своего предательства нужен? Когда я на заправке работала, по восемь тысяч делала, он, короче, такой приходил, типа любил меня, – монотонно забубнила Яга. – А когда меня Фадик, гнида, заложил, Ваня такой сразу в кусты. Сразу трахаться со всеми. А я че, совсем себя не уважаю? – Яга еще раз фыркнула и отвернулась к балкону, где ребенок гудел и жужжал машинкой по урне. Урна скрипела на плиточном полу.
Салеева снова переглянулась с Жабой.
– А где ребенок его, ты не знаешь?
– Ты охуела, Салеева? – Яга полоснула ее взглядом. – Мне, может, еще с цветами и погремушками к его бляди прийти? Мне, блядь, какое дело до его ребенка? Ты че мне такие вопросы задаешь? Вообще… Не видела я евонного ребенка и видеть не хочу. Сходи к нему сама, блядь, если так интересуешься.
Салеева развернулась и вышла из комнаты. Жаба встала и пошла за ней. Из кухни донесся их шепот.
– Че этой жирной твари от меня надо? – спросила Яга, расцепляя колено. – Че она тут всех против меня настраивает?
Анюта пожала плечами.
– Яга-а-а, – потянулся из кухни голос Салеевой. Он становился ближе и, наконец, она сама вернулась в комнату. – Ты капли принесла?
– А надо было? – вспыхнула Яга.
– Нет, блядь, не надо! – Салеева уперла руки в бока.
– Завтра принесу, – сказала Яга.
– Сегодня Жаба на закуп давала. Она не хочет тебя на халяву вставлять. Короче, если б мой закуп был, я б ниче не сказала, ты меня знаешь.
– Анюта, а ты че принесла? – Яга повернулась к Анюте.
– А мне же никто ничего не говорит, – Анюта вжалась в угол дивана узким плечом.
– Понятно, – усмехнулась Яга. – Че, блядь, я никогда таких разговоров не веду? Скажи, Миша? – она повернулась к Мише. Миша промолчал. – Короче, с этого дня как мне, так и я вам.
– Я же ни при чем, – сказала Анюта.
– А че я могу? – спросила Салеева. – Закуп не мой.
Яга встала, вышла на середину комнаты, перегородив собой свет. Фыркая и усмехаясь, она расстегнула молнию на боковом кормане куртки, сунула в него пальцы. Желтые зубья молнии скребнули по ее коже. Пошевелив в кармане рукой, она вынула из него пластмассовый флакон, в котором мутилась прозрачная жидкость.
– На, блядь, – протянула она Салеевой.
Салеева цапнула капли из ее скрюченных пальцев.
– И скажи этой… – Яга запнулась, – мне чужого не надо. Я сама, блядь, деньги делать умею, у меня по городу все схвачено. Я не на вокзале пиздой торгую.
– Тс-с-с! – цыкнула на нее Салеева. – Услышит, обидится.
– На правду не обижаются, – Яга шумно села на середину дивана и, закинув руку на спинку, развалилась. – Че сидим, Миша? – сварливо спросила она.
– Тогда я пойду вариться? – спросил Миша, вставая.
– Ниче-ниче… – процедила Яга так тихо, чтоб ее слышала только Анюта.Яга открыла глаза. Она сидела на полу, привалившись спиной к стене. Дверь на балкон была по-прежнему открыта. Солнце садилось с той стороны и, кажется, хотело дотянуть желтый полуденный глаз до Салеевского окна, чтобы подглядеть за людьми, которые, наверное, и сами не знали, что с ними было, где они были и кем стали с того самого момента, как по их венам пополз крокодил. Яга огляделась по сторонам так, словно не узнавала эти стены. И только увидев урну, лежащую на боку посреди балкона, кивнула и с виду успокоилась.
Над урной золотой пыльцой роились пылинки. Они поднимались от старого коврика, на котором сидел ребенок. Красная машинка в его руке с вжиканьем описывала дугу в воздухе, опускалась на коврик, проносилась по нему металлическими колесами, цокала об урну и громыхала по ней, как по чересчур выгнутому, залитому бетоном мосту.
Подрагивая веками, Яга следила за рукой ребенка. Казалось, она вышибает из урны золотой прах, и тот поднимается вверх за ней, описывая дугу. Лицо Яги расплылось в тупой ухмылке.
– Анюта, ты хотела кино показать, – послышался голос Салеевой.
Она лежала на диване, растопырив ноги, опершись затылком о подлокотник, над которым торчал пучок ее льняных волос. Подбородок Салеевой втыкался в грудь, и голос выходил натужным и шершавым.
– Сейчас, – Аня выбралась из-за дивана, где сидела на полу, так же, как Яга, привалившись к стене.
Она вытащила из кармана джинсов телефон – прямоугольный, черный и плоский.
– Откуда? – приподнялась на локтях Салеева.
– У сестры Маринки взяла. Сегодня надо отдать.
Анюта села на пол, поджав под себя ноги. Сосредоточенно ткнула пальцем в гладкое стекло. Экран загорелся зеленым. Яга придвинулась к ней.
– Миш-ша! – позвала Салеева, вставая с дивана. – Иди, Анюта кино будет показывать.
Миша бесплотно впорхнул в комнату. Сел рядом с Анютой. Четыре головы склонились над гладким экраном.
– «Мост» называется, – сказала Анюта.
Заиграло пианино – плавно, по-рождественски, но Рождество как будто отмечалось без Деда Мороза, а с Санта-Клаусом, и не здесь, а в другой стране. И от пианино, записанного неизвестно кем, неизвестно когда и где, но точно не здесь, шел неживой металлический отзвук, как будто под молоточки клавиш подложены монетки.
На экране появился бледный человек с ввалившимися щеками, в черной шапочке.
– На тебя, Миша, похож, – сказала Яга, повернувшись к Мише.
– На зэка он похож, – сказала Салеева.
– Тихо! Смотрите, – шыкнула Анюта. – Так ничего не поймете.
На экране на черном фоне под музыку поплыли белые нерусские буквы.
– Это тут, короче, написано, что был один человек, и у него был сын. Дальше там напишут, что этот человек был смотрителем моста, – деловым тоном объяснила Анюта.
– Ты че, по-английски заговорила? – повернулась к ней Яга.
– Нет, нам пастор перевел. Это он в церкви нам показывал… Все, тихо! …Короче, там еще написано будет, не помню где, что он этого сына очень любил.
На экране показался мальчик в шарфе. Он бежал по редкому проселку, махал руками и улыбался. За ним, шатаясь, бежал мужчина.
– Миша, копия ты, – хрипнула Яга.
– Тс-с!
Они добежали до железнодорожного полотна, и мужчина положил мальчику руку на плечо. Показал рукой вдаль. Там лучи восходящего солнца прореживали металлический каркас моста, раскинувшийся над рельсами, как остов гигантской рептилии, умершей миллионы лет назад. Мальчик побежал по блестящим, как лезвие бритвы, рельсам. Он раскинул руки, словно хотел взлететь. За ним летели концы его длинного шарфа, а мужчина, присев на корточки, улыбался, глядя в его удаляющуюся спину.
На экране показался вокзал с блестящим новым поездом.
– Ничего себе у них поезда, – произнесла Яга. – Были б у нас такие поезда…
– Тс-с!
Мужчина взял мальчика на руки и понес, обнимая, мимо вагонов поезда, и мальчик через его плечо смотрел на прощающихся у перрона людей. По экрану поплыли разные лица – надутого мужчины, военного с низко надвинутой на лоб фуражкой, женщины, смотревшейся в маленькую пудреницу.
– Короче, там собрался народ разный. Кто-то из них был одинок, а кто-то – злой, короче, кто-то – эгоист, – сказала Анюта. – А кто-то – даже наркоман.
На экране появилась голая рука и пальцы, стучащие по венам. Ложка над свечой. Лицо девушки с длинными льняными волосами.
– А эта на Салееву похожа, – сказала Яга.
– Че, блядь, как наркоманка, сразу на Салееву! – дернулась Салеева.
– Тихо! Смотрите, что дальше будет.
Музыка вдруг оборвалась, и зажегся красный глаз семафора, который дергался, и будто раскаленная близостью вечера планета заглядывал в склоненные над ним лица. Раздались ритмичные удары, похожие на стук металлического сердца. Пролетела большая птица. Мальчик, играя, открыл люк у моста и провалился в него. Поезд приближался, за ним неслась, длинная, как шарф, полоса клубящегося дыма, валившего из трубы. Мелодия складывалась из стука колес. Анюта подняла голову и торжественно оглядела всех.
– Произошла трагическая ошибка. Ему надо теперь сделать выбор, – в голосе Анюты зазвучали нотки злорадного ожидания.
– Че за выбор? – напряженно спросила Яга.
– Дать умереть своему сыну или всем людям в поезде.
– Бля-а-адь… – протянула Яга. – Всем людям в поезде пусть даст умереть.
– Что он сейчас сделает – это вообще… – сказала Анюта.
Мужчина опустил рычаг. Поезд пронесся по мосту. Мужчина выбежал на станцию, куда прибывал поезд, и пока вагоны проходили мимо него, хватал себя за голову, бил по воздуху руками и кричал. Из вагонных окон на него смотрели люди. Он встретился глазами с наркоманкой. Его рот застыл в беззвучном крике и на лице образовалась черная дыра. Наркоманка выпустила из рук ложку и смотрела на него, пока поезд медленно проезжал мимо. Лицо ее упало следом за ложкой. Она привалилась льняной головой к стеклу, за которым бежал редкий пролесок.
Камера переместилась. Экран снова показал станцию. По ней шла наркоманка в другой одежде, несколько лет спустя. На руках она несла ребенка в голубом комбинезоне. Напротив нее стоял мужчина в той же черной шапочке. Они снова встретились глазами, наркоманка ему улыбнулась. Прошла мимо. Ребенок выглянул из-за ее плеча и улыбнулся. Мужчина сделал вдох. Мужчина хватал что-то губами, но было видно, что выдох застрял у него в груди. Наконец он тоже улыбнулся и поднял руки к небу.
Экран погас, Анюта спрятала телефон в карман, закрыла лицо руками и заплакала. По пигментным пятнам Салеевой тоже текли слезы. Яга, не мигая, смотрела в окно, встречаясь взглядом с солнцем, наконец нагнувшимся до салеевского этажа. В глазах Яги горела ненависть.
– Так-то он мог наплевать на всех и спасти своего сына, – сдавленным голосом произнесла Анюта.
– Так и надо было сделать, – Яга сузила глаза. – Наплевать на всех и спасти своего сына.
Анюта убрала руки от лица. Оно у нее было спокойным и строгим. Она покачала головой.
– Это был тяжелый выбор, – сказала она. – Но Бог тоже своим сыном пожертвовал ради нас.
– Этот мужик на зэка больше похож, – сказала Яга. – На Бога не тянет.
– Это – метафора, – сказал Миша.
– Если б моя мать меня б убила, чтоб других спасти, нахуй она мне, такая мать, нужна? – сказала Яга. – Какая мать она после этого?
– Бог пожертвовал Иисусом, чтобы всех нас спасти! – крикнула Анюта.
– Было б ради кого жертвовать, – мрачно сказала Яга.
– Бог всех любит! – визгнула Анюта.
– По тебе оно заметно, – огрызнулась Яга.
На Анютинах щеках выступили два пятна, похожие на румяные яблоки.
– Че ты, блядь, Яга, людей оскорбляешь? – спросила Салеева. – Не все же такие эгоисты, как ты.
– Я эгоистка?! – Яга надула щеки. – Ты охуела, Салеева? Я когда на заправке работала, я че, вас всех на халяву не тащила? Я, блядь, тут одна – человек, блядь. Все это знают. Меня будут бить, я никого не подставлю! Эгоистка… вообще… Если, блядь, отец своего ребенка не любит, че, блядь, он весь поезд чужих людей любит? Сначала своих люби, потом чужих полюбишь. Показывают, блядь, всяких ебанько…
– Просто это – метафора, – повторил Миша.
– Да пошел ты на хуй со своими метафорами! – взорвалась Яга. – Одно, блядь, умное слово знает и повторяет, как попугай. Мне что метафора, что хуяфора – один хуй, на хуй!
– Я тогда вариться пойду, – сказал Миша, вставая.
Анюта с Салеевой ушли за ним. Яга осталась сидеть на полу. Невидящими глазами она смотрела на балкон, на котором продолжал играть мальчик, рукой описывая дугу над урной. А красная машинка все мчалась по невидимому мосту. Яга оглянулась на дверь, поднялась, скрипнув коленками, на цыпочках подкралась к балкону. Протянула костлявую руку и дотронулась до волос мальчика. Он обернулся и посмотрел на Ягу против солнца снизу вверх. Нижняя губа его сильно западала под верхние зубы, а глаза оказались темными, почти непроницаемыми, как два гладких камушка.
Яга осторожно отошла от балкона. Машинка снова взмыла в крутом вираже. Яга прокралась к коридору. Из кресла, из темного угла за ней с усмешкой наблюдала Жаба.
– Салеева, земля уже мягкая, – послышался голос Яги. – Тебе надо прах мужа к свекрови подкопать.
– Между прочим, да! – раздался звонкий, как монетка, голос Анюты.Встрепенувшись, Яга отдернула плечо от батареи. Оскалилась, тихой струйкой втянув воздух сквозь сжатые зубы.
– Бля, это че? – спросила она, вывернув шею и глядя через плечо. – Я к батарее приварилась. Салеева, ты не могла меня дернуть?
– Я сто раз говорила, не садитесь возле батареи, печет, – отозвалась Салеева, сидевшая на полу у стены.
Она затянулась и сбросила пепел в баночку, которую держала на колене. В пожелтевшей воде плавали разбухшие окурки. Салеева дернула коленом, отваливаясь от стены. Окурки в банке дернулись тоже, тяжело закружили, похожие на полугнилых рыб, отравившихся своими же токсинами.
– Да там не сильно… – сказала Салеева, глядя на плечо Яги, которое та высовывала из воротника кофты.
– Не сильно? – хрипнула Яга. – Волдырь будет.
На ее плече проступила мясного цвета полоска, словно Ягу только что лизнули огненным языком.
– А я думаю, че мне кузнец снится, – сказала Яга, по-прежнему выворачивая шею и принюхиваясь. – Бля, паленым мясом воняет.
– Какой кузнец? – спросила Салеева, возвращаясь к стене.
– С веревочкой, короче, на голове. Мы когда маленькие в школе учились, нас возили в одну деревню, там – кузница. Туда водили. Показывали этого кузнеца. У него такие, блядь, руки, большие… В-в-в… – Яга втянула воздух, – горит уже. Только этого мне не хватало, и так все тело ломит…
– И че кузнец?
– Ниче… Так вспомнила. У меня такие ласты, блядь, выросли в третьем классе. Мать сапожки мне искала. Все, короче, в классе девочки как девочки, в сапожках ходили, у меня, блядь, у одной такие ласты… Мы с матерью по магазинам ходили, тогда ж везде – дефицит. На мою ногу, короче, не было. Еще продавщица, такая борзая, сказала – вы на своего ребеночка во взрослом магазине обувь ищите, у нас в детских таких размеров нет. Мать тогда заплакала еще…
– А че плакать?
– Че. У нее самой сапог нормальных не было. Денег не было. Папа же тогда пил. Он еще знаешь че мне сказал? Я его после этих слов не простила. Сказал, одни ноги у нее растут… И так у меня комплекс был. На всю жизнь запомнила. Мы тогда на Вторчермет переехали. Там лужа эта… блядь, старше меня эта лужа. Мы когда переехали с Космонавтов, лужа уже была. Не обойдешь. Она до самых заборов разливалась, ни с одной стороны не обойдешь. Я, как цапля, блядь, там прыгала на одной ножке. А одно утро, короче, просыпаюсь, снег уже на деревьях лежит. Я, блядь, пошла в эту школу в туфлях. Мать меня провожала, у нее самой на ейном сапоге молния разошлась. А эта лужа, блядь, ее даже снегом не засыпало. Кругом уже такой тонкий снег, он, правда, в обед стаял, я, блядь, в туфлях, а эта лужа – ей хоть бы что. Сколько снега в нее ни навали, она, блядь, все сожрет и стоит вся черная, как будто в нее мазута налили.
– Может, правда налили? – без интереса спросила Салеева.
– Кому это нахуй надо?
– А че она такая тогда?
– Может, место проклятое? Вообще, этот Вторчермет – место проклятое. Одни нарколыги там. Че, правильно Анюта говорит – с кем поведешься, от того наберешься. Мы когда со Светкой туда переехали, короче, думали, не будем там ни с кем общаться. До такой жизни не докатимся. Ага, не докатились. Теперь ходим по Вторчермету, не знаем, где упасть.
– А я же вашу лужу видела, – сказала Салеева.
– Ага, моя она, – каркнула Яга.
– Эта же она возле прямо дома Олега?
– Да, блядь, возле евонного. Он же одноклассник мой, – язвительно сказала Яга.
– Че, правда?
– Да, правда. Больше других над моими туфлями смеялся, что мы бедные. А сами такие богатые. Че, обрадовался, наверное, что кто-то беднее него в классе появился. Вообще… Тогда еще в магазины такие сапожки литовские завезли – как бы дутые, с завязочками, светло-розовые и голубые. Мне бы мать тоже такие купила, моего размера не было.
– Мы один раз ездили в Литву на сборы, – сказала Салеева, ногой болтая воду в банке. Окурки тяжело пустились в кругосветное плавание. – В Вильнюсе были.
– Че, как там?
– Церквей много. Аккуратно.
– И че, море там есть?
– Не видела.
– Хорошо тебе, ты хоть куда-то ездила. Я вообще из этого Вторчермета не вылазию. Даже на море ни разу не была.
– Ну да, блядь, ездила, – согласилась Салеева, перестав водить ногой. – Пока руку не сломала.
– Бля-а-адь, как мне этот кузнец приснился. Руки во-о – как мои ноги. Подошел и так своей железкой раскаленной мне по плечу.
– В натуре, что ли?
– Во сне, блядь!
– Я сто раз говорила, к батарее не приваливайтесь.
– Могла бы тряпку постелить.
– Мне делать больше нечего. Сейчас все брошу, побегу тряпку искать.
– Че ее искать? У тебя весь балкон тряпьем забит. Салеева, я тебе говорю, подкопай мужа.
– Че тебе мой муж дался?
– Сколько он может на балконе стоять? Нехорошо это – покойник в доме, – забубнила Яга. – От этого все твои проблемы.
– Какие проблемы? – Салеева поставила банку с окурками на пол. – Че ты мне каркаешь? Никаких проблем у меня нет!
Она бросила свой окурок в банку. Окурок скакнул по воде, как поплавок. Накрыв банку ладонью, Салеева оперлась на нее, вставая. Окурок неглубоко нырнул еще раз, на этот раз тяжелее выходя из окруживших его склизких вод. Они уже впитались пятнами в его темную бумагу, закрывающую фильтр.
– Мне теперь все бросить, на кладбище ехать? – ворчливо проговорила Салеева. – Сказала, весной поеду.
– Уже весна.
Салеева подошла к окну. Отвела в сторону пожелтевшую занавеску. Посмотрела вниз.
– Вижу, что весна, – сказала она. – Пусть хоть теплее станет. Мне выйти не в чем. А ты своего отца в гробу видела? – повернулась она к Яге.
– Конечно, видела, – Яга надула щеки. – Мы тогда с мамой в «газельке» сидели, она все ревела, когда мы ехали его из морга забирать. А у меня слезы появились только на кладбище. До кладбища не было почему-то.
– Че ты, не любила отца-то? – спросила Салеева, прицельным взглядом обводя соседний дом.
– Да по-всякому было, – ответила Яга. – Он же пил. Мать бил. После одного скандала я его вообще простить не могла. Вообще… Светка, дура, как его из морга достали, сразу ног его коснулась, и мне такая говорит – покойника коснуться надо, чтоб он потом не снился. Я на кладбище тоже к нему подошла, а он уже… как это сказать… весь мертвый такой. Видно по лицу было – обиженный на меня.
– А че обиделся? – спросила Салеева, не отрываясь от окна.
– А он же в больнице лежал. Позвонил мне, я говорю: мне некогда, перезвоню. Потом через три дня перезваниваю, а он уже умер.
– А че раньше не позвонила? – без интереса спросила Салеева.
– Дела, блядь, у меня были! – огрызнулась Яга. – Чувствовалось, что у него такая обида на меня после смерти. За сорок дней ни разу ко мне не приходил, а Светке почти каждую ночь снился, – сказала Яга с обидой в голосе.
– А ты его трогала? – Салеева задернула занавеску.
– Да, он весь такой мягкий был, как желе. Руки такие… Я еще подумала, что они его, в холодильнике не держали? Попрощалась с ним, че, землю, все кинула, чтобы пухом… А он еще Светке всегда говорил – пойдем, доченька, в церковь сходим, исповедуемся, причастимся. Сам, блядь, пьяный, как не знаю кто… Так они и не пошли. Меня он не звал. Меня больше мать как-то любила.
– А отчего он умер?
– А я знаю? От онкологии, кажется, говорили.
– Сейчас онкология на каждом шагу, – сказала Салеева.
В кухню вошел Миша. Шмыгнул носом. Сразу направился к плите. Отодвинул крышку на другую конфорку. Поднял с пола бутылку с бензином и поставил на столешницу.
– Здесь давно, в восьмидесятых, был выхлоп сибирской язвы, – вытирая нос рукавом, сказал он. – Кто тут в это время был, все умирают от рака.
– Да ты че? – просипела Яга.
– Да, дедушка тут был, он рассказывал, – бесцветно подтвердил Миша. – Вот Никаноровку всю закатали асфальтом. Землю известью поливали. Деревья рубили. Сколько тут яблонь было раньше, уже не осталось.
Пальцами он нажимал на пластиковые головки упаковок с таблетками и собирал белые кругляшки в ладонь.
– Где спички? – спросила Яга, вставая.
Ногой она задела банку.
– Осторожней! – прикрикнула Салеева.
Вода всколыхнулась, поднимая со дна разжиревшие от слизи окурки. Они заболтались в воде, но быстро упали на дно. Новый окурок, только что брошенный Салеевой, показался на поверхности, слабо дернулся и, коротко кружа, начал оседать.– Старая, опять с работы убежала? – спросила Яга.
Старая сидела на табурете и шевелила ноздрями, словно за желтыми веками, прикрывающими ее глаза, сейчас крутилось дурное кино. Временами она откидывалась назад, и, казалось, только копчиком удерживалась на табурете. Мелко вздрогнув, Старая возвращалась. Произнеся «а-а-а», словно откликаясь на чей-то зов, она врезалась плоским животом в край стола.
– Старая! – позвала Яга.
– А-а-а? – та приоткрыла глаза.
– Опять с работы, спрашиваю, убежала?
– Не убегала я никуда, – неразборчиво произнесла Старая, отлепляя язык от неба и причмокивая. – Рабочий день закончился. Ве… чер уже.
– Да ладно, не гони, – встрепенулась Яга. – Салеева, в окно посмотри. В натуре уже вечер? Я только пришла, че, вечер уже?
– Ты вчера пришла, – сказал Миша.
– Иди ты… – выдохнула Яга.
– Время летит, – сказал Миша.
– В натуре летит, – подтвердила Старая, качнувшись на табуретке.
– Стой, вечер, – Яга встала, цепляясь за стену. – Стой, бля-а-а… Вечер…Яга вышла из подъезда. Пахло вечером. Вернее, как обычно в северных городах, в Екатеринбурге под вечер похолодало, с Уральских гор змеей приполз тонкий ветерок и, летая от куста к кусту, срывал запах уже проснувшихся соков и мотал их, как хотел, по дворам блочных многоэтажек. Яга запахнула на груди куртку. Она подалась вперед, согнутые в локтях руки отвела назад и, сделав рывок, побежала. В одном из окон четвертого этажа показалось плоское удлиненное лицо. Старая смотрела Яге в спину, на ее прыгающие лопатки, пока та не скрылась за углом соседнего дома. С другой стороны во двор въехала белая «Газель». Лицо Старой исчезло, тюлевая занавеска разлила по стеклу молочную муть.
Дверь хлястнула по одеялу, врываясь в коридор с таким злобным напором, словно брала разгон, чтобы, сорвавшись с петель, пронестись плашмя по комнате, пробить стену и облететь весь город, рухнув где-нибудь на окраине. Одеяло взметнулось, шипя и выгнувшись горбом. Шорох вздыбившихся шерстинок прошелся по коже людей, собравшихся в кухне. Черты Салеевой заострились, глаза сузились, но она быстро спрятала это новое лицо.
– Стоять на месте, не двигаться!
Анюта, отдернув иглу от ноги, бросила шприц на балкон.
– Лежать! Головой в пол!
Ваджик и Миша медленно сползли с дивана на пол. У Ваджика задрался коричневый свитер, показав нижнюю часть спины, поросшую длинными черными волосами. С правого бока краснел рубец. Миша слабо обхватил голову руками и медленно, без суеты вытянулся, втыкаясь пятками в диван.
В кухню ворвались двое в масках. Салеева стояла, расставив ноги. Не шевелилась.
– Встала, – омоновец, держа автомат двумя руками, ткнул дулом в сидевшую на табурете Старую.
Старая медленно повернулась. Посмотрела сквозь полуприкрытые веки на автомат. Дернула носом, будто принюхиваясь. Брезгливо приоткрыла рот и поднялась с табурета.
– Давай всех в комнату, – на кухню заглянул толстый мужчина в бежевой куртке. Широко расставленными глазами он быстро прошелся по Старой, Салеевой и скрылся.
– Пошли!
Войдя в комнату, Салеева вскользь взглянула на Мишу и Ваджика. Села в кресло и сделала недовольное лицо. Анюта, опустив глаза, ссутулившись, стояла у стены под медалью. Двое омоновцев встали по бокам дверного проема. Двое остались в коридоре. В комнате находились еще двое. Один – высокий, худой, в темно-синем спортивном костюме, другой – с видеокамерой, приставленной к глазу. Салеева зло посмотрела на них.
– Начальник, можно встать? – спросил Ваджик, приподняв голову.
– Лежи, – сказал толстый, заходя в комнату.
Ваджик послушно опустил голову.
– Как скажете, начальник, – сказал он, причмокивая и как будто целуя пол.
– Ровно стой, – толстый подошел к Анюте. – Давай сюда, – обернулся он на оператора.
– Не снимайте меня, – заныла Анюта, отворачиваясь от стеклянного глаза, смотрящего ей в лицо. – Меня родители если увидят, они меня убьют.
– В камеру смотри, в камеру, – толстый говорил мягко, как будто всех людей, собравшихся в этой квартире, он знал давно и хорошо, только не уважал.
– Я же говорю, – всплеснула руками Анюта, не трогаясь с места и вжимаясь щекой в пупырчатую цементную стену, – родители меня увидят!
– Птица, ты слышал? – толстый дернул головой в сторону кухни, откуда доносился шум выдвигаемых ящиков и шорох пакетов. – Она боится, что родители увидят!
– А мы им специально покажем! – донесся из кухни крик Птицы.
– Ой, да что такое, – Анюта затрясла головой задевая макушкой медаль.
– Медалька? Золотая? – Толстый протянул руку. Анюта шарахнулась. – Стой-стой-стой, – ласково проговорил он. Анюта вжала голову в плечи. Толстый дотронулся пальцем до ребра медали. – Не настоящая, – сказал он.
Черты Салеевой снова заострились.
– Ну давай, рассказывай, – сказал толстый, ставя между собой и Анютой оператора.
Камера лезла Анюте в лицо.
– Что рассказывать? – капризно и с плачем спросила она.
– Как звать тебя.
– Субурова Анна Евгеньевна.
– Анна Евгеньевна, кем вам приходится гражданка… – толстый сделал паузу и повернулся к двери. Оттуда шагнул омоновец и передал ему паспорт. – Гражданка Алена Леонидовна Салеева восемьдесят четвертого года рождения.
– Одноклассницей, – пискнула Анюта, бросив взгляд в камеру и заморгав. – Мы с детства дружим.
– Что делали сегодня?
– Ничего, – сказала Анюта. – Пивка зашла попить.
– Пивка зашла попить, ой-й-й… – умильно сложил руки на груди толстый. – Ой-й-й… Девочки-и-и… А если мы у тебя сейчас анализ возьмем на содержание дезоморфина в крови, мы его там обнаружим? Обнаружим мы там его? – он повысил голос.
– Не знаю, – всплеснула руками Анюта.
– Обнаружим или нет?
– Я не знаю! – заплакала она. – Я сюда вообще не хожу. Первый раз пришла. Клянусь.
– Чем клянешься? – серьезно спросил толстый.
– Между прочим, клясться – грех, – Анюта перестала плакать и с упреком посмотрела в камеру.
– Ой, грех, – снова умилился толстый.
– В Библии так написано, – Анюта покраснела.
– А колоться – не грех? – вкрадчиво спросил толстый. – А то, что наркотик – это растянутое во времени самоубийство, тебе никто не говорил? – Он развернулся к камере боком, словно поток своего голоса хотел направить не в Анютины уши, а в гладкое дуло камеры. – Давай эту, – он повернулся к Старой.
Анюта, вытирая глаза трясущимися руками, отошла в угол. Омоновец отделился от стены, подошел к Старой и молча повел автоматом в сторону стены. Старая встала и, шатаясь, поплелась к стене.
– Что на ногах-то еле стоишь? – спросил ее толстый.
– Ушаталась за день, – недовольно ответила Старая, встала у стены и уставилась в глаз камеры.
– Семина Марина Исаевна? Тысяча девятьсот шестьдесят пятого года рождения? – спросил толстый, открывая паспорт.
– А-а-а? – шатнулась Старая. – Я.
– Колешься?
– Кого я колола?
– Дезоморфин, спрашиваю, употребляешь?
Старая вздрогнула, отстранилась от стены, широко открыла глаза и, шмыгнув носом, сказала:
– Употреб-ляла! – она разделила слово на две части и вторую произнесла громко, с вызовом.
– Когда последний раз?
– Вчера. Не знаю, как от него отделаться, веришь, нет? – спросила Старая.
– Дети есть?
– Да, и не только дети, внуки есть, – оживленно заговорила Старая надтреснутым голосом. – Муж у дочки – мент. Он следит за мной. Сказал, чтобы, пока я это… чтоб я к ребенку не подходила.
– Что ж вы, Марина Исаевна, так зятя своего позорите? – спросил толстый, растягивая слова. – Что ж вы не живете, как все тещи нормальные живут?
– Хочу-хочу, – Старая всем телом потянулась к толстому. – Сколько времени хочу. Не знаю, как от него отделаться.
– От зятя или от крокодила? – хохотнул толстый.– От крокодила. Веришь, нет? Клянусь, здесь меня больше не увидят.
– Чем клянешься? – мрачно спросил толстый.
– Внуком клянусь, – моргнула Старая.
– Иди на ее место, – повернулся толстый к Салеевой.
Салеева осталась сидеть в кресле. Старая вернулась на диван. Анюта отошла от стены и села рядом со Старой, приподняла стопы, опираясь о пол пальцами, соединила ладони и зажала их коленками. По ее руками прошла дрожь, она сильнее сжала их коленями.
– Особого приглашения ждешь? – спросил Толстый.
Салеева поднялась, мягко и пружинисто прошлась по паласу. На икрах ее при ходьбе играли мышцы. Остановившись прямо под медалью, Салеева воткнула руки в боки, расставила ноги и попружинила ими, словно собиралась взять вес.
– Мастер спорта международного класса, – усмехнулся толстый. – Салеева Алена Леонидовна.
– Колешься?
– Нет.
– Ты шутишь? Соседи жалуются. В подъезде не продохнуть.
В комнату вошел Птица. Он нес белого котенка, сжав его за туловище большим и указательным пальцами.
– Под столом нашел. Сидел там тихо, прятался, – сказал Птица басцом, прихлопывая в словах гласные. Произносимые им предложения были похожи на пузырьковую пленку, в которой он языком лопал воздушные головки.
– Это что, твоя домашняя крыса? – засмеялся толстый.
Салеева выпрыгнула из угла, схватила котенка. Котенок тонко закричал. Салеева прижала его к груди. Он барахтался лапами на ее груди, словно его топили. Словно он находился в воздушном пузыре пластикового пакета. На коже Салеевой проступили тонкие красные царапины, беспорядочные, как рисунок ребенка, впервые попробовавшего рисовать.
Птица направился к балкону. Анюта стиснула колени.
– Котенка мне напугали, – сказала Салеева, скользя ладонями по засаленной шерстке котенка, упорно рвавшегося из ее рук. Она дернула его, прижала к груди теснее и сцепила на нем замок рук.
– Вот у нее домашняя крыса, сидит в обосранных колготках, – сказал Птица притихшим голосом. Толстый резко развернул к нему короткую шею.
Салеева опустила глаза и сжала зубы. Ее лицо стало квадратным, а верхняя губа – тонкой.
Птица вынес на руках с балкона ребенка. Обхватив Птицу одной рукой за шею, мальчик в другой сжимал красную машинку. Ноги его в бугристых колготках свисали вдоль Птицыного тела. Его рот был открыт, он делал им шумные равномерные вдохи. Посмотрев на мать темными глазами, он перевел взгляд на машинку.
– У тебя с кукушкой все в порядке? – тихим голосом спросил Салееву толстый.
Салеева раздула ноздри и отвернулась к двери, по обеим сторонам которой неподвижно стояли омоновцы.
– Жень… – позвал его Птица. – У него все вещи дезоморфином провоняли.
– Ты че, себе мозг весь проколола? – давяще спросил толстый. – Ты че, блядь, из пацана дебила сделала?
– Я его яблоками кормлю! – крикнула Салеева, котенок дернулся и с криком вырвался на плечо. Салеева схватила его, сдавливая выпуклый живот пальцами.
– Че? – толстый скривил лицо. – Чем ты его кормишь?
– Яблоками! Старая, покажи.
Старая шмыгнула, приподняла плечи, взяла сумку с дивана, тряхнула. Из нее выкатились три яблока – красных, продолговатых, с глянцевыми боками в желтых крапинках.
– Это что такое? – спросил толстый.
– Витамины для ребенка, – еле ворочая языком, проговорила Старая.
Яблоки укатились и застряли в выемке у подлокотника.
– Муж есть? – спросил толстый.
– Умер.
– Скололся?
– Утонул.
– Кололся?
– Нет.
– Родственники есть?
– Сестра.
– Телефон давай.
– Нет у меня никакого ее телефона.
– Сдохнешь. Сгниешь заживо, сука. Телефон давай, я сказал, – с угрозой проговорил толстый, заступая в пространство между Салеевой и оператором.
– Я сказала, на хуй иди.
– Сука, телефон дай! – раздалось из-под маски одного из омоновцев.
– Девятьсот восемнадцать… – начала Салеева, – шестьсот тридцать один… девятнадцать… сорок…
Толстый вытащил из кармана брюк телефон, потыкал коротким пальцем в цифры. Приложил трубку к уху, переступая через Мишу и Ваджика, вышел на балкон. Выглянул оттуда.
– Птица, ребенка на кухню уведи.
С балкона послышался бубнеж. Толстый что-то монотонно говорил в трубку.
– Она-то сдохнет, – послышалось отчетливей. Салеева шумно выдохнула. – С ребенком что будет? Мы можем его определить прямо сейчас…
– Птица… – он высунул голову с балкона. – Птиц!
В комнату вошел Птица и быстро пересек ее, переступив одной ногой через Ваджика, другой – через Мишу.
– Ты смотри, что делается, – сказал толстый.
– Урну я видел, – сказал Птица.
– Ты там в углу посмотри, – сказал толстый.
– Сейчас, перчатку надену…
Птица вынырнул с балкона. В поднятой руке он держал шприц.
– Ребят, что-то мутноватый у вас крокодил. Как вы таким колетесь? – спросил толстый, выгружая свое крупное тело из узкого балконного проема.
– Че молчим?
Миша, расцепив пальцы на макушке, поднял голову. На шее выступил небольшой кадык. Опираясь локтями об пол, Миша прогнулся в копчике, глядя на Птицу исподлобья. Только пальцы его бессильно распяливались над головой, как сломанные ветви дерева с большими пятипалыми листьями.
Птица поднял шприц выше – вровень с желтыми лучами, бьющими из голой лампы под потолком. С того угла, откуда смотрел Миша, шприц совпадал с куском обоев, оставшимся на стене. Издалека узоры их походили на бледные привидения с продолговатыми головами, с размытыми макушками и двумя пузырями вместо щек. Их тела отчетливо начинались узкими плечами, а к низу оплывали в раздутый пузырь под бледно-свинцовым балахоном. Привидения будто держали в руках светильники или свечки и выплывали из сырой и заляпанной цементной стены, как из портала, открывшегося на том самом месте, с которого не смогли или не захотели содрать последний кусок обоев. Миша смотрел на обои через шприц, который Птица, нагнувшись, держал перед его лицом. Шприц был залит бледно-желтой мутной жидкостью. Свет лампы, проходивший сквозь его пластмассу, зажигал на стене свечи в руках привидений. Размывал их макушки, контуры балдахинов, и если смотреть на них долго под таким углом, как смотрел Миша, то можно было заметить, что привидения движутся – из стены вперед, в комнату – и выходят из своих границ.
У Птицы были мышиного цвета короткие волосы, бледно-голубые с серым оттенком глаза, желтоватая кожа, как у переболевшего гепатитом. Птица опустил шприц.
– Кубов шесть будет, – сказал он.
– Этого достаточно, чтоб ее закатать, – проговорил толстый.
Миша опустил голову и снова сомкнул пальцы на макушке.
– Это твой шприц? – толстый повернулся к Салеевой.
– Не мой, – ответила она.
– А чей?
– Я не знаю чей.
– Чей это шприц? – на этот раз толстый обращался к полу и дивану.
– Не мой, – сказала Старая.
– И не мой, – пискнула Анюта.
– А че, мой, что ли? – прикрикнула на нее Салеева.
Анюта так сильно сжала коленками кисти рук, что они могли отвалиться и упасть на голову Миши или Ваджика.
– Это не мой шприц, – затараторила Анюта. – Я вообще на балкон не выходила, и не кололась вообще.
– Старая! – крикнула Салеева. – Скажи, это не мой шприц!
Старая откинулась на спинку дивана и сделала козлиное лицо. Она молчала. Анюта сверкнула на Салееву глазами.
– Чей это шприц? – спросил толстый Анюту.
– Ее, – тихо сказала Анюта, больше не поднимая на Салееву глаз.
– Пальцем на нее покажи.
Анюта раскрыла коленки, из замка вырвалась рука, палец черкнул в воздухе по Салеевой. По телу Анюты прошла глубокая дрожь. Анюта снова поймала руку коленками. Гудь Салеевой покрыли красные пятна. Они росли прямо на глазах, словно полоски, оставленные кошачьими когтями, выходили из берегов. Пятна поднялись выше по шее, по подбородку. Пигментные разводы на носу начали отливать свинцом, словно и они быстренько напились крови, хлынувшей к голове. Салеева шумно выдохнула, и, кажется, горячая струя из ее ноздрей облетела всю комнату. Ваджик вдруг одернул свитер, словно обжегся.
Котенок закричал. Салеева сцепила на нем пальцы.
– Спортсменка, красавица, – усмехнулся толстый. – Ребенок. Квартира. Я понимаю, когда эти скалываются, – он кивнул на Ваджика с Мишей. – Но вы же – женщины…
– Между прочим, – звонко проговорила Анюта, – змей неспроста к Еве подошел.
– К протестантам ходишь? – спросил толстый. – Смотрю я, ловцы душ неплохо работают, а, Птица? Молодцы ребята, мо-лод-цы.
Толстый подошел к креслу. Расстегнул молнию на папке, вынул лист бумаги, повертел в руках, разглядывая буквы, положил лист на кресло и уселся.
– Давай, этого поднимай, – сказал он оператору.
Ваджик встал.
– Вавилон Варданян, – представился он, не ожидая, пока его спросят. – Начальник, а может, не надо камеру?
Говоря, Ваджик складывал губы и причмокивал, будто ел клубнику.
– Как не надо? – в голосе толстого послышалась усталасть. – Как не надо? – повторил он. – Вавилон, назовите адрес, по которому сейчас находитесь.
– А… это… Братеева, десять, кажется, начальник.
– Что такие глаза, Вавилон?
– Работаю много, сутками работаю, – сказал Ваджик.
– Где работаешь?
– На заводе, на «Уралмаше».
– Там что, наркоманов на работу берут?
– Я же не наркоман, – Ваджик смотрел на толстого, как собака смотрит на хозяина – блестящими преданными глазами. – Я стропальщиком работаю.
– Судим?
– Сто пятьдесят восьмая.
– То есть крадун?
– Нет.
– Сто пятьдесят восьмая – кража.
– Да, крадун. Тогда, начальник, крадун.
– Что украл?
– Магнитофон.
– Давно колешься дезоморфином?
– Три месяца. Устаю сильно на работе, начальник.
– Этих забирайте, – сказал толстый, показывая растопыренными пальцами на Анюту, Старую и Ваджика.
Один из омоновцев, отделившись от стены, подошел к Ваджику, отцепил от пояса наручники. Ваджик завел вперед мясистые руки, вдавив локти в живот. Омоновец защелкнул на них браслеты.
– Начальник, может, не надо? – с тоской Ваджик обернулся через плечо на толстого.
Омоновец толкнул его в спину.
– Начальник, а воды можно выпить? Пить хочется, – пересохшим голосом сказал он.
– Пусть пьет, – сказал толстый.
Анюта и Старая вышли за Ваджиком следом. Старая шла, откинув назад голову, ногами вперед, как будто верхняя часть тела тянула ее остаться в комнате.
Омоновец провел Ваджика в кухню. Взял с тумбы чашку, выплеснул из нее густые остатки чая в раковину, отвернул кран до упора. Струя брызнула в чашку. Вспенившись, вода потекла через край. Омоновец выключил кран и протянул чашку Ваджику. Тот обхватил ее двумя защелкнутыми руками, проелозил локтями по животу и раскрыл соединенные в запястьях руки, чашка попала в них, как в пасть к крокодилу. Ваджик глотал шумно, его кадык ходил по горлу. Кухню заполнило вжиканье колес красной машинки по столу, детское равномерное сопение через рот и судорожные глотки с почти слышным движением кадыка.
Птица достал из-под раковины мусорный пакет и вытряхнул его на пол. Наклонился, разглядывая кучку из пустых сигаретных пачек, мокрых спичечных коробков, грязной тряпки со следами йода и крови и трех блестящих конфетных фантиков.
– Пацан, – сказал Птица, выпрямляясь. – Конфеты сегодня ел?
Мальчик, сидя к нему спиной, продолжал водить машинкой по столу.
– Пацан, – Птица дотронулся до его головы. Мальчик обернулся. – Конфеты сегодня ел? – повторил вопрос Птица.
– Нет, – сказал мальчик. Он прилег головой на стол, подложив под нее руку, и внимательно, не отрывая глаз, следил за машинкой, которая на скорости приближалась к его зрачкам. Когда машинка, описав полукруг, заехала за голову, мальчик проговорил: – Вчера ел.
Толстый навалился на подлокотник. Темный угол съедал его голову. Покатые плечи в бежевой куртке отчетливо прорисовывались в кресле. Тонкая шерстяная рубаха с тремя белыми пуговичками у горла мягко обнимала рыхлый живот. Его лицо, до которого лампа плохо доставала, выглядело обескровленным. На лбу чайкой раскинулась морщина, по форме, но не в длину, совпадающая с контуром верхней губы и краем волос, клином заходящих на лоб посередине. Щеки висели. Золотая цепочка с крупными звеньями западала в потные складки шеи. Темные глаза ничего не выражали, как будто их верхний, самый глянцевый слой стерся от возни по шершавым стенам.
– Что, давно колешься? – спросил он Мишу, поставленного на середину комнаты.
Миша, пошатываясь, стоял под лампой, на одной его ноге черная брючина собралась гармошкой. Лампа била ему в темя, скашивая макушку. Миша отбрасывал на стену тень – высокую, сутулую и крюкастую. Казалось, тянувшуюся из самого темного нутра подвала, пустившую глубокие корни в земле, и готовую наброситься на толстого, избивая его короткими сильными ударами. Готовую крюком на конце руки вспороть его рыхлый живот, на который он сейчас опирался папкой и что-то писал. Когда Миша шевелился, тень расплескивалась и принимала самые уродливые формы. Оторвись толстый сейчас от листа, подними глаза к крупчатой цементной стене, он бы убоялся.
– Через полгода сдохнешь, – сказал он Мише, не отрываясь от букв.
– Все когда-нибудь умрут, – бесцветно отозвался Миша.
– Упороться и забыться? – ручка в толстых пальцах замерла, но пошла писать снова.
– Расслабиться.
Чайка на лбу толстого сложила крылья, а губы его растянулись в усмешке. Толстый поднял голову и почесал лоб.Салеева откинулась назад. Стул встал на задние ножки, спинкой ударившись о батарею и придавливая руки Салеевой, пристегнутые сзади наручниками. На подоконнике подскочили кружки, электрический чайник и упаковка рафинада, белый аппарат кнопочного телефона, отстегнутый от розетки, почти пустая банка растворимого кофе и папки для файлов в углу. Фиолетовые коленки Салеевой задрались вверх. По икрам пошли мурашки, поднимая дыбом короткие золотистые волоски.
С одного боку от нее стоял стул, на который были свалены ее вещи – черная дерматиновая сумка и бледно-голубая куртка. С другого – стол. За ним сидел худой молодой мужчина со впалой грудью. Его светло-каштановые волосы, коротко подстриженные спереди, сзади жидкими прядями спускались до плеч по затылку. У него был острый подбородок, из которого лишь кое-где проклевывались черные волоски. Из тонкой шеи торчал острый кадык. Левая бровь была опущена, а правая вскинута, что делало его похожим на Пьеро. Густые темные ресницы сильно оттеняли глаза, и цвета зрачков было не разглядеть.
За столом в противоположном углу сидела молодая женщина с разделенными на прямой пробор и гладко зачесанными черными волосами. Белая рубашка топорщилась на ее выдающихся грудях. Маленькая белая пуговица у выреза еле сдерживала их мягкую тяжесть. Из-под стола были видны ее круглые с ямочками коленки в черных капроновых колготках, край синей юбки и полуботинки с острыми носами. Женщина сидела, уткнувшись в бумаги, разложенные на столе.
Салеева отпустила стул и тут же снова откинулась назад, цокнув по батарее наручниками. Чашки звякнули. Руки, ударившись о батарею, оттолкнулись от нее, и стул снова встал на четыре ножки. Салеева откинулась снова и ударялась о батарею, пока ее руки не стали похожи на отбивные. С каждым разом полеты стула назад становились сильней и короче, только паузы между ними удлинялись. Салеева, делая рывок и возвращаясь, не отрывала глаз от красно-коричневой двери, ведущей в темный коридор. На дверь у ручки была наклеена ободранная бумажка с печатью и полоской неразборчивого шрифта. Салеева смотрела на нее и в паузах между шатаниями как будто хотела разобрать, что там написано.
– Это что тут у вас происходит? – в комнату из коридора заглянул лобастый мужчина.
Двойное оконное стекло ярко отразило его голубые джинсы и золотое обручальное кольцо. Длинные плоские лампы на потолке распыляли по поверхности темного стекла световую муть. От этого казалось, что темнота заперта, как в коробке, между двумя оконными рамами. И сама комната казалась запертой – между темным окном и темным коридором. Салеева сделала судорожный вдох, смяв тишину в гармошку, и откнулась снова.
Только что вошедший мужчина подошел к ней и дернул спинку стула. Салеева качнулась, как тряпичная кукла, набитая соломой.
– Нормально сиди, – сказал он.
– Крокодильщица с Братеева, – проговорил худощавый.
– Что, тварь хвостатая, – наклонился к ней лобастый, – будем про подельников рассказывать?
– Я ниче не знаю, – сказала Салеева.
– А если так? – худощавый достал из ящика стола, за которым сидел, смотанный черный пакет.
Он положил его на чистый лист бумаги. Скрученный и мятый, он был похож на внутренний орган. В тишине пакет начал распускаться, еле слышно хрустя, и казалось – сейчас поползет со стола. Салеева резко отвернулась.
– Ну? – лобастый пнул ножку стула.
– Ниче не знаю, – сказала Салеева. – У меня нет никаких подельников.
– А притон у кого накрыли? – спросил худощавый.
– Ниче не знаю.
Худощавый прикоснулся пальцем к кончику носа. Тем же пальцем потянул к себе уголок листа. Взял пакет обеими руками и начал его разворачивать. Пакет настойчиво зашуршал. Худощавый нырнул в него рукой и вынес на свет прозрачный пакетик с белым порошком. Положил его на край стола, ближе к Салеевой.
– А так?
Салеева напряженно повела шеей и, едва поймав пакет глазами, быстро отвернулась.
– Так тоже не знаю, – было слышно, как она разлепила пересохшие губы.
– К тебе весь район ходит, Алена Леонидовна, – мягко сказал худощавый. – Все ты знаешь, только нам не говоришь. Давай ты нам сейчас все расскажешь, потом мы выйдем, ты взболтнешь, вмажешься.
Он вздохнул с присвистом. Лобастый отошел к двери и, взявшись за ручку одними пальцами, внимательно смотрел на Салееву. Худощавый смял пустой черный пакет и положил его на стол. Криво усмехнулся. Его бровь сильнее поползла вниз, будто усмешка, потянув за невидимую ниточку, опрокинула всю половину лица.
– Так как? – жизнерадостно спросил он.
– Никак.
Лобастый метнулся вперед. Окно отразило его фигуру, которая быстро росла. Задрав ногу, он ударил Салееву в живот. Стул откинулся к батарее. Слышно было, как Салеева схватила губами ком воздуха, словно собиралась взять вес. Лобастый так же быстро отступил к двери и встал там, как будто и не отходил. Как будто это не он, а кто-то другой, огромный вырос из темноты, запертой между рам, выпростал руку и потянул Салееву за волосы, опрокинув вместе со стулом к окну.
Темное стекло отразило ее пшеничную голову с собранным на макушке пучком. Темнота между рам успокоилась, и можно было подумать, что через нее пробивается восходящее солнце.
Худощавый с лобастым переглянулись. На столе зашуршал черный пакет, раскрываясь. Женщина за столом, не поднимая головы, потянулась за новой папкой бумаг, закинула ногу на ногу, глухо цокнув по линолеуму каблуком.
Салеева повела грудью вперед, опуская стул на все ножки.
– А так тоже никак? – спросил худощавый.
– Никак, – сказала Салеева, не сводя глаз с правой стопы лобастого. Он был обут в большие черные туфли с вытянутыми, квадратно обрубленными носами. У подъема туфли расширялись – стопа в этом месте плоско падала вниз. Над подъемом туфли ломались поперечными морщинами.
Худощавый усмехнулся, его бровь снова упала, и, словно прикрепленный к ней той же невидимой веревочкой, лобастый сделал рывок вперед и ударил Салееву в правый бок. Стул, вместо того чтобы, как обычно, откинуться назад, завалился вбок. Накреняясь, Салеева утянула его за собой на пол. Ее руки были по-прежнему закинуты за его спинку. Она лежала на полу, как будто продолжая сидеть на стуле.
– Выносливая, – лобастый подхватил спинку стула, с тяжелым рывком поднял его на две боковые ножки и еще одним рывком поставил на пол.
Салеева подтянулась на сиденье ближе к спинке. Дунула, откидывая со лба выбившиеся из пучка пряди.
– Спортсменка, – добродушно сказал худощавый. – Говорят, немного только до Олимпиады недотянула.
– Давай проверим, – улыбнулся лобастый.
Худощавый снова выдвинул ящик стола и положил на стол черный шнур.
– На гибкость придется проверять, – вздохнул он, встал из-за стола и подергал шнур, который держал за оба конца. Шнур несколько раз хлопнул в его руках.
– Твари, не трогайте меня! – закричала Салеева и подалась вбок.
Лобастый подлетел к ней и, встав за ее спиной, положил большую красную, как будто обмороженную руку ей на затылок. Салеева открыла рот, втянула в дырку губы, сморщилась, сощурилась и захныкала. Худощавый встал перед ней. Лобастый взялся другой рукой за сочленение браслетов, потянул их вверх, заламывая ее руки. Она поползла со стула. Он опустил ее руки, и они безвольно пугливо прижались к спине.
– А-а-а! – заорала Салеева. – А-а-а!
Лобастый надавил ей на затылок, ее голос хрипнул.
Худощавый схватил ее за пучок и потянул голову вниз, неожиданно сильной ногой разъединяя ее стопы.
– Не трогайте меня! А-а-а! – хрипло кричала Салеева, мотая туловищем в стороны. – Ах-ха-ха-а, – всхлипнула она, втянув губы в себя. – Отойдите от меня! Отойдите! Зачем вы так делаете? – ревела она, растягивая слова. – Вас бог накаже-е-ет! За то, что вы так делае-е-ете!
– Спокойно себя веди, – лобастый похлопал ее по плечу, и Салеева сделала попытку увести плечо из-под его похожей на отбивную руки.
– Зачем вы так делаете… мне?! – резано кричала она.
– Так даже птицы не кричат в поднебесье, – хихикнул худощавый.
– Вы не на ту нарвалися, понятно?! Не на ту! Ясно-а-а?! – крик, вырывавшийся из ее сдавленного горла, словно ножами царапал стены, оконное стекло, столы. – Зачем вы так делаете?! У меня ребенок, понятно? Говорю, что ничего не знаю. А-а-а! А-а-а!
– Да не ори ты, сука! Заткнись, тварь! – раздался тонкий голос из-за стола, за которым сидела женщина. Пуговичка на ее рубашке вздрогнула, сдерживая растянувшуюся на груди ткань. Выдав эти слова через нос, женщина снова опустила голову к бумагам.
– Слышишь че! – заорала Салеева, мотая в стороны плечами. – Тебе бы такой срок светил, ты бы заткнулася?! Я здоровьем сына родного клянуся, я ничего не знаю! Сыном родным клянусь…
– Не клянись, – сказал худощавый, удерживая ее голову. – Клятвы – от лукавого.
Дернув, худощавый пригнул ее голову к коленям и просунул в дырку между ними. Голос Салеевой оборвался и ушел вниз, заклокотав в груди хлопающими всхлипами. Она ерзала на стуле, чтобы сползти с него. Казалось, кто-то сильный и верткий, задыхаясь, бьется внутри нее, чтобы вырваться из ее тела и схватить острый глоток воздуха. Лобастый шумно пыхтел.
– Держи, держи ее! – тихо говорил худощавый, связывая шнуром ее стопы.
Майка Салеевой задралась, шорты съехали вниз. Из-под ее смуглой кожи торчали позвонки, острые, как хребет рептилии.
– Больно? – худощавый пнул стул. Салеева качнулась. – Ну что, спортсменка, кто твои подельники?
– Слышь ты, урод? – булькающим голосом сказала Салеева. – В спорте знаешь че самое главное?
– Че? – чиркающим голосом спросил худощавый.
– Не противника победить, а себя, – натужно сказала Салеева.
– Принципиальная, – усмехнулся худощавый, роняя одну сторону лица. – Если ты такая крутая, че ты с наркоты не слезла, дура?
– А у меня муж погиб, – с вызовом пробулькала Салеева снизу. – Утонул. Горе у меня было.
– Это который в урне, что ли, у тебя на балконе стоит?
– Который в урне, – с усилием сказала она посиневшими губами. Ее голова торчала из-под сиденья стула. Кровь прилила к ней, а потом остановилась и медленно начала синеть.
– А что урну не закопала? Не домашняя же заготовка – на балконе хранить, – уголок рта худощавого судорожно опустился вниз, потянув за собой бровь и щеку. Его левое веко прикрылось, показывая только край мутного зрачка. Левой стороной он сделался похож на маску, слепленную с половины лица кого-то нездешнего. Он скривил рот сильнее, и казалось – сейчас ниточка оборвется, лицо его упадет и напорется на острый позвонок Салеевой.
– А я любила его, – зашевелила губами Салеева. – Я первое время с этой урной в обнимку спала.
Женщина за столом снова подняла голову и брезгливо посмотрела на Салееву. Задержалась взглядом на ее смуглой спине, покрытой широкими пигментными пятнами.
– А потом на балкон выставила? – спросил худощавый.
– Потом мне похуй стало, – под стулом Салеева сжала онемевшие губы, расслабила их, показывая желтой стене неровные зубы.
Худощавый вздохнул и поправил лицо.
– Пойдем покурим, – обратился он к женщине.
Та встала, поправила блузку на груди, взяла со стула, стоящего рядом, сумочку и, цокая каблуками, пошла следом за худощавым и лобастым. На пороге она еще раз посмотрела на салеевскую спину, подняла полную белую руку. В оконном стекле блеснули ее накладные ногти, поймавшие свет лампы. Она нажала на выключатель, пластмассово цокнув по нему ногтями. Окно погрузилось в кромешную темноту.
Какое-то время из коридора доносились спокойные мужские голоса и глухой отдаляющийся стук каблуков. Через несколько секунд комнату заполнили шершавые всхлипы и сдавленные стоны.Яга тронула дверь, и та открылась. Блеснула лампа, которую то ли зажгли слишком рано, то ли забыли погасить, уходя. Ее желтый свет смешивался с солнечным потоком, ползущим с кухни, где незанавешенное окно пропускало лучи без сопротивления. Два луча света – электрический и солнечный – спорили между собой в узком коридоре, и, когда дверь открылась, солнечный луч как будто метнулся прочь, протыкая Ягу своим страхом, а электрический продолжил тревожно мерцать.
Яга просунула голову в коридор и прислушалась, выставив ухо. Ее напряженное лицо расслабилось. Она сделала первый тихий шаг в квартиру. Второй. Скрипнула полами, но квартира никак не среагировала на этот звук. Проходя мимо кухни, Яга боязливо посмотрела в проем. На кухонном столе стояла бутылка вина, заткнутая пробкой. Яга схватила ртом воздух, произнося беззвучное «а-а-а…», как будто узнала или поняла что-то новое. Это новое знание на миг заткнуло ей рот, а потом ее лицо еще сильнее расслабилось, и она ринулась в комнату, только раз еще на секунду застыв возле стенного зеркала, которое отразило ее ссутулившейся, поджатой, как будто готовой в любой момент получить пинок в зад.
С силой оттолкнувшись от пола и ударив по воздуху локтями, Яга ворвалась в комнату. Она выпростала из себя руки еще на пороге, потянула их к коляске, стоявшей у окна, и движение это было таким сильным, что можно было подумать – она дотянется. Яга сделала несколько прыжков и упала ладонями на ручку коляски, приподняв ее на передних колесах. Ссутулилась. Что-то тихо завыла. Затрясла ручку нервно. Отпустила. Сунула осторожные руки внутрь, нежно обхватила тихое тело младенца. Подняла его, прижала к себе. Осмотрелась. Принюхалась. И, как будто почуяв что-то, сорвалась с места, пересекая коридор, из которого солнечный свет боязливо уползал в открытую дверь, в подъездную сырь и темь. Не оборачиваясь и не сбавляя скорости, Яга бросилась из квартиры. Двигалась она сильными рывками, только руки у груди держала слабо и нежно.
На лестничной клети она затормозила, обернулась и ногой прихлопнула дверь.
Хлопок бросился по коридору, в кухонный проем, в кухню, где растворился у бутылки вина, за толсто-зеленым стеклом которой густела живая краснота.Яга подкинула шлепанец, плотнее вонзаясь в него ногой. Зашаркала по асфальту, придерживая рукой голову младенца. Остановилась возле молодых, тонких еще деревьев, снизу выкрашенных свежей известкой и обложенных по кругу кирпичами. Постояла. Из некоторых почек уже вылупилась сморщенная зелень, похожая на перепончатые крылья. Яга задрала голову, вдруг радостно щурясь.
– Весна… – сказала она в макушку младенца.
По дороге за ее спиной медленно ехали машины. Перед лицом ее стояло новое здание, покрашенное в розовый. Цвет был таким теплым, что растущие напротив него молодые деревья могли обмануться и вылупить листья из почек раньше времени.
Яга закачала младенца, загукала, щурясь по-доброму на прохожих.
– Вот, ребеночка родила, – сказала она проходившей мимо женщине, на голове которой ветерок шевелил мягкие завитые пряди.
Молодая женщина отшатнулась от нее, но потом приостановилась и улыбнулась. Яга смотрела в ее теплые карие глаза расслабившимися голубыми, а женщина, такая же высокая, как Яга, стройная, в коричневых ботинках с выпущенными языками, трогала ремень кожаной сумки на плече и кивала. Они смотрели друг на друга так, как будто знали друг друга давно. Так давно, что понимали без слов. Яга нежно засмеялась и накинула одеяльце на голову младенца.
– Вот, родила… – повторила она. – А как вас звать?
– Ева, – смеясь, ответила женщина. Потом покачала головой, как будто умиляясь и радуясь. И пошла дальше. Яга тоже пошла – держась ближе к розовому зданию.
Поравнявшись с кем-нибудь из прохожих, она подкидывала на груди младенца, улыбалась, заглядывая в лица, ища ответных улыбок.
Яга семенила, ее джинсы шуршали, ляжки обтирались одна о другую. Придушенный палец торчал из капроновой дырки. Яга дошла до лавки и уселась на нее.
Весна разливалась вокруг. Яга нюхала ее, качая младенца.
– Вот, ребеночка родила, – повторяла она, когда кто-то проходил мимо.
Смеялась.
Ветер копался в ее макушке, но не мог сдвинуть тяжелые затхлые лохмотья волос. Одеяло сползло с младенческой головы. Показался мягкий белый шар, поросший тонкими волосами.
– Замерзнешь, у-тю, – сказала Яга, снова накидывая край одеяла.
Она закинула ногу на ногу. Посиневший палец стрелял в прохожих.
– Я же как назвать его думала, – говорила она со скамейки, раскачивая ногой. – Родила ребеночка. А как назвать? Вениамин – имя. Хотела его Вениамином назвать. А отец его, Ванька, от которого я ребеночка родила, говорит – Вениамин не подходит. Тогда че? Мне больше нерусские имена нравятся. Я же английский в школе не учила, я их имен не знаю. Светка говорит, судьба человека от имени зависит. Она говорит, судьба, когда человек рождается, уже на ладони записана. Имя – тоже записано. И че мне теперь? Вот ребеночка родила, а как назвать? Красиво назвать хочу, чтоб жизнь у него красивая была. А как? Вениамин – хорошее имя. Ванька не хочет. Ванька у меня строгий. Зарплату всю в дом несет. Раньше я на заправке работала, восемь тысяч в день делала, сумки себе покупала, потом ребеночка родила. Коротко можно было бы Веней называть.
Яга глубоко вдохнула, вбирая в грудь побольше воздуха, и долго не выпускала его, как будто его свежие запахи могли пробудить ее саму или того, чью голову она сейчас прижимала к себе. Но вместо пробуждения синюшная злость проступила на лице Яги. Она как будто почувствовала в воздухе что-то кроме весны, или в самой весне ее что-то разозлило и напугало. Она шумно выпустила воздух из ноздрей, сунула руку под одеяло, пощупала ноги младенца.
– Че-то холодный ты, – мрачно сказала она.
Действительно, похолодало, и окрепший ветерок прополз по спине Яги.
Она привстала, но снова опустилась на скамейку.
– Еще посижу, – сказала капризно.
– А-тю-тю-тю-тю-тю-тю, – запела она, – не ложися на краю. А-тю-тю-тю-тю-придет, тебя схватит за бочок. А Ягуша тут как тут, никому тебя не даст. Ты, волчок, к нам не ходи, потому что тю-тю-ти. А Ягуша никому тю-тю-ти не даст. А Ягуша заберет, покачает и уснет. У-тю-тю, а-тя-тя, спи ты, спи, мое дитя… А-тя-я-я, – хрипнула Яга, – ты пальчиком шевелишь, мой маненький! Ты пальчиком шевелишь, мой хонесенький. А ты мой… ты мой… Ягуша сейчас… Ягуша сейчас, все сделает сейчас. Ягуша плакать будет, Ягуше будет бо…Она быстро встала с лавки и пошла, не оглядываясь по сторонам, пригнув голову, сгорбившись и как будто пряча младенца в себе. Выйдя к оживленному тротуару, она пошла по нему, меча в здания, стоящие по правую сторону, настороженные взгляды. Лицо Яги посинело – то ли от холода, то ли от того, что застоявшаяся кровь поднялась от сдавленного капроном пальца.
Кажется, она сразу его узнала – кафе с коричневыми стеклами, которые закрывают тех, кто сидит внутри, но показывают проходящих мимо. Узнала, как узнал бы его каждый, кто в детстве любил шоколад.
Яга подошла к коричневой двери. Заглянула внутрь. В коридорчике стоял желтый аппарат для пополнения счета, его гладкий экран светился названиями телефонных операторов. Сбоку виднелась еще одна дверь, ведущая в кафе. На ее стекло был наклеен бумажный кружок с буквами – «Wi-Fi». Яга положила ладонь на ручку двери, толкнула ее. Юркнула внутрь. Через пару секунд она показалась на улице снова, с пустыми руками, и бросилась от кафе прочь.
Тротуары успокоились. Люди, выпущенные офисами, больше не сновали по ним в одинаково-ускоренном ритме. На лице Екатеринбурга проступила индустриальность. Высокий серый бетон как будто сказал, что он в городе главный, и защемил те старые улочки и теплые розовые дома, которые здесь еще оставались. Так бывает, когда на большие города брюхом наваливается вечер. Малые дома не сопротивляются. Но индустриальный бетон как будто каждый вечер говорит, что он – сильней, что он выдюжит на своих монолитных плечах вселенское брюхо вечера, и оно не порвется, и солнце огненной кометой не полетит вниз, и ночь не настанет в городе, где круглые сутки могла бы кипеть работа. Природа побеждает. Но в городе постепенно появляются новые дома – более сильные и прочные. Они агрессивней бьются с природой.
Яга хихикнула. Расправила плечи, ее походка стала уверенней, как у человека, который точно знает, куда идет. Сунув руки в карманы, она виляла задом.
Свернула в тихий двор. В некоторых домах уже горели желтым окна. Вошла в знакомый подъезд. Заскребла тапками по лестнице.
Толкнула дверь, и та шаркнула по одеялу. Яга отвела одеяло рукой. Один его конец сорвался со стены и висел.
– Че, есть кто? – позвала Яга.
Сунулась в кухню. На полу кучкой лежали подсохшие спичечные коробки, грязные тряпки, испитые пакетики чая. Сверху поблескивали конфетные фантики. На столе стояла красная машинка и смотрела в глаза Яги игрушечными фарами.
– Че, блядь, никого нет, что ли? – пробубнила Яга. – Салеева!
И в комнате было пусто. От дивана по-прежнему шел запах, палас на каждом шагу выдавливал из себя сырость. Комнату как будто заполняли клубы воздуха, которые образовываются в надолго закупоренных помещениях. Свет забытой лампы округлял ее стены. Комната казалась желтым пузырем, в котором споры, плесень и пыль ведут свою осознанную жизнь, – они, быстро привыкнув к вдруг случившемуся безлюдью, полностью завладели этой территорией, расплодились, разъелись и щетинились мелкими зубками на каждого непрошено входящего.
Яга подошла к дивану. Несколько яблок краснело у подлокотника. Она взяла за хвостик одно – красное с желтыми крапинками, кое-где переходящими в бледные полоски. Яга смотрела на яблоко так пристально и сосредоточенно, словно в нем, как в хрустальном шаре, видела последние события, разыгравшиеся в этой комнате до того, как права на нее заявили споры и плесень. Она вздрогнула, когда ей в глаза ударило красное солнце, заглянувшее в балконное окно, а через него – в комнату. Оно висело в небе так, словно и его кто-то держал за хвостик.
Яга испуганно бросила яблоко на диван, оно снова укатилось к подлокотнику. На цыпочках она вышла на балкон.
Кто-то передвинул урну на середину, загородив проход. Яга тронула ее ногой. Урна скрежетнула по полу. Яга отдернула ногу. Постояла, щурясь на солнце и, кажется, все понимая. Раздула ноздри. В глазах ее отразилось по солнцу, и, глядя в ее зрачки, можно было подумать, что на небе их два. Яга захохотала – хрипло, каркающе, зло. Она наклонилась, схватила урну, поставила ее на дно. Вцепилась шершавыми пальцами в ее крышку, потянула. Ногти налились синим. Крышка не поддалась. Яга засипела, сильнее раздувая ноздри. Ее голова тряслась, а глаза полосовали урну так злобно и остро, что, кажется могли вскрыть ее без помощи рук.
– Сука, – говорила она. – Сука, я тебе дам.
Она быстро огляделась. Сунула руку в деревянный ящик, покрытый старой пылью. Нащупала в нем отвертку. Рухнула на колени, зажала урну между ног, подперла острием отвертки крышку и напряглась.
– Сука, запаяли… – выдохнула она, перебив звяк, с которым крышка упала на пол.
Яга заглянула в керамическую горловину. Встала. Подняла урну, распахнула белую раму, изъеденную черным. Поставила урну на перила балкона. Запустила в нее руку и плеснула пригоршню черного пепла в город. Ветром в лицо город вернул ей пепел. Яга зажмурилась. Черная крошка села на щеки. Когда Яга открыла глаза, из них на солнце выглянул кто-то злой пуще прежнего, кто-то доведенный до красного каления. Сжав рот в нитку, Яга распустила крылья носа по всему лицу, впилась почерневшими пальцами в керамические бока, подняла урну, высунула ее из окна и перевернула, ссыпая прах вниз. Под балконом его подхватил все тот же ветер, но, вместо того чтобы унести, развеивая над двором, над улицей и дальше над городом, он уронил его вниз на голый бетонный козырек подъезда, на котором никогда ничего не росло.
Яга вытерла под носом, оставив черную полоску усов. Вернулась в комнату. Встала на середину. Выбросила вперед ногу. Руку.
– Джига-джига, – хрипло объявила она и заплясала, деревянно отстукивая по полу пятками, пиная воздух коленками, дырявя его локтями. Тень ее принимала жуткие формы на стене – темные, как будто слепленные из сгустившегося праха.
– Джига-джига, – хрипела она, подбадривая себя и смеясь.
Она дико прыгала и так отстукивала пятками по полу, словно хотела разбить о него свои костяные ноги.
– А че меня никто не приглашает? – хрипела она. – Че на танец никто не приглашает, джига-джига…
Комната шевелилась и тоже прыгала с ней. Разогнанные застойные клубы кружились, обвивая Ягу. Пыль танцевала, поднимаясь от пола. Тень повторяла ее движения. Лампа тряслась и как будто говорила: еще, еще. Споры и плесень ползли в задыхающийся рот Яги.
– Праздник, – говорила Яга. – Праздник.
А ветерок тем временем лег на кучку праха, въедающуюся в пупырчатый бетон. Притих, как будто прислушиваясь к истории его черных песчинок. И вдруг дунул, сгоняя его с козырька. Черное облачко метнулось вниз и никуда не делось.
– А-а-а! – Яга споткнулась.
В проеме двери сидел белый котенок и смотрел на Ягу желтыми глазами.
– Че я вам, блядь, мать Тереза? – заорала Яга. – Че я вас, на хуй, блядь, одна всех спасать должна?!В воздухе расплескивалось жужжание насекомых. Яга спустилась с аптечной лестницы, припадая на железные перила. На последней ступени обернулась. Городские шумы обступили Ягу, и она даже приоткрыла пакет, будто собираясь наполнить его звуками. Весеннее насекомое примчалось из-за деревьев с вертолетным стрекотом, слишком резким для его худосочного тела, блеснуло узкими посеребренными крыльями и село на самый большой цветок в центре пакета. Яга провела по цветку ребром ладони, сгоняя эту мошку. Та, подвернув крыло, промаслила по пакету вниз и упала на асфальт, между стоп Яги. Большой палец правой ноги дернулся. На нем сидело облупленное пятно сливового лака. Яга стояла и оторопело смотрела себе под ноги, на мошку, притихшую на асфальте. Временами Ягу потряхивало, и она сгибала коленки, будто собиралась рухнуть перед мухой на асфальт, прося прощения. Не меняя позы, Яга подняла руку к лицу и вперилась в ребро ладони. Приоткрыла рот, словно поверить не могла, что одно движение ее медленной, налитой бессилием руки могло погубить такой стрекот.
Мошка лежала на боку, подогнув переднюю лапку – такую же тонкую и короткую, как черные черточки на ладони Яги. Над мошкой бугрились крупинки асфальта, уходили вглубь иголочные рытвинки. Яга, опершись о колено одной рукой, другую поднесла к асфальту, как будто собиралась погладить мошку выпрямленными и притиснутыми друг к другу пальцами. Она припадала все ниже, гладила воздух над мошкой, крошечное тело которой затекало смертью, а крылья почему-то блестели ярче. Движения Яги становились плавнее и длиннее. Казалось, она стряхивает с ладони черные черточки, чтобы они с головой нырнули в асфальтовые поры.
Яга выпрямилась, оскалившись. Подобрала ручку полураскрытого пакета, подтянула сзади джинсы и пошла, потряхивая головой. Со стороны казалось, она отбивается от звуков, которыми распустилась весна. От городских шумов, которые начали подступать ближе с тех пор, как воздух прогрелся и смягчился.
Пройдя дорожку, обставленную низкими бордюрами, Яга ступила на сырую еще после ночного дождя землю. Из-под ветвей пахнуло насекомыми, гнильцой прошлогодних листьев, мокрой корой. Яга трусливо оглянулась. Подкинула плечи, словно на них, как и зимой, сидела толстая куртка. Углубилась в ветви. Одна ветка шевельнулась. Яга споткнувшись, полетела вниз, упала, ударяясь грудью о землю. Быстро приподнявшись на коленках, она, словно слепая, ощупала землю. Наткнулась рукой на скользкий пластик пакета, дернула его, но он не поддался, придавленный мужской ногой в черных нечищеных туфлях. Яга дернула головой вверх. Над ней стоял Олег и улыбался.
– Че? – прокряхтела Яга, потянув пакет на себя двумя руками.
– Через плечо! – чокнул Олег и, не снимая ноги с пакета, другой ударил Ягу по плечу.
Яга завыла и повалилась на землю боком. Приподнялась, посмотрела на Олега. Его голову одевали молодые густые листья. С высоты он улыбался Яге. Она собиралась ему что-то сказать, но сзади получила еще пинка и прогнулась под ним. Не отрывая тела от земли, она с трудом развернула голову назад. Ее шея собралась напряженными складками. Ваджик раздувал ноздри. Его лицо было злым.
– Миша, – властно позвал Олег, и из ветвей выпорхнула легкая тень.
Миша, спеша, сковырнул ногой какую-то кочку или задел выступающий из земли корень, но с собой он принес запах пепла, лежалых орехов и терпкость перезрелых яблок, свернувшихся в уксус. Яга шевельнула ноздрями, вбирая запахи, и сразу оскалилась в страхе.
– Забери у нее пакет, – приказал Олег.
Миша шмыгнул к Яге юркой мышью и потянул пакет на себя. Олег убрал с него ногу.
– Че вы делаете? – голос Яги сжался. – Это мой пакет. Че вы?
– Короче, пакет отпусти, – бесцветно сказал Миша.
– Пакет отпусти, – громче повторил Ваджик и бацнул Ягу в то же место на спине.
– Ай-й-й… – хрипло заплакала Яга, но пакет не выпустила.
– Пакет отпусти, – еще раз произнес Миша.
Яга затрясла головой, словно хотела отбиться от его коротких слов, бесцветных, как крылья молодых мошек. Ее потревоженные волосы поднялись, показав тусклый непрокрашенный висок. Носом Яга уткнулась в землю.
– Вы че делаете? Миша, ты че? Ты как будто меня не знаешь! Не знаешь, да? – хрипло заныла она. – Че вы со мной теперь тут делаете, Миша? Я тебе сколько раз на дозу давала? На халяву, а? Ваджик, че ты такой подлый, а? Че ты бьешь меня теперь? Я твоего брата Фадика на заправку не устроила? Олег, че ты такой? Ты с сестрой моей встречался. Нахуя вы меня теперь тут пинаете, а? Нахуя? – из глаза Яги выкатилась мутная слеза, потекла по боковине носа, под него и там смешалась с солеными соплями. – Анюта! – просипела она, увидев над собой одутловатое женское лицо. – А-ню-та…
Олег наступил грязной подошвой Яге на запястье и поерзал ногой, задевая нашлепкой каблука хрящевые косточки.
– Пакет отпусти, – повторил Миша.
– Не отпущу я! – крикнула Яга.
– Ты смотри, какая, – фыркнула Анюта, – даже Иуда тридцать сребреников отдал.
– Че ты мне паришь, Анюта? Че ты мне – Иуда? Я никогда… никогда… ах-ха-ха, – Яга выдула слюнявый пузырь.
Олег навалился сильнее, перенося всю тяжесть в ногу.
– Аха-ха, – Яга разжала пальцы. – Анюта, – она подняла голову, – сколько раз я тебе на халяву давала, вспомни. Как я на заправке работала, вспомни. По восемь тысяч в день делала, Аню-т-та… – хриплые причитания Яги звучали в этих сырых еще от ночного ливня ветвях, как предсмертная песня старой охрипшей птицы.
– Да?! – визгляво протянула Анюта и вильнула узкими бедрами в черных джинсах. – А кто Салееву ментам сдал? Такая умненькая, Ягушечка, типа сама ушла, а мы как бы все остались.
– Ты охуела, Анюта? – Яга приподнялась. – Я не сдавала Салееву. Это Жаба ее сдала. Я не знала, просто ушла, к Ванькиному ребенку убежала. Он меня просил за ним посмотреть.
– Чем докажешь? – выдохнул Миша.
– Че мне кому-то доказывать, – Яга оперлась на локоть. Одну сторону ее лица покрывали крупинки влажной земли и мелкие ветки. – Ты забыл, как позапрошлой зимой вы полные сумки мартини вытащили, а я на входе вас прикрывала? Че-то вы все ушли, меня бросили. Че-то я одна осталась, все на себя взяла. Че-то когда меня менты в отделении бучкали, – Яга сглотнула. – Ух, хорошо меня бучкали, че-то я никого не сдала. Не по моим понятиям это, Миша. Все знают, я никого не сдаю. Никогда не сдаю.
– Никогда не говори никогда, – выдохнул Миша.
– Я лучше бутылки собирать буду, – Яга вдавила локоть в землю. – Из принципа никого не сдам.
– Это она Салееву сдала, – Анюта поджала губы так, будто, сказав свои последние слова, запечатывала рот восковой печатью.
– Не сдавала я никого! – крикнула Яга, тут же прогнувшись под тупым броском Ваджиковой ноги.
Они обступили ее вчетвером и пинали. Тело Яги подлетало на миллиметры, а потом возвращалось на землю, она снова прижималась ртом к ней и ойкала в нее, хрипя: «Мама». Когда Яга подлетала, поднятая силой пинков, то казалась неживой, легкой и бескостной. Но когда возвращалась на землю, жизнь, отлетевшая на миг, снова падала на нее, подчиняясь притяжению земли, которая, словно разбуженная криком Яги, не хотела Ягу отпускать. Ее руки и ноги дергались. Мельтеша, они казались маленькими. Анюта пинала, тонко втягивая воздух и фыркая, она заняла место у живота. Ваджик по-прежнему тупо бил в спину, как будто тренировался и поставил себе задачей нанести по снаряду заданное число ударов – известное ему одному, но не однозначное. Олег бил с улыбкой, подскакивая, стараясь попасть в голову, в плечи. Его майка выбилась из-за пояса штанов. Миша бил сухо, разметая по воздуху руки, с мученическим лицом. Ему словно было жалко, но не Ягу, а себя – за расход последних сил, еще притаившихся в его иссохших мышцах.
Тело Яги перестало вздрагивать. Но жизнь как будто билась у нее под кожей. И когда тупой носок Ваджика впивался в ее спину глубже, живот Яги выпячивался, словно жизнь, собравшись в один комок, натиском брала последние кожные рубежи.
Олег попал носком ей в висок. Кровь клокотнула в горле Яги. Две густые струи потекли в землю, и земля успокоилась, перестав Ягу держать. Заостренное лицо Анюты расслабилось, на нем проступило что-то ритуальное. Ряды разомкнулись. Схватив пакет, Олег заспешил в сторону домов. Остальные потянулись за ним. Яга осталась лежать – на боку, подогнув ногу. Вытянув руку вдоль тела. Из ее носа сочно капало, и земля жадно впитывала эти капли.Луч солнце поплыл по тротуару, пересек проезжую дорогу с двумя полосами движения, пошел по противоположной стороне, пару раз мелькнув в затемненных окнах первых этажей. Дошел до аптеки, встал вертикально, потоптался притупленным острием по ее зеленый крыше. Несколько секунд полежал на ступеньках ее лестницы. Спустился. Метнулся по асфальтированному пятачку, по дорожке, идущей наискосок к деревьям. Можно было подумать, кто-то управляет им сверху. Но у деревьев луч остановился. Отступил. Сдержанно походил взад-вперед. Словно там, в глубине, под деревьями свершался ритуал, кровавое жертвоприношение, и луч, не принадлежа теневой стороне, тактично мялся сбоку, не заходя на чужую территорию. Потом он вернулся на пятачок, выхватил мошку, лежащую на боку с подогнутой лапкой. За считаные минуты, прошедшие с ее смерти, крылья успели высохнуть, истончиться и стали похожи на шелуху, содранную с перегоревшей на солнце человеческой кожи. Луч двинулся к мошке. Наступил на нее. Придавил желтой солнечной тяжестью. Крылья мошки блеснули блеклым перламутром, потом позолотились. Она согрелась и лежала как живая в расплавленном золоте кончающегося дня. Луч стоял над ней долго. Потом ушел. После этого начался закат.
Часть вторая Светка
Светка наклонилась, поставила пластиковую бутыль, заполненную едко-зеленой жидкостью, на каменный пол. Постояла перед большой иконой Богородицы, комкая в руках сырую тряпку. Икона была одета в гипсовую рамку, из которой росли гипсовые же грозди винограда, покрытые позолотой. Светка тронула одну ягоду пальцем. Снова наклонившись, взяла с пола бутылку, прицелилась в спокойное лицо Богородицы. Пенная струя ударила Богородице в нос, Светка вздрогнула, налетела всем телом на икону, касаясь рамки тугим выпуклым животом. Подняла тряпку на растопыренной пятерне и обрушилась на стекло, с которого стекали пенные, похожие на плевки капли.
Светка терла быстро и ожесточенно. Она отошла и посмотрела в лицо Богородицы, в упор буравящей глазами из-под зеркально чистого стекла. Светка заметила мутное пятнышко в углу и набросилась на него. Она терла и отходила посмотреть с расстояния. Терла и отходила. Но, кажется, ни сама Светка не была довольна работой, ни Богородица – ее взгляд становился тем строже, чем чище стекло.
– Так ты до вечера тереть будешь. Скоро служба. Быстрее, – сказала бабка, одетая в темное, расклешенное колоколом платье. Из ее спины рос горб, маленький и твердый, как Светкин живот. Казалось, бабка носит на спине окаменевшего ребенка.
Светка метнулась к другой иконе, покрытой тонким листом позолоченного железа. Из круглых прорезей в листе выглядывали темные лица Богородицы с Христом-младенцем, ее почерневшая деревянная рука и его пяточка – с розовыми лунками ногтей. Светка прыснула резкой жидкостью на оклад, провела по нему много раз тряпкой.
В полутемную церковь вошла женщина в легкой розовой блузе, обсыпанной мелким белым горохом. На круглой горловине блузы сидела свернутая из шелка розочка. Полные бедра женщины обхватывал широкий цветной палантин, сквозь который просвечивали черные лосины. Жирные колени бугрились под прочной тканью.
Она подошла к той иконе, которую Светка протерла только что, и зашептала перламутровыми губами в стекло. Шепоток чужой молитвы, промасленный липкой помадой, поплыл по церкви. Светка насторожилась и обернулась. Ее травоядные глаза словили острый поток света из окна, веки запульсировали. Светка отошла к другой иконе, лежащей под стеклом на подпорках. Навалилась на нее руками, вдавливая в живот. Тяжело зажмурилась и застыла, как будто переживая схватку.
Положив белые пухлые руки на стекло, женщина приникла к иконе. По стеклу метнулась испарина, но быстро иссохла. Женщина, негромко стуча по холодно-каменном полу пробковой танкеткой, вышла из храма, на пороге опасливо оборачиваясь и крестясь.
Светка сразу ожила, метнулась к Богородице в золотом винограде и полоснула по ее лицу сырой тряпкой – там, где на стекле сидели две мутные птички, отпечаток чужого поцелуя – объеденного и несмелого. Словно и сама просьба, запечатанная им, была постыдной. Неправославной.
Еще одна Богородица – а они зачем-то здесь стояли по периметру в ряд – глянула на Светку из-под стекла жемчужными глазками сережек, приклеенных к нарисованным мочкам ушей. Рубинами в подвеске, лежащей в коричневой ложбинке ее шеи. Аметистами в брошах, украшавших ее покрывало. Перламутровыми цветами, обложившими ее рисованный силуэт. Белыми опалами, в перламутре которых бегали красные и желтые огоньки, словно внутри, как под гладкими овальными крышами, кто-то ходил туда-сюда с зажженной свечой. На пальцах, в которых иконописец забыл или не захотел нарисовать суставы, отчего они казались слишком тонкими, сидели изумруды, окруженные золотом, резные цветы из желтого металла, обсыпанные мелкими камушками. Рукава Богородицы сплетались кружевом – белым, но покрытым налетом серой пыли, хотя икона и была плотно забрана стеклом. Внизу коричневыми вязаными буквами было выведено – Умиление Пресвятой Богородицы.
Светка сначала пялилась на Богородицу, на граненые драгоценности, на игру света в них. Моргала короткими ресницами. Топталась возле иконы. Потом шмыгнула носом, поднесла к стеклу тряпку и начала тереть. С правого бока стекло, скрипнув под нажимом, отошло от рамы и немного провалилось вниз. Светка быстро отняла руку, стекло встало на место. Светка стала тереть осторожно, короткими штришками.
– Какая красивая, – произнесла она, картавя. – Умилиться можно… И кто ж тебя так одел красиво?
Она потерла еще там, где Богородица складывала бескостные руки на груди.
– Умиление, – повторила Светка. – Умиление…
И каждый раз Богородица как будто ниже опускала глаза – так низко, как позволил ей художник, очертив кисточкой границы ее век. Каждый раз как будто отводила их в сторону, натыкаясь на наглые жемчуга, резкие грани аметистов, блуждающие опалы. И как будто Богородице стыдно было за то, что ее так разодели. За то, что разодели ее последним – снятым с себя, оторванным от груди, от мочек ушей, с пальцев. Собранным с миру по нитке, лишь бы она была красивой. Запечатавшим просьбы, обращенные через стекло. Стыдно за то, что лица, заглядывающие в нее, были в основном некрасивы. Но очень хотели красоты от нее. За то, что приписывали ей свои желания – они хотели быть красивыми, не она. Они хотели видеть в ней себя, она себя в них не видела. И просьбы, которые они обращали к ней через стекло, она выполнить не могла. И ей как будто было стыдно за то, что сейчас на стекле, которым защитили от людских рук ее умильную красоту, отражается голое лицо восхищенной Светки, моргающей короткими ресницами. И в кроличьи Светкины глаза попадает резкая игра драгоценных камней, мешающая Светке посмотреть на Богородицу как на мать, а Богородице – увидеть в Светке ребенка.
Светка вдруг нахмурилась – заметила черное пятнышко на стекле. Оно пряталось над парчовым рукавом, почти сливалось с узором. Светка надела тряпку на указательный палец и принялась тереть, словно ластиком по бумаге. Пятнышко не оттиралось. Света пыхтела, наваливаясь на оклад. Схватила тряпку всей пятерней и с силой провела по стеклу. Стекло взвизгнуло, и Светка тихо отпрянула, задрожав. Визг, похожий на женский крик, пронесся по всему храму, поднялся к беленому синюшному потолку, запутался в подсвечниках паникадила, хотел пробиться в алтарь, но у царских врат умер.
Выпустив тряпку, Светка закрыла лицо резко пахнущей рукой и заплакала. По стеклу иконы гулял оконный свет, шевеля зрачки Богородицы, сужая ей веки. Та как будто теперь насмехалась над Светкой, над желанием некрасивой Светки сделать саму Богородицу идеальной. Светка отняла руку и в блике, прицепившемся к парчовому рукаву, увидела: черное пятнышко сидело с той стороны стекла, и было оно не пятнышком даже, а маленьким паучком, засохшим после того, как выполнил свою работу – может быть, сплел кружева для рукавов Богородицы. Светка чему-то улыбнулась. Поправила волосы, глядясь в стекло, как в зеркало.
– Я такая страшная сегодня, – сказала она картаво. – Как чертиха.
Светка пересекла храм – к противоположной стене. Там она остановилась возле святителя Николая, всего, с ног до головы, одетого в серебряный оклад. Оклад тускло мерцал, как старые доспехи. Из круглых дырок, прорезанных в нем, выглядывали лишь коричневое, как печеная картошка, лицо, перст и стопы. Светка смотрела на святителя снизу вверх. Потом подняла бутылку к самой его макушке, хотела прыснуть, но передумала и спустила руку ниже – на середину. Туда, где в доспехах с той стороны был выдолблен крест. Прыснув, Светка начала тереть снизу вверх. Мыльные разводы прочертили пенный нимб над головой святителя. Усердствуя, Светка встала на цыпочки и слишком навалилась на икону. Святитель качнулся, щетинясь доспехами. Светка охнула и, прежде чем схватить икону руками, удержала ее животом.
Всплеснув тряпкой, она отошла от иконы и смотрела, как успокаивается окладная дрожь. Наверху виднелись сухие разводы – кто-то, как и Светка, протиравший икону до нее, не дотянулся до верхушки.
Раздались тихие шаги. В храм вошла монахиня. Ряса мягко обнимала ее плотные плечи. В руках она несла короткий веник. Зайдя в закуток, где стояла рака, монахиня принялась мести. Шорох прутьев о холодный каменный пол полетел в стороны.
Светка двинулась дальше, ступая осторожно, как если бы пол мог провалиться под ней. Прыснула в лицо какого-то старца с тонкими, как у женщины, бровями. Резкая струя полоснула его по глазам, но рисованное бледное лицо его не сморгнуло, не дернулось. Белый плевок пены потек по его тонкому носу с заостренным кончиком, по белым усам, обнимающим концами окладистую раздвоенную бороду. Седые волосы его, разделенные прямым пробором, кудрявились за спиной. Он был одет в белую рубаху, в накидку и сидел, как будто выставив вперед босую левую ногу. Пальцы на его ноге были старые, прелые от этой самой старости и белые. Прижимались плотно один к другому, словно старец этот всю жизнь носил тесную обувь, не снимая. Ниже большого пальца выпирала подагрическая шишка с отложением солей. И сам старец, весь бледный, весь какой-то бескровный, был соленым. Выточенным из большой глыбы соли.
Светка провела тряпкой по его лицу. Из-под серой мокрой материи высунулись глаза – черные. Светка начала смотреть в них. То они казались женскими, то мужскими. То пустыми, то полными. Только казалось почему-то, что они никогда не плакали и не заплачут. А тому, кто в них смотрел пристально и подолгу, самому хотелось расплакаться.
Светка скрипнула тряпкой по его стопе, выглядывающей из-под рубахи. Круговыми движениями хорошенько протерла его подагрическую шишку – по часовой стрелке.
– У меня у деда тоже такая шишка была, – сказала она, поднимая на старца глаза и быстро их опуская. – Он участник войны – Отечественной, – продолжила она громче, и пугливое эхо метнулось в сторону, соединившись с чиканьем веника. – Его после войны мучили воспоминания, – тише сказала Светка. – Он никогда не плакал, и у него выросли соляные шишки на ногах. Он их еще в кипятке парил.
Старец сквозь чистое стекло смотрел на Светку так, будто собирался прожечь в ней соляную дырку. И белый соленый перст он поднял как будто не для того, чтобы перекрестить Светку, а чтобы пульнуть ей в голову больный щелбан. Он был не добрый. И он был не злой. Голову его одевал треугольный нимб. Рядом с ним сидел Христос, выставив вперед правую ногу. В правой же руке он держал крест. Большой, сбитый из бревен. Почему-то в тонких пальцах Христа крест смотрелся пушинкой. Голая стопа его властно придавливала землю. Стопа эта совсем не подходила к его тонкому узкому лицу и кротким глазам, которые словно говорили: «Я прощу тебе то, чего Мой Отец простить не смог».
Светка щурилась, стараясь прочесть вертикально спускающиеся буквы между ним и Христом, но так и не смогла понять, кто этот старик. Она уже хотела отойти от иконы, но шагнула только вбок, и оттуда увидела у правого края рамы, со стороны старика, мутное пятнышко. Светка набросилась на него с тряпкой. Оно не оттиралось. Это был отпечаток чьего-то пальца, и оставлен он был с той стороны.
– Ты не усердствуй особо, – раздался голос рядом со Светкой.
Она обернулась. Рядом стояла монахиня с веником.
– Не усердствуй, – повторила та. – Не все пятнышки оттираются.
Монахиня перекрестилась, глядя на соленого старца, но не стала прикасаться к нему ни губами, ни лбом.
– А кто это на иконе? Старый такой? – спросила Светка.
– Бог-отец это, – ответила монахиня. – И подсвечники надо успеть протереть. Подсвечники сегодня очень грязные.
Монахиня ушла за угол и вернулась оттуда с металлической плошкой, из которой торчали промасленная кисточка и палочка с заостренным концом.
– Это – ковырялка, чтобы счищать воск, – сказала она, поднимая палочку.
Светка приняла у нее из рук плошку. Подошла к золотому круглому подсвечнику, утыканному лунками для свечей. Вся поверхность подсвечника была покрыта лампадным маслом, в котором плавали мушиные тельца и желтые восковые крупинки, похожие на свернувшийся жир. Светка тронула золотую гладкость пальцем. Растерла между большим и указательным попавшуюся крупинку. Отвернулась от подсвечника так резко, словно тот внезапно ударил ей в нос мерзким запахом. Светка приставила к подсвечнику плошку и, скривив лицо, часто моргая, провела кисточкой между лунок – сгребая в одну кучку мушиные тела. Кисточка оставляла в масле неглубокие разводы, которые затягивались тут же.
Мухи, захлебнувшиеся в масле, плюхались в плошку, подталкиваемые кисточкой. Их промасленные крылышки плотно прилипали к скрюченным тельцам. Чуть не выпустив плошку, Светка зажала рот рукой, отвернулась. Потерла горло пальцами, словно к нему подкатил брезгливый комок. Дохлые мухи цеплялись за кисточку. Светке приходилось стучать ею о деревянной край плошки, чтобы сбросить их.
– Увязли, – сказала Светка самой себе.
Ковырялкой Светка подцепила восковую коросту, в которую засохла растекшаяся капля свечи. Но заостренный конец ковырялки оставлял только царапины в воске. Светка скребла, трогая живот и словно боясь, что и он подкатит к горлу. Потом она поднесла к коросте палец и, зажмурившись, ковырнула ногтем. Короста приподнялась, крошась краями. Золото не хотело ее отдавать, словно она – короста, родившаяся в темных недрах церкви, – могла обнажить язву, ржавчину, не сходящую с показной позолоты, как черный грех. Светка глубже засовывала под нее ноготь, и наконец короста отлетела, открывая сухой участок чистого золота, на который тут же начал наплывать жир. Светкино лицо расслабилось, на нем появилось равнодушие.
Выбрав все жирные заскорузлости, всех дохлых мух, Светка перешла к другому подсвечнику. Там, среди жирных лунок, тихо билась муха. Крылья слиплись вдоль ее тела. Занеся над ней кисточку, какое-то время Светка моргала. Ее верхние веки бились о нижние в такт мушиным рывкам. Светка поднесла к ней палец, дотронулась и, обходя лунки, поволокла к краю подсвечника. Муха замерла под ее пальцем. Светка столкнула муху в ладонь и понесла ее через храм к выходу – к высокой двустворчатой дубовой двери. Светка скрипнула дверью, толкнув ее коленом. Вышла на крыльцо, продолжая глядеть в ладонь: посередине, там, где у Светки сходились неясные линии ума и жизни, скорчившись, лежала масляная муха, похожая на черный тюк с младенцем. Светка подняла глаза и встретилась с синим небом, по которому плыли кучевые корабли и верблюды. Она зябко повела плечами. Спустилась с крыльца, далеко разметывая широкие полы длинной юбки.
Вокруг зацветали клумбы, заботливо высаженные монахинями. И пахли терпко. А неподалеку рос забор, окольцовывающий территорию монастыря. За деревьями, обсаженными розовыми кустами, его было не видно. Но чувствовалось, как он отрезает городские звуки и копит в себе садово-монастырские – щебет птиц в ветвях, вязание пауков, жужжание жужелиц, тихие молитвы монахинь и негромкие хлопки черных подолов и покрывал на теплом ветру, в котором уже чувствовалось подступающее лето. И как будто само лето должно было родиться в этом саду, копирующем идиллию рая, и отсюда уйти в город, вдувая в него через забор белых уральских бабочек, которые еще весной были первоцветом, слетевшим с черных ветвей яблоневых деревьев.
Светка вдохнула полную грудь и задержала выдох, не выпуская из себя сад. Наклонившись, она аккуратно опустила муху на широкий лист кустарника, растущего в тени у крыльца. Муха шевелилась.
Светка вернулась в храм.
Она протерла все подсвечники, расставленные по периметру. И только опустила покрасневшие руки, только осмотрела храм взглядом человека, который теперь у себя дома, как заметила в стенной нише непротертую раку. Светка быстро пересекла храм, навалилась всем телом на стекло, доставая до углов. Под стеклом видна была только тряпочка с бисерным отпечатком стоячего образа еще одной Богородицы. Светка выпрямилась и втянула ноздрей воздух. От лампадки тянуло гнильцой. Она заглянула в нее – фитиль плавал в чистом масле. Светка отошла от лампадки вправо – не пахло. Влево – снова пахло. Некоторое время она ходила, принюхиваясь и шмыгая длинным носом. Наконец перестала ходить влево, остановилась с правой стороны и долго смотрела на бисерную вышивку через стекло.
Убрав тряпку и бутылку с моющей жидкостью в угол, она села на скамейку и принялась, улыбаясь, смотреть на царские врата.
Когда снаружи зазвонили колокола, Светка вздрогнула.
Удар железного языка повалился с колокольни вниз, и Светка прикрыла рукой живот, словно и в него что-то упало. Гул пошел по округе – протяжный, натягивающий в воздухе невидимые жилы и вены. Они, как будто вспучившись, стянулись в один кулак, потом расслабились. Но ударило снова. Язык бил одинаково и равномерно. Каждый раз Светка охала и давила рукой на живот. Можно было подумать, каждый удар вгоняет ее ребенка глубже в живот, прячет его от Светкиной руки. И так продолжалось, пока вены и жилы не натянулись чуть ли не до предела, но тут вмешался маленький колокольчик, он слабо и не звонко цыкнул на большой колокол, сбил его с ритма, и тогда все большие колокола сорвались, и загулькали невпопад, и пошли в колокольный разнос. Они били и трезвонили, скандалили и истерили, паниковали и глумились, дергали вены и жилы, но не рвали их. Они как будто созывали всю округу посмотреть на то, что деется. «Сейчас начнется, – как будто дребезжали они. – Ой, что сейчас будет! Что будет!» В их детском почти озорстве пробивался широкий бас самого большого колокола, несущего панику и тревогу, обещающего – то, что содеется, будет страшным. Но колокола поменьше заглушали тревогу в перезвоне, они нервно щипали, они подтрунивали, они обещали, что можно будет повеселиться. «А разве страшное не может быть веселым?» – смеялись они. Они звенели битыми тарелками и разлетавшимися вдребезги гранеными стаканами. Они волновали Светку. И Светка сидела на скамейке, тяжело дыша и разевая рот так, словно хотела вдохнуть, но вместо кислорода в ее рот летели осколки, клекот и гул. «Приходите! Приходите же посмотреть! Стекайтесь со всех сторон, со всей округи. Увидите, что сейчас будет. Ой что будет. Так и будет. Будет так», – настойчивей звали колокола, возбуждая любопытство. Но снова вмешался маленький колокольчик. Он ударил, и его слабый звон, похожий на неуклюжее слово, пролепетанное детском языком в гаме старых и молодых голосов, вмиг прекратил разгул и веселье. Колокола замолчали, будто онемели все враз, только недовольный гуд их волнами расходился по округе, а маленький колокольчик все звенел, звенел и звенел, пока Светка не опомнилась.
– Притомилась? – спросила Светку все та же монахиня, вплывая сквозь дубовые двери.
– Нет, наоборот, теперь тут, как дома, – прокартавила Светка.
– А так всегда бывает, – отозвалась монахиня, направляясь в угол. – Когда где-то приберешься, сразу себя как дома чувствуешь. Останешься на службу? – спросила она.
– Не… – замотала головой Светка.
– Оставайся.
Постепенно храм заполнился монахинями. Мимо Светки прошел не старый еще священник – темный, сутулый и худой как щепка. Волосы его, уже порядком отступившие от выпуклого лба, кудрявились редким хвостом по спине. Бабка в сизом плаще присела на скамейку рядом со Светкой. Светка сразу вскочила. Бабка выставила вперед клюку, ногу и сидела, опершись на пятку.
Рядом с этой бабкой водрузилась еще одна – в берете крупной вязки.
– Я ее спрашиваю: «Сколько за крестины, матушка?», а она: «Сколько дадите, столько и возьмут», – продолжила она где-то уже начатый разговор.
Светка обернулась на нее. Бабка раздутыми пальцами придерживала лицо у глаз, словно боялась, что оно упадет.
– Потому что люди сколько могут, столько и дают, – проговорила вторая бабка, в плаще. В ее голосе звучал ворчливый каприз человека, привыкшего стонать и охать.
Светка отошла на шаг дальше – разговаривая, бабка шевелила клюкой, задевая Светку.
– Отдышка у меня, – проговорила бабка с клюкой. – Все душит.
– После службы все пройдет, – отозвалась вторая.
Вошли еще женщины. Коротко подстриженные, как от одного парикмахера. Животы их обтягивали футболки. Мясистые руки расплющивались по бокам, когда женщины стояли, сложив их на животе. Из пальцев торчали свечи. Почти все женщины – сорока пяти или пятидесяти лет.
– Шуршат пакетами, как на базаре, – сказала бабка с лавки, оборачиваясь на вновь прибывших.
Светка подняла плечо к уху, защищаясь от колючести старческого голоса. Все лавки заполнились пожилыми людьми. Светка зябло повела худыми плечами. Ее ровесников в храме не было.
– Боже, очисти мя, грешного, и помилуй мя, – наконец, завелся священник – не громко и срываясь. – Искупил ны еси от клятвы законныя честною Твоею кровию, на кресте пригвоздився…
Светка заерзала. Обернувшись на бабок, встала смирно. Мимо ее лица пролетела муха. Служба шла. Светка глазела на купол, закатив глаза, и переминалась с ноги на ногу. Временами глубоко и судорожно вздыхала. Кто-то, пробираясь к подсвечнику, задел Светку плечом.
Бабка, оставив клюку у скамейки, прошаркала со свечой к подсвечнику. Она так обтирала подошвы своих круглоносых туфель о пол, словно шла по кучевым облакам, постоянно сбрасывая с ног налипшую вату.
– Господи помилуй, – раздался нежный голос, и Светка, как будто очнувшись, зашарила глазами по алтарю.
– Господи помилуй, – продолжил голос, нежный и жалеющий.
Но вдруг его сменил торжественный и высокий. Такой мог и купол прорвать, и пройти сквозь облака – прямо к Богу. Бабульки замерли, опустив головы, как будто в ожидании – когда же их покарают? Но голоса снова сменились, и вступил первый – кроткий, ангельский, разложенный высоким куполом на многоголосье, и в этот раз Светка всем телом подалась навстречу ему. Казалось, он не уходит вверх, а сверху пришел. Он гладил бабулек по седым головам, словно говоря: «Не бойтесь, прощенье будет». И те вдруг начали подвывать ему – тонкими жалобными голосами, словно в их старых телах вдруг проснулись маленькие девочки. Моложе даже Светки.
А одна бабка выставила вбок руку, в каком-то странном затекшем и скрюченном жесте. Светка вдруг обернулась к ней, посмотрела в ее светлое лицо, в белые морщины, голубые глаза, одетые в бесцветные брови и ресницы. Бабкина одутловатая кожа блестела, как соль на солнце. И каждая морщина ее отливала этим соленым светом. Светка сглотнула, словно у нее засосало под ложечкой. Бабка тоже посмотрела на смуглую Светку, на ее дергающийся нос и тонко выщипанные черные брови. Глаза у бабки были бледно-голубыми.
– Вот я как могла, так свой крест и пронесла, – сказала бабка, а Светка заплакала.
Она отвернулась, взломала над собой руки. Ее острые локти поднялись вверх темными треугольниками. Так Светка простояла, ни на кого не глядя и сильнее шмыгая носом, до самого конца службы, и когда та кончилась, Светка никуда не ушла.
Она подняла голову, когда храм снова был пуст, но все в нем было уже не так. Светка рухнула на коленки и поползла к Богу-отцу.
Стекло снизу, а особенно в середине, было покрыто отпечатками чужих ртов. Похожими и полукривыми, как улыбки, нечеткими, как неоформившиеся желания, и неуверенными, как просьбы, с которыми нельзя обращаться к Богу-отцу.
– Ягуша, – заклокотала Светка и прикоснулась губами к стеклу, оставляя свою робкую птичку среди других поцелуев. – Я-гу-ша, – повторила она, поцеловала ногу Бога-отца еще раз и слизнула слезы с нижней губы.
Скоро Светка успокоилась и, вставая с колен, вытерла рукавом чужие поцелуи и свои слезы с иконного стекла.Светка спустилась с крыльца, но пошла не по дорожке к выходу, а свернула за фасад. Она быстро очутилась на небольшом бугорке земли, похожем на поляну. Земля тут почему-то округло дыбилась, словно в этом месте была беременна. Повсюду на ней росла уже вошедшая в силу крапива. Из нее то тут, то там торчали православные кресты и каменные надгробья. На них были выдолблены имена протодиаконов и архиереев. В середине из травы поднимался огромный деревянный крест, он стоял на еще одном пригорке. Как будто у этого неожиданно вспучившегося участка земли был пупок. Крест окружали широкие пни. Светка потерла один раскрытой ладонью, но сесть так и не решилась.
Закричали вороны – это вечер подступал. И в этот предвечерний час почувствовалась близость города. Он – успевший уже посереть – напирал на монастырские ворота, сужая двор и сад. В этот час, когда серое небо отбрасывало тень на белую колокольню, приглушая ее белизну, а расцветшая мальва казалась очень яркой – город вступал в полные права и пронзительными гудками машин словно хотел показать: «Мальва от того и выглядит такой яркой, что я набрасываю на нее свою тень. А не тень ли выпячивает то, чего нет, но что должно было бы быть? И вы думаете – мальва эта была б в сто раз ярче, если б не тень. Но ярче ей никогда не стать. Это – иллюзия. Ее максимальный цвет проявляется только в тени».
Казалось, еще чуть-чуть – и вечерний город ляжет на монастырский забор такой тяжестью, что тот сожмется, от него останется только полянка, и эта растущая на ней крапива, и эта мальва, которой покойники отдали все силы. И эта Светка.Черный полиэтиленовый пакет одним концом цеплялся за куст, другим дыбился на ветру. Светка обошла его и оказалась во дворе, который с той стороны запирало трехэтажное блочное здание – квадратное и серое, похожее на коробку. Справа росли рябины, на них еще краснели иссохшие прошлогодние гроздья. На одной из веток сушились чьи-то штаны с широкими красными полосками по бокам. Из лиственной густоты выглядывали только раструбы. Ветер надувал их и раскачивал. Под рябинами стоял деревянный стол, по обе стороны от него – скамейки. На них сидели мужчины в штанах и рубахах. Когда Светка вошла, они повернули к ней головы. У всех заметно выпирали лбы и оттопыривались уши.
Двое из них поднялись и пошли Светке наперерез. Светка заспешила. Мужчины раскачивались, словно и их штанов раструбы были полыми, слабыми перед ветром. Они поравнялись с ней, и она, бросив на них взгляд, ускорила шаг и ступила за порог больницы. Мужчины дальше за ней не пошли.
Светка оказалась в темном холле, где окошко справочной было завешено короткой белой занавеской. Под ним на полу стояли горшки с высокими зелеными листьями, покрытыми коричневыми крапинками. С виду очень твердые, они пронзали острыми глянцевыми кончиками прохладную полумглу больничного холла. Листья, больше похожие на копья, были повязаны зеленой атласной лентой, такой же, какую в середине весны Светка сняла с яблони и сожгла в теплице.
Светка пошла по лестнице, шаркая подошвами по ступеням и стараясь не касаться светло-коричневых перил. В коридоре второго этажа пахло хлоркой. Тонкий химический запах как будто отходил от стен, покрытых пупырышками известки. Светка пошла вперед по коричневым ромбам линолеума. Дверь в третью палату справа была приоткрыта. Из нее сочился голубоватый дневной свет. Хотя снаружи солнце шпарило вовсю, как только может оно шпарить в индустриальных городах летом.
Светка, не дотрагиваясь до металлической ручки, заляпанной белой краской, толкнула дверь.
Яга сидела на кровати спиной к окну, растопырив ноги и уставившись мутным взглядом в пространство. Голубая злоба из глаз расплескивалась по ее одутловатому лицу. Оно как будто стало в два раза шире. Кожу рук, выглядывающих из рукавов широкой рубахи, проедали глубокие кровоподтеки и ссадины. Ноги ее были прикрыты одеялом. За спиной Яги стояла еще кровать. На ней кто-то бесплотный спал под ветхим пододеяльником. Всего в палате было шесть кроватей.
– Привет, – еле слышно сказала Светка и продвинулась в сторону Яги.
Остановилась у металлической спинки кровати. Яга оторвала взгляд от пространства и перевела его на Светкин живот. И хотя он был плотно затянут черной футболкой, глаза Яги побелели. Светка поймала отражение сестры в полукруглой дуге спинки. В нем оно было маленьким, суженным и лишенным деталей.
– Че пришла? – спросила Яга.
Дуга отражала и потолок – узкой полоской, лишенной подтеков, которые проступали на желтой известке в каждом углу.
– Мать тебе бульон передала, куриный, – сказала Светка.
– Че? – переспросила Яга. – Громче не можешь говорить? У меня уши тут заложило. Сижу, как в бочке. Качает меня. Че пришла?
– Мать послала.
– Мать послала… – зло сказала Яга и оторвала глаза от Светкиного живота. – Если б я ходить могла, я б первей тебя дома была. Вообще… – она откинула одеяло и показала ноги. Разбухшие слоновьи ноги, сочащиеся голубоватым потом.
– Ой… – сказала Светка, отворачиваясь.
– Че ты – ой? – проворчала Яга. – Мочегонку мне дают. Каждый день. Ладно бы раз в неделю. А то каждый день! Еще на языке покажи. Как глотаешь, покажи. Когда мать заберет меня отсюда?
– Тебе лечиться надо, – заученно сказала Светка.
– Ага, лечиться, тут туберкулезная палочка везде кишит, – Яга подняла руку и махнула, словно отгоняя от себя палочки. Словно они невидимыми прозрачными трубочками роились в пространстве вокруг нее.
Светка осторожно вдохнула.
– Скажи матери, пусть меня в другую больницу переведет, – Яга снова закрыла ноги одеялом.
– Тебя не берут, – спокойно сказала Светка. – Ты же вичовая.
– А ты, блядь, не вичовая! – подскочила Яга, но быстро успокоилась. – Это, Светка, «Последний путь», – назидательно сказала она. – Отсюда только вперед ногами выходят. – Тут знаешь сколько домашних?
– Каких домашних? – спросила Светка, и на соседней кровати зашевелилось одеяло. Из-под него выпросталась тонкая женская рука, взъерошила короткие рыжие волосы и снова исчезла в одеяльной прели. Яга поманила Светку. Светка присела на край пустой кровати, едва цепляясь копчиком за матрас.
– Тех, кто помрет скоро, – шепотом сказала Яга и покосилась за спину. – Их потом на третий этаж переводят, там такие палаты-боксы, двушки, короче. Они тут мрут от этого туберкулеза каждый день. Их потом в черные пакеты ложат, санитары по лестнице спускают за ноги, отсюда слышно, как голова ступени пересчитывает – бум-бум… – Яга снова обернулась, – бум-бум.
– Господи, – сказала Светка и съехала с матраса.
Солнечный луч из окна острым концом касался лица Светки, как указка учителя. Светкины глаза, нос, рот бегали от него. Казалось, Светка нарочно гримасничает. Еще в окно приходил спокойный шелест сочной листвы и, уже совсем издалека, – равномерный шум проезжающих по трассе машин.
«Последний путь» отстоял далеко от большого города. Отсюда, с окраинной улицы Камской, не слышно было, как бьется его большое каменное сердце, поделенное на продолговатые отсеки офисов, ресторанов, стекольные клапаны кафе, реки автомобильных трасс, разбитых пешеходными переходами и светофорами, бороздки метро. Не слышно было людей – шумными толчками кроветворящих сердечную работу этого города. Безостановочно, бесперебойно и исправно – как только и могут работать те, кто не ведает последнего пути.
Из окон еще приходили напевные трели, и тогда начинало казаться, что глаза Яги становятся колючими, как птичьи клювы. А мятая рука все выпрастывалась из-под одеяла и ерошила волосы, словно сбрасывая с их кончиков летние песни. Птицы стайкой вдруг пронеслись мимо открытой форточки, раздирая известковую духоту палаты криком. Криком странным, коричневым, с терочными переливами, позволяющими заподозрить, что и птицы могут быть злыми. Глаза Яги, проклюнувшись на бледном лице острее, замерли, словно это она сейчас мысленно руководила оголтелым птичьим хороводом и отдавала ему злые приказы. За ее спиной рука натянула выше одеяло на голову, будто тело с едва видными очертаниями желало целиком, до последней своей клетки отгородиться от внешнего мира, от этого куска сильного большого города, улицы Камской, насильно оторванной и брошенной гнить в зеленое птичье лето. Будто только там, под душным одеялом, надышав в него миллионы изогнутых палочек туберкулеза, тело могло обрести свой дом и перестать ломаться каждой мышцей, раздираться каждой клеткой на неестественном стыке последнего пути и начала лета.
– Хочешь форточку закрою? – привстала Светка.
– Не надо! – грубо остановила ее Яга. – Пусть хоть проветрится немного этот туберкулез, – тише сказала она. – Я тут сдохну, Светка, – спокойно добавила Яга. – Отсюда никто не выходит. Ты мне ватрушки принесла?
– Нет, – Светка открыла пластиковый пакет, который все это время держала между ног, сжимая ими теплую банку с куриным бульоном. Она посмотрела в него, словно надеясь найти там ватрушки. – Пельмени есть.
– Да подавись своими пельменями, дома еще они мне надоели. Я ватрушки хочу.
– Ты же не говорила.
– Я говорила матери! Говорила, ватрушки хочу! Че, блядь, даже ватрушки один раз в жизни приготовить трудно, – она раздула ноздри и забубнила. – Один раз в жизни че-то попросила, так сложно, блядь…
– Я не знала, – буркнула Светка. – Мне мать не говорила. Я тебе в пятницу принесу.
– В пятницу! – распалилась Яга. – Да я сдохну тут до пятницы! …Светка, – поманила она сестру пальцем. Светка, не съезжая с матраса копчиком, пригнула к Яге голову. – Свари мне дозу, – горячо зашептала Яга. За ее спиной одеяло шевельнулось, и она заговорила тише. – Я ж ни поесть, ни поспать не могу. Ноги какие, видела? Как желе. Уже месяц не сплю, Светка. Мучаюсь. Все болит. Свари мне дозу.
– Ты че…
– Я все равно умру, Светка. Залечат они меня тут. Принеси мне дозу и ватрушки с яблочневым повидлом, хоть один раз нормально поем. Перед смертью.
Светка подняла руку, неестественно согнутую в запястье, скрючила тонкие пальцы и загребла ими по воздуху у лица сестры, словно граблями счесывала с него густую зеленую траву, и васильки, и ромашки.– А что вы теперь делаете, скажите? – пискнула Светка. Поймала воздуха, но ей не хватило, и она судорожно вздохнула еще раз. – Скажите.
Ее голос прервался. Коленки, распяленные в металлических корытцах гинекологического кресла, силились сойтись. Врачи – две женщины – были одеты в зелено-голубые халаты. Их руки затянуты в резиновые перчатки. Светка морщила шею, подбородком втыкаясь в грудь. Ее лицо застывало в парализованной гримасе, а когда расслаблялось, коленки начинали трястись, подскакивая.
– Тихо, тихо, – сказала женщина, ее слова, пробившись сквозь мелкие волокнистые поры маски, расщепились вокруг Светки в вату.
Глаза врачей закрывали пластиковые очки. И у этой женщины, и у той наружу не выходило ни сантиметра живой кожи. Одна была невысокая, с виду армянка. Ее темные глаза под гладкой пластмассой напоминали стоячую лужу, разлитую возле дома Светки и Яги. Черные волоски спускались от кончиков ее бровей на щеки и пролегали тонкими штрихами под глазницами. В голубоватом свете лампы, зажженной над Светкой, даже такие мелочи на чужих лицах были хорошо видны.
– Тихо, больная, – сказала врач и еще раз дотронулась до Светкиного колена, на котором не было ни единой волосинки. – Сейчас я иглу буду вводить, не дергайся.
Светка дернулась, как будто нарочно, и врач отвела руку. Шумно вздохнув, она переглянулась с голубыми глазами, смотрящими на нее через другую пару пластмассовых очков.
– Ты смотри, – сказала голубоглазая, обращаясь к армянке. – У нее ВИЧ, она дергается. Уже не знаешь, как от них, спидоносцев, уберечься. Уже как космонаваты одеваемся. Не дергайся! – прикрикнула она на Светку.
– А ему больно будет? – заныла Светка и распустила обсохшие губы.
– Нет! – высоким голосом произнесла голубоглазая, как будто раскатами своими пресекая слова, которые могла бы или хотела произнести Светка. – Больно, не больно! – продолжала она, и плотная маска была ее голосу не помеха. – Не больно! Больно живым бывает, а он еще не человек! Они сначала колются, вон вены себе все проколют, потом государство им обя-за-но!
В это время армянка держала два пальца на коленке Светки, и чем громче говорила ее напарница, тем сильнее, словно для убедительности, она нажимала ими на Светкину коленную чашечку.
– Расслабься, – сказала она.
Светка втянула носом воздух и застыла, отвернув голову вбок и уставившись на пластмассовое бежевое ведерко для мусора с темно-бурой откидной крышкой. Желтушная кожа на ее свернутой шее скукожилась, как отжатая простыня. Светка не шевелилась почти совсем, только глаза ее моргали, глядя на педаль ведерка.
Голубоглазая отвела рукой Светкину коленку. Армянка раздвинула пальцами Светкино отверстие, но резиновые пальцы вошли в него лишь чуть и сразу отпрянули, словно боясь соваться в неизведанное. Словно из Светки сейчас могло выскочить жало и продрать резину, продрать само мясо на пальцах до костей. Армянка наклонилась и ввела длинную иглу в Светку. Нажала большим пальцем на пластмассовый поршень. Вводила она правой рукой. Веки ее правого глаза напряглись и сошлись почти совсем, оставляя лишь узкую щелочку, из которой в никуда тускло смотрел карий глаз. Она вводила медленно, ее затвердевший локоть задевал пространство сзади. По ее лицу можно было подумать: она сама и есть тот плод, которого сейчас убивает соляным раствором. От напряжения вся правая половина ее лица скукожилась, словно кто-то хапнул ее и смял. А она сама вот-вот глубоко вздохнет, хотя знает, что делать этого не надо, и захлебнется солью.
Светка открывала глаза до пределов, потом с таким усилием смаргивала, что казалось: под нажимом ее век педаль ведерка сейчас уйдет вниз, крышка откинется и ведерко примет Светкины глазные яблоки, которые спрыгнут с ее лица.
– А что вы сделали, вы мне скажете теперь? – спросила Светка, когда армянка вытащила из нее иголку шприца.– Можно взять посмотреть? – спросила Светка, протягивая руку к глянцевому журналу, лежащему на тумбочке.
– Бери, – улыбаясь, ответила молодая женщина, лежащая в кровати на боку.
Светка взяла журнал, отнесла к своей кровати, села на край и положила журнал на колени. Провела по скользкой обложке пальцами, глянец отозвался глухо, Светка провела по нему снова, одними кончиками, и на этот раз звук вышел скользким. На обложке была изображена блондинка в широком ободке из плоских камней – белых и зеленых, камней разных форм и непонятных сочетаний. Камней, выложенных, как мозаика, подогнанных неровными боками друг к другу. Видно было, что держится ободок на тонких спицах, уходящих под светлые взбитые волосы. Он похож был и на корону, и на железный чепец. Из-под прядей, завитых плойкой, свисали длинные серьги, их подвески – в виде четырехпалых цветов – доставали до самых ключиц. Блондинка смотрела исподлобья голубыми глазами, и когда Светка провела пальцами, они завизжали, как заводские сирены визжат в индустриальный вечер, давая рабочей смене отбой.
– На одну мою одноклассницу похожа, – сказала Светка. – У нее еще папа на заводе погиб.
– Это Светлана Ходченкова, – сказала беременная, приподнимаясь на локте и переваливая живот. Ее мягкий голубой халат разъехался, открывая полную атласную грудь. Розовыми пальцами она перекинула со спины отутюженные черные волосы. Казалось волосы не упали на грудь тенью, а отразились в ее белоснежной гладкости. – А тебя как зовут?
– Светлана, – ответила Светка.
– А я – Дарья.
– Очень приятно, – вежливо отозвалась Светка.
– Это у тебя первый? – спросила Дарья, кивая на Светкин живот.
– Пейвый, – сказала Светка, заев на букве «р», и снова уткнулась в обложку журнала.
Блондинка была одета в черное вязаное платье, состоящее из петель и дырочек. Хорошо была видна ее желтовато-смуглая, как у Светки, кожа. На плече у нее сидел зеленый кружок, в который было вписано – «Экономим 25 000 рублей. Бесплатная тренировка с инструктором». А живот блондинки закрывала надпись из белых букв – «Могу расстраиваться из-за мелочей. Зато я не слишком влюбчивая».
– А я из-за мелочей вообще не расстраиваюсь, – сказала Светка, начав листать журнал.
– Зато влюбчивая, наверное? – хихикнула Дарья, которая, кажется, тоже изучила обложку.
– Да так… – пожала плечами Светка. – Один раз только в Олега была влюблена.
– Ты его до сих пор любишь? – спросила Дарья, шевеля под одеялом ногами и устраивая живот поудобнее. Она смотрела на Светку сочными карими глазами, как будто Светка была свежим журналом, еще не только не открытым, но и запаянным в тонкую пленку.
– Нет… – нехотя сказала Светка. – Вообще не знаю, любила ли я его на самом деле. Мне кажется, что любовь – это вообще что-то такое, что ты чувствуешь… что жить не можешь без человека. Потом проходит. Значит, это не любовь была… А что, разве можно так – сначала любить, потом разлюбить? Значит, не любовь была.
– А что? – спросила Дарья.
– Ну просто не получилось, – ответила Светка, и Дарья плотоядно посмотрела на ее живот.
– А ребенок-то его? – спросила она.
– Ага… – отозвалась Светка.
– Значит, ты его до сих пор любишь, – непререкаемо сказала Дарья, и глаза ее заблестели.
– Как бы не так, – отозвалась Светка.
– Если ты про него до сих пор говоришь, значит, любишь, – уверенно сказала Дарья и сделала выжидательное лицо, какое бывает у детей – когда камень в пруд уже брошен, но вода кругами еще не пошла.
– Нет, – сказала Светка.
– Любишь, – сказала Дарья. – Если ты о нем сказала, значит, любишь. Значит, не отпустило. Вы с ним развелись.
– Да, развелись, – сказала Светка.
– Он тебя бросил?
– Нет, я его.
Дарья приподнялась на кровати.
– Да ладно, – протянула она. – А че так?
– А он меня по лицу стукнул, – сказала Светка. – И слишком много всего было сказано. Оскорбления моей матери, сестры, меня.
– А он потом прощения не попросил?
– Попросил. Говорил, давай, начнем все с чистого листа… Нет. Уходя, уходи.
– Это – такая… – Дарья закатила глаза, трогала розовыми пальцами живот и искала подходящее слово, – такая категоричность, – сказала она. – Как ты одна ребенка будешь растить? – она покачала головой, и в такт качнулась ее белая грудь, и качнулся круглый живот, похожий на густую каплю, которая перетекала в стороны вслед за движениями своей хозяйки и сосредотачивалась внизу, словно желая прорвать мягкую кожу и повидлом плюхнуться на пол. Чтобы Дарья могла наклониться над ней, найти своими бусиничными глазами в ней семя – маленькое, коричневое, как у яблока – и посадить его в землю, и поливать, и ждать, когда и чем прорастет.
Светка не сводила тяжелых глаз с ее живота, как будто ждала чего-то. Беременная инстинктивно прикрыла его обеими белыми руками, на которых под костяшками пальцев сидели белые красивые ямочки.
– Потому что я себя люблю, – повысила голос Светка, – и не могу допустить, чтоб меня так били по самолюбию.
– Да? – примирительно переспросила Дарья, как будто испугавшись. Все ее тело попятилось к стенке, и живот – за ней. – Наверное ты права, – добавила она.Дарья выпростала ногу из-под одеяла, опустила стопу на пол. Сквозь ее молочно-белую кожу просвечивали голубые венки, коренящиеся в ступне и ветвящиеся по ноге вверх. Светка оторвалась от журнала и следила за ногой Дарьи.
Встав с кровати, Дарья присела возле тумбочки, открыла дверцу и вытащила белый пластмассовый аппарат с ручкой. Она вернулась на кровать, воткнула наушники, отходящие от аппарата, в уши, раздвинула халат и приложила ручку к животу. Она спускала ее вниз, двигала вбок, надавливая, и живот то углублялся и западал, то бугрился. Светка смотрела на него, отвесив нижнюю губу, словно в этих движениях ожившего живота силилась прочесть какое-то послание. Наконец, ручка замерла под пупком, Дарья заулыбалась. Казалось, она даже перестала дышать, и кислород в ее организм поступает через пупок, который, сокращаясь, хватает из палаты воздух.
– Хочешь лялечку свою послушать? – сладко спросила Дарья, вынимая наушники из ушей.
– Че? – спросила Светка.
– Ты, может, не знаешь, что это такое, – сказала Дарья. – Это фетальный допплер. Девочки на форуме обсуждали, что есть такое и можно своего ребеночка слушать каждый день. Я у мужа попросила, он мне купил. Хочешь послушать сначала моего? – она протянула Светке наушники. – Я уже нащупала его сердечко.
Светка встала с кровати и пошла к Дарье. Двигалась она медленно, словно продираясь коленками сквозь что-то невидимое. Светка откинула голову назад, затвердела вся, словно в ходьбе превращалась в соляной столб и это ее последние движения.
Она взяла из рук Дарьи наушники, пригнула коленки, как это часто делала ее сестра, и тоже замерла. В ушах раздались чавкающие звуки, протяжные и резко обрывающиеся. Звуки сильные настолько, что можно было представлять – кто-то большой с той стороны, большой до такой степени, что в Дарьином животе поместилась бы только его голова, прижался слипшимися губами к пупку и чмокает, втягивая через него воздух.
– На сигналы каких-то инопланетян из космоса похоже, – пробубнила Светка.
– Теперь своего послушай, – Дарья протянула ей ручку.
Светка, не расстегивая и не раздвигая байкового халата, приложила ручку поверху. Сделала тупое лицо. Моргнула.
– Подвигай, – Дарья направила ее руку.
Дверь в палату открылась. Вошла медсестра. Белый халат расходился на ее животе, образуя петли между пуговицами, хотя беременной она не была.
– А ты что там слушаешь? – обратилась она к Светке, гаркая. – Как он у тебя там солью обрыгивается?
– Какой солью? – спросила Светка, возвращая Дарье прибор.– Тебе же солевой аминоцентез провели? Ну, – медсестра развела руками, и петли между пуговиц расширились. – Завтра родишь леденец. Слушает она, – продолжила медсестра и засмеялась.
– Я не знаю, – сказала Светка.
– Не знает она, – почти передразнила Светку медсестра. – Всё они знают. Всё, – она вышла, прикрыв дверь, но из коридора еще приходило ее раскатистое гарканье: – А потом они не знают… всё они знают…
Светка медленно встала и пошла к своей кровати. Дарья сидела как будто в оцепенении.
– А что такое солевой аминоцентез? – спросила она.
– Не знаю, – буркнула Светка.
За окном темнела тишина. Слышно было дыхание Дарьи. Светка проснулась. Из щели между дверью и полом шел тонкий свет. Светка лежала на спине. Она пощупала низ живота. Повернулась на бок. Поджала под себя одну ногу и закряхтела. Сначала тихо, выталкивая комки воздуха через нос. Постепенно звуки росли. Дарья не просыпалась. Ничего не менялось ни за дверью, ни за окном. Никто в коридоре не ходил, не перерезал шагами полоску света, ползущего из-под двери. Светка щупала живот, выгибала спину, запрокидывала голову. Вдохи ее крепчали, а комки, вытолкнутые через нос, живели и тяжелели. Они летели к кровати Дарьи, падали рядом с ее головой на подушку, и наконец, дернув головой, та тоже проснулась.
– Ты че? – спросила Дарья, поднимаясь на локте и щурясь в темноту.
– Кажется, у меня все, по-моему, – прокряхтела Светка.
– А че ты так тихо? – спросила Дарья, нащупывая отекшими со сна ногами на полу тапки.
– Ночь же… – выдула Светка. – Люди же спят кругом.
Хлястая задниками по пяткам, Дарья подошла к Светке и сверху таращилась на то, как та выгибает спину и заламывает шею.
– Я пойду медсестру позову, – сказала она.
Дарья открыла дверь, и свет не ворвался, а просто вошел в палату и умер где-то на середине, затопленный темнотой из окна. Дарья оставила дверь открытой. Светка, задержав дыхание, прислушивалась к хлястанью ее тапок о пятки, пока Дарья удалялась по коридору. Когда шаги затихли, Светка, как будто осмелев, выдала протяжный прерывистый стон. Заметалась головой по подушке. Сжала руки, как будто здоровалась сама с собой. Обхватила себя за локти, как будто хотела взять саму себя в руки. Обхватила себя за плечи, как будто себя обнимая. Задрыгала ногой. Снова пощупала живот. Лицо ее сморщилось. Она сильно закусила губу, задышала шумно одним носом, снова задвигалась руками по телу, словно не хотела выпускать звуком то, что рвалось.
– Мама, – сказала Светка и сразу же заплакала. В темноте слезы полировали ее желтые щеки и закатывались за размякшую губу. Все тело Светки расслабилось, как будто из его клеток ушла склеивающая жидкость, и они уже начали распадаться. Один только живот стоял колом и твердел. Светка щупала его горячими ладонями, ее глаза наполнялись ужасом, который обильней вытекал на щеки и на губу. Светка чмокала и пускала слюнные пузыри, так, словно слезы были нестерпимо солеными и превращались на ее губах в соляную пену.
– Мама, – повторила Светка. – Мамочка, ты где?
Ее нос покраснел. Она дергала им, как кролик.
Шаги вернулись. У кровати выросли медсестра и Дарья.
– Из меня лезет, – сказала Светка, поднимая глаза на медсестру.
Кожа Дарьи в темноте отливала молоком.
– На пеленку, – сказала медсестра, и ее разрыхленная темнотой рука метнулась к Светке. – В нее рожай.
Светка схватила сложенную пеленку двумя руками. Медсестра повернулась к ней белой спиной. Дверь закрылась. Дарья отплыла к своей кровати. Светка поднесла пеленку к лицу и втянула ее запах носом. Светка дышала пеленкой шумно и жадно, словно больничный запах, запутавшийся в нитяных волокнах, мог принести ей облегчение.
Было слышно, как Дарья легла на кровать.
Светка дергала ногами и все дышала пеленкой. Когда запах из пеленки ушел, Светка положила ее на живот. Разинула рот, глотая воздух. Выпрямила ноги. Развернула пеленку. Расправила ее на животе. Снова согнула ноги, забила ступнями, словно плыла в соленой воде, отбиваясь от волн и рыбешек. Покрыла пеленкой весь живот. Положила сверху руку. Помяла, словно надеясь руками его растопить и сделать мягче. «Г-гы», – исторгла из всей себя воздух. Сняла с живота пеленку и начала ее выжимать двумя руками. Выжимать и хватать губой, словно надеялась вытрясти из нее последние больничные капли, приносящие облегчение. Поднесла пеленку к лицу и укусила ее. Замычала. Светкины желтые зубы впивались в больничную ткань, впитывающую тяжелую соленую слюну. Светка расправила пеленку, накрыла ею лицо и полежала так, затихнув. Выгнулась, содрала пеленку с лица и сказала требовательно в сторону Дарьи:
– Я отдайя все, что у меня есть.
Дарья накрыла голову одеялом.
Светка приподнялась, раздвинула ноги, сунула под них расправленную пеленку, уже в темных пятнах слюны и укусах, и, притихнув, родила.
В палате сделалось тихо, и, кажется, даже Дарья, спрятавшись под прелостью одеяла, перестала дышать.
– Дайя, – позвала Светка. – Даш…
Дарья резко откинула одеяло с головы.
– Я йодийя, – гордо сказала Светка. – Я йодийа.
Дарья снова села на кровати. Снова нащупала испуганными стопами тапки. Пошла тихо и быстро мимо Светки, чтобы не видеть ее задравшейся ночнушки, опавшего желтого живота и блестящей желтой трубки из промежности, похожей на большую вену, обмотанную нитками кровяных и синих сосудов. И маленького красно-синего комка под ногами Светки, которые она держала высоко, чтобы не касаться его.
Дверь открылась. Но на этот раз электрический свет, уже наученный горьким опытом, не стал обследовать углы и ходить под кровать, он сразу метнулся к окну, за которым уже занимался серый рассвет, словно солью просыпанный в темноте.
Заскрипели шаги. Над Светкой повисла сонная фигура медсестры.
– Вставать можешь? – спросила она.
– Да, – сказала Светка.
– Тогда заверни его в пеленку и отнеси в процедурную.
– А отйежете его от меня, – попросила Светка.
– Там тебе пуповину отрежут.
Светка подобрала ноги. Осторожно опустила одну на полу. За ней – вторую, высоко пронося ее над пеленкой. Привстала, одергивая ночную рубашку. Пуповина, перекрученная посередине в узел с застойной синеющей кровью, слабо дергалась, как веревка, словно лежащее на пеленке тянуло ее рукой. Светка сунула руки под пеленку, подняла ребенка и враскорячку, шатаясь, пошла из палаты, неся его на вытянутых руках. Пошла по коридору. Повернула голову вбок, чтобы не смотреть на свою ношу. В коридоре было пусто и жужжал электрический свет. Светка один только раз бросила короткий взгляд на то, что несла, и увидела синего мальчика с большой головой, фиолетовым лицом, прошитым темными тонкими венками, с темно-синим пятном на переносице, словно там застыл кровяной сгусток. Со вздернутым носом и открытым ртом, словно он хватал воздух, но не схватил. С как будто сшитыми между собой веками, короткими, приподнятыми к вискам. С розовыми мочками ушей. С синим острым подбородком. С блестящими ногтями.
Рукой Светка нащупала его ручку в локте. Пошла пальцами дальше – к кисти, и шла долго, потому что у него, как и у нее, были длинные руки и ноги.Бабка толкала тачку с пронумерованной большой эмалированной кастрюлей. Приседая, бабка нажимала на ручку тачки, вталкивая на пригорок. На ее спине из-под балахонистой синей футболки проступал горб. Руки напрягались, и под обветшалой, засиженной веснушками старости кожей чувствовались крепкие скользкие мышцы. На ней были широкие штаны, резиновые тапки с круглыми носами и белый берет, сдвинутый набекрень.
Колеса издавали скрип, и он несся во двор, разгоняя густой, как повидло, летний полдень. Светка прошла мимо бабки и тачки. Поднялась по лесенке во двор. На ней была длинная черная юбка.
И в этот раз мужчины, сидевшие под рябиной, встали и двинулись ей навстречу. Тележка время от времени взвизгивала под нажимом старых рук, рябина шелестела, а на ее ветвях шуршали спортивные штаны, которые и в этот раз сушились на ветке. И казалось, что все эти звуки приглушают дребезжание костей мужчин, идущих сейчас к Светке. Их тела едва проступали под одеждой. Невозможно было поверить, что там – под штанами и рубахами – их кости все еще скреплены между собой хрящами и сухими мышцами. Их уши так сильно оттопыривались, что казалось: подуй ветер – и уши парусами отнесут их назад к рябине.
– Че надо? – бросила им Светка, когда они поравнялись с ней.
Мужчины обступили ее. Они улыбались.
– Ой… – сказала Светка. – А что вы такие худые?
– Какие худые? – пробасил один. – Я уже отъелся, а так совсем доходягой был. Видела б ты меня месяц назад.
– Куда идешь? – спросил другой.
– Сестра у меня там, – ответила Светка и махнула в сторону больницы.
– Как звать?
– Марина.
– Домашняя, что ли?
– Чего? – спросила Светка.
– Кажется, ее на третий этаж перевели, – сказал один и задрал глаза к окнам третьего этажа. Его лицо, запрокинутое вверх, приобрело страдальческое выражение.
– Не ходи туда, – сказал другой. – Там кругом туберкулез. Заразишься.
Светка двинулась дальше, но ей дорогу перерезала бабка с тачкой, едущей уже по асфальту, как по маслу. Крышка подпрыгивала и дребезжала на белой кастрюле. Светка подождала, пока она проедет мимо.Яга лежала на боку. Ноги ее были согнуты и неподвижны. Из-под кровати торчало ярко-зеленое судно. В окно било лето и ветка рябины. Светка вошла. Кровать у стены напротив была пуста. Яга тяжело дышала в узкой палате. Щеки ее краснели, нос припух, его кончик белел белым раздвоенным хрящом. Светка зашуршала пакетом. Яга открыла глаза.
– А-а-а, – хрипло протянула она. – Принесла?
Светка открыла пакет и достала из него еще один – целлофановый с ватрушками.
– Теплые еще, – сказала Светка.
Яга приподнялась и вперилась в Светку глазами. Светка подала ей ватрушки.
– А доза? – глуше спросила Яга.
– Тоже тут в пакете, утром у Анютки сварилась.
– А-а-а, – хрипнула Яга. – Хорошо Анютка меня попинала, – она поднялась на локтях и села, отдуваясь горячим воздухом, подталкивая под спину подушку.
– Они же думали, ты Салееву заложила, – моргнула Светка. – Салеева же теперь срок мотает. Ребенка у нее забрали. Прав лишили.
– Че ты их защищаешь? – недовольно спросила Яга. – Все знают, что это Жаба Салееву заложила. От злости она всех заложила. Ванятку заложила. Она на мужиков обиженная, всех ненавидит. Ванятку особенно. Тварь жирная. А ты еще их защищаешь. Ты сестру свою защищать должна, – сипела Яга. – Кто у тебя еще, кроме сестры, есть? Чуть что, тебя так же отпинают эти Анютки. Строила из себя святую. Почему змей к Еве подошел? – тонко передразнила Яга и хрипло засмеялась. – Я сразу поняла, зачем он к ней подошел. Я сразу знала. Только вам не сказала, ха-ха-ха. – Щеки Яги полыхали. – Помнишь, Светка, – вкрадчиво сказала она, – как мы всей семьей, еще пока отец нас с Космонавтов не перевез, на диване сидели, телевизор смотрели? Мать, отец и мы с тобой?
– Помню, – сказала Светка.
– Тогда еще телевизоры не на пультах были. Так хорошо было. Самые мои счастливые дни. Я только сейчас… поняла, – сказала Яга. – Я перед этим Ванькой так унижалась. Помнишь, как я еще говорила, мне не надо, чтоб мужик всю зарплату в дом приносил, чтоб… ну там разное. Что я его сама одену, обую, главное, чтоб любил, – Яга замолчала.
– Помню, – сказала Светка.
– А любви же нету, Светка, – затянула Яга, закашлявшись. – Кхе… кхе… В этом мире любви нету, – закончила она, закрыла глаза и откинулась головой на подушку.
Светка подошла и села на соседнюю кровать. Оттуда смотрела на Ягу, держа пакет на коленях.
– Ты ватрушки поешь, пока горячие, – сказала она.
– Если б я знала, что самые счастливые дни, которые я буду помнить, это – как мы с родителями на диване сидели, смотрели телевизор, я б перед этими козлами мужиками в жизни унижаться не стала. В жизни, – мрачно повторила Яга. – У тети Поли дочки небось так с родителями не сидели. Помнишь, Светка, как я в тире во все мишени попадала, а они попасть не могли?
– Помню, – сказала Светка.
– А мать, помнишь, сказала, что тети Полины дочки своей матери ноутбук купили. Что все дети как дети, а мы все из дома тащим?
– Помню. Че ты такая разговорчивая стала? – спросила Светка.
– Я всегда все знала, – продолжила Яга, не открывая глаза. – Я, блядь, просто забыла, а так я всегда все знала. Надо мне было этой Анюте и пастору ее сраному сразу сказать. Одна, блядь, святая, другой, блядь, самый умный. Я сама знаю, зачем змей подошел к Еве, – сказала сухо Яга и снова замолчала.
Светка тоже молчала. Яга начала дышать шумно.
– Хочешь, тебе тоже скажу? – Яга открыла злые глаза и посмотрела на Светку.
Светка пожала плечами.
– Блядь, меня окружают одни идиоты, – протянула Яга. – Если б мне хоть с кем в жизни поговорить было б, я не кололася бы.
– Поешь ватрушки, пока горячие, – сказала Светка.
– Да не хочу я! – жаляще выпустила Яга. – Аппетита нет. Ничего, блядь, не хочу. Жить не хочу, – капризно добавила она. – Жить неохота, – повторила. – Жить-то совсем, Светка, неохота… Козлы, блядь, все. Суки. Уроды, блядь, ебаные. Всю жизнь мне засрали, блядь, загубили, бляди, – хрипела Яга, а Светка сидела, опустив глаза.
– Кто тебе че сделал? – наконец спросила она.
– Эти уроды вокруг! – хрипло сорвалась Яга. – Придумали мне, блядь, сказки про любовь. По телику, блядь, показывают детям с детства сказки, блядь, свои. Мать тоже – нет чтоб сказать: любви нету. Сидит, блядь, телевизоры смотрит… на пультах. Отец тоже, блядь, хорош. Показывают херню всякую, я даже то, что знала, забыла. Теперь вспомнила, блядь. Только поздно теперь, блядь.
– Че ты вспомнила? – пожала плечами Светка.
– Все я вспомнила! – огрызнулась Яга. – Как змей к Еве подошел.
– Змей – это зло, – пробубнила Светка.
– Блядь… тупость твоя, Светка, – вот зло, – сказала Яга, зыркая на сестру. – Че ты мне у Анюты набралась – зло, блядь, добро. Мне, блядь, с тобой неинтересно. Вот это все – зло, добро – не для меня. Мне то, что посредине бывает, интересно.
– Посередине ничего не бывает, – сказала Светка.
– Иди на хуй! – выкрикнула Яга. – Не бывает… – повторила она тише. – Ты че, блядь, умная такая, со мной споришь? Я, блядь, ночью умру, она со мной теперь спорит сидит…
Светка приподняла худые плечи и заплакала.
– Всё бывает посередине, – спокойней сказала Яга. – Посередине как раз самое интересное. Свет… – позвала она. – Че ты сразу? Я ж тебе объяснить хочу, тебе, блядь, после меня жить.
– Че ты мне объяснить хочешь? – сквозь слезы спросила Светка. – Ешь ватрушки. Не умрешь ты.
– Откуда ты знаешь? – спросила Яга.
– Я отдала все, что у меня есть. Я просила Боженьку. Я на коленках в церкви ползала, – сказала Светка, закрывая лицо руками.
– А бога же, Светка, нет, – примирительно сказала Яга.
– Ага… Бога нет, а змей, значит, есть…
– А змей же всегда, Светка, был. Он же Еве яблоко дал, чтоб она все съела и поняла – любви в этом мире нету. А она все яблоко не съела. Ей надо было все съесть – с огрызком и косточками. Оно же не просто яблоко, оно – целое, – сказала Яга, подняла палец и замолчала. – Все семечки надо было пережевать хорошенько, – продолжила она и поднесла руку к губам, потерла пальцы друг о друга, будто перемалывая невидимые косточки в порошок. – Змей ей ничего плохого не хотел. Наоборот, он хотел, чтоб она все тайны мира узнала. А она, блядь, откусила, блядь, а огрызок не доела. Сразу, блядь, начала фиговыми листками прикрываться. Голая она, блядь… Надо было яблоко доедать. А она, блядь, еще Адама позвала… Дура, блядь, ебаная. Во все дыры ебаная. Ебаная в рот… Теперь мы все из-за нее в подвешенном состоянии, – Яга приподнялась. – В подвешенном, – членораздельно повторила она. – Ногами стоим на земле, головой – в воздухе… Дура, блядь, эта Ева…
Светка продолжала плакать, и слезы из-под ее пальцев текли к подбородку и глухо прыгали с него на пакет.
– Свет, ты че? – спросила Яга.
– Я просила Боженьку, – затрясла она головой, – ты не умрешь.
– Блядь… – вздохнула Яга. – Свет, ну че ты такая, плачешь мне, блядь, тут, мокроту разводишь.
Светка шмыгала носом.
– Ну хорошо… – сказала Яга. – Бог есть.
Светка отняла руки от лица.
– Че, давай, – Яга кивнула на пакет.
Светка зашуршала полиэтиленом. Достала из пакета шприц с иголкой, закрытой колпачком. Его заполняла темно-желтая жидкость. Он был замотан в тонкий целлофан.
– У двери встань, – скомандовала Яга, и Светка, передав ей шприц, пошла к двери.
Яга копошилась в кровати. С ее стороны доносились сухие обрывки слов. Светка стояла у двери и видела сестру со спины. Движения Яги стали живыми, энергичными. Ее руки по-прежнему были наполнены слабостью, но казалось, что именно эта слабость и подталкивает ее суетливо под локти. И как будто шепчет ей – скорей, скорей. И, кажется, движения Яги заговорили силой, потому что в этот момент не важно было, что подталкивало ее – сила или бессилие, – главное, что в ее руках была жизнь. Как и в голосе, неважно, какие слова он произносит, всегда есть звук.
– Все мясо, как желе, – задыхаясь, ворчала Яга. – Ниче тут вену не найдешь. Как я сама вставлюсь? Я сама не вставлюсь…
Яга закрыла глаза и отплыла на матрасе. Светка подошла к ней, взяла пустой шприц с одеяла и убрала его назад в пакет. Она снова села на край кровати и сидела так, почти не шевелясь и не сводя глаз с сестры. Временами Светка сглатывала.
– Ватрушки давай, – сказала Яга, открыв глаза.
Светка встала, взяла с тумбочки у изголовья Яги пакет с ватрушками. Развязала его.
– Уже остыли, – сказала она, подавая Яге ватрушки с темно-желтой начинкой.
Яга укусила ватрушку, плохо пережевала и проглотила. Было видно, как взбугрилось ее горло, когда кусок ватрушки проходил по нему вниз.
– Светка, – позвала Яга, слизывая творог с губы. – Так жить охота…Светка спустилась по лесенке. Солнце брызгало предвечерним светом, скатываясь со своего зенитного пьедестала. Светка пошла по дороге. Пошла мимо берез. Мимо дворов, забранных сеткой. Солнце садилось все ниже и сквозь березовую листву ловило глаза. А Светка все шла – мимо низких деревянных домов с наличниками, мимо кирпичных изб. Прошла мимо темно-зеленой беседки. Снова на ее пути встали березы. А потом пошла оживленная трасса, и Светка двинулась вдоль нее. Мимо Светки несколько раз проезжали маршрутки, но Светка не останавливала их, идя дальше – размашистыми шагами длинных ног. Подметая полами длинной юбки летнюю уральскую пыль. Спереди лезвиями блеснули трамвайные пути, и солнце, конечно, постаралось выбить из них как можно больше стального серебра, чтобы оно побольней резануло Светкины глаза. Дальше показались многоэтажки, а Светка все шла и шла, как будто хотела обогнать солнце и оказаться в центре города раньше, чем оно зависнет над высотным бетонным стеклом. Возле арбузного развала Светка встретила двух загорелых дачных блондинок в шортах. Прошла мимо них, украдкой бросая взгляды в их здоровые спины, где под коричневой гладкой кожей чувствовалось живое плотное мясо. Пройдя мимо арбузов, Светка замедлила шаг, ее длинные руки повисли, словно она подхватила невидимый арбуз и понесла его в город. А солнце уже разгорелось и как будто плыло впереди Светки. Светка щурилась на него и клонила голову вбок, словно хотела заглянуть за огненный диск и увидеть солнце с той стороны. Или, может, даже хотела рассмотреть его ребро. Может, думала, что у солнца, как у монеты, есть ребро, только монета, выпадая, редко становится на ребро, как и добро со злом редко отступают, открывая то, что посередине. А может, Светка и не верила в то, что у солнца есть ребра. Может, и не задумывалась о том, что между чем-то и чем-то всегда бывает середина.
А Яга тем временем стояла на подступах к голубому ничто. Она стояла у самой его пенной кромки и смотрела вдаль неподвижным взглядом. Ничто было бесконечно. И оно узнало Ягу, как узнавало все вышедшее из него. Как узнавала всех, ведь все именно из ничто и вышли. Яга видела, что ничто ее узнало. Яга понимала, что ничто не любит ее. Но и не не любит. Яга даже заговорила тихим голосом, который унесся на середину ничто, хотя у ничто не было конца, но отсутствие конца не могло лишить его середины.
– Я знаю, что ты меня не любишь, – прошелестела Яга. – Ты – не равнодушно, – успокоила ничто Яга, хотя ничто не могло поколебать ничто. – Ты просто меня не любишь. Ты просто не способно любить.
Ничто могло бы ответить Яге, что, как неспособное любить, оно не может и ненавидеть. Но ничто осталось непоколебимым.
– Я хочу поцеловать тебя, – добавила Яга, – потому что ты меня узнало.
Яга сложила губы бантиком, но ничто обдало ее большие ступни соляным раствором. Яга, потрясенная, раскрыла рот, собираясь вдохнуть, но ничто прыснуло и потекло ей в горло солью. Потекло солью ей в уши. Лизнуло глаза, пробуя. Брызнуло в глаза, выедая их в белизну. Яга скорчилась вся у границ ничто, забила локтями, как будто сзади была стена и она хотела ее проломить и вернуться туда, где была до того. Но в том-то и особенность ничто – оно везде, от него не убежишь. Оно впрыскивалось в рот Яги, съедало кожу, превращало ее в соляной леденец. Яга кричала. И неважно было, от силы она кричит или от бессилия, потому что у ее голоса все равно пока еще был звук. Яга извивалась. Яга разрывала жесткими пальцами пространство, но оно не рвалось. Яга обрыгивалась солью. Яга каменела, а ничто покрывало ее, пока совсем не закрыло, и Яга торчала из него, похожая на каменный живот. А ничто волновалось вокруг, подбиралось и распускалось, сокращалось и расслаблялось, но было неумолимо. Воды его текли, как живые. И в последний момент… в самый последний Яга поняла, что ничто, много раз выпускавшее ее из себя, выдиравшее ее из своих глубин тысячелетиями, еще до появления Евы, еще до появления рептилий, когда в мире были только камни… ничто больше не родит Ягу. Что Яга, в которой ничто узнало и Еву, и рептилий – от первого до последнего воплощения Яги, – больше не выпустит Ягу никогда. Больше не даст ей ни силы, ни бессилия. Больше не даст голоса, не даст звука. Яга сама стала частью ничто. Ее голос растворился в соли и потерял звук.
Яги не стало.Гладиолусы – оранжевые и бледно-розовые – выстреливали из сухой земли. Желтые колышки почернели, распарились на солнце и рассохлись. Занавеска – белая, легкая – выплясывала на ветру. То высовывалась из окна наружу и там хлопотала над цветником, то возвращалась в кухню второго этажа и покрывала собой чистый пустой стол.
Миша стоял у плиты и крутил, зажав плоскогубцами, эмалированную кастрюльную крышку, от которой отходил тонкий едкий пар и уезжал на занавеске за окно. Анюта следила глазами за занавеской, и на дне ее зрачков белесой дымкой разливалась безмятежность. Старая сидела за столом. Когда крышка, ухваченная железными зубьями, накренялась над трескучими голубыми языками конфорки, и от нее, словно душа от тела, отлетала струйка легкого пара, чтобы вот сейчас проехаться на тюле за окно, Старая шмыгала носом – глубоко, словно затягивалась. А когда ветер, вернее, легкий летний ветерок, утром сошедший с Уральских гор и облюбовавший себе для прогулки цветник под Анютиным окном, то ли взбесившись от того, что ему на хребет хотят посадить ядовитые пары, то ли решив поиграть в кидалки, зашвыривал занавеску обратно в кухню, и она от широкого ветряного размаха поднималась выше обычного, то вытянутое лицо Старой пропадало под тюлем. И она сидела, покрытая с головой. Только выражение лица Старой от этого не менялось. Казалось, ей все равно было, по какую сторону оказаться.
Светка сидела на полу и шмыгала носом, от чего вздрагивали его покрасневшие крылья. Но в отличие от Старой, которая затягивалась пространством, Светка как будто боялась, что свежий воздух войдет в нее глубоко и проветрит старую боль.
– Ну че, там хоть могила какая? – спросила Анюта, давя подбородком на развернутую ладонь.
– Нормальная могила, – буркнула Светка, и еще раз провела пальцами по деревянной скалке, которой только что давила таблетки в порошок. Ни одной пылинки не посыпалось со скалки на лист бумаги, лежащий перед Светкой на полу. Он был сломан глубокими загнутостями, с той стороны просвечивали крупные буквы, написанные от руки, и видно было, что этот лист долго носили в кармане. Светка потерла влажные от холодного пота пальцы, поднесла их к носу и понюхала.
– Рядом с отцом похоронили? – поинтересовалась Анюта.
В этот момент занавеска покрыла голову Старой. Натянувшись между окном и табуретом, занавеска закрыла и Анюту. Ее можно было разглядеть, но не в деталях. Светка метнула в ее сторону взгляд, который Анюте, увидь она его, не понравился бы.
– Да, – сказала Светка, когда занавеска спала. – Рядом с отцом. Земля как раз подтаяла. Они могилу выкопать не успели, когда Ягу с церкви привезли. Мы приехали на «Газели», они еще докапывали. Там много коричневой глины было, и внизу стояла вода. Мать с могильщиком начала разговаривать. А я боялась его. Он сказал, что его отец всю жизнь могилы копал, дед копал, и мать его тоже на кладбище работала, и его на кладбище родила. Адамом его зовут.
– Он страшный, наверное, – сказала Анюта.
– Нет как раз, – Светка подобрала худые коленки. Положила на них голову и смотрела на занавеску, порхая ресницами вместе с ней. – Их там трое было. Двоих я не запомнила, а у Адама такие седые волосы и очень яркие голубые глаза. Как небо глаза. Как у ангела глаза. Я таких добрых глаз никогда не видала. Кажется, что как будто светятся они. Он еще матери телефон дал.
– Зачем? – Анюта отняла руку от лица и выпрямилась.
– На всякий случай, если ритуальные услуги понадобятся, – ответила Светка.
– А че ты, Анюта, – скрипнула Старая, – у тебя свекровка тоже скоро вперед ногами на кладбище уедет, попроси у Светкиной матери телефон Адама.
– Ага! – хлопнула ладошкой по столу Анюта. – Уедет она! Лешка ее на море собрался вести. Она на море никогда не была, видите ли. Возится с ней, как… не знаю с кем!
– Может, она никаким раком и не болеет, – сказала Старая.
– Болеет, – ответила Анюта, – метастазы у нее пошли. Видно же по человеку. Лешка на кирпичный завод устроился, деньги копит, чтоб ее на море везти.
– Радуйся, что работает, – сказала Старая.
– Ага, че мне радоваться-то? Ей, получается, все, а мне – ничего. Вот и получается, что у меня… осадок.
– У тебя на все осадок, – проворчала Старая.
– А вот нет, – возразила Анюта. – А вот неправда… А что Яга перед смертью говорила? – повернулась она к Светке.
– Че говорила… – Светка, вытянув на полу ногу, разглядывала дырку в гольфе, из которой торчал большой палец с желтым ногтем. – Сказала, вы все сгруппировались против нее, – когда Светка произнесла эти слова, Анюта моргнула и отвернулась к окну. Занавеска как будто специально взметнулась и покрыла Старую. – Она попросила ватрушки с повидлом и дозу. Я ей дозу принесла, мы еще, помнишь, у тебя сварились. Она вставилась, ватрушки поела, сказала, что бога нет, потом что жить охота. Я только до дома дошла, из больницы позвонили, сказали, она умерла.
– И че мать? – спросила Старая.
– Мать в бане была. Я подождала, когда она вернется. Сказала ей.
– И че она? – спросила Анюта.
– Че… Всю ночь плакала. Утром пошла ей туфли покупать. Таких же больших размеров, как у Яги нога, везде не найдешь.
– И че, какая там могила? – бесцветно спросил Миша.
– Нормальная могила, – огрызнулась Светка.
– Цветы посадили? – спросила Анюта, приподнимаясь и выглядывая в окно на гладиолусы.
– Мать че-то посадила. Какой-то дикий виноград, что ли. Я не помню.
– Надо было гладиолусы посадить. Хочешь, я тебе луковицы дам. У матери еще остались.
– Не надо, – буркнула Светка.
– Между прочим, бог есть, – сказала Анюта.
– У меня у одной знакомой случай был, – начала Старая. – Она пришла в церковь, встала под купол и как зарыдала. Говорит – откуда че взялось? Такой плач у нее был. И еще фразу она такую повторяла: «Как лань желает потоков воды, так душа моя желает к тебе, Господи». Тоже откуда что взялось, не знала.
– Это благодать, – сказал Миша.
– Я вот гольфы новые купила, уже порвались, – сказала Светка.
– Между прочим… – снова начала Анюта, – я по телевизору передачу смотрела, там говорили – если человек, когда утром встает, сразу на что-то приятное смотрит, то в мозгу у него запечатляется что-то хорошее. Там советовали коллажи делать – вырезать из журналов фотографии всего, что тебе хотелось бы иметь. Какой дом, какую машину. Вставать утром и первым делом на них смотреть.
– Чудеса, – прохрипела Старая.
– А я верю в чудеса, – с вызовом сказала Анюта.
Светка взяла с пола бумажку, перевернула и уставилась на нее. На листке кое-где сломанными фиолетовыми буквами было написано: «Девачка мая, Светка. Я, короче, пытался жить без тебя и немогу. Прости меня, Светка. Я ударил тебя по лицу. Прости. Давай все начнем с чистого листа. Олег».
– Эта бумажка откуда у тебя? – спросила Светка Анюту.
– Это вообще не моя бумажка. Первый раз вижу. А че там?
– По ходу письмо от Олега.
– Это моя бумажка, – сказал Миша. – Он меня просил тебе передать.
– Ты его видел?
– Видел?
– И че, как он?
– Как лох, в маечке сеточкой, – Миша надул щеки и фыркнул.
– Че, в натуре сеточкой? – спросила Старая.
– Да, я от смеха исхаркался.
– Не по-мужски, – грохнула Старая сухим смехом. Она раззявила рот, показывая бледные десны с синими лунками над передними зубами.
– А я такой иду, – затрясся Миша, – и тут из-за дерева Олег выходит, такой в маечке сеточкой. Я на него такой посмотрел, потом переплевался.
Миша смеялся. Кхи, кхи – и сипло, и глухо, и сухо выдыхал он. Дымок входил ему в рот, в ноздри, и Миша выталкивал его озвученным и как будто овеществленным. Мишин смех был блеклым и сухим, таким же, как и он сам, таким же, как его голос. Но Светка смотрела на его узкую черную спину так, словно Миша не сипел, а громыхал смехом. Словно Мишин смех, Мишины «кхи», сшитые глухим дыханием, сплетались в жесткую колючую мелкую сеть.Светка стояла на пригорке. Из его пупа возвышался деревянный крест. Светка несколько раз порывалась присесть на пень, желтеющий чуть поодаль, но не пошла. Светкину голову закрывала кепка с большим козырьком. Под ногами старыми иглами щетинилась крапива, края ее листьев проржавели, словно крапиву сбрызнули едким раствором. Небо было чистым, как обычно бывает на Урале летом, но Светкина спина уже ежилась предчувствием холодного ветерка. Светка постояла недолго. Ее голова вдруг накренилась, словно кепка перевесила, и казалось: Светка сейчас упадет и воткнется козырьком в чернозем. Прошло еще немного времени. За монастырской оградой, а особенно на этом пригорке, ничего не менялось. С той стороны солнце позолотило и подкрасило багряным многостекольчатые окна храма. Покрошило лучами его старые кирпичи. Хотело качнуть колокол, но тот с утра молчал. Светка вдруг обернулась, хватанула предвечернего света ртом и заплакала. По крыльям ее носа, с которых теперь не сходила краснота, сильнее зазмеились красные прожилки. Слезы, вместо того чтобы вобрать в себя золото заходящего солнца, мутными полосками поползли по Светкиным щекам, никак не отражая красоту летнего вечера. Можно было подумать, по щекам Светки течет сильно концентрированный соляный раствор. Может было подумать, впрыснутый в нее пару месяцев назад, он еще не вышел из организма.
Светка качнулась вперед. Казалось, она держится на земле только носками черных кроссовок. Ветер сунулся ей под юбку, и юбка надулась колоколом. Смотреть на Светку со стороны было страшно. Светка кренилась все сильнее. Вдруг она вздрогнула, как будто от неожиданности какой-то. И качнулась назад так, словно кто-то сильной властной рукой нажал ей на грудь. Она встала на землю и пятками, и носками. Но почему-то теперь, а не когда она кренилась на землей, казалось, что Светка не стоит на пригорке, а висит над ним. И сейчас, вот-вот та самая рука, которая не дала ей упасть, поднимет ее и взметнет над монастырем. А ветер сильнее раздует юбку, и Светка станет большой, черным колоколом повиснет над монастырем, над Екатеринбургом, над всей Свердловской областью.
К Светке приблизились тихие шаги. Светка обернулась. Перед ней стояла монахиня с жирным лбом. Светка заплакала сильнее.
– Че-то про лань Старая говорила, вспомнить не могу, – всхлипнула Светка и закрыла глаза рукой. Сильно надавила пальцами на глазницы. Мизинец той же руки сунула в рот, измазала слюной и прикусила его.
– Ты все вспомнишь, – громко сказала монахиня и засмеялась. – Всему свое время. А так-то ничего важного человек не забывает.
Забор качнулся вперед. Отъехал назад. Олег повис на почерневших досках. Навалился на них всем телом. Его пятки оторвались от земли, и Олег врылся носками в землю.
– Светка! – крикнул он, пьяно растягивая слова. – Светка, я кому говорю, выходи!
Перед дверью на крыльце спал белый кот. Дверь открылась, задевая его. Кот медленно встал, вытянул лапы, выгнул спину и лениво спрыгнул с крыльца. Подняв хвост трубой, пошел мимо пожелтевших перьев высокого лука и скрылся в теплице. На крыльце показалась мать. Стянув ворот шерстяной кофты, она ежилась от осенней прохлады.
– Светка где? – промямлил Олег.
– Светки нет, – мягко сказала мать. – Я тебе уже говорила – Светки нет.
– А когда будет? – прищурился Олег и блеснул на мать бледно-голубыми глазами.
– Я тебе говорила, Олег, Светки больше не будет. Иди домой… Иди… – она повернулась к нему спиной.Была ночь. Ветер, бушевавший днем, притих. Но за сутки, когда во дворе Светки и Яги начался яблоневый пад, ветру не удалось сбросить с дерева ни одного яблока. К ночи яблоня начала бросать их сама. Сначала они негромко падали на землю и не сильно бились. Но потом, уже после полуночи, когда узкий месяц осветил белесый остов теплицы, удары стали отчаянными и глухими. Казалось, от них содрогается вся земля, и дрожь ее бежит волнами, доходя до самых гор. Сотрясая их хребты, делая их в темноте похожими на костлявых оживших рептилий.
Все яростней становились удары. Словно дерево вдруг ожило и спешило поскорее сбросить с себя своих мертворожденных детей. Детей, которых не сняли с ветвей вовремя – когда пришло время собирать урожай. Не поместили бережно в плетеную корзину, проложив между ними слои тонкой прозрачной бумаги. Не унесли в утепленный соломой сарай, где они – дети яблони – могли пережить всю зиму, даже такую морозную, какой бывает зима на Урале.
Всю ночь яблоня сбрасывала своих детей, и чем больше бились о холодную землю их бока, тем яростней становились последующие удары.

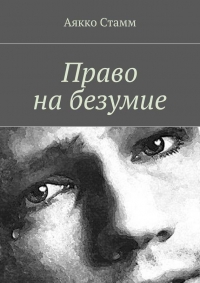



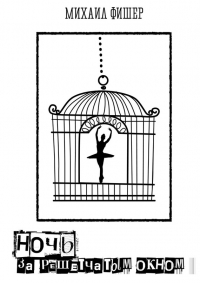


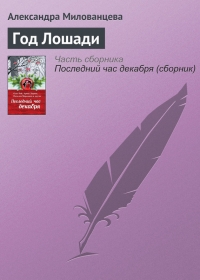


Комментарии к книге «Крокодил», Марина Магомеднебиевна Ахмедова
Всего 0 комментариев