Рута Юрис В тени малинового куста
Две верных подруги,
Любовь и Разлука,
поделятся с нами сполна…
Булат Окуджава
Пролог
Странный сон ему приснился сегодня. Какая-то цыганка в пестром халате протягивала ему корзину спелых румяных яблок. Они были похожи на муляжи, но все разрезаны пополам.
– Ищи! – сказала цыганка и пропала.
Он брал эти половинки и пытался складывать их вместе, но они никак не подходили друг к другу. Потом он все-таки нашел те, что были половинками одного целого яблока, сложил их вместе. И это сложенное яблоко вдруг выскользнуло из рук и покатилось под стол. Он полез доставать его, но ударился головой о ножку стола и… проснулся.
Он не верил снам, но, покидая номер, увидел под столом сморщенное и почерневшее от гнили яблоко. И перекрестился, хотя никогда в Бога не верил.
* * *
В кафе аэропорта Домодедово они заняли столик у открытого окна. Дочь что-то хотела сказать отцу, однако он опередил ее.
– Фима, я буду тебе благодарен, если ты помолчишь.
Девушка нахмурилась и склонилась над вазочкой с мороженым, лишь иногда бросая исподлобья взгляды на отца.
Из окна была видна взлетно-посадочная полоса, а за ней до самого горизонта тянулся резной полоской обычный подмосковный лес, по которому уже прогулялась осень, оставив среди зелени ярко-желтые пятна берез. Налетевший ветерок принес вместо выхлопной самолетной гари запах этого осеннего леса с его горчинкой грибниц и опавших листьев. Мужчина повернулся в сторону окна и, кажется, не мог надышаться этим запахом. Там, где он прожил тридцать лет, так никогда не пахло.
Четки в его руках пощелкивали. Взгляд был устремлен куда-то далеко в прошлое…
* * *
Октябрь 1973 года. Пригород Вены.
Тридцать лет… Да, через месяц будет тридцать лет.
«Oh, my God, the next October!» – подумал он и поймал себя на том, что думает по-английски. Когда это с ним случилось? Теперь и не вспомнишь. А тогда…
И он ясно увидел картинку, навсегда засевшую в памяти.
Коробки, баулы и его полупустой рюкзак, сиротливо приткнувшийся к стойке двухъярусной кровати. Он ведь так и не выбросил его. Не смог. Запрятал в гараже. Рюкзак был для него окошком во времени, через которое он мог вернуться назад.
А картинка все стояла перед глазами.
Молодая его жена дремала, положив голову на колени матери. Он укрыл ее своей курткой. Уже несколько дней в Вене шли дожди, в ангаре для иммигрантов пахло сыростью. Он и сейчас помнит этот запах.
Тесть забрал у суетящейся жены сумку. Громко щелкнув замком сумки, положил ее к себе на колени и пробурчал: «И это Западная Европа! В туалете пивбара «Жигули» и то не такое амбрэ… Конец всякой географии!»
Теща безмолвно плакала, поглаживая дочь по голове, вот тогда впервые он пожалел о своем поступке.
Они ждали вылета в Нью-Йорк.
Это было давно…
Это было вчера.
* * *
Предательский холодок пробежал по спине. Передернув плечами, мужчина искоса взглянул на дочь. Она была похожа на него, только смугла, чернява, и волосы вились крупными завитками, как у матери.
«Интересно, – подумал он, – а на кого бы были похожи наши дети?»
Там, на Брайтон Бич, ему иногда казалось, он сходит с ума оттого, что первой и единственной его женщиной стала жена, а не та, которую он любил и бросил, стремясь уехать в Америку. Он назначил себе роль предателя, страдал все тридцать лет и не находил себе оправдания… Он жалел не себя, а свою несчастную жену, и понимал, что все его болезни не свалились с неба – это все нервы. И боялся думать, что стало с той, которую он предал.
Он залпом допил коньяк. Вытащил дорогую кубинскую сигару, каттером отрезал кончик и раскурил ее. Дочь, внимательно наблюдавшая за отцом, сердито сказала по-русски:
– Да не придет она, ты еще не понял? Не придет! Поглядела на тебя и хватит. У нее своя жизнь, и у тебя, между прочим, тоже.
– Я просил тебя помолчать, – повторил он.
Дети бывают очень жестоки, даже если любят родителей. Девушку раздражало, что отец так страдает. Три недели назад он просто принес два билета на самолет и велел собираться, не объяснив зачем. Ей было жаль больного отца, и пришлось подчиниться, хотя она считала себя совсем взрослой и самостоятельной, ведь ей уже двадцать три. А сейчас она мечтала только об одном – поскорей улететь из этого непонятного чужого города.
– Папа, ты сошел с ума?! – перешла она на английский язык. – Тебе нельзя пить коньяк и курить! Что сказала бы мама и твой доктор?
Мужчина затушил сигару, допил стакан с минералкой и спрятал четки в карман. Дочь, что есть силы, стукнула маленьким смуглым кулачком по столу, уронила голову на руки и громко зарыдала. Пустая рюмка подпрыгнула и разбилась. Капелька коньяка на столе казалась капелькой крови.
В этот момент на первой строчке табло появилась надпись: «Comp Lufthansa – Moscow-Amsterdam». Мужчина подозвал официанта, расплатился, а потом обратился к дочери:
– У тебя есть платок? Приведи себя в порядок. И пойдем регистрировать билеты, пора! А она, если и приедет, то подойдет к стойке регистрации.
Прихватив свои чемоданы, они спустились на первый этаж.
Глава 1.Флоксы пахнут разлукой
Август…
Погода у нас в Москве странная. Май, озорной, переменчивый и лукавый май, с его первыми грозами, заморозками и горчинкой молодой зелени передает эстафету июню. А он, сходящий с ума от необъятных охапок благоухающей сирени, молодой и задорный, то заставит прятаться от набирающего силу летнего солнышка, то напугает дачников последними заморозками, а то и вовсе прикажет вытаскивать из шкафов уже подзабытые за жаркий май плащи и зонтики, повесив над отцветающими садами полупрозрачные тучи с прохладным дождем.
Мудрый июль поманит ягодами и грибами, подразнит эхом бродящих по лесу дачников и сгорит падающей хвостатой звездой в туманном августовском утре.
А в середине августа флоксы окутают своим ароматом палисадники. Подмосковные дачные флоксы, которые выбрасывают яркие соцветия в последние дни июля. Какая-то щемящая сердце грусть сквозит тонкой нотой в аромате этих цветов, приторная сладость убегающих летних дней. Этот терпкий запах всегда, даже в далеком безмятежном детстве, заставлял меня остановиться и задуматься. Тогда я и не понимала совсем, что за грусть такая наполняет сердце и рвет душу. Я просто уходила на свою заветную лежанку в старый малинник, обрывала последние засыхающие ягоды и смотрела в бездонное небо, подернутое дымкой, какая бывает только в августе. В конце лета темнеет рано и очень быстро. Ночи прохладные, и листья на моем любимом малиновом кусте покрываются росой. Небо усыпано бесчисленным множеством ярких звезд, и дыхание перехватывает от одной мысли, что где-то там, в немыслимой дали Вселенной, может быть, есть такая же девчонка, которая через бесконечность смотрит сейчас на меня.
Спроси меня тогда кто-нибудь, счастлива ли я – уж крикнула бы так, чтоб окрестные леса отозвались эхом: «Да-а-а!..»
Повзрослев, я поняла: флоксы пахнут разлукой.
Август прилепит к окну первые желтые листья. Сумрачным и дождливым августовским днем моя бабуля, сидя со штопкой у расчерченного дождевыми каплями окна, вздыхает: «Да, июнь – еще не лето, а август – уже не лето…».
Колесо Фортуны сделало еще один оборот и вот опять…
Полинявшее небо. Август. Флоксы. Ускользающее лето осыпается речным песком сквозь пальцы. Ведь только-только был июнь.
Вот и ловишь каждый миг в преддверии слякотной осени. Так хочется еще разочек пройтись босиком по траве. Надеть сарафан и подставить уже остывающему солнышку тронутые загаром плечи.
А осень я не люблю. Особенно сухую и солнечную.
* * *
Проводив мужа на работу, я стала собираться на дачу.
Правда, сомнения вызывал прогноз погоды, заявленный накануне тощей девицей, рассказывающей телезрителям о предстоящих природных катаклизмах и магнитных бурях.
– Враки! – сказала я в ответ телевизионной красотке, укладывая вещи в багажник.
И не ошиблась. Уже с самого утра было понятно, что с прогнозом погоды нас опять обманули. Нет, это, пожалуй, слишком грубо. Надо так: в прогнозе погоды была допущена некоторая неточность. В лучшую сторону.
Теплый ветер приятно обдувал загорелые руки, лежащие на руле. Газовый шарфик, обшитый по краям бусинками, струился за мной, изредка пощелкивая по спущенному капюшону моего желтого кабриолета.
Середина недели, и в это полуденное время дорога в сторону области почти пуста сегодня. Возле ворот придорожных домов в Бузаево и Борках выставлены ведра с букетами гладиолусов, сложены наколотые дрова для шашлыков. У каждого свой бизнес…
Я люблю наблюдать за этими сезонными изменениями, когда езжу на дачу.
В начале мая от Раздоров до Бузаево кусты сирени в каждом палисаднике лишь слегка подернуты зеленой дымкой молодых листочков. Над шоссе витает горьковатый запах молодой зелени, а небо и лес вдоль дороги кажутся совсем прозрачными. Потом, в конце месяца, эти кусты сирени превращаются в необъятные букеты всевозможных оттенков.
А запах сирени! От него у меня всегда идет кругом голова и хочется влюбиться. Может быть, поэтому я такая счастливая, несмотря ни на что?
Потом, в июле, над дорогой поплывет сладкий запах первых яблок и поспевшей малины. У калиток появляются ведра, наполненные мельбой и грушовкой, пластиковые пивные стаканы с ягодами. Слепящее солнце в ярко-синем небе обжигает лицо и плечи.
Сегодня же над шоссе витает горьковато-пряный запах флоксов. А надо мной небо цвета вылинявшей джинсовки. Даже новомодные постройки в Жуковке смотрятся поблекшими за лето. Горячая дымка, поднимающаяся от перегретого асфальта, делает гламурную картинку новостроя размытой.
И на фоне всего этого – я, обласканная жарким солнцем Ибицы. Все динамики в моей машине грохочут так, что встречные водилы и прохожие вздрагивают и глядят мне вслед. Это сын, которому я даю иногда прокатиться на своем авто, установил там «отпадную», выражаясь его языком, акустику. Если захлопнуть капюшон кабриолета, кажется, что музыка проникает в каждую клеточку и кружит голову.
Сейчас из динамиков несется мелодия группы «Space», любимой мною со студенческих времен. Вот ведь как бывает: какой-то совершенно незнакомый мне Дидье Моруани взял и сочинил «Сувенир из Рио» . Словно всю жизнь за мной подглядывал и подслушивал. Вся жизнь моя в этой мелодии уложена. Просто по минуточкам. Аккуратно, тактично и пронизывающе.
Вот под этот «Сувенир» я на своем кабриолете и «рассекаю» – так говорит мой сын.
Сегодня 29 августа. Лето кончается. Грустно.
Заметив у ресторана «Царская охота» в Жуковке милицейский автомобиль со знакомыми номерами, я свернула на стоянку, взяла пакет с новой книгой и подошла к патрульной машине. Она была пуста. Тогда я протянула руку в окно и посигналила.
– Мать, ну что ж ты пугаешь рублевских мажоров? – чмокнул меня в щеку подошедший плотный майор в ярком жилете. Но это для всех он был майор, а для меня – друг деревенского детства и троюродный брат Митяй.
– У меня новостей – тьма! – поцеловала я его в ответ. – Но только с тобой могу поделиться.
Две гламурного вида блондинки в летнем кафе с интересом следили за нами и перешептывались. Им было непонятно, почему женщина, подъехавшая на крутом «Пежо», целуется с простым ментом.
– Что это? – Митька взял протянутый мной пакет и ощупал содержимое. – Книга? Та самая, которую ты с 18-ти лет писала? Издала наконец-то? Можно сказать – причастен. Это ты специально именно ее подгадала под юбилей?
– Ага.
– И надпись мне сделала?
– Естественно: «Лучшему Рублевскому Менту».
– Да-а-а… Слушай, мать, а ведь мы с тобой Рублевские аборигены. Звучит, а?
– Еще как! С этим можно только родиться. Этого не купишь.
– Ты буковки у дороги видала? «BARVIHA LUXURY VILLAGE».
– Это они к нам примазываются! – не слишком весело усмехнулась я.
Когда я уже выруливала со стоянки, Митька остановил меня и сказал, не поднимая глаз:
– Знаешь, тут такое дело… Женька, американец-то наш, дом свой продал. Сам не приезжал. Стыдно, наверное, или не престижно самому-то... Риэлтор все провел.
В Митькином голосе мне послышались грусть и злость одновременно.
– Знаю. Я все знаю... Женька в Москве. Я встречалась с ним позавчера в «Балчуге», где он с дочкой остановился. Они вдвоем прилетели. Познакомил меня с ней, в ресторане посидели. Вдовец он теперь. Сказал, что больше сюда не вернется. Изменился – совсем американец, как ты сказал. Но, представляешь, виски седые, а ямочки на щеках – все те же. Мне бы хотелось многое тебе рассказать, Мить. Это не для ушей моего мужа.
– Даже так? – хмыкнул Митяй, но, увидев мои глаза, покачал головой. – А я уж решил, что этой ветрянкой ты давно переболела.
– Старые раны всегда ноют в непогоду, – грустно усмехнулась я, спуская с макушки на нос темные очки. Под ложечкой застыл неприятный комок.
– Ладно, аборигенка, езжай, но не гони. Притормози у поворота на Ильинку, там асфальт меняют. Гарант наш в отпуске, должны за пять дней все уложить.
– Успеют.
– Ирка, да выруби ты свой «Спэйс»! По случаю издания книги давай нашу. И улыбнись, жизнь продолжается!
И мы вполголоса запели: «А ты, сорока-белобока, да научи меня лета-а-а-ть, да невысоко-недалеко, да чтобы милого видать».
Хорошо, что я была в темных очках. Митька расстраивается и ругается, когда у меня глаза на мокром месте.
– Как раз в тему, – с легкой грустью вздохнула я. – Ну, давай, жду вечером!
И мы разъехались.
Он – ловить незнакомцев, которых очень не любят у нас на Рублевке. А я – варить варенье. Царское…
Глава 2. Осень в Нью-Йорке. Путевые заметки
Хорошо, что я встретила Митьку, и мы сможем вечером поговорить. Мне было, что рассказать ему, а он, как никто другой из моих друзей, умел слушать. Доехав до поселка Горки-II, я свернула на стоянку к летнему ресторанчику. Села за самый дальний столик и заказала двойной апельсиновый фреш.
Ожидая заказ, я смотрела через дорогу на сосновый бор. Сосны стоят вечнозеленые, стройные и душистые, но плутовка-осень уже маячит почти за каждым деревом и кокетливо прячется в начинающих краснеть листьях боярышника, что посажен вокруг ресторанчика вместо забора.
Позавчера, встретившись с Женькой, я была уверена, что готова простить его. Но то, что он рассказал, повергло меня в ужас и обратило в бегство, а мысль о прощении развеялась, как колечки дыма, которые пускал мой папа, пытаясь позабавить меня в детстве.Воспоминания о нашем разговоре в Балчуге кружились в голове, словно злые осы над закипающим малиновым вареньем. Мысленно я взмахивала рукой, но никак не могла отогнать их. И лишь одна мысль буравила мой разгоряченный лоб – как мне вернуть то спокойное философское настроение, которое необходимо, чтобы начать писать давно задуманный осенний роман о бабьем лете? О щемящей грусти, навеваемой дачными садами, подернутыми горьким дымком сжигаемых листьев и картофельной ботвы на деревенских полях.
Коттеджные новосельцы морщат носы от этого запаха, а аборигены наслаждаются им, сидя вокруг костра и поедая печеную картошку.
Бабье лето… Бабье лето. Теперь уже, наверное, и мое. Как ты права, бабуля!
Солнце, проглядывающее сквозь эту дымку, насмешливо шпарит своими лучами по расслабившимся после отпусков людям. Бедняги избавляются от пиджаков и плащей, надетых с утра. Перепад температур у нас в Москве такой резвый, что кристаллики ранних заморозков испаряются, едва превратившись в капли. Народ млеет и щурится от яркого солнца. Снова появляются рубашки с короткими рукавами, мелькают солнцезащитные очки. А погода просто шалит напоследок. Вы посмотрите на солнце через закопченное стеклышко и увидите, что солнце дразнится, показывая язык. И тепло бабьего лета есть не что иное, как игра в подкидного дурака. И только сама Осень всегда в выигрыше.
Я взяла салфетку, достала ручку. Словно кто-то диктовал мне прямо в ухо, я лишь записывала.
А август вновь подвел итог,
Созревшим яблоком и Спасом.
И неба высветлил чертог…
Ах, в августе мечтать опасно.
А листья у твоих дверей
Как будто медные монеты,
Что много их – ты не жалей,
Ты ими заплатил за Лето…
Я положила ручку и оглянулась. В кафе я была одна. Лишь вышколенная рублевская обслуга прилиплапо стойке смирно у барной стойки.
* * *
Вот и бабуля моя ходит в таких же обманутых этим мимолетным теплом, твердя мне, что я ничего не понимаю в жизни, что это не погода, а Божья благодать. Бабушка вздыхает посередине облетевшего, полупрозрачного сада, собирает, кряхтя, последние яблоки в корзинку. Потом сгребает остатки листьев. И, отдыхая, долго сидит на ступеньках крыльца, облокотившись на грабли, подставляя лицо обманным солнечным лучам.
А октябрь я особенно не люблю. Хитрая природа может задержаться с теплом, американцы называют это тепло в начале октября индейским летом. Я прочитала об этом еще в школе, и решила быть… индейкой. Папа над этим долго смеялся. Но я и прозвище себе придумала, настоящее, индейское – Зеленая Луна.
Единственное, что примиряет осенью с окружающим миром, так это душистая и сладкая, как мед, ташкентская дыня в плетеной сетке. Папа всегда покупал ее у приезжих узбеков прямо на Казанском вокзале, что называется – с колес. Потом он передал эту эстафету моему мужу.
* * *
В знаковых событиях, которые происходят в моей жизни, есть какая-то фатальная закономерность. Почти все они происходят осенью, которую я так не люблю. Словно она добивается моей любви. Или оправдывается передо мною.
Но есть и еще одна причина моей нелюбви к осени.
Я сделала еще один освежающий глоток и, закрыв глаза, провалилась почти на тридцать лет назад.
Нет, не так.
Я просто выпала из времени.
* * *
…Конец сентября 1979 года. Индейское лето. Нью-Йорк. Big Apple. Большое Яблоко.
Жарко и душно. Сплошной поток желтых такси, сирены полицейских машин. Спешащие холеные клерки с кейсами, лениво ползущие толстые негритянки. И трансвеститы, выделяющиеся в толпе яркими пятнами своих нарядов и необъятными белокурыми париками из кониколона.
Мужу удалось включить меня в состав группы журналистов, сопровождающих спортивных деятелей. На нас надвигалась Олимпиада в Москве.
У меня был журналистский билет корреспондента-внештатника одного из центральных комсомольских изданий. Задание, которое я получила в редакции, звучало издевательски: «Осень в Нью-Йорке. Путевые заметки». Я должна была написать про Центральный парк.
Ну, почему опять осень? Почему не про историю забегов на Эмпайр Стэйт Билдинг или про пожилых спортсменов, коими заполнены дорожки Центрального парка?
Так нет же. Именно осень, будь она не ладна.
* * *
Две недели пролетели одним днем. Были какие-то переговоры, встречи. Интересная экскурсия по городу и Центральному парку. И везде в толпе мне мерещился Женька.
Наступил предпоследний день нашей поездки. Женщинам разрешили пройтись по магазинам. Но тряпки и косметика меня не интересовали. У меня в голове созрел чудовищный план. Провожая Лешу утром, я поцеловала его, не зная, увижу ли его еще когда-нибудь.
Стоя у зеркала, я сказала себе: «Ты – сумасшедшая! Подумай о муже и родителях».
«Ты будешь полной дурой, если не сделаешь этого!» – ответило мне мое отражение. У меня ломило виски. Перед самым выходом меня вырвало. А я ничего с утра не ела.
Оставив на подушке записку для мужа, я перекрестилась и захлопнула дверь номера, в надежде, что больше не переступлю этот порог. Выйдя из отеля, я села в первое такси, стоявшее у входа.
– Brighton Beach, please! – еще в Москве я изучила карту Нью-Йорка и узнала, где живет бóльшая часть иммигрантов из СССР.
Водитель заглушил двигатель и повернулся ко мне. Это был чернявый мужчина с усами, как у Буденного. Он поправил фирменную кепку и сказал мне по-русски с явным одесским акцентом: «Да шо вы мучаетесь, дамочка! Не ломайте язык, скажите, куда таки вас везти!»
У меня глаза вылезли на лоб. Я знала, что всех нас «пасут», но в тот момент мне было все равно.
– На Брайтон Бич, пожалуйста. Туда, где русские магазины и эстакада подземки напротив. Там можно проехать?
– А шо, проедем, если нужно. Бруклинский мост поглядите!
– Спасибо, я уже видела. Поехали?
И машина тронулась с места. Меня опять затошнило.
Мы ехали тихо вдоль бесконечного ряда магазинов с вывесками на русском языке. «Продукты из России», «Парное мясо», «Книжные новинки»…
– Остановитесь, пожалуйста! Я немного пройду пешком. А вы подождите меня, – попросила я.
– Так вы гуляйте, я подожду. Перекушу покамест, – и он вытащил из-под ног термос, помятый местами яркий китайский термос, за такими мы стояли в Москве в очередях.
И я пошла вдоль магазинов. Одна из скромных вывесок привлекла мое внимание: «Маркусевич и брат. Русский хлеб». Я остановилась. В витрине висели связки бубликов на самоваре и лежал каравай на вышитой салфетке. Но фамилия мне ничего не сказала.
Я направилась к дверям, но в это время кто-то мелькнул у двери изнутри, и на стекле появилась табличка «Закрыто. Closed». Может, это не те, кто мне нужен, может, еще поискать? И я пошла еще дальше по улице, вглядываясь в лица мужчин в толпе, но вскоре поняла всю глупость своей затеи и решила, что надо возвращаться.
Когда я садилась в машину, то вновь взглянула на хлебный магазин. На втором этаже, прямо над вывеской кто-то смотрел на улицу, раздвинув реечки жалюзи. Но стоило мне поднять глаза на это окно, жалюзи сомкнулись.
– В отель? – спросил меня таксист.
– Нет, в Центральный парк.
– Таким красивым дамочкам ходить там одним небезопасно.
– Я не боюсь.
* * *
Водитель зря пугал меня. В погожий день в парке было много народу.
Я брела по дорожке, теплый ветерок играл моей челкой. Клены уже желтели и краснели, и под ногами шуршали опавшие листья. Вдруг я почувствовала ужасную усталость и легкую тошноту. Я присела на скамейку. Мимо шли мамочки с колясками, ленивой трусцой пробегали пожилые спортсмены. На другом конце скамейки чирикали по-своему два китайца, перекусывая чем-то из бумажных пакетов с иероглифами.
В парке действительно было чудесно. Та самая благодать, о которой мне твердила бабуля, сердясь, что я ничего не понимаю.
А кто понимает в жизни? Поднимите руки! Нету таких! Увы…
И что я скажу Леше?
Тут я вспомнила про записку, которую оставила мужу на подушке в номере отеля и подумала: «Разве можно быть такой дурой в двадцать пять лет!»
Меня словно сдуло ветром со скамейки, и я помчалась к выходу, ловить такси.
* * *
Портье остановил меня, когда я бежала мимо него к лифту. Он наклонился, и вытащил из-за своей стойки чудесный букет.
– To you, please.
– My husband?
– I don’t know...
Я разглядывала такие чудесные белые лилии: «Васильков нет…»
– I don’t understand, – cказал портье.
– Sorry, – и я медленно пошла к лифту, придумывая, что я могу сказать мужу.
Nothing...
* * *
Муж был в номере. На столике у дивана стояло шампанское, два фужера и коробка конфет. Две красных свечи с бантами сгорели на две трети. Значит, он ждет меня уже давно.
Я прошла в спальню и посмотрела на подушку. Записки не было. Поставив цветы в вазу, я вернулась в гостиную и села рядом. Муж нежно обнял меня. Какой предательницей я себя почувствовала! Сгореть бы от стыда!
– Лапушка, устала?
– Ага… Моя усталость называется – Big Apple... Идиотизм! – я вымученно улыбнулась.
– Что-то случилось?
– Нет, – соврала я, – гуляла в Центральном парке, собирала материал для статьи.
Леша наполнил бокалы шампанским и достал из кармана пиджака бархатную коробочку. «Tiffany» – это название тогда мне ни о чем не сказало, а фильм «Завтрак у Тиффани» я не видела. Внутри на атласе лежали три жемчужных слезки. Серьги и подвеска.
– Завтра рано утром у нас экскурсия, а в пять вечера мы улетаем. Может, пойдем, погуляем, попрощаемся с городом?
– Нет, я не хочу. Душ и спать.
Муж вынес меня из душа в махровой простыне и нежно уложил на кровать. Погасив свет, лег рядом, и я прижалась к нему. Я думала, что всю ночь буду плакать…
А за окном шумел город. Это был чужой город. Это был Женькин город. Это был город, который я возненавидела.
* * *
Рано утром мы поднялись всей группой на одну из башен-близнецов. Нью-Йорка. Чужой город расстилался внизу колючим ковром своих небоскребов, зеленым пятном Центрального парка. Ярко светило солнце, отражаясь в воде залива со статуей Свободы. А небо над нами было цвета индиго.
Где-то там, внизу, в переплетении улиц, всех этих стрит и авеню, ходил Женька.
Я подошла краю и встала на железное ограждение. Секунда – и я, раскрыв руки, словно крылья, прыгнула вниз. Маленькой синичкой я кружила над этим удивительным городом. Пролетев через Бруклинский мост, оказалась на русской торговой улице на Брайтон Бич. Покружив немного, я подлетела к окну над хлебным магазином и села на форточку.
В комнате сидел Женька со своей женой и ее родителями. Я цвиркнула, чтобы обратить на себя внимание. Женькина жена вскочила из-за стола.
– Кыш! Кыш! – замахнулась она на меня кухонным полотенцем.
Я вспорхнула с окна, форточка захлопнулась, окно закрыли плотные жалюзи. Голова у меня закружилась, и я упала в цветочницу, прикрепленную к подоконнику. Упала и запуталась в пожухлых и пыльных цветах…
* * *
Кто-то теребил меня за плечо. Я открыла глаза.
– Что тебе снилось? Ты так стонала, – сказал муж. – Пристегнись, уже заходим на посадку.
Москва встретила нас снегом с дождем. И машиной скорой помощи.
У меня началась неукротимая рвота. Оказывается, я была на четвертом месяце беременности, но по молодости свою тошноту списывала на жару и духоту. И беременная собралась бежать к Женьке. Дура.
В начале февраля я родила сына, а Женька остался там, далеко в прошлой жизни, где-то в духоте и шуме большого и чужого города. Я приучила себя думать, что он улетел на Марс, но вот теперь, возникнув из небытия, он спутал все карты моего счастливого пасьянса.
Еще в детстве папа подарил мне подзорную трубу с цейссовской оптикой, и, сидя с Женькой на чердаке его дачного дома, прижавшись друг к другу и чихая от пыли, мы искали эту красноватую точку в бездонном иссиня-черном августовском небе. Тогда же, в восьмом классе, мы поклялись друг другу в вечной любви, решив пожениться, когда нам стукнет по восемнадцать. А вот поцеловаться постеснялись. Ткнулись носами друг другу в щеку – и все…
От одного этого воспоминания по телу пробежали мурашки, и снова захолодило под сердцем, там, где притаилась давно затянувшаяся рана-обида, словно я опять расчесала ее до крови, и закрутились в голове слова, которые никогда не были сказаны, и выступили слезы, соленые, горючие, так до конца и невыплаканные.
За тридцать лет я ни разу ни с кем не говорила о Женьке. На эту тему было наложено табу. Леша не заговаривал о нем, а с друзьями я сама не решалась. Моя счастливая семейная жизнь и творческая работа не давали повода говорить о своей первой любви, и постепенно мне стало казаться, что время задернуло прошлое плотным пыльным занавесом.
Словно кошка, я потихонечку зализала свою рану, но, как сейчас выяснилось, она только затянулась тоненькой кожицей. Вначале мне иногда снился Брайтон Бич, и мужчины в толпе, как будто с Женькиным лицом. Я окликала их беззвучно, но все они проходили мимо меня, словно не видели или не узнавали. А потом сны прекратились.
Но вдруг пыльный занавес упал, и я оказалась незащищенной от своих мучительных воспоминаний, от оставленной в прошлом боли.
Вот об этом я и собиралась рассказать Митьке сегодня вечером, чтобы оборвать тоненькую ниточку, на которой еще болтался камень обиды в моей душе.
Допив свой фреш, я расплатилась и пошла к машине.
Глава 3. Под малиновым кустом
Малиновый куст, мой любимый малиновый куст встретил меня легким шелестом начавших уже подсыхать листьев. Весной большие, разлапистые – от летнего зноя, дождя и ветра листья словно съежились к концу августа. Несорванные ягоды будто усохли от тоски за две недели моего отсутствия.
Иногда мне кажется, что малиновый куст, как и я, грустит в преддверии грядущей осени, холодных дождей и ему жаль расставаться со своими красивыми листьями, которые радовали свою хозяйку таким длинным и таким молниеносно проносящимся летом.
Когда я только вышла замуж, Леша, узнав историю малинового куста, расчистил мою потаенную полянку в старом малиннике и построил там чудесную беседку. Разъезжая по миру, он привез откуда-то из Южной Америки саженцы плетистой малины, и они за один год увили беседку, укрывая меня о посторонних взглядов. И если я ухожу туда, то никто не смеет меня беспокоить. Не было и нет лучшего места для любимого занятия, здесь мне в голову приходят самые необыкновенные сюжеты, и порой я засиживаюсь за полночь, не в силах оторваться от ноутбука. А неуемное воображение подбрасывает все новые и новые картины. Наверное, место, на котором стоит моя и только моя беседка – заколдованное, или мой муж – волшебник?
Весной, когда прилетают скворцы в наш сад, а куст еще только выбрасывает первые побеги, нежный майский ветерок звенит в беседке, подпевая посвисту скворца. И сердце почему-то сладко щемит от сознания убегающего времени, щемит так, что слезы выступают, будто соринка попала в глаз.
Потом эта прозрачная печаль рассеивается, перемешиваясь с запахом жасмина и сирени, и падает на землю розовыми лепестками, что роняют отцветшие яблони в нашем саду.
Май своими пьянящими ароматами всегда навевает мне новые сюжеты. И уже к середине июня эти сладко-щемящие чувства заставляют меня открывать ноутбук. И новые строчки сами собой так и выскакивают из-под моих проворных пальцев. Июль с ароматом малины и нежным шелестом листьев всегда дарит мне удивительное вдохновение.
Но вот лето кончается. Палевой жемчужной дымкой пронизаны деревенские сады в августе. А воздух настоян на сладко-пряном запахе яблок штрифлинга, «штрифеля», как говорят у нас в Таганькове.
Бабушка, присевшая на крылечке, уж в который раз пытается мне объяснить, что Бабье лето – это Божья благодать, а я по молодости своей этого просто не понимаю.
Ничего, придет время, пойму. И до времени этого осталось совсем немного.
Как ты права, бабуля!
Или оно уже пришло, мое Бабье лето?
* * *
Сегодня я соберу последние в этом году ягоды малины. Самые вкусные, потому что куст словно хочет напоследок одарить меня всеми ароматами и вкусами, которые накопил за лето. Скоро, совсем скоро облетят с него обрамленные желтой каймой листья, ведь осень уже стучит своим сухим жилистым пальцем в окно.
С такими мыслями я сидела на ступеньках беседки. Чашка с чаем в моих руках подрагивала, мне было не по себе.
Всего час назад, свернув с шоссе, я проехала мимо Женькиного дома. Вернее, мимо того, что раньше было домом.
Бабушка говорила мне, что дом продан, однако утаила, что Женька прилетел в Москву. Не знала? Или они все дружно сговорились не беспокоить меня?
Крыша Женькиного дома была разобрана. И не было больше заветного чердачного окошка. Разбитая полукруглая рама валялась поверх кучи мусора, приготовленного на вывоз. Мне было больно смотреть на это.
Забор сломали и на его месте уже начали возводить узорную кирпичную стену. Возле дома стоял огромный джип, и какая-то худосочная девица в красных брючках-капри, крутя ключи на указательном пальце, надменно разговаривала с одним из рабочих–таджиков, что копошились на участке.
Женькиного дома больше не было. Он умер.
Деревенская улица без Женькиного дома стала похожа на челюсть с выбитым зубом, а разбросанные ярко-красные кирпичи для кладки забора – на кровь.
Я чуть не заплакала. Мне хотелось выскочить из машины и дать в глаз этой наглой девице в красных брючках, но, конечно, я этого не сделала.
Едва приехав домой, я вышла в сад и спросила у бабули:
– Китаев дом видела?
Бабушка бросила сгребать листья, обернулась ко мне ко мне и покачала головой.
– Сколько же можно страдать, Иринка?
– Ба, я давно уже не страдаю…
– Думаешь, если мне под сто лет, то я совсем слепая? У меня сердце зрячее! – вздохнула бабушка и присела на крылечко террасы.
– Бабуленька, ну, что ты, успокойся!
– Грех Бога гневить, девка. Этот Женька твоему Лехе и в подметки не годится!
Я присела рядом с бабулей, положила ей голову на плечо.
– Ба, ложись-ка ты спать, уже твое время – детское, – пошутила я через силу. – А то ведь вскочишь ни свет ни заря! А листья я доубираю.
Бабуля погладила меня по волосам, как маленькую девочку: «Спокойной ночи, милая!»
Я собрала в ведро опавшие листья и отправилась к калитке в конце сада. За две недели моего отсутствия пейзаж позади нашего участка изменился до неузнаваемости. На одинаковом расстоянии друг от друга возвышались кубышки фундаментов для коттеджного поселка. Ровные ряды. Я посчитала – три улицы.
А что будет завтра? Мне даже страшно подумать об этом…
Еще чуть-чуть, несколько рядов кладки, и я никогда больше не увижу ромашковое поле и свой любимый овраг. Овраг, по склону которого в мягкой траве катались мы с подружкой Алкой. Где собирали землянику, а после дождя можно было набрать и корзинку подберезовиков. Как я любила приходить сюда и просто любоваться открывающимся простором, но уже завтра он скроется от меня навсегда.
Ох, что же делается с родными местами!
Расстроенная, я мысленно попрощалась с готовым исчезнуть навеки пейзажем, и пошла к дому. Меня так и тянуло оглянуться еще раз, но я сдержалась, чтобы не расплакаться. Отправив бабулю спать, с чашкой чая я присела на ступеньки своей любимой беседки.
* * *
Два последних дня были наполнены событиями. А позавчера...
Я прислонилась спиной к беседке, закрыла глаза и стала как пленку, отматывать время назад к позавчерашнему дню. Мне даже показалось, что и звук с визгом прокручивается в обратную сторону, как на старом катушечном магнитофоне, если перематывать пленку через головки звукоснимателя.
Позавчера. Позавчера…
Боже мой, как люблю этот типографский запах! Запах только что изданной книги. Моей книги. Для автора нет ничего приятнее этого запаха.
Я сидела за столиком на подиуме в одном из Московских книжных магазинов. И, утопая в подаренных букетах, окруженная своими восторженными читателями и почитателями, раздавала автографы.
Рядышком телевизионщики настраивали свои камеры, потому что в 15-00 должна была состояться пресс-конференция. Краешком глаза я увидела подъехавшего визажиста. После пресс-конференции меня ждал банкет по случаю юбилея. Я не скрываю свой возраст.
Мне 50. Полтинник. Круто.
Я стала писательницей, как и мечтала. И чувствовала себя как никогда молодой, здоровой и счастливой.
Может, и на премию какую-нибудь номинируют?
Тьфу, тьфу, тьфу…
* * *
Хотя я уже бабушка – сын подарил нам с мужем внучку. Однако быть просто бабушкой мне еще рано. Всему свое время.
А сегодня в продажу поступила моя новая книга, имеющая все шансы стать бестселлером. Она мне очень дорога, хотя бы тем, что начав писать ее лет в 18-20, я к своему юбилею не просто дописала ее, но и выпустила приличным тиражом. А до этого книга отдельными главами прошла по толстым журналам и имела успех.
За детектив, вышедший весной, ухватились киношники, и пришлось в течение месяца без сна и отдыха, практически не вылезая из своей беседки, писать сценарий для первых пяти серий фильма.
Глядя на мой пыл, муж прозвал меня Альфредой Хичкоковной.
* * *
Лето заканчивалось, а мне так мало довелось побыть на даче, и я мечтала поскорее улизнуть с банкета, чтобы поехать в Таганьково.
Но перед этим предстояло собрать в дорогу мужа. Через пару дней он улетал на Кубу. К Фиделю, который тогда еще был здоров.
Я не собиралась ехать с ним в Шереметьево, париться в пробке на Ленинградке. Леша сказал, что его отвезет служебная машина.
А я после всей этой суеты хотела наконец-то хорошенько выспаться, а утром рвануть на дачу.
Тряхнув головой, я вернулась в настоящее и допила остывший чай. Устала. Как же я устала от этой карусели событий, впечатлений и переживаний! И как хорошо, что встретила сегодня Митяя. У него есть удивительное свойство характера – умение расставить все по местам и успокоить. Иногда он напоминает мне мудрого Сфинкса.
Глава 4. Уж сколько лет прошло с разлуки...
В этот момент у ворот просигналила машина. Митька сдал смену и заехал ко мне, как и обещал. Я была очень рада ему, потому что, пожалуй, только с ним я могла, не стесняясь своих эмоций поговорить о вчерашней встрече с Женькой.
Общая наша подруга Алла уже давно живет в Монреале, мы общаемся через Интернет, и лишь раз в два года, когда она приезжает навестить родителей, у нас бывает несколько часов, чтобы поговорить о жизни.
Я принесла еще одну чашку, и мы расположились в моей любимой беседке.
– Нет повести печальнее на свете, – слегка улыбнулся Митяй, присаживаясь рядом и обнимая меня за плечи. – Ты что, замерзла? Тебя трясет! Не заболела, а? – он хотел накинуть на меня свой китель.
– Нет, не надо, – я провела рукой по плечам, на которые предусмотрительно надела пончо, – просто нервничаю. Ну, слушай.
Я вздохнула глубоко и начала свой рассказ, мысленно переносясь в день позавчерашний.
* * *
Улыбаясь каждому читателю, я уже минут пятнадцать подписывала книги и раздавала автографы. Посыльный появился перед столиком, за которым я сидела, как по моновению волшебной палочки. Вместе с корзиной цветов он протянул мне записку и сказал, что ждут ответа. Я с удивлением взяла цветы и листок, но прежде чем прочесть, обратила внимание на смуглую девушку, стоящую рядом с курьером и с неподдельным интересом разглядывающую меня. Что-то знакомое почудилось мне, однако я точно знала, что вижу ее впервые.
Холодок пробежал у меня по спине.
Я развернула записку, в ней была всего одна строчка: «Я буду ждать тебя сегодня вечером «Балчуге». И подпись: «Твой Женька».
Мой! Мой? С каких это пор? Это что, насмешка или надежда? На что?
В волнении я приложила руку ко лбу, он горел, будто у меня подскочила температура. Наверное, я красная как рак, хорошо же я выгляжу со стороны, да еще и телевизионщики здесь…
И надо было ему вновь возникнуть в моей жизни через столько лет! И вообще – откуда он знает, что я сегодня на презентации книги именно в этом магазине? Что делать? Нестись в «Балчуг»? А что я скажу мужу? Позволит ли он мне встретиться с Женькой? За прошедшие тридцать лет мы с Лешей ни разу не говорили о беглом моем женихе. Память о нем я похоронила глубоко в сердце. Счастливая жизнь с Лешей не давала мне поводов вспоминать и жалеть о том, что я потеряла. Если, вообще, это можно назвать потерей.
Видимо, я изменилась в лице, и девушка-менеджер, которая следила, чтобы не было лишней толчеи, забеспокоилась: «Душно? Выпейте холодной минералки. Или, может, сделаем перерыв на полчаса?»
– Да, пожалуй, – кивнула я, – минут через пять.
Что ответить Женьке? У меня от волнения голова шла кругом. Я взяла верхнюю книгу из стопки, открыла ее и просто поставила свою подпись и дату. 27 августа 2003 года. Словно гирьку перетянула на старых дачных ходиках.
Протянув книгу девушке, которая ждала ответа, я встала из-за столика с книгами, чтобы сделать перерыв. В висках стучало – тик-так, тик-так.
* * *
После банкета муж подвез меня к «Балчугу».
– Иди, ты должна с ним увидеться. Не просто же так он подгадал свой приезд именно к твоему дню рождения.
– Значит, ты знаешь, что он в Москве? – я посмотрела мужу в глаза.
– Забыла, где я работаю? К тому же он звонил мне, спрашивал разрешения на встречу. Иди! И не переживай, что я буду ревновать. Чтобы ни случилось, ты – моя женщина и только моя! Ну, иди же!
И вдруг я вспомнила ту записку, которую оставила мужу далеким октябрьским утром на подушке в Нью-йоркском отеле, и мне стало стыдно и жалко Лешку. Только бы не расплакаться, думала я, выбираясь из машины. Муж тоже вышел и обнял меня, поцеловал нежно за ушком: «Я с тобой и никому тебя не отдам! Иди!»
Я всегда ценила, что Леша меня понимает с полуслова и с полувзгляда, за что и люблю, и никогда в жизни не жалела, что осталась той душной июльской ночью в квартире на Фрунзенской.
Нет, не так.
Леха поймал меня за подол, когда я уже сделала шаг в бездну с Крымского моста.
* * *
Я подошла к портье и протянула свою визитку.
– Вас проводят в ресторан. Там Вас ждут.
Важный, как премьер-министр, метрдотель подвел меня к столику у окна.
Навстречу поднялся Женька. Это был он и не он. Чуть пополнел, виски подернулись сединой, а ямочки на щеках все те же. Но было в нем что-то, делающее его совсем другим. Наверное, цвет лица Нет, не наш, а тот, особенный, американский, свежий и слегка загоревший, и ярко-белозубая, как теперь принято говорить «голливудская» улыбка.
За столом сидела та самая смуглая девушка, что приходила сегодня утром в магазин. Она читала мою книгу и даже не подняла головы, пока Женька суетился, приветствуя меня.
Посередине стола стоял изящный полупрозрачный фарфоровый кувшинчик с букетиком васильков. Я не смогла удержаться от улыбки – не забыл...
Отодвинув для меня стул, Женька представил: «Вот, познакомься, моя дочь, Серафима. Фимочка, а это и есть моя подруга детства».
Я вздрогнула и замерла. Подруга? Он даже моего имени-отчества не назвал!
Девушка искусственно улыбнулась, посмотрев на меня исподлобья, еле заметно кивнула и снова углубилась в чтение, а Женька протянул мне меню и карту вин: «Выбирай!»
– Подожди, – хрипло от волнения сказала я. – Дай, посмотрю на тебя. Сколько же мы не виделись?..
Он осторожно и нежно взял меня за руку:
– Считай. Год 1972, год 2003.
Мне стало неловко, я осторожно высвободилась и не слишком естественно переспросила:
– Неужели 30 лет?
– Я еще приезжал в 91-ом за мамой, но у вас тут был путч, а у меня три дня на все про все. Документы были готовы, а задерживаться у вас тут было страшно.
Он смотрел пристально, словно проверяя, знаю ли я о его тогдашнем приезде.
– Я собирался бросить тебе письмо в почтовый ящик, но не смог тогда, не вышло…
– Почему?
– Да… так получилось.
Я не была уверена, что стала бы читать то неотправленное письмо. Тогда зачем я пришла сюда? Мне вдруг захотелось закурить. Только вот незадача, я не курю и даже для форса не ношу сигарет в своей сумочке.
– Как странно ты говоришь – у вас, у нас. Расскажи хоть, как вы там, – выдавила я из себя.
– Мы теперь вдвоем с Фимочкой в Нью-Йорке, – начал Женька, – мама и Нина Аркадьевна в частном пансионате в Сан-Диего, в Калифорнии.
Женька опять положил свою руку поверх моей. Это была чужая рука, влажная и холодная.
Я искоса взглянула на Фиму, она демонстративно глядела в окно. Осторожно я вытащила свою ладонь из-под его руки, сделала вид, что поправляю прическу и убрала руку под стол.
– А ты была в Нью-Йорке? Волшебный город! – проговорил Женька с энтузиазмом, но смотрел как-то странно.
– Не довелось, – на голубом глазу соврала я, заливаясь при этом краской. – Я Париж люблю.
Женька опустил глаза. Да, врать я не умею.
– Ну, а теперь рассказывай! Мне все про тебя… вас знать интересно! – фальшивым голосом попросила я, глядя в когда-то любимые, а теперь совсем чужие глаза.
Фима хмыкнула, посмотрела искоса, и опять углубилась в чтение.
– Серафима Евгеньевна, – строго сказал Женька, – что-то не так?
– Нет, Daddy, все нормально, – не поднимая головы от книги, сказала Фимочка.
– Знаешь, я ведь в Нью-Йорк не на пустое место ехал, – начал рассказывать Женька, – там у Льва Борисовича давно уже брат жил, Моисей. Он в 45-ом году на американской территории оказался, и когда американцы их лагерь освободили, у него раздумий не было – первым же пароходом в Штаты. Обосновался, дело свое завел – пекарню. Русский хлеб, «Бородинский». Американцы не едят такого, а наши без него не могут. Русских в Нью-Йорке знаешь сколько? Я Фимочке в прошлом году квартиру на Манхеттене купил – так там пол-улицы русских.
Фима искоса посмотрела на меня. Женька говорил и говорил, словно боялся – вдруг я задам ему какой-нибудь вопрос.
Вздохнув, он отхлебнул минералки и продолжил:
– Сначала у Моисея на Брайтоне жили. Да что там жили – ютились! Внизу магазинчик, а на втором этаже две комнатки и крошечная кухня.
Услышав про Брайтон и хлеб, я вздрогнула. Сделала вид, что закашлялась, и пригубила аперитив, который нам уже подали.
– Моисей взял меня к себе заместителем, сам-то уж старый, да после концлагеря ноги стали отниматься… Ну, я курсы специальные окончил. Стал заниматься закупками сырья. Сменил управляющего, кого-то уволил, кого-то нового взял. Дела пошли еще лучше, смог свой счет в банке открыть. Это хороший бизнес. Странно, конечно, сначала было, но со временем привык. Потом Фима родилась, дом свой купили. У меня сейчас шесть магазинов и офис на Манхеттене. Понимаешь, у меня здесь всего этого не было бы. Закончил бы свой МАИ и протирал штаны в какой-нибудь конторе.
Избитая фраза. Я улыбнулась. У него был такой странный акцент. Американо-еврейский. У чистопородного русского Женьки – такой акцент! Словно его кто-то дублирует.
– Ты что смеешься? – спросил Женька.
– Жень, ты разучился говорить по-русски.
– Это жизнь меня разучила, дорогая!
Он никогда не называл меня так. Я собралась с духом и сделала ему комплимент:
– А Фима-то копия ты, только чернявая, как мать.
Он гордо улыбнулся. Обнял Фиму за плечи: «Моя доченька!» Фима натянуто улыбнулась, стараясь не смотреть на меня. Так он Серафиму обнимал тридцать лет назад, в то далекое жаркое лето семьдесят второго года.
А я почему-то вспомнила как подташнивало меня тогда в Нью-Йорке рядом с обедающими на скамейке китайцами.
Я вздрогнула от неожиданного воспоминания.
А я-то, дурочка, беременная собиралась к нему бежать! Ну и что ж, что не знала? Осталась бы одна на улице и даже мой комитетчик Леша ничем бы мне не помог – если вообще захотел бы после всего этого помогать.
– Да, – сказал он, глядя на дочь с любовью, – сейчас чернявенькая, но когда родилась, кудряшки были золотисто-розовые – чистый ангелочек, поэтому и назвали тоже Серафимой. Это она годам к пяти темнеть начала. Они с матерью обожали друг друга. Сима и звала ее my Аngel – мой ангел.
Сима-Серафима… Фимочка. Фимка.
– Вы летите прямо в Нью-Йорк?
– Нет. Такой перелет мне теперь не по здоровью, мы и сюда с пересадками добирались. Люфтганзой – достойная компания. Мы сейчас до Амстердама, там возьму машину напрокат и прогуляемся по Европе: Кельн, Вена, Париж, Канн и Марсель. А из Марселя уже домой на круизном лайнере. Фимочка так хочет. В Париже немного задержимся, через год там будет выставка, я должен оставить заявку на участие. Кстати, как тебе Париж?
«Господи! Какой Париж!» – чуть не заплакала я. Он что, ничего не понимает? Не слышит, как бьется мое обиженное сердце? Или просто не хочет слышать?
«Уже домой», «Фимочка так хочет»! Женька сидел рядом, но его не было здесь. Он был где-то далеко, на Манхеттене, в своем офисе. Да и то сказать, тридцать лет он прожил там. Тридцать лет! Как одна минута.
Я закрыла глаза и будто услышала шум Нью-Йорка в ту последнюю ночь перед нашим отлетом домой. Так явственно услышала, что захотелось заткнуть уши. Кровь прилила к моим щекам. Я уже не знала, рада ли Женькиному приезду…
Тридцать лет! Целая жизнь. И у каждого – своя. Кто сидит напротив меня? Друг детства? Первая любовь? Фантом, перелетевший через океан? Нет, это мой сбежавший жених. Вальяжно так сидит и складно вещает. И костюм дорогой, темно-синий с искоркой. Дорогая рубаха, запонки золотые с брильянтами. Жених! Словно свататься прилетел… «Бояре, а мы к вам пришли!»
Встать и уйти? И сказать ему по-английски: «The end, sir»?
Но в самой глубине моего сердца что-то пульсировало на тоненькой ниточке. Что держит меня рядом с этим человеком? Любовь, омытая слезами и пропахшая нафталином? Боязнь обидеть Женьку?
А он ведь тогда не побоялся. Бросил институт, дом, Родину свою бросил. Да что там Родина? Он бросил меня! Этого одного уже достаточно.
Это было давно.
Это было вчера .
* * *
Женька все говорил и говорил, не спрашивая меня ни о чем. Я ждала и боялась его вопросов. Зря. Похоже, он и не собирался ни о чем меня расспрашивать. Он вытащил сигару, но, перехватив взгляд дочери, убрал ее обратно в карман.
– Знаешь, я клятву свою нарушил…
– Мне ли не знать, – я горько усмехнулась.
– Я не об этом…
– Не об этом – о чем? – я начинала злиться.
– Не о свадьбе нашей.
Фима захлопнула книжку и напряглась.
– Я, когда уезжал из Таганьково, сам себе поклялся, что никогда туда не вернусь. Не хотел тебе говорить, но молчать сил нет. Позапрошлую ночь я был в Таганьково, приезжал попрощаться с проданным домом, клятву свою нарушил. Целый час курил Беломор, облокотившись на покосившуюся калитку. Пока шофер не окликнул меня, сказал, что уже светает.
– Папа! Как ты мог? Ты маме обещал! – голос у Фимы дрожал.
Женька, мельком взглянув на дочь, замолк.
– А я вот больной совсем стал, – продолжил он через несколько секунд, тяжело вздыхая, – два раза шунтирование делал. У меня страховка хорошая, обошлось не так дорого… Знаешь, Фима – единственное, что держит меня в этой жизни, – он нежно посмотрел на дочь. – Ей двадцать три в апреле стукнуло. В Йельском университете учится, на актерском отделении, чтобы Симочкину мечту исполнить.
– А почему Серафима не прилетела? Зазналась? – не сдержала я свой острый язык.
Женька умолк, словно тень на лицо упала.
Ведь сто раз давала себе слово, лишнего не болтать! Этот вопрос мне нельзя было задавать, и не задать его я тоже не могла. Серафима ведь имела право просто отказаться от поездки, может, она раз и навсегда вычеркнула из жизни и Москву, и тем более, меня. А дочку вместе с отцом отправила, чтоб приглядывала. Нет, не так. Чтоб шпионила и представила полный отчет. С подписью и печатью.
Тьфу! Что за мерзости в голову лезут!
Женька опять достал сигару, покрутил ее в пальцах, но столкнувшись взглядом с Фимой, раскуривать ее не стал.
– Серафима… она вначале устроилась костюмером в русский театр, – ответил после долгой паузы Женька. – Потом, когда Фимочка пошла в школу и деньги появились свободные, открыла турбюро – водила русских туристов на башни-близнецы, их только тогда построили. Рано утром, пока не повис смог, оттуда было видно весь город и залив, в котором отражается солнце и статуя Свободы.
Женька опять умолк, было заметно, что говорит он через силу.
– Жень, тебе что, плохо? Может доктора позвать? – испугалась я.
Он положил какую-то таблетку под язык и сказал: «Спасибо, не надо». Сказал таким тоном, что я поняла – этого Женьку я не знаю.
В это время нам принесли чудесное красное чилийское вино и фруктовый салат, а Фиме какой-то особенный фирменный десерт, украшенный земляникой.
Помолчав, Женька надтреснутым голосом заговорил:
– В тот день, 11-го, в 7-45 Симочка повела группу на Северную башню. Они уже были у выхода на смотровую площадку, когда… Их нашли потом, всех… Они лежали между бетонными плитами, с виду невредимые, но… ни одного живого… На опознании я увидел, что у Симочки волосы белые… Она поседела за несколько минут… Она ведь успела позвонить, но я услышал только: «Прощайте…» и связь оборвалась… Она так и лежала с телефоном в руке… Вдовец я теперь, Иришка. Совсем один… А Фима тогда сразу переехала в университетское общежитие. Конечно, там ведь молодежь...
По его щеке скатилась одинокая слеза, а я с раздражением подумала: «На жалость давит».
Мне вспомнилась давнишняя драка с Симкой, когда мы катались, сцепившись по-кошачьи в пыли деревенской улицы, и тот ее взгляд куда-то в вечность. Я не могла поверить, что Симка погибла в этом жутком теракте.
– Жень, извини, мы же о вас ничего здесь не знали...
Фима уронила голову на руки и заплакала, как маленькая. Вряд ли она знала, кто такие «мы». Наверное, мать отгораживала ее от лишней информации.
Книга, которую отшвырнула девушка, задела креманку, она упала и разбилась. Ягоды раскатились по белоснежной скатерти, оставляя яркие, словно кровяные, следы.
Женька жестом подозвал метрдотеля и, сунув ему в карман несколько сотенных купюр, попросил:
– Проводите, пожалуйста, девушку в номер и вызовите врача.
Мэтр наклонил голову в знак благодарности, взял Фиму под локоток и увел из ресторана.
«Значит у девочки те же проблемы, что были у покойной матери», – подумала я. Впрочем, меня чужие проблемы касаться не должны.
– Фима не была на опознании, но их ведь там всех фотографировали… Когда она нашла эту фотографию в моих бумагах, с ней случилась настоящая истерика... Она обожала мать, – Женька тяжело вздохнул и продолжил уже другим тоном: – Первого числа мы улетаем. Больше мы не прилетим сюда. Мне доктор после инфаркта вообще советовал всякие перелеты ограничить.
– Сюда? – у меня даже виски заломило от того, что он говорил. – Здесь твоя Родина, почему ты так говоришь – сюда?..
– Кроме тебя ничего и никого здесь для меня нет, но у тебя своя жизнь – муж, сын… Я очень рад за тебя, честно. Я ведь все книги твои прочитал. А помнишь мой рюкзак? Я его не выбросил, запрятал на антресоли в гараже. Там... галстук свадебный, помнишь?
Пытаясь выдавить из себя улыбку, я опять пригубила вина. Не могла же я признаться, что мои свадебные туфли, которые мы покупали вместе, спрятаны в старой тумбе на чердаке в Таганьково. Сжечь их пора. Давно пора…
А Женька продолжал:
На кладбище место для меня есть, рядом с Серафимой. Я часто прихожу туда. Руку положу на плиту надгробную, а мрамор – словно лед… И она там… но ей уже не холодно… Она ведь очень страдала, переживая со мной все мои мучения и метания. И ни разу не попрекнула… Тело мое было там, но сердце оставалось здесь, с тобой. Потому так и болит…
Я вздрогнула и… не поверила. А Женька продолжал:
– Умирать не страшно, страшно, что Фимочка останется одна. Бабушки в пансионате, в Калифорнии, но за ними самими нужен уход, they both already lost their minds, – вдруг перешел он на английский, но тут же извинился: – Прости, обе впали в маразм. Я их проживание оплатил за три года вперед, на всякий случай. А мне, знаешь, мне ведь совсем недолго осталось…
Он смотрел куда-то поверх меня, словно увидел что-то такое, чего мне не понять.
Чтобы скрыть неловкость момента, я опять отпила из бокала и, поставив его на стол, спросила как можно спокойнее:
– Когда у вас вылет? – но тут же опомнилась. – Господи, что я говорю! Ты ведь продал дом! Словно пуповину перерезал! Зачем? Мог бы вернуться…
– Зачем? Я там хочу лежать, рядом с ней.
– Но здесь, в Матвейково, твой отец.
– Была эксгумация. Мы его кремировали, и я получил разрешение на вывоз урны. Так мама просила.
– Но дом… дом?
Женька ответил вопросом на вопрос:
– Ты приедешь в Домодедово?
– Не знаю. Вызови мне такси, пожалуйста. Я без машины.
– Подожди! Я прилетел сюда, чтобы покаяться и попросить прощения. Я умереть без твоего прощения боюсь. И я еще не все сказал тебе.
Я не могла скрыть своего удивления. Что еще есть, чего я не знаю? Или я вообще ничего не знаю?
Писательница… Ну, просто роман пиши. Смех!
Рыдать хочется.
Мне вдруг стало душно в неживой кондиционированной прохладе ресторанного зала. В висках стучали тысячи молоточков.
– Знаешь, – Женька смотрел мне прямо в глаза, – я ведь видел тебя тогда в Нью-Йорке, осенью семьдесят девятого. Ты хотела зайти в наш магазин.
– Там было много магазинов, – проговорилась я.
– Вспомни, «Маркусевич и брат. Русский хлеб». Почему ты сказала, что не была в Нью-Йорке?
– А почему я должна тебе исповедоваться? На священника ты не тянешь.
Он опять взял мою руку, но сжал крепко и не отпустил.
О, Господи! Перед моим мысленным взором встала витрина: самовар, бублики, каравай на салфетке. Табличка на двери: «Closed» – закрыто. И чей-то взгляд сквозь пластинки жалюзи. Значит, это был Женька, я нашла его в этом чужом сумасшедшем городе… Нашла и потеряла уже навсегда.
– Ты искала меня? Я видел тебя сквозь жалюзи. Это было как удар молнии – ты в Нью-Йорке, и ты нашла меня! Я выхватил из-под кровати свой рюкзак и спустился на первый этаж. Там была Симочка, она тоже видела тебя и закрыла магазин. Она легла на пол, перегородив мне выход. А когда ты уехала на такси, ей стало плохо и пришлось вызывать службу спасения. Я испугался, подумав, что она может потерять ребенка… Фиму, мою девочку… Трус я и предатель. Жить с этим очень тяжело, так тяжело, что больше не могу…
– А если бы она не задержала тебя?
Он ответил не сразу, тяжело вздохнул:
– Если… Мне было очень плохо тогда, но перешагнуть через нее я не смог. А мне так хотелось бежать, чтобы догнать такси, на котором ты уехала. Но номер машины я запомнил, послал своего помощника, Матвея, и уже через два часа знал, где вы остановились.Букет в отель тебе прислал я. Извини, васильков в это время в Нью-Йорке не купишь.
Я раскрыла сумочку и вытащила заламинированный цветок из того букета. Он все эти годы лежал у меня в потайном кармашке на дне сумки. Женька взял кусочек пластика, повертел в пальцах, потом вернул мне с вопросом:
– Ты приедешь в аэропорт?
– Не знаю, – повторила я, – вызови такси, пожалуйста. Я без машины.
Я не могла продолжать разговор, это стало казаться бессмысленным. Он струсил тогда. И сердце его не со мной, и мысли только о том, как он рядом с ней на кладбище лежать будет.
Мне не хватало воздуха, к горлу вдруг подступила тошнота. Даже мертвая, Серафима была мне неприятна. С трудом взяв себя в руки, я мысленно сказала: «Прости меня, Симка!», поднялась, и пошла к выходу. Женька бросился за мной, пытаясь удержать, но я высвободила руку и торопливо покинула ресторан. Он вышел на улицу вместе со мной и взмахнул рукой, подзывая свободное такси.
Но в этот момент, подрезав подъезжающую машину, из августовских сумерек выскочил мой желтый кабриолет, за рулем сидел Леша. Он быстро вышел, оттеснил Женьку и открыл мне дверцу машины. Я даже не успела сказать «до свидания», как Леша рванул с места, на ходу поднимая крышу кабриолета. А я уткнулась в бардачок и зарыдала. Даже не помню, как мы ехали. Очнулась я уже в постели.
Когда я проснулась утром, то долго не открывала глаза. За окном шелестел уже совсем по-осеннему грустный дождь. За завтраком муж сказал, что всю ночь я бредила.
* * *
– Вот такие сказки, – закончила я свой рассказ притихшему Митяю.
– А что было в той записке, которую ты оставила Лехе в отеле? – спросил Митяй.
Шершавым, прилипающим к небу языком я прошелестела: «Я очень люблю тебя, но если я не вернусь к ночи, не ищи меня, я остаюсь в Нью-Йорке».
– Да-а-а... Я всегда знал, что ты – авантюристка, но чтоб так...
– Не знаю, что Леша с этой запиской сделал, но он ни разу в жизни не попрекнул меня. С комплексом вины не очень сладко живется.
– Леху тебе точно Бог послал, – покивал Митька.
Я закрыла лицо руками и всхлипнула.
– Что мне делать, Митяй?
Глава 5. Август 1991 г
– Нет, одним чаем тут не обойдешся, – Митяй поднялся и направился к своей машине.
Когда я вернулась с террасы, на столе стояла бутылочка Бейлиса и два пластиковых стакана.
Митяй протянул мне стаканчик:
– А теперь послушай меня, мадам писательница. Ты ведь тоже многого не знаешь, но видно пришло тебе время обо всем узнать…
Честно сказать, я не была уверена, нужны ли мне эти покрытые пылью времени новости. Я закрыла глаза и тихо сказала:
– Говори, не томи... Чего я не знаю?
– Ты помнишь то лето, когда в первый раз Алла прилетала из Монреаля?
Еще бы я не помнила! Словно вчера это было. Отпуск, как известно, пролетает одним днем. Фук – и нет его. Вот и Алла побыла в Москве вроде бы совсем недолго и собралась уезжать.
Было раннее августовское воскресное утро. Мы собрались тремя семьями на свое заветное место на Москве-реке. Оставили свои Жигули-копейки у знакомых в соседнем селе Иславском и двинулись в путь по краю неглубокого овражка на опушке леса.
В былые годы на его склоне после дождя можно было набрать небольшую корзинку белых и подосиновиков, но в то засушливое и жаркое лето склон овражка превратился в серый блестящий камень, с выступающими корнями берез и елей. Иногда среди пожухлой травы попадались мумифицировавшиеся на солнце сыроежки и лисички. Ноги скользили по засохшей траве и иногда, не удержавшись, я съезжала одной ногой на дно овражка, где оставалась хоть какая-то влага. Хрустел под ногами огуречник. Мотнув своей кудрявой белой головой, он распространял приторно-сладкий запах, вспугивая целое облачко августовских мушек, лакомящихся настоянным как хорошее вино нектаром.
Поле, по краю которого мы шли, было подернуто серебристым туманом, но поднимающееся солнце постепенно выжигало его, делая похожим на обрывки ваты. Ребятишки болтались под ногами и Митька, на правах старшего, скомандовал: «Дети и собаки – вперед!»
Наши с Аллой сыновья захихикали, а Митькина дочка сломала березовую веточку и пошла впереди, играя с отцовским псом. Климка залился радостным лаем от знакомой команды и побежал первым по хорошо известной ему дороге. Девочка шла и шла следом за ним, и лишь когда дорожка делала изгиб, оборачивалась к отцу и спрашивала кивком головы: куда дальше?
– Клим, веди!
Климка делал несколько восторженных прыжков, и мы устремлялись за ним. Тропинка привела нас на высокий берег Москвы-реки, делающей петлю в этом месте. На нашем берегу был чудесный песчаный пляж, песочек на нем мелкий и светлый. На высоком берегу – только сосны. Под ногами иголки вперемежку с песком. Мы с визгом съехали по покрытому сосновой хвоей склону к небольшому заливу. А Клим уже носился по мелководью с восторженным лаем и какой-то палкой в зубах. Здесь, в прогретом солнышком мелководье, из-под ног прыскали в разные стороны верхоплавки. Привязанная у берега старая облупившаяся лодка скрипела и звякала цепью, намотанной на вбитый кол. В кустах стояла сараюшка, принадлежавшая местному лодочнику. По выходным он катал отдыхающих с пляжа у Николиной горы, который расположен ниже по течению. Остро пахло влажным речным песком и тиной.
Дети принялись строить какую-то крепость у края воды, наши мужчины занялись шашлыками, причмокивая и поливая их белым сухим вином, а мы с Аллой и Митькиной женой Светой болтали о всяких женских пустяках.
Потом купались и сидели на бревне у самой воды, поедая тающие во рту шашлыки.
– Лепота, – мечтательно выдал Митька.
– Лепота! – вздохнули мы хором.
– Жаль, пора уже домой, – с грустью в голосе тихо сказала Алла, – в час ночи у нас самолет из Шереметьева.
Перед уходом с пляжа мы сфотографировались на Полароид и подписали на каждой фотографии дату, чтоб не забыть потом.
Уже вечером, проводив Аллу и уложив сына спать, мы с Лешей пили чай в беседке. Назавтра мы собирались в «Детский Мир» – надо было подготовить сына к школе, он шел в пятый класс.
Неожиданно на ступеньках беседки прямо из темноты возник водитель Лешиной служебной машины.
– Добрый вечер! Алексей Леонидович, приказано доставить вас на службу.
– А что случилось?
– Не могу знать. Велено доставить, и все.
– Саша, вы чаю попьете? – предложила я.
– Спасибо, не могу. Велено как можно быстрее.
Леша даже в дом не стал заходить, прямиком направился к автомобилю, я едва успела обнять и поцеловать его на прощанье. Машина сорвалась с места, и вскоре красные габаритные огоньки растаяли в темноте.
Меня отчего-то мучило беспокойство, и уснуть удалось лишь под утро. Мне показалось, что я только глаза смежила, когда под окном просигналила машина. В одной ночной рубашке я выскочила на улицу. По дорожке от калитки ко мне бежал Митька, на ходу застегивая свой ментовский галстук. При виде его у меня сердце опустилось.
– Что-то с Лешей?! – закричала я.
Митька схватил меня за плечи:
– Слушай сюда! В Москве путч. Из дома носа не показывать, окна закрыть, калитки запереть. Слушать радио! Но из дома – ни шагу, малого запри, бабуля пусть телевизор смотрит!
– Что с Лешей? Что такое путч?
– Переворот, революция, власть меняется! У Леши все нормально. Дежурный, который меня вызывал по рации, передал, что он велел тебе сидеть дома. Ты меня поняла?
– Война? – очумело прошептала я. Этого слова я, родившаяся через несколько лет после войны, очень боялась.
– Нет, пока еще не война… А там – кто знает…
И он побежал к машине.
Ошарашенная известием, я поднялась на террасу, заперла дверь на ключ, задвинула засов и взглянула на часы. Пять утра. Подойдя к бабушкиному Православному численнику, я оторвала листок со вчерашней датой. На новом листке было написано предельно ясно. Понедельник. 19 августа. Одна тысяча девятьсот девяносто первый год.
Преображение Господне.
Я подняла трубку старого черного телефона. Гудка не было, только треск, и вдруг сквозь него строгий голос сказал: «Положите трубку, связь прервана».
Трубка выпала у меня из рук, да так и осталась болтаться на шнуре. И только ходики в полной тишине тикали, словно метроном в радиоприемнике.
Тик – так. Вот так.
* * *
Я прикрыла глаза рукой.
– Ну вот, вспомнила, и сразу плакать, – Митька погладил меня по голове.
– Знаешь, как нам страшно тут было! Ведь кругом дачи правительственные. Мама рассказывала, что в войну на огороде зенитки стояли, и окоп был в переулке между нашими домами.
– Ну, хватит слез, слушай дальше. С некоторых пор я стал фаталистом. Казалось бы, встретиться в сумасшедшей толпе, где иностранцы, тетки с плакатами, обкуренная молодежь и танки – нереально. Но, как твоя бабуля-то говорит: «Мы предполагаем, а Господь располагает». Так вот нам судьба была встретиться, может, поэтому и живыми остались. Встретились мы на развилке, где Кутузовка и Дорогомиловская сходятся. Твой шагал в штатском к Белому дому… Я-то, как танки увидел на Можайке, так тоже переоделся, хорошо, что догадался спортивный костюм в багажник кинуть. Машину припарковал у станции Кунцево, у линейного отдела, и пошел пешком. Голову хотелось в плечи втянуть, тогда из-за любого угла или с крыши можно было пулю в лоб получить. Там везде снайперы сидели. Не знала? Просто не говорят об этом. Это, мадам писательница, реалии жизни, от которых муж твой тебя ревниво оберегает. Ну, да ладно…
Мы старались не потеряться в той сумасшедшей толпе. И вдруг слышу знакомый голос, я не сразу сообразил, чей он, только Лехину руку крепко за локоть схватил. Обернулся, а на танке, в сдвинутом на затылок шлемофоне… Женька! И флагом американским размахивает – свобода, свобода! И хохочет. Дурак, думаю – точно, крыша уехала. «Смотри, – дергаю Леху, – вот он, Женька… Американец, ешкин кот» У Лехи аж желваки на скулах заходили. А Женька продолжает вопить: «Митяй, свобода!»
Я его с танка стащил. Документы, говорю, предъявите. Он паспорт свой американский протягивает. «Че ты, Митяй, – говорит, – это ж я, Женька!»
Леха под нос ему свое комитетское удостоверение: «Обыскать!» «Дурак ты, – говорю я Женьке тихо, – это ж Иркин муж, он комитетчик». Женька так и обмяк. Я его обыскал и во внутреннем кармане пиджака письмо нашел на твой адрес. Тебе. Леха письмо отобрал, вскрыл и стал читать. Вижу, глаза у него на лоб лезут.
И тут он разворачивается и со всей дури бьет Женьке в пятак, и руки заламывает. Потом вытащил его из толпы, нашел своих комитетских… Короче, сдал он его. Конечно, из американского посольства подсуетились, вызволили Женьку, однако по настоятельной рекомендации Конторы он в тот же день улетел… Что в письме было, я не знаю. Леха твой язык за зубами держать умеет. Но, если разрешил тебе в Балчуг ехать… Наберись сил, подруга, прости Женьку, а то потом сама жалеть будешь и локти кусать. Это он только хорохорится, а, на самом деле, несладко ему было все эти тридцать лет.
Мы сидели под совершенно черным августовским небом, усыпанным мириадами звезд, прихлебывали ликер и молчали. И каждый знал, о чем молчит сидящий рядом…
За лесом заворчала гроза. Подул ветерок, пахнущий дождем. Пора было расходиться по домам.
– А твой-то где? – спросил Митяй.
– На Кубу улетел, прежние связи восстанавливать. Помнишь: «Viva Cuba! Viva Fidel!» – я вскинула кулак в приветствии, Митяй ответил мне тем же, как в далеком пионерском детстве.
«Слышишь чеканный шаг? Это идут барбудос! Песня летит над планетой звеня – Куба любовь моя!» – маршировали мы теми давними вечерами.
Мы пропели, и я улыбнулась. Митька нежно вытер мои глаза своими жесткими ментовскими ладонями и сказал:
– Пообещай, что реветь не станешь, а то я тебя знаю, у тебя слезы близко.
– Ага, – кивнула я.
Глава 6. Волчехвостск
Пока я убирала посуду, гроза грохотала все ближе к беседке. Она ходила где-то рядом, сверкала молниями, словно пугала. Внезапные порывы ветра сбивали поспевшие яблоки, и вскоре на коричневых плитках дорожки стали возникать маленькие темные пятнышки от дождевых капель.
Гроза поворчала еще немножко, сверкнула пару раз особенно ярко и ушла, оставив тихий дождик шуршать по шиферной крыше.
Я хотела немного почитать на ночь, но шелест дождя убаюкивал, глаза слипались. Чуть шевелилась тюлевая занавеска на приоткрытом окне, да иногда раздавался стук то ли яблока, то ли сливы, ветки которых нависали над крышей террасы. Ночь, уже достаточно прохладная, окутывала меня звуками и ароматами, словно укачивая в уютной колыбели. Но память, которую разбередил разговор с Митяем, подкидывала мне все новые воспоминания. Уже в полусне представилось мне то лето, когда уезжал Женька.
* * *
Ехать второй год подряд со стройотрядом мне не хотелось, и после сессии мы с Аллой, нашей общей с Женькой дачной подругой, рванули в Судак. Так захотела Алла, потому что я лично Крым не очень люблю, но спорить не стала. Судак, Гагра, Анапа – тогда мне было все едино.
Хоть в Волчехвостск, лишь бы подальше от Москвы!
Мои скорые сборы и отъезд напоминал мне прочитанные у Брэма красочные описания бегства доисторических животных от наступающих ледников. Мною руководило животное чувство самосохранения. А в голове стучало – бежать, бежать, бежать! Это было паническим бегством крестоносцев, оставшихся в живых после Грюнвальдской битвы. И, если быть совсем уж точной в исторических параллелях, я чувствовала себя тевтонским рыцарем, который, провалившись под лед Ладожского озера, примерзая к своим железным латам в ледяной воде, уже почти коснулся дна.
Вот такая история с географией.
Я бежала от самой себя, по юности лет не понимая, что от себя убежать невозможно.
Мама не хотела отпускать меня.
– Как это вы поедете одни? Две девчонки-пигалицы!
– Мама! Мне почти уже 20 лет!
– Двадцать! Какая прелесть! Один ненормальный женится на еврейке и уезжает в США, в то время как отец его лежит от этой новости с инсультом – другая бежит на край света!
Лучше бы она этого не говорила, милая моя мама. Потому что после этих слов я твердо решила, что уеду. Пусть даже мне придется идти пешком по шпалам до самого Крыма, если родители не дадут денег на поездку.
Но мы с Аллой все-таки уехали. Я заставляла себя не думать о том, что там происходит в Москве. Но отмахнуться от мучительных, изматывающих мозг и сердце мыслей мне плохо удавалось.
* * *
А в Москве вовсю шли приготовления к свадьбе и к скорому отъезду в эмиграцию. Квартира Симкиных родителей была уже почти пуста, мебель продали, спали на полу, на матрасах. В углу стояли три коробки разрешенного на вывоз веса, заполненные кое-какой одежкой, фотографиями и дорогим сердцу Симкиной мамы хрусталем. Рядом сиротливо притулился полупустой Женькин рюкзак, на дне которого среди трусов и маек перекатывались давнишние рябиновые бусы, усохшие до костяшек.
Моисей прислал телеграмму, чтоб больших узлов не вязали. На таможне всех евреев трясут так, что не приведи Бог! Не посмотрят, что Женька чистых кровей русский. Ох, время-времечко!
Как далеко я была тогда от всего этого! Спортсменка, комсомолка, красавица и староста группы в институте.
* * *
Посреди комнаты на табуретке в свадебном платье стояла Серафима. Нина Аркадьевна ползала вокруг с коробочкой булавок и выравнивала подол.
Женя со Львом Борисовичем сидели на кухне за шахматами. Жениха в комнату не пускали, потому что это примета плохая – до свадьбы невесту в платье видеть.
– Мама, ну, сколько ты еще будешь меня колоть? – капризничала Серафима.
– Детонька, ну потерпи чуть-чуть. Завтра Лева с Женей уйдут в синагогу, что бы все уладить с хупой, мы успеем дошить.
– Ну, зачем идти в синагогу? Разве нужно обязательно хупу, а просто свадьбу нельзя? – голос Серафимы дрожал, вот-вот заплачет.
– Детонька, ну что ты говоришь! Вы с ним должны быть одной веры! А в загс ведь все равно пойдете, иначе кто бы твоего Женьку из страны выпустил?
– Женя! – позвала Фима, – сходи на рынок, купи малины.
– Сейчас, лапушка, – крикнул Женька, – уже бегу и шлю тебе сто тысяч поцелуев!
С кухни вышел Лев Борисович с очками на лбу.
– Ромео! – вздохнул он, входя в комнату, где дошивала свадебное платье Нина Аркадьевна, – Фимка, цени – парень тебе золотой достался! Терпеть все твои выкрутасы... Другой давно бы сбежал, а он тебе в рот смотрит. Думаю, раввину Евгений понравится.
– Он берет пример с вас, папа.
– Лева, не нервируй девочку, лучше пойди селедочку почисти. Я на ужин форшмак сделаю.
– Нина, дорогуша, у тебя где-то была четвертинка или мерзавчик? Хоть нервы успокою. А потом селедку почищу.
– С каких пор ты пьешь, Лева?
– С Великой Отечественной, радость моя, – вкрадчиво сказал Лев Борисович и, повысив голос, добавил, – Ты же знаешь, что в рот не беру! Сколько можно возиться с этим платьем?
– Но наша девочка должна быть самой красивой! А то скажут, что дочка Льва Борисовича и Нины Аркадьевны была одета кое-как.
– Кто скажет, Нина? Мы уезжаем, или ты забыла?
– Папа, а когда нам получать паспорта?
– Как придет приглашение от Моисея. Думаю, на днях. Нам билеты продадут только с его приглашением.
– Глупость какая! – фыркнула Серафима.
– В этой стране все глупость, – сказал отец.
– Лева, я тебя умоляю, услышат соседи.
Хлопнула входная дверь.
– Симушок, малинка приехала! И у меня сюрприз, – послышался Женькин голос.
В комнату заглянула Татьяна Сергеевна, Женина мама.
– День вам добрый! Я к вам с гостинцами. Вот картошки молодой с утра на даче подкопала, да бабуля целую сумку грушовки прислала.
– Как там Алексей Егорович? – поинтересовался Лев Борисович.
– Спасибо, доктор сказал – вроде лучше. Не очень обширный инсульт был. Слава богу, параличей нет.
– Нина, – спросил Лев Борисович у жены, – а Феликс, племянник твой, он часом не сосудистый хирург?
– Точно, Левушка, позвони-ка ему. Пусть зайдет, посмотрит.
– Ой, Ниночка Аркадьевна, добрейшая Вы женщина! Ну-ка, сынок, пойдем ужин готовить.
* * *
Алла из кожи вон лезла, только бы я не думала о Женьке.
В один из первых дней в Судаке Алла затащила меня на ночную морскую экскурсию. Полная луна была нереально большой, она занимала полнеба, и катер шел прямо туда, где Луна касалась воды. Я смотрела на море, крутила в руках камушек, еще днем подобранный на пляже. Вдруг он выскользнул из моих рук и бесшумно канул в воду, а у меня появилось неодолимое желание отправиться вслед за ним. Хорошо, что внимательная подружка почувствовала это и увела меня с палубы, да так и держала за руку, пока мы не сошли обратно на берег. Алла таскала меня по Генуэзской крепости, водила по каким-то тропам в окрестных Судакских горах. Заставляла искать спрятавшиеся в листьях мелкие и ужасно кислые виноградные кисти. Силой затаскивала меня в море и всячески старалась как-то переключить меня на другие мысли.
А их не было – других мыслей. Просто вообще не было, никаких. Лишь одна, словно комар, жужжащий у виска: «Женька уезжает, и я его больше никогда не увижу». Это сводило меня с ума, и я бредила ночами.
Все мои мечты разбились в прах. С кем я буду ездить на желанном желтом кабриолете по родной Рублевке? И о чем я напишу в своем романе, который хотела посвятить первому поцелую? Самому первому, которого у нас с Женькой так и не случилось, кроме неуклюжего тыканья носами в щеку вечером на дачном чердаке. Ведь это Женьке я мечтала подаритьсвой первый девичий поцелуй. А он… «Нет, – дала я себе зарок, – никогда и ни с кем я не стану целоваться!» Слезы наворачивались на глаза, когда я думала об этом.
Так о чем же будет тогда мой роман? Может, о том, что в опостылевшем всего за десять дней южном городке мне не стало легче? Что море казалось ледяным, а брызги его напоминали вкус английской соли? Что даже похожий на Паниковского старый хромой фотограф с набережной раздражал меня, всегда такую спокойную и невозмутимую. На плече фотографа сидела обезьянка, норовившая что-нибудь стащить из кармана. Я пыталась шлепнуть ее по попе за то, что она выхватила у меня мороженное, но противная ушастая тварь больно укусила меня за мизинец.
Вот такой сомнамбулой, отказавшись идти купаться с подругой, я уселась под шелковицей на скамеечку и, незаметно для себя съела Бог знает сколько ягод с дерева. Ночью мне стало плохо.
Добрая украинка, у которой мы снимали комнату, отпаивала меня чаем, а меня все выворачивало и выворачивало. Она побежала и привела дежурного врача из санатория ВВС, на чьей территории находился ее домик. Доктор о чем-то спрашивал меня, но я лишь бредила. На докторе была клетчатая рубаха. Точно такая, как у Женьки. В бреду мне казалось, что это он сидит рядом. Я тянула к нему руки и пыталась что-то сказать, но вместо слов только стонала.
Старый военврач просидел со мной почти до утра и ушел только когда я, обессилившая от рвоты, стала засыпать. Алла пыталась положить ему деньги в карман, он отказывался, но потом взял, разгладил и аккуратно положил червонец в нагрудный карман рубахи.
Доктор ушел, но по его глазам я поняла, что я не поправлюсь, пока буду страдать.
Под утро мне приснился Женька. Он стоял перед зеркалом в свадебном костюме и держал в руках букет галстуков.
– Ир, – сказал он мне, – как ты думаешь, какой лучше подойдет?
Утром я пересказала сон Алле.
– Ты точно дурочка, – сердито ответила мне подруга, – да забудь ты его! Не будь размазней! Я посижу с тобой, постарайся уснуть. Может, чаю принести?
– Нет, спасибо. Ты иди, иди на пляж. Мне уже лучше, что ж ты день будешь терять? Погода хорошая…
– Ты, правда, не обидишься, если я уйду?
Я кивнула головой и закрыла глаза.
Алла вышла из комнаты. А я лежала пластом, и даже слез не было.
Через час, а может и больше, ко мне заглянула хозяйка, у которой мы снимали комнату. Она села рядом и положила руку мне на лоб.
– Доню, – заговорила она по-украински, – доню… Ни един чоловик не стоит твоих слезив… Поплачь, доню, поплачь…Слезоньки серце омиють…
Отлежавшись два дня я, без особой надежды, побрела в авиакассу менять билет на Москву. Мне повезло, – в это отпускное время чудом остался один-единственный непроданный билет на ближайший рейс.
Я понимала, что Алла обидится, но мне было все равно. Я тогда была – не я. Или, может быть, именно я? Мама всегда говорит, что я – упрямая. Кому оно сейчас нужно, мое упрямство? Женьке, который, наверное, уже вертится перед зеркалом в свадебном костюме? Алке, которой я испортила такую желанную поездку в любимый ею Судак? Мне самой, сбежавшей из Москвы, а теперь готовой любой ценой вернуться обратно?
У меня по жизни так – уж если чего задумала, то мне плевать, что там будут думать остальные.
Новый билет был на 17 июля. Это был день Женькиной свадьбы. Или это был какой-то знак моей судьбы или крушение оставшихся надежд. Крошечных, но все-таки надежд. Наивных надежд брошенной невесты.
В 4 часа утра я села в Симферопольский автобус. Другого рейса в тот день не было, а мой самолет на Москву вылетал только в 23-30.
День выдался жарким, да еще купить воды негде. В буфете только горячий кофе, а пить сырую воду из-под крана в туалете аэропорта я не решилась.
Стеклянная кубышка здания симферопольского аэропорта напоминала парилку, однако на улице было еще хуже. Я сидела в кресле, зажав коленями свой чемодан и обхватив голову руками, чтобы ничего не видеть и не слышать. Кто-то тронул меня за локоть. Это была цыганка в узбекской тюбетейке, сидевшая напротив с малышом на руках.
– Шито, плохо тебе, пить хочешь, да-а?
Я подняла голову и посмотрела сквозь нее. Она протянула мне огромный помидор: «На! Попить можна-а. Смотри, а?» Она взяла другой помидор за плодоножку и ловко, подцепив грязную кожу ногтем, очистила его и стала есть сама и кормить им малыша.
– Делай так. Пить можна-а сок, а? Мине имя Мэрим…
Я показала на себя рукой и сказала тихо: «Ира…Спасибо…»
– Ай, Ира, какой хороший имя, а это мой сынок, Санджар. Богатырь, а?
Взяв помидор за плодоножку, я сделала так, как показала мне цыганка. Долгожданная влага облегчила мои страдания. Я вымученно улыбнулась.
Мэрим обрадовалась и стала что-то петь своему замурзанному цыганенку, сонно уткнувшемуся в ее цветастый халат на груди. Потом она взяла мою руку, некоторое время разглядывала ладонь и улыбнулась.
– Зачем грустишь, а? Тебя любимый ждет!
– Он любимый, но не мой.
– Пачему не твой, а?
– Он женится на другой и уезжает в Америку.
Мэрим опять посмотрела на мою руку.
– Уезжает, далеко. Да. Но я про другого говорю.
Я отрицательно помотала головой: «Нет другого».
Цыганка опять взяла мою руку.
– Книжек много… Людей много… Цветов много…
– Библиотека, – попыталась пошутить я.
Мэрим сдернула тюбетейку со своих блестящих волос, швырнула мне на колени: «На, возьми на счастье, Мэрим правду говорит. Если соврала, закопай земля, мой язык отсохнет тогда!»
В этот момент объявили посадку на рейс Симферополь – Ташкент, Мэрим встала, подхватила свободной рукой баулы, подмигнула мне: «Будешь очень счастливый, Ира… Не забудешь Мэрим!»
И пошла к стойке регистрации.
А я осталась сидеть с ее тюбетейкой в руках.
В половине двенадцатого ночи я села в ТУ-104. Место мое было почти в самом хвосте. Мы обходили грозу над Воронежем, нас болтало так сильно, что казалось, самолет вот-вот потеряет управлением и упадет на землю. Я даже хотела этого – тогда все бы разрешилось само собой.
От жары, измотавшей меня за целый день ожидания в духоте аэропорта, я не заметила, как уснула. Мне снилось, что мы падаем, и самолет цепляет хвостом верхушки елей на земле. Я бредила. Во Внукове меня разбудила стюардесса со стаканом минералки. Самолет был уже пуст. Я отстегнула ремни и побрела к выходу.
Во Внукове в два часа ночи меня встречал папа.
– Куда поедем? – спросил он.
Я представила, как такси будет проезжать мимо Женькиного дома, и ответила:
– Отвези меня домой. На дачу я не хочу.
Дома я долго-долго стояла под душем, смывая с себя усталость и дорожную пыль.
Слова цыганки не шли у меня из головы, хотя я никогда не верила ни в какие предсказания.
А сейчас я просто не верила уже ни во что.
Глава 7. Ах, белый пароход...
Середина июля. Москва. Душно, пыльно и тоскливо.
Я не привыкла летом сидеть в городе. Пару дней просто бродила по улицам, стояла у витрин на Калининском проспекте, сидела в тенечке Александровского сада. И почти ничего не ела.
Уставшие ноги привели меня к Москве-реке у гостиницы «Россия». Я взяла десять эскимо в киоске у пристани и купила билет на речной трамвайчик.
Солнце болталось уже где-то в районе Воробьевых гор. Ветерок с реки приятно охлаждал мой лоб, разгоряченный от жары и разных бредовых мыслей. Эскимо в пакете потихоньку превращались в кашу из фольги, молока и шоколада, а я так и не притронулась к ним, просто выбросила пакет в урну.
– Господи, ну сделай же что-нибудь! – прошептала я, уткнувшись головой в спинку переднего сиденья.
На корме веселилась какая-то компания. Магнитофон надрывался: «One way ticket…»
Вдруг кто-то тронул меня за плечо. Это оказался мой однокурсник Петька Киселев.
– Э, привет! Ты чего такая, потерявшаяся?
– Ничего, просто катаюсь… Сейчас до Киевской, там на метро и домой.
– Загорела, – Петька ласково провел по моему плечу. А меня словно током ударило, и руки покрылись гусиной кожей.
– В Судаке была. Сбежала… Тошно!
– Ну-ка, не скулить! Пошли к нам, моему брату сегодня двадцать пять.
Он подвел меня к своей компании и представил: «Лучший поэт факультета кибернетики – Ирен!»
Встав в позу, которую обычно чтецы занимают на эстраде, он продекламировал мой стишок, написанный прошлым летом в стройотряде для бригадной стенгазеты:
Нам звезды хвостатые падали в руки.
Еще мы не знали тогда, что разлуки
Как яд скорпиона смертельны бывают.
Лишь только прошедший все это узнает.
Дымок сигареты и запахи Юга.
Мы встретились там. И узнали друг друга.
Не зная друг друга, мы жили в Москве.
Петь, дай сигаретку! А лучше бы две!
Народ зааплодировал и принял меня в свою компанию, что мне, по большому счету, было все равно.
Петька был соломинкой, которую Бог послал, видя мое беспомощное барахтанье в бурной реке, под названием Жизнь. Или Судьба. И меня закрутило как раз там, где эти два потока, сливаясь, превращались в опасный водоворот.
Речной трамвайчик причалил у Фрунзенской набережной, я вышла вместе с Петькой и его компанией. При всей погруженности в собственные мысли от меня не ускользнуло, что Киселев чрезвычайно рад нашей встрече. Наверное, он решил опять приударить за мной, как прошлым летом в стройотряде, потому что обнял меня за плечи и шепнул: «Сегодня вечером ты – моя девушка».
Я недовольно повела плечами. Или Женьке или никому – думала я тогда.
– Ручонки шаловливые убери!
Петька убрал свои руки.
– Прости.
– Хорошо, но если вздумаешь лезть целоваться, укушу так, что без губы останешься, понял?
– Ну, Ир!
– Я сказала!
– Ладно, но танцевать будешь только со мной!
Вскоре мы всей компанией оказались в квартире Петькиного брата. Там было прохладно, все окна, выходившие на набережную, открыты и ветер играл красивыми тюлевыми шторами.
Нас встретили родители именинника. Его мама сказала:
– Закуски на кухне, так называемый шведский стол – берите, кто что хочет, зато в гостиной вам будет просторно танцевать. В спальню и к отцу в кабинет, пожалуйста, не заглядывать. А мы – на дачу, дня через два вернемся.
Как только за родителями захлопнулась дверь, гости тихо и дружно сказали: «Уря-я-я-я!»
А я так и не поняла еще, кто же из ребят именинник.
Магнитофон, включенный на всю громкость, баловал гостей записями зарубежной эстрады. Я обошла квартиру, постояла на кухне у окна, выходящего во двор. Июльским субботним вечером он был пуст, даже кошек и собак не видно. Лишь пара жирных сонных голубей сидела на краю детской песочницы, спрятав головы под крыло.
В комнате именинника я устроилась в кресле у письменного стола, зачем-то включила настольную лампу и наугад открыла первую попавшуюся книгу из тех, что лежали передо мной, даже на обложку не посмотрела.
Мысли мои витали где-то далеко, они существовали отдельно от меня и моих желаний. Петька наклонился надо мной, облокотившись о спинку кресла, и взял книгу из моих рук.
– Ты хоть посмотрела, что ты читаешь? – улыбнулся он. – Так, посмотрим: «Фонетические и морфологические особенности испанского языка».
Петька захохотал, а я чуть не расплакалась, потому что в книге на каждой строчке я видела: «Женька уезжает!!!» Наверное, я схожу с ума…
– Пошли, – потянул меня за руку Киселев, – ты обещала танцевать со мной.
А в гостиной народ отплясывал толпой под «АББУ». Когда мы присоединились к ним, из магнитофона раздались звуки моей любимой «Dancing Queen».
Какая-то сила выбросила меня в центр круга танцующих гостей. Я отчаянно крутилась, изгибалась, словно травинка, послушная ветру. Я не понимала тогда, что, кружась в танце, выталкиваю из себя свои безмерные страдания о несостоявшейся любви. Это был шаманский, очищающий танец, мне казалось, что все мое тело искрит и маленькие розовые и голубые молнии пробегают от головы до ног и обратно. Пространство вокруг меня было наэлектризованным, а сама я была словно шаровая молния. Мое тонкое трикотажное платье насквозь промокло от пота.
Но мелодия закончилась, и мои вращения и изгибы стали напоминать движения волчка, который вот-вот должен остановиться и упасть на бок. Но упасть мне не дали. Под ласковый баритон Тома Джонса меня подхватил Петька.
– Извини, мне надо в ванную, – потихоньку отстранилась я от него.
Влажное от пота платье я просто прополоскала и отжала, а сама влезла под душ, ополоснуться. Смыв остатки косметики, я посмотрелась в зеркало, и мне показалось, что волосы мои продолжают искрить. Но мне почему-то было так легко!
Выйдя из ванной, в полутьме коридора я уткнулась в кого-то.
– Сейчас вы танцуете со мной.
– Почему это именно с вами?
– Потому что я именинник и хозяин дома. Разрешите представиться: Алексей, – он склонил голову и щелкнул каблуками.
– Мы будем танцевать здесь, в коридоре?
– Нет, – Леша галантно подал мне руку, и мы прошли в гостиную. Тома Джонса сменили Битлз.
Моя любимая: «Is there anybody going to listen to my story…»
Едва мы начали танцевать, у меня голова пошла кругом и все внутри задрожало. Что это со мной? Что происходит? Мне показалось, что все эти розово-голубые молнии переходят от меня к нему и обратно. Под ложечкой что-то вибрирует, стараясь попасть в такт чему-то совсем незнакомому. Вспомнив бабушкины объяснения, я решила, что это наши с Алексеем души настраиваются на одну волну. А, может, мне это чудится? Или это головокружение от жары, переживаний и глотка теплого вина за здоровье именинника?
Отстранившись от Леши, я отошла в угол комнаты и присела на подлокотник кресла. Я вдруг застеснялась своего влажного платья, а он встал у окна и, взяв в руки гитару, стал что-то наигрывать.
– Пора уж и по домам, народ, скоро метро закроется, – сказал кто-то.
– Одиннадцатым номером пойдем, – засмеялись ему в ответ.
Что-то такое произошло со мной, я забыла про Женьку, про малиновый куст, желтый кабриолет и маму с папой.
Мы с Лешкой были в разных углах комнаты, между нами танцевали и веселись гости, а мне казалось, что звучит лишь гитара, и никого нет, кроме нас двоих. Мы просто не могли оторвать глаз друг от друга.
– Не уходи, придумай что-нибудь, – читала я в Лешкиных глазах.
– Я не хочу уходить, но не могу найти причины, чтобы остаться, – говорили в ответ ему мои глаза.
– Если хочешь остаться, останься просто так, – умоляли его глаза.
– …
Иногда ветер закручивал тюль и разделял наши взгляды, тогда Лешка отводил рукой штору, словно убирал прядь волос с лица.
Как душно! Словно воздух заканчивается. Жаркая и тягучая как кисель июльская ночь вползает в квартиру через все окна.
Я вышла на балкон, выходивший на набережную, и села прямо на плиточный пол, который раскалился за день, и еще не успел остыть. Напротив, за рекой, еще подмигивал огоньками парк Горького. По реке скользил прогулочный пароход, украшенный разноцветными огнями, и оттуда доносились обрывки какой-то песни и заливистый женский смех.
А на бездонном июльском небе пылали мириады звезд, сияние их не могли приглушить даже городские огни. Мне вдруг показалось, что все окружающее отступает куда-то, а я лечу к этим звездам. Или звезды сыплются на меня, окутывая голубоватой вуалью. Чтобы отогнать морок, я тряхнула головой.
Кто-то осторожно дотронулся до моего плеча… Кто-то… Я, знала, кто.
Леша пододвинул мне стоящий в другом углу балкона шезлонг и помог подняться с пола. Пока я усаживалась, он принес два бокала венгерского мурфатляра.
Глоток вина еще больше перепутал мои мысли. Но не успела я сделать еще один глоток, как на балконе появился Киселев.
– Леха, я краду у тебя эту мадмуазель, чтоб в целости и сохранности доставить ее домой.
Квартира была уже почти пуста, голоса доносились из прихожей. Лешка умоляюще глядел на меня, но я решительно взяла свою сумочку.
Дверь за нами с Петькой захлопнулась. Мы потихоньку пошли вниз по лестнице, не вызывая лифта. Уже почти у первого этажа я услышала сзади мелкие и быстрые женские шажки и обернулась. Ко мне полупрозрачным мерцающим облачком спускалась… Мэрим.
– Ты должна вернуться, или простишь себе этого никогда!
– Да, конечно!
– Ты с кем там говоришь? – спросил Петька.
Я обернулась – Мэрим исчезла.
– Ой, я косметичку в ванной оставила, а там ключи. Мои-то на даче, – услышала я свой голос, запихивая косметичку глубже в сумку. Голос был мой. Но я не вымолвила ни слова. Кто-то проговорил эти слова за меня.
– Подожди, я быстро сбегаю, – предложил Киселев.
– Я сама, – и побежала вверх по лестнице.
Когда я только лишь подняла руку к пуговке звонка, дверь сама открылась. Но в прихожей никого не было. Я вошла тихо, а дверь с грохотом захлопнулась за мной.
Леша все так же сидел на балконе. И мой бокал был полон янтарного мурфатляра. Я бросила сумку на шезлонг и взяла свой бокал.
Леша поднялся мне навстречу:
– Я верил, что ты вернешься. Если бы ты не пришла, вся жизнь бы была другая.
Поднимая бокал, он сказал:
– Пьем до дна, а потом я хочу поцеловать тебя! Тебя ведь никто еще не целовал?
– Откуда ты знаешь? – удивилась я и почувствовала, как щеки мои запылали.
– У тебя девчачьи губы, нецелованные…
Он поставил пустой бокал на подоконник и притянул меня к себе. Или это я сама прильнула к нему?
И вдруг, будто какой-то вихрь закрутил нас теплыми потоками, мелькнуло звездное небо, я зажмурилась, а когда открыла глаза, удивлению моему не было предела. Мы сидели с Лешкой в моем малиннике, на стареньком надувном матрасе, под волшебным темно-синим куполом звездного неба.
Лешка обнял меня и, осторожно расстегнув молнию на платье, снял его и очень нежно провел по моей спине ладонью от шеи до застежки купальника, который был под платьем. Застежка купальника щелкнула, и он упал с моих плеч. Я выгнулась, как тетива лука, и кажется, перестала дышать. Мне было приятно чувствовать его руку на своей спине, но я боялась спугнуть Лешку каким-нибудь неловким движением. Он на секунду отстранился, чтобы снять свою рубашку. Я задохнулась и провалилась куда-то… Внутри меня что-то происходило, непонятная горячая волна поднялась из глубины тела и захлестнула разум. Он нежно гладил меня, и я ощущала его прикосновения как слабые разряды тока, мне даже представлялось, что из-под его ладони выскакивают маленькие искорки. Я обняла Лешку крепко и, глядя прямо в глаза, прошептала еле слышно: «Поцелуй меня… Или я сейчас умру… Я не знаю, что со мной…»
Я хотела сказать еще «я так хочу тебя», но язык не смог выговорить эти слова. С одеревеневших вдруг губ только сорвалось: « Я… так…». Но Леша все прочитал по моим глазам. И его взгляд ответил мне тем же. Он наклонился ко мне, и я обняла его еще крепче, будто боялась, что вот-вот и он исчезнет, как странное видение, пригрезившееся мне от сильной жары, так же как и улыбающееся лицо Мэрим, которое глядело на меня сквозь марево нагретого воздуха, постепенно растворяясь.
* * *
… Я очнулась и увидела, что мы с Лешкой сидим обнявшись на диване в его комнате. Голова моя лежит на его плече. Что это было? Сладкий сон или бред после жаркого и душного июльского дня и выпитого вина?
Полупрозрачный, как фата невесты, предрассветный сумрак наполнял комнату.
– Проснулась? – ласково спросил Леша, когда я потянулась, как избалованная кошка.
– Ага, мяу! – и я еще раз потянулась, – пить хочется…
Леша взял мою руку и нежно поцеловал каждый пальчик.
– Милая, я на секундочку тебя покину.
Появился он через пару минут с бутылкой розового шампанского и двумя изящными хрустальными бокалами.
От холодного шампанского бокалы сразу запотели. Крошечные капельки устремились к основанию бокалов.
– Мне такое тут приснилось! – сказал Леша, потягиваясь, и взгляд его упал на бокалы с шампанским, – бокалы плачут от зависти!
Я промолчала, а он удивленно посмотрел, потом протянул руку и снял с моих волос листочек от малинового куста.
Значит это был все-таки не сон? Отвечая на мой вопрос, Мэрим лукавым облачком выглянула из-за шторы в Лешиной комнате.
* * *
Через год мы поженились. Потом, через пару лет, я рассказала ему и про мечты о желтом кабриолете, про Женьку, уехавшего в Америку. И про то, как мы дрались с Симкой в пыли деревенской улицы.
– Я знал, на ком я женюсь, – сказал мой мудрый муж. – Такой второй – точно не найдешь. Тебе бы романы писать.
С его легкой руки я и стала писателем.
* * *
А гроза все-таки вернулась. Она громыхнула раскатисто, осветила молнией полнеба, заставив меня подняться с постели и закрыть окно. Без Лешки я ужасная трусиха.
Ну, вот и проговорилась. Без Лешки. А не без Женьки.
Так что же творилось со мной все эти тридцать лет?
Значит, надо мчаться в Домодедово и прощать. Опоздать никак нельзя. Успокоившись, с этой мыслью я и уснула. Не плакала. Ну, если только самую малость.
Глава 8. Царское варенье
Серебристая паутинка, верный признак августа, мерцая в мягких лучах остывающего летнего солнышка, невесомо парила перед столиком в саду.
Какие-то неведомые потоки воздуха при полном безветрии подхватывали ее, и она кружила перед моими глазами, исполняя волшебный танец под названием «Неизбежно приближающаяся Осень». И это напоминало мне, что совсем скоро утро нас будет встречать туманными и серебристыми от ночных холодных рос клумбами, что пора укладывать в сумку зонтик и доставать с антресолей осенние сапоги.
Но сегодня еще август. И я сижу в саду, переполненном запахами малины, душистых яблок и флоксов. И тоненькая нота горчинки пожелтевших кое-где листьев слышна в этом коктейле ароматов.
Запоздавшие со сбором меда и уже полусонные пчелки лениво перелетают с цветка на цветок на клумбе у террасы.
Солнце нежится в жемчужной дымке, которой наполнено выгоревшее за лето августовское небо. Теплый воздух ласкает мои загорелые плечи, а я стараюсь вдохнуть как можно больше этой последней летней неги, словно делая запас на нашу долгую и промозглую московскую зиму. Как хорошо в саду! Иногда, то тут то там, с глухим звуком «тум» ударяется о землю очередная перезревшая слива. Я подбираю ее и, вытерев о край фартука, отправляла за щеку. Люблю сливу. А та, что сама упала с дерева – самая вкусная.
Вчерашний дождь с ветром сломал несколько молодых веточек с ягодами. Подобрав одну из них и свернув ее колечком, я украсила себе голову оригинальной короной. Ну просто нимфа сливовая! Нет, принцесса Осеннего сада.
Передо мной медный таз, наполненный крупными полупрозрачными ягодами крыжовника, покрытыми нежным пушком. Монотонная и привычная ежегодно-августовская работа не мешает мне уноситься мыслями в прошлое.
Я машинально беру очередную ягоду, отрезаю хвостик и умелым движением вскрываю ее, очищая от зернышек. Варить царское варенье из крыжовника в нашей семье давнишняя традиция, и это умение передала мне моя мама, а ей бабушка.
Когда-то в детстве мы с Аллой делали из этих ягод, помимо варенья, бусы и серьги, которые съедались на следующий день после того, как мой папа запечатлевал нас в этих украшениях на фото для семейного архива.
Алла моя теперь так далеко от меня! На другой стороне земного шарика, в городе Монреале. Но каждый год в конце августа, с оказией, я отправляю ей баночку царского варенья и нитку бус из крыжовника.
Вот так, раздумывая о жизни и наслаждаясь прекрасной погодой, я и перебираю ягоды. С того места, где я сижу за столиком в саду, сквозь просвет деревьев видна автобусная остановка. И я, так и не отвыкнув от детской привычки, всматриваюсь в людей, приехавших на автобусе со станции Жаворонки. Словно жду, как в детстве, что вот-вот, со следующим рейсом уж точно, приедут мои родители из Москвы с работы, а я, бросив свои занятия, помчусь им навстречу. Буду прыгать вокруг них, по-щенячьи восторженно повизгивая и заглядывая в сумку к маме, в надежде на очередной гостинец.
Мои родители никогда уже больше не приедут ни на одном из этих автобусов. А я по-прежнему все жду их. Родителей заменила мне старенькая бабуля. Да и ей вот-вот стукнет девяносто три.
Сколько лет прошло? Двадцать? Двадцать пять?
Деревня наша стоит на достаточно высоком холме, и шоссе, в одну и в другую сторону словно сползает серой извилистой лентой. Эта шелковая под лунным светом лента дороги казалась мне в детстве волшебной тропинкой в будущее. Особенно в те дни, когда у горизонта, где, проглатывая дорогу, сходился лес, в полнолуние на небе над резной кромкой деревьев появлялась луна необъятных размеров и почему-то зеленоватого оттенка. А слюда, добавлявшаяся тогда в асфальт, была и вовсе похожа на серебряные монетки-денежки, которые разбросали, чтобы не заблудиться, Гензель и Грета из старой сказки о Пряничном домике.
Тогда, давно, в нашем безоблачном детстве конца шестидесятых по вечерам мы собирались дачной компанией и садились на прогретый за день под солнцем асфальт прямо посредине шоссе. Женька с Митяем, в индийских джинсах с пришитой по боковому шву рыжей бахромой от найденного на чердаке Женькиного дома бабкиного абажура, бренчали на гитарах, а мы дурными голосами орали: «Michelle, my belle…» или подвывали: «Yesterday…»
В те времена почти не было частных машин. Лишь попыхивая и поскрипывая от старости, проезжал раз в час автобус от станции Жаворонки до поселка Горки-10 и обратно.
Это было давно.
Это было вчера.
* * *
Желтый лист яблони спланировал мне прямо на нос и вернул из воспоминаний к действительности. В отличие от полусонных пчелок, хищницы-осы беспрерывно кружили над тазом с крыжовником. А одна из них умудрилась даже влезть в разрезанную и очищенную от зернышек ягоду. Бедняга! Я аккуратно нажала на ягоду с двух сторон, и освободившаяся пленница, обиженно прожужжав, сделала прощальный круг над садовым столиком и растаяла в легкой дымке сада.
Я люблю отдыхать в середине августа, под занавес лета. Неделю с мужем мы провели на Ибице, и мой золотисто-розовый загар еще не побледнел.
Леша, окончивший институт военных переводчиков, впервые попал на Ибицу году этак в семьдесят седьмом, сопровождая группу наших морально устойчивых комсомольских вожаков. И поклялся, что при первой возможности мы слетаем туда вместе. Скоро сказка сказывается…
Эта поездка стала его подарком на мой полтинник.
Да, это лет в двадцать-двадцать пять можно месяц просидеть на этом чудо-острове без ущерба для здоровья. Днем мы гуляли по тесным улочкам, где все окна и балкончики белоснежных домов были увиты необычайно красивыми цветами. А на одном из окон среди цветочных горшков сидел огромный разноцветный попугай. Цепь от одной его лапки тянулась к оконной решетке. Старый и мудрый, смотрящий надменно на всех проходивших мимо откуда-то из глубины своих долгих лет, он покуривал маленькую кубинскую сигару, держа ее крепко ревматоидно-шишкастой лапой. Просто какой-то посланник Макропулоса.
Мы переползали с одной дискотеки на другую, отплясывали в пене, доходящей до самой груди, а потом умиротворенно провожали на пляже солнце, красным диском спускающееся в море. Там же, на пляже, мы и засыпали иногда под шепот набегающей волны, завернувшись в махровую простыню. Это, говоря языком моего сына, «фишка такая» у них там, на острове, засыпать на пляже, проводив светило. Ветерок доносил с улочек обрывки музыкальных фраз.
В последний вечер на острове это была «Venus», с легкой руки Макаревича «Шизгара» , бессмертный хит «Shocking Blue».
Но, несмотря на бессонную неделю, мы вернулись в Москву на редкость помолодевшими и бодрыми. И постоянно вспоминали в разговорах о своем путешествии, нежно, с улыбкой переглядываясь и умолкая на полуслове...
–Ну, просто влюбленные голубки… – подшучивал над нами сын.
А сейчас, когда муж уехал в командировку на Кубу, я решила несколько дней провести на даче, чтобы заняться традиционным вареньем. Я очистила все ягоды, ополоснула крыжовник и залила его водкой. Так он должен простоять 24 часа.
Приятный теплый вечер опустился незаметно. Пока не стемнело, я решила прокатиться на велосипеде по единственной в нашей деревне улице.
Открыв гараж, выкатила свой велосипед и с гордостью осмотрела его. Это вам не какая-нибудь «Кама» – а раритет, еще бабушкин «OldsMobil» фабрики Лейтера в Риге. Год выпуска – 1929. Дамский вариант. Дамский вариант – это не просто отсутствие рамы, это еще чудесная разноцветная сетка, сплетенная под «павлиний глаз», закрывающая заднее колесо, чтобы туда не попала юбка. Это цепь, прикрытая специальной пластиной, чтобы, упаси Бог, не повредить дамскую ножку и не порвать чулки. Такой изумительной и важной машине надо соответствовать. И я пошла переодеваться.
Понравилась себе в зеркале, впрочем, как и всегда: длинная ситцевая юбка в оборках, сетчатые бабушкины перчатки и соломенная шляпка с шелковой лентой, которую я купилана Ибице.
В таком «прикиде», говоря словами моего сына, нельзя нестись как на гонках. Надо ехать степенно, и не только потому что к этому обязывает мой чудный велосипед, но и потому что справа и слева на лавочках уже сидят вышедшие подышать перед сном бабушки, а с ними, по всем деревенским законам положено здороваться.
Скоро голова у меня от постоянных поклонов то направо, то налево, закружилась, и мне пришлось слезть с велосипеда.
– Добрый вечер! – сказала я очередным сидящим рядом двум бабулям.
– Ты чья ж будешь? – также по деревенской традиции спросила меня одна из них.
И я, не моргнув глазом, ответила фразой, заученной лет с четырех.
– Тети Моти Емышевой, Галина дочка.
(То есть у Моти Емышевой есть дочь Галя, а я – ее дочка.)
– Ой, Иринка, – заохали бабушки, – Модная какая! А велосипед-то Мотин. Помнится, Павел ей его из Москвы привез в 31-ом годе!
Вот бабульки! Час прошел – уже ничего не помнят, а то, что больше чем полвека назад случилось, для них как вчерашний день. Просто мне пока этого не понять.
Дай Бог нам всем здоровья!
– Тебе же сколько теперь лет-то будет? – простодушно спросила одна из бабулек.
– Эх, бабушки, уже пятьдесят!
– А катаешься, как молодая…
Да, в деревне свои понятия. Я так и не поняла, похвалили они меня или?... Поставив велосипед в гараж, я ополоснулась под душем и с удовольствием растянулась на кровати.
Вот теперь, когда никто и ничто не отвлекает, я, наконец-то, открою свою, только что изданную книгу.
Глава 9. Небо цвета выляневшей джинсовки
Все-таки новая книга – это волшебство. Корешок пахнет клеем, странички и картинки – свежей краской. А как приятно хрустит обложка! Я открыла книгу и… провалилась в прошлое…
* * *
… в последнюю неделю летних каникул со мной случилась истерика в ответ на бабулино восхищение грядущей осенью и бабьим летом.
– Все это тепло – обманное! – кричала я, заливаясь слезами, – ведь потом зима и снег!
– Почему я не медведь? – говорила я папе, – проспала бы до весны. Красота! А там опять травка и цветочки. И шубу носить не надо!
– Извини, дорогая, но мы – не медведи, – усмехаясь, ответил отец.
Мы с ним ушли рано утром в лес за грибами и орехами и теперь возвращались. Это была наша ежегодная традиция перед отъездом в Москву. Я устала. Солнце уже было в зените, и куртка, которую я одела утром, чтобы не вымокнуть от росы, болталась у меня на талии, завязанная рукав за рукав. Корзинка с грибами оттягивала руку и царапала коленки. Резиновые сапоги, надетые на босу ногу, превратились в две духовки и спасали лишь от острой стерни скошенного поля, по которому мы шли наискосок, срезая путь. Я начала постанывать и капризничать, но папа упорно не замечал этого. Он лишь забрал мешок с орехами, чтобы я их не рассыпала. Мой папа очень мудрый. Когда мама уже не знает, что со мной делать, как объяснить и утихомирить, она зовет: «Сергей!» Папа появляется, находит какие-то аргументы, и все кончается без скандала. Он так всегда и говорит: «Извините, что без скандала обошлось!»
Утренний туман давно рассеялся, и жаркое марево висело над приближающейся потихоньку деревней. Уставшая, разомлевшая от жары я брела, цепляя ногой за ногу, на приличном расстоянии от папы и так хотелось упасть прямо посередине поля и просто застонать: «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а….»
* * *
Буквально неделю назад мы сидели втроем на старых диванных подушках: я, моя лучшая подруга – красивая Алла, и наш ровесник и общий приятель, конопатый и белобрысый двенадцатилетний Женька. Рядом, подложив футбольный мяч под голову, нежился на солнышке Митька, мой троюродный брат. Он тяжело вздыхал, футбольный матч между улицами деревни отменили.
Мы собирались с Аллой делать бусы из рябины, и Женька увязался за нами, потому что мальчишки в тот день не играли в футбол. Игрок он был никакой, но болельщик – один за сотню сойдет! Узнав, чем мы собираемся заниматься, он сбегал домой и вернулся с толстой иголкой, в которую была вдета суровая красная нитка.
Перед нами стояла картонная коробка, наполненная крупной ярко-красной рябиной. Рябину я надрала утром с высокого дерева в углу нашего сада. Алла топталась внизу с коробкой, а я сверху бросала ей кисти. В детстве я была покорителем деревьев, за что много раз получала нагоняй от родителей и от бабушки за порванные платья и кофты.
Вооружившись длинными иглами с суровой ниткой, мы нанизывали ягоды, стараясь, чтобы вышло красивое ожерелье. Иногда мы с Аллой подсмеивались над неуклюжими Женькиными руками в ципках. Но он не обижался, а только усерднее сопел. Ожерелья у него не получилось – нитки не хватило. Готовые бусы мы вывесили на солнышко, чтобы они не заплесневели. Это меня папа так научил.
Через пару дней Женькины бусы пропали. Он пожимал плечами, но ничего не говорил. А мы потом и забыли про них.
* * *
Я храню эти воспоминания в тайном уголочке своего сердца, как в банковской ячейке. И, когда мне бывает худо, открываю крошечным ключиком. Копаюсь в этих воспоминаниях. Перебираю их, как драгоценные камушки.
Это было давно.
Это было вчера.
* * *
Июльское небо семьдесят второго года выцвело от жары и засухи, окончательно измотавшей всех.
В воздухе постоянно висел запах гари, который нагоняло ленивым ветерком с тлеющих, а местами и пылающих подмосковных торфяников. Удушливая и сладковатая дымка угнетала. Даже леса, который всего в полукилометре от деревни не было видно. Постоянно щипало в горле, и слезились глаза.
В дальнем углу нашего огромного сада располагался старый, заброшенный малинник, который давно уже никто не прорезал. Заросли были настолько густыми, что в самой глубине, в тени, почти у земли созрело множество ягод, несмотря на страшную засуху.
Когда солнце начинало клониться к западу я, продравшись сквозь колючие заросли, занимала свое любимое место в самой глубине малинника. Это тайное пристанище было облюбовано мною еще на каникулах после седьмого класса. Выломав там старые, засохшие ветки, я получила маленькую полянку. Такую маленькую, что на ней помещался только надувной матрас, чтобы было мягко лежать.
Здесь мною было перечитано бесчисленное множество приключенческих книг, рыцарских и классических любовных романов. Фенимор Купер научил меня восхищаться индейцами. Я даже придумала для себя индейское имя – Зеленая Луна.
Раздумывая о прочитанном, я лакомилась малиной и мечтала. Ох, о чем только я ни передумала-перемечтала теми летними вечерами, наблюдая, как проступают первые звездочки на небе. Я не различала на нем созвездий Зодиака, я тогда и представления о них не имела. Просто мечтала о том, что не за горами время, когда появится Он, единственный и неповторимый, и мы будем вместе смотреть в бездонное небо. А потом Он будет целовать меня, наслаждаясь малиновым вкусом моих по-девичьи припухлых губ.
Однажды, намечтавшись до одурения, я решила, что напишу роман о первом поцелуе. Только вот надо придумать хорошее название, чтобы сразу заинтриговать читателя.
«Тайник в малиновой чаще». Нет, не то.
Или «Малиновая поляна». Опять не то.
Вот, теперь точно знаю: «В тени малинового куста».
Так я и записала в своем дневнике.
Кто бы мог подумать, что роман будет не о первом поцелуе, а о бабьем лете. Скоро сказка сказывается…
* * *
В свои восемнадцать я еще ни разу ни с кем не целовалась. С Женькой, моим будущим женихом, мы только чмокали друг друга в щечку. Я была стеснительна, а он не был настойчив.
Начитавшись книжек, глядя в звездное небо, я старалась представить, как это все бывает на самом деле. Иногда мне казалось, что мои губы сохнут и их нежная кожа покрывается трещинками в ожидании поцелуя. Но я прекрасно понимала, что самый первый свой поцелуй подарю только тому, кого полюблю. И хотелось, чтобы этот человек отвечал мне взаимностью.
Эх, Женька, Женька…
А еще я мечтала о том, как, окончив институт, пойду работать и стану копить деньги на машину. Это было самой заветной моей мечтой. Машина, о которой я мечтала, называлась кабриолет.
Я увидела ее в каком-то итальянском фильме и просто заболела желанием иметь такую же, ярко-желтую. Иногда меня даже мучили сомнения, чего мне больше хочется – поцелуя любимого и любящего человека или эту машину. С каким-то непонятным, даже досадным чувством я сознавала, что второго хочется немножко больше. И злилась на себя. Зеленая Луна, Вы – меркантильны!
Несколько раз я засыпала под свои мечтания, за что потом получала хороший нагоняй от мамы и бабушки, которые с ног сбивались в поисках меня. Приходилось потихоньку выбираться из своей засады, чтобы никто не нашел моей лежанки и не развеял бы серебристое облако грез, которое, мерцая искорками, витало над этой крошечной потаенной полянкой. Я старательно маскировала ветками лаз, и мне казалось, что это облако желает мне спокойной ночи.
Ах, если можно было бы и на ночь оставаться здесь, под малиновыми ветками, смотреть в бесконечное небо, засыпать под свои мечтания, а не мучиться от ночной духоты и запаха гари в душной мансарде! Окна на ночь завешивали мокрыми простынями, чтобы было легче дышать, но простыни высыхали моментально, и бабушка с мамой по нескольку раз за ночь вставали, чтобы снова намочить их. Мама прикрывала меня, разметавшуюся во сне, полотняной прохладной простыней. Но я моментально сбрасывала ее и крутилась с боку на бок от жары, духоты и уже давно мучающих меня отнюдь не платонических сновидений.
* * *
Накануне вечером мы с Женькой и новой дачной знакомой Симой возвращались домой с волейбольного поля. Мы с Женькой гостили в Таганьково каждое лето у своих бабушек и знали друг друга почти с пеленок. Из белобрысого конопатого мальчугана с руками в цыпках он как-то незаметно для меня вырос в хорошо сложенного парня, обогнав меня по росту почти на две головы. Белый ленок волос превратился в светло-пепельные кудри, а над губой проступили чуть заметные мальчишеские усики.
Все получилось так, как я и мечтала, Женька ответил мне взаимностью. После девятого класса мы поклялись, что как только нам стукнет по восемнадцать лет, мы поженимся. Однако коварная и капризная дама Судьба решила разложить совсем другой пасьянс.
Сима появилась в нашей деревне только этим летом, ее родители сняли дачу в доме напротив.
Это была угловатая девочка с черными, без блеска глазами меж толстых, словно опухших от слез век. Ее тощие кривоватые от перенесенного в детстве рахита ноги были покрыты довольно густыми черными волосами. Меня мутило от одного взгляда на них.
За свою чернявость и беспрестанную, временами бестактную болтовню она сразу же получила в деревенской компании прозвище Фимка-цыганка. Она была капризна и немного истерична. На запястье ее левой руки был свежий шрам. От бабушки я узнала, что провалившись в театральный институт прошлым летом, Симка вскрыла себе вены, потом всю зиму пролежала в психиатрической больнице, а теперь долечивалась дома, и мать строго следила за тем, чтобы дочь в ее присутствии глотала пригоршню выписанных врачом таблеток.
Напившись таблеток, Симка становилась странной. Сначала она замолкала, была задумчива, но потом ее словно подменяли, и она начинала хвастаться. Чаще всего она хвасталась тем, что ее берут помощником костюмера в какой-то театр.
Измученная дочкиными истериками Нина Аркадьевна, мать Симки, была уже немолода. Она родила Серафиму от какого-то отпускного кавалера, с которым познакомилась в Сочи. Он знал о рождении дочери, помогал иногда материально, но официально признавать ее не стал. А Нина Аркадьевна, всю жизнь проработавшая закройщицей в ателье «Люкс», познакомилась с человеком, который приходил к ним в ателье налаживать швейные машинки. Он был евреем, на тридцать лет ее старше и без ноги, которую потерял на фронте. Вся его семья лежала под Киевом в Бабьем Яре. Был он немногословен, трудолюбив и необыкновенно порядочен. Все его знакомые и друзья знали, что ни одна расписка на свете не стоит столько, сколько одно лишь слово, сказанное Львом Борисовичем. Он женился на Нине Аркадьевне и удочерил Симку, дав ей свою фамилию и отчество.
Это все я случайно подслушала в разговоре мамы и бабушки. Как Тарзан, я сидела на старой вишне, где у меня было устроено между веток удобное сиденье из досок, мой остроязычный папа назвал его «насестом». Под этой самой вишней был садовый стол, где мама с бабушкой распивали по вечерам чай со свежесваренным вареньем.
Боясь вздохнуть, я сидела над ними, зажав рукой рот. Вот тогда я и поняла, что значит выраженье «вражьи голоса», которые упоминал папа, прислушиваясь поздно вечером к новенькой «Спидоле».
Когда Серафима закатывала истерики, Борисыч, как звали Симкиного отца деревенские мужики, жалел больше свою жену, видя, как она переживает. Он выходил на улицу, садился в саду за столик под акацией, такой старой, что она напоминала скелет какого-то доисторического зверя, потому что листья были уже где-то высоко, да и то наполовину скрючились от жары и духоты. Присев, закуривал беломорину, тихо бормотал: «Чужое семя…»
Самым странным и обидным показалось мне, что закадычный мой друг и потенциальный жених Женька «запал» именно на эту истеричность худосочной и страшненькой Симки. У меня было впечатление, что Женька сошел с ума. И я тихо страдала в своем малиннике в надежде на скорое окончание лета и исчезновение Серафимы из нашей с Женькой жизни и любви.
А он катал ее на багажнике велосипеда, учил плавать в деревенском пруду и кормил с руки малиной, которой его угощала я! Моей малиной кормил!
А ведь Женька был тем единственным человеком, которому я хотела подарить свой первый поцелуй. Мы выросли вместе на соседних дачах. Иногда, лет до десяти, могли, поссорившись, даже дать тумака друг другу. И долгое время ощущали себя братом и сестрой.
Но однажды, лет в пятнадцать, собравшись всей дачной компанией, мы играли вечером в прятки, и случайно оказались в одном укрытии за старым совхозным амбаром. Нам пришлось стоять, тесно прижавшись друг к другу. Вечер был теплый. На мне был легонький сарафанчик, сшитый мамой из ситца, купленного в магазине «Лоскут». А Женька был только в джинсах, даже без футболки или рубахи. Стараясь не выпасть из своего крохотного укрытия, я прижалась к Женьке своей только недавно образовавшейся упругой грудью. Женька был намного выше, поэтому мой нос уткнулся где-то между его ключиц. Я видела и чувствовала, как напряглись его мускулы, как пульсировала жилка на шее, а на коже выступила испарина.
Тоненькая лямочка сарафана съехала с плеча, обнажилась левая грудь, молочно-белая по сравнению с загорелой кожей на плечах. Мое сердце забилось так, что, казалось, грудь заходила ходуном. От ощущения упиравшегося в живот моего твердого соска Женьке чуть не стало плохо. Он аккуратно вернул лямку сарафана на мое плечо, но не отстранился. У него, видимо, так закружилась голова, что он не мог сказать ни слова, не мог сделать ни шагу.
А я, – о, Господи! Ощутив прикосновение к его коже с явно наметившейся волосяной полоской, уходящей под джинсы, и вдохнув доселе неизвестный мне запах молодого мужского тела, просто задохнулась, но отстраниться тоже не смогла, будто приклеилась. Даже в глазах потемнело.
Так и простояли мы, никем не найденные, наверное, с полчаса. Из оцепенения нас вывел голос Женькиной мамы, звавшей сына на ужин.
Я подняла взгляд. Женька стоял с закрытыми глазами, откинув голову назад, насколько позволяла стена, за которой мы спрятались. Из-под волос по вискам пролегли две дорожки стекающего пота. Верхняя губа была закушена до крови. Я так испугалась, что рванула из-за амбара во всю прыть через высоченную крапиву.
Укрывшись на своей полянке в малиннике, я уткнулась носом в надувной матрас и заплакала, сама не зная, почему. Я еще не понимала, что сегодня там, за этим старым амбаром закончился мой щеняче-восторженный период детства, и я превратилась в девушку. (Это я тогда еще сформулировала, как в книжке писать буду).
А сейчас новая соседка по даче на глазах рушила все мои планы. Моя любовь и дружба с Женькой таяла на глазах. У меня было впечатление, что Симка легко и непринужденно вытаскивает самые нижние камни из фундамента, который я с таким трудом укладывала столько лет подряд.
Подойдя к дому, мы еще немного поболтали. Порадовались, что так здорово обыграли в волейбол команду с другой дачной улицы. И вдруг замолчали. Молчание было каким-то неловким и с явным намеком на то, что кто-то здесь явно третий лишний.
Звездное небо и душная ночь тянули к откровениям. Фимка претенциозно и жеманно заявила:
– Я все равно поступлю в театральный и буду артисткой. И, вообще, мы скоро уедем в Америку!
Я не удержалась:
– Достала уже всех своими бреднями, артистка!
А Женька смотрел на нее, открыв рот.
От этого взгляда мне стало не по себе. Я проглотила комок, стоявший в горле, и сказала:
– А я окончу свой институт и накоплю на машину-кабриолет.
Потом, дотронувшись до Женькиного плеча, спросила:
– Ты придешь завтра чистить крыжовник для варенья?
Женьку передернуло. Он зашипел, как змея, и противным голосом сказал:
– Очень мне нужен твой крыжовник! Ты иди лучше домой, а то тебя опять бабушка ругать будет.
От таких слов я просто ошалела. Это что? Он меня прогоняет?
Меня?
По-моему, уж если кто и был здесь лишний, то уж точно не я. Пока я раздумывала, чтобы такого ехидного ответить Женьке, он повернулся, взял Серафиму за локоть, и они пошли в сторону ее дома.
Я догнала их и со всей силы ударила соперницу кулаком в ухо. Ногти на руке у меня были длинные, и соскользнувшая рука разодрала Симкину щеку до крови. Она завизжала и, обернувшись, и вцепилась мне в волосы. Как две злобные кошки, сцепившись и шипя, покатились мы по пыльной дороге. Казалось, искры летят от нас во все стороны. Женька, пытавшийся разнять нас, получил несколько увесистых тумаков от обеих, что лишний раз подтвердило истину – «двое дерутся, третий не влезай – получишь от одного и от другого».
На шум вышел на улицу Лев Борисович и выглянула из окна моя мама. Отодрав о себя Фимку, я толкнула ее в пыль на дороге. Серафима, проведя по лицу рукой, села посреди пыльной дороги. Ее взгляд привел меня в ужас. Она смотрела сквозь меня. Я поняла, что она видит что-то ужасное за моей спиной, но побоялась обернуться. Подхватив слетевшую с ноги босоножку, я припустилась по дорожке, змейкой ведущей через поле от деревни к небольшой речушке, и моментально растворившись во тьме.
Я все надеялась, что Женька бросится за мной, но, пройдя половину дороги, поняла – нет. Я сняла вторую босоножку и ноги утонули в накаленной за день солнцем пыли. По этой дорожке, знакомой с детства, я ходила столько раз, что знала каждую выбоинку и камень. Здесь, среди пшеницы, мы собирали с Женькой мои любимые васильки.
И так здорово было упасть навзничь, раскинуть руки и глядеть в небо. Иногда, отсверкивая точкой в слепящей синеве, оставляя белесый след, самолет прочерчивал небо наискосок. А мы, как оглашенные, кричали в эту бездонную синеву: «Эй, самолетик! Куда ты летишь? Возьми меня с собой!» И эхо из проходившего по краю поля леса, дразнило нас: «Ой, ой, ой…»
И не было тогда рядом никакой Серафимы.
Спустившись к речке, я скинула сарафан и бросилась в воду, которая была теплее ночного воздуха. Я все ныряла и ныряла, будто пытаясь смыть с себя саму эту «драку», потому что до этого никогда в жизни не дралась. Выглянувшая луна заблестела на плечах. А я, уже забыв о драке, вообразила, что так резвится под лунными лучами молодая русалка. Во всяком случае, мне показалось, что это очень красивая фраза, и я решила написать об этом в какой-нибудь из будущих своих книг.
Наплескавшись, я оделась и села на нагретый за день пригорочек, вытоптанный ребятней, приходившей купаться днем. Обидные мысли роились в голове. Слезинка за слезинкой, и я разревелась в полный голос. Потом, наревевшись, даже задремала.
Разбудили меня капли дождя, первого за все лето. Уже рассвело. Я поднялась и пошла к дому, подставляя лицо теплым каплям. Сарафан мой промок и облепил тело.
– А, вернулась, – спокойно сказал папа, – к матери не приставай, они с Ниной Аркадьевной всю ночь Симку в чувство приводили. Вмазала ты ей крепко. Молоток, моя школа! А не бери чужого!
Значит, Симка все рассказала, поняла я, стягивая с себя мокрый сарафан. И тихо спросила у папы, стараясь не смотреть ему в глаза:
– Чего чужого?
– А ты сама не знаешь? Не прикидывайся, – и папа вышел из комнаты на террасу.
На часах было девять утра. Дома стоял такой переполох, что моего отсутствия, оказывается, никто и не заметил. Мама и бабушка перекладывали с места на место сумки и чемоданы. Ждали грузовое такси.
У дома напротив Лев Борисович, уложив вещи в багажник старенького москвича, вначале усадил на заднее сиденье заплаканную Нину Аркадьевну, запихнул следом верещавшую Симку, а сам встал у машины и закурил беломорину. Они чего-то или кого-то ждали.
И тут я увидела бегущего с рюкзаком Женьку. Он кинул рядом с Симкой свой рюкзак и обернулся на наши окна.
Я не успела спрятаться за шторой. Женька подбежал к моему окну, взял меня за руку и сказал, прямо глядя в мои глаза: «Прости меня, если сможешь! И прощай!»
Лев Борисович затоптал ногой окурок, сел рядом с водителем и, махнув моему папе рукой, сказал шоферу: «Трогай...» Лишь пыльное облачко некоторое время висело на месте умчавшегося автомобиля.
А я едва сдержалась, чтоб не побежать за старым москвичонком. Я бы бросилась поперек дороги, лишь бы Женька вышел из машины, и повисла бы на его шее, целуя… И никуда бы не отпустила от себя.
Уже вечером, в Москве я свалилась с температурой под сорок. Мама просидела со мной рядом, меняя влажные полотенца на моем лбу. Я шептала всю ночь: «Не бери чужого…» Но в бреду мне чудилось, что я кричу во весь голос.
* * *
Книга выпала из рук. Этот стук разбудил меня. Я подняла ее, положила на тумбочку и выключила ночник.
Глава 10. Осень в Париже
…МКАД была забита до отказа.
От бесчисленной вереницы трейлеров над дорогой висела сизая, удушливая дымка. Пришлось поднять капюшон кабриолета и включить кондиционер.
На часах – 12:15. До конца регистрации на Женькин рейс оставалось сорок пять минут. Я вытащила мобильник, набрала номер Митяя и пожаловалась, что застряла.
– Ты на каком километре стоишь? – спросил он меня. Я ответила.
– Площадку вертолетную впереди видишь?
– Да.
– Подъезжай к ней, я им сейчас дозвонюсь. Не испугаешься лететь на вертолете?
– Я? Ты ж знаешь, что я летала с отцом.
– У тебя деньги с собой есть?
– Карточка.
– Нормально. Готовь пару штук баксов, в Домодедово снимешь в банкомате. Ну, с Богом!
Я вышла из машины. До поворота на ДПС с вертолетной площадкой было метров двести. Ярко-желтая с синей полосой, лупоглазая машина стояла, свесив лопасти, как уставшие крылья, почти до самой земли. Я пробежала вдоль ряда машин, попросила чуть прижаться, чтобы я смогла проехать. Слава Богу, народ попался понятливый.
Когда я въехала на стоянку у ДПС, вертолет уже начал раскручивать винт. Взглянув на номер моей машины, старшина, поднимавший шлагбаум, спросил меня не без издевки: «Мадам Бонд?»
– Да, мой генерал, – не моргнув глазом, ответила я, – летим?
– Летим высоко, – словами Лехиной любимой песни ответил мне пилот, открывая дверь в кабину вертолета, – если будет мотать, не бойтесь.
– Я летала на вертолете, – перебила я его уже сидя в кресле и пристегнувшись, – от винта!
* * *
Наверное, со стороны на меня было интересно смотреть – какая-то тетка в бейсболке, надетой козырьком назад, мчится по залу регистрации, прижимая к груди обычную стеклянную трехлитровую банку с вареньем. Царским вареньем, которое я сварила вчера. Банка еще не совсем остыла и грела мне живот сквозь футболку.
Я увидела их издалека. Они стояли в нерешительности, что-то иногда отвечая девушке, проводящей регистрацию, но постоянно оглядывались по сторонам. Я не обещала Женьке, что приеду в аэропорт, но по их взглядам было понятно, что они ждут именно меня. В руках у Женьки был венок, сплетенный из васильков.
Поставив тяжелую банку на стойку регистрации, я тут же попала в Женькины объятия. Он что-то говорил мне. Его слова заглушал бездушный женский голос, на разных языках объявлявший о рейсах. Потом Женька надел мне на голову васильковый венок и положил руки мне на плечи.
– Ты не забудешь меня никогда? – спросил он срывающимся голосом.
– Никогда.
Женька прощался со мной навсегда. Я закрыла глаза и… поняла вдруг, что стою опять вместе с ним у старого амбара, где мы спрятались от всех, играя в прятки. Но в отличие от прошлого раза, я приподнялась на цыпочки, крепко обняла его и поцеловала. Однако не сказала о том, что прощаю его. Не смогла.
Подняв глаза на табло, я увидела:
«Comp Lufthaysa Moscow – Amsterdam».
Тут же прозвучало объявление о начале посадки на этот рейс.
Фима дернула отца за рукав. Она поняла, кто я в Женькиной жизни, и ревновала, конечно. Бедная девочка!
– Я буду ждать тебя в Париже девятого сентября. У Эйфелевой башни в двенадцать часов. Прилетишь?
– Не обещаю.
Я повернулась резко и пошла к выходу, чувствуя на своей спине Женькин взгляд, но так и не оглянулась ни разу. Я поцеловала его, сделала то, о чем мечтала тридцать лет назад. И жалеть в жизни больше мне было не о чем.
У выхода из зала регистрации я сняла деньги в банкомате и направилась к вертолету, который ждал меня на площадке у въезда на автомобильную стоянку. Потом резко повернулась и пошла к кассам. Давненько не была я в Париже! Муж должен вернуться из Гаваны 28 сентября. Успею! Не зря ведь Митяй говорит, что я – авантюристка!
Кабриолет был отогнан в тенек и стоял кокетливым красавцем среди патрульных машин.
Эту ярко-желтую машинку подарил мне муж на мои 45. Исполнил мое полудетское желание-мечтание, родившееся под малиновым кустом. А при регистрации, с которой помогал мне Митяй, я получила номер – 007.
Время уже шло к четырем часам, сентябрьский прохладный вечер спускался на по-прежнему забитую кольцевую.
Опустив капюшон кабриолета, я положила руки на руль, уткнулась в них лицом и некоторое время сидела, не в силах повернуть ключ зажигания. Аромат васильков окутывал меня. В голове крутилось то, что полчаса назад говорил Женька, обнимая меня. И вдруг одна фраза прозвучала совершенно отчетливо.
– Все самое лучшее, – сказал Женька, – ты написала там, в тени малинового куста.
* * *
Я очнулась от звонка телефона, он у меня играет саундтрек из фильма «Секс в большом городе», чем очень веселит окружающих. Высветился номер мужа. Леха догадался, конечно, что я поеду в Домодедово и решил морально меня поддержать.
Сняв трубку, я услышала: «Ты – самая лучшая, самая красивая, умная и талантливая жена на свете. Моя жена. Я стою на набережной Малекон в Гаване и кричу во весь голос – Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ!» Пусть океанский ветер донесет до тебя мое признание!»
И он запел мне свою любимую песню «…Если хочешь остаться, останься просто так». Потом телефон забулькал, захрюкал и отключился.
Ну, «лыцарь»! Так в шутку, любя, я называю своего Лешу.
Натянув глубже васильковый венок себе на голову, я газанула с гаишной площадки, не оглядываясь, а только помахав рукой над головой. Лишь черный след протектора остался на память моим помощникам.
– Шальная баба, – прочитала я по губам лейтенанта, открывавшего мне шлагбаум.
До разворота на Рублевское шоссе я «долетела» минут за 15. Сама от себя такого не ожидала. Видя мой номер, машины, грузовые и легковые, шарахались в сторону.
Трасса была пуста. Похоже, в ожидании правительственного кортежа ее перекрыли где-то у Кунцевской.
Я нашла среди записей «Дискотеку Авария», врубила на всю катушку «Если хочешь остаться» и нажала на педаль акселератора. Митяй стоял у поста ДПС на повороте на Ильинку. Увидев мою приметную машину, он переключил светофор на зеленый, и взял под козырек. Я в ответ вскинула руку, сжатую в кулак.
Я неслась к дому, ни о чем не думая и опомнилась только когда затормозила у ворот своего гаража.
Я чувствовала себя самой счастливой женщиной на свете.
Пока в августе варится царское варенье, пока жив малиновый куст, а муж признается мне в любви с другой стороны земного шара, пока при виде моей машины Митяй берет под козырек – жизнь прекрасна и удивительна! И она продолжается, моя счастливая жизнь под малиновым кустом.
Я достала пульт из бардачка, и ворота поехали вверх…
* * *
Билет я купила на третье число. До встречи с Женькой мне хотелось просто погулять по Парижу, посидеть в уличном кафе на набережной Сены , побродить по блошиному рынку в поисках чего-нибудь интересненького. Мне предстояло решить, что же я скажу ему, и хватит ли сил у меня сказать, что я его простила. Простила – но было ли что прощать? Просто мы были половинками разных яблок. А что же нас так связывало все годы? Как там в песне поется?
«Хочу тебя забыть, да, видно, не получится,
Сплетаются в года моей печали дни.
Я отдала тебе, Америка-разлучница,
Того, кого люблю, храни его, храни».
* * *
А люблю ли? Любила ли? Или это был мой юношеский каприз? Если возникает такой вопрос, то любовь висит в шкафу в чехле с нафталином. А может быть, она просто превратилась в скелет на плечиках?
* * *
Я не была в Париже три года. В последний раз прилетала в июле на серебряную свадьбу к своей однокласснице Маргоше, выскочившей в институте замуж за красавца француза, оказавшегося владельцем виноградников и небольшой очаровательной виллына Лазурном побережье.
У Марго в Париже была крошечная квартирка-студия, где я могла остановиться на несколько дней. Я позвонила ей, чтобы спросить разрешения, и была приглашена после утряски всех своих проблем к ней на виллу на какое-то семейное торжество. Маргоша сказала, что курьер принесет мне билет на скоростной экспресс на десятое сентября. Все складывалось просто отлично!
Париж встретил меня летним теплом, запахом жареных каштанов и безоблачным небом. Консьержка открыла мне квартиру и пожелала хорошо отдохнуть после дороги.
Я попросила ее заказать для меня свежих круассанов и ежевичного джема.
* * *
Утром я отправилась гулять по городу. Погода стояла чудесная. Уличные кафе попадались на каждом шагу и, решив передохнуть, я села за столик под тентом и заказала капучино.
Осень в Париже. Такой осени у меня еще не было. Или это еще одна глава из моего будущего романа о бабьем лете? Красно-рыжие деревья, щемящие звуки аккордеона и запах дымка жарящихся каштанов. Ну вот, с этого, пожалуй, я и начну свою главу. Но она, увы, не обойдется без Женьки.
В этот момент моих раздумий у меня перед глазами появилась рука в белой лайковой перчатке, держащая связку шаров в виде сердечек. На соседнем стуле сидел Арлекин с нарисованной до ушей улыбкой и горящими озорными глазами, серебряная слезка под правым глазом смотрелась пикантно.
– Madame, s\'il vous plaét!
Я наугад выбрала себе шарик.
– Merci!
Арлекин потянул меня за руку, и я оказалась в центре группы артистов уличного театра. Здесь были акробаты, жонглеры, танцоры. Один из артистов виртуозно наигрывал веселые мелодии на концертино.
Я засмеялась и пошла вместе с ними. Сколько уж улиц мы прошли, не могу сказать, но везде к нам присоединялись прохожие, туристы. Так мы и шли, приплясывая, по улочкам Парижа.
Но вдруг мой шарик лопнул и из него выпала какая-то бумажка, свернутая в трубочку. Я наклонилась и подняла ее. Развернув, прочитала – Alex. Меня словно током ударило. Откуда они знают имя моего мужа и что все это значит? Я словно оглохла.
Оглянулась. Вокруг никого не было, артистов словно ветром сдуло. Я прошла чуть вперед по улице и попала на блошиный рынок. Чего тут только не было! А я не знала, что я ищу.
Наконец, в одном ряду я увидела картины, старые книги, статуэтки. Меня окликнул кто-то. Я обернулась. Это была старушка в чистеньком пальто по моде шестидесятых годов прошлого века и в шляпе с вуалеткой. Лицо ее было густо напудрено, на нем ярко выделялись губы, накрашенные алой помадой.
– Мадам! Посмотрите, пожалуйста! – старушка приглашала меня к своему раскладному столику.
– А почему Вы решили, что я говорю по-русски? – спросила я удивленно. Старушка, прикинувшись глухой, продолжала: «Вот посмотрите старинные открытки, вот альбом моего отца с эскизами. Мадам ведь умеет рисовать?»
Умею. Но откуда она это знает?
Ничему уже не удивляясь, я перебирала альбомы, открытки. И вдруг мне попался совершенно чистый альбом с бумагой для акварели. На таких листах я любила рисовать простым карандашом. Альбом был в переплете из тонко выделанной кожи крокодила.
– Сколько? – спросила я.
– Я дарю его Вам, – сказала старушка,
– Нет, я заплачу! Сколько?
– Умирая, – сказала старушка, – мой отец наказал мне отдать этот альбом русской женщине в черно-белом костюме, и чтобы глаза ее были похожи на крыжовник, из которого варят царское варенье.
На мне был черно-белый костюм. И у меня глаза – зеленые. Мой отец всегда называл их – крыжовины. Но царское варенье – это уже слишком! Мне стало не по себе. А старушка вложила альбом мне в руки.
Я схватила его и в ужасе бросилась бежать вон с блошки. Сердце просто выскакивало из груди. Отдохнув немного на скамейке, я решила внимательнее рассмотреть альбом.
В альбоме было тридцать, ТРИДЦАТЬ! листов. На внутренней стороне обложки было написано «Женщине по имени Ирина». Господи! Где мой валидол?!
Я решила вернуться к старушке и отдать ей альбом.
Но на том месте уже никого не было. Только молодой мужчина предлагал всем фигурки из гипса. Пока у него не было покупателей, он ловко лепил их, словно пирожки.
Я не говорю по-французски и спросить о странной даме в вуалетке не могла. Просто стала рассматривать фигурки. В одной из них по ярко-красным губам я узнала старушку. Я хотела взять эту фигурку, но она рассыпалась, превратившись в горку сухого сероватого гипса.
– Pardon! – воскликнула я, отдернув руку, но скульптор даже не взглянул на меня.
Я положила альбом в пакет и пошла скорее прочь с блошиного рынка.
* * *
Ночью ко мне пришла Мэрим. Она села на краешек кровати и ласково погладила меня по голове.
– Девочка моя, послушай меня внимательно. В этом альбоме тридцать листов, ровно столько, сколько ты прожила без него. До вашей встречи есть еще время. Вспомни все, что тревожило тебя. И нарисуй. А когда будешь на побережье, попроси старого Патрика, он из наших , чтобы вывез тебя на катере подальше от берега, привяжи к этому альбому камень и брось в воду.
И больше ты никогда не вспомнишь про свои печали. Твой муж не позволит тебе этого сделать. И не узнает, что ты летала в Париж.
Мэрим достала из кармана карандаш и положила на альбом. Она еще раз погладила меня по голове и растаяла мерцающим облачком в углу комнаты.
* * *
Утром, прихватив альбом, я спустилась на улицу в кондитерскую «Paradise» в доме напротив. Меня встретил хозяин: «Nice to meet you, madam! Cofee оr tea?» Мсье Фонтень не забыл меня. Он немного говорил по-английски, и мы могли пообщаться.
– Nice to meet you! Green tea, please!
– Новый роман? – спросил он меня.
– О, нет, я просто отдыхаю и сегодня я – художник.
– Я всегда восхищался талантами русских женщин, мадам!
– Мерси!
Так, за несколько дней я заполнила рисунками весь альбом. На первом листе была статуя Свободы на фоне моего малинового куста, на втором – Генуэзская крепость, потом синичка, сидящая на форточке, потом, потом…
На последнем было изображено основание Эйфелевой башни, и мужчина с женщиной, стоящие спиной друг к другу.
Это означало, что решение для себя я приняла окончательно.
Накануне нашей встречи в Париже пошел дождь. Я сидела у окна и любовалась городом.
Только вчера над этими улицами разносился запах жареных каштанов, слышались из приоткрытых дверей кафе звуки аккордеона и милый женский смех. Но за ночь город сменил свой наряд.
Художница-осень раскрасила город всего лишь в два цвета – серый и желтый. Серые кубики домов на полупустых улицах и золотистые пятна каштанов. Все это казалось сквозь туман и дождь размокшей декорацией, забытой бродячим театром, уехавшим догонять лето и солнце.
Лишь иногда мелькал то там, то тут яркий купол зонта. И было удивительно, сколько оттенков серого нашлось у осени на палитре.
Осень в Париже...
Я любила этот город в любое время года. Миллионы оттенков серого цвета под моросящим дождем. Да, осень в Париже была особенно хороша! Словно нежная песня об ушедшем лете. Жаль, что мне приходится уезжать именно сейчас.
Можно было бы сварить еще кофе и сесть у окна, откуда открывается чудесный вид на город, и наблюдать, как опускаются осенние сумерки, пустеют улицы. Включаются фонари, которые кажутся сквозь дождь размытыми, и множество лучиков делает их похожими на желтые астры, что продает на углу элегантная седая цветочница.
Эту даму я прозвала мадам Осень.
Весной и летом на этом месте работала красивая молодая женщина, смешливая и задиристая Вивьен, с которой мы подружилась, я частенько покупала у нее нежные розовые фиалки. Три года назад я провела июнь и июль в Париже, дописывая очередной любовный роман. Подруга любезно предоставила мне свою квартирку.
* * *
Я увидела его издалека. Он был в джемпере и джинсах. На куртке, которую он держал на коленях, лежал букет васильков. Я подошла и встала рядом. Но Женька так был погружен в свои мысли, что не сразу заметил меня. Тихо я присела рядом на ступеньки.
Женька очнулся от мучивших его дум и повернулся ко мне.
Лицо его было одутловато, а глаза потеряли прежнюю синеву и стали серыми, словно выцвели на солнце.
– Привет… Я в Париже… – просто сказала я.
– Привет, – тяжело выдохнул он, словно и не рад был моему появлению.
– Я здесь, Женька, я здесь…
– Это тебе! – протянул он васильки.
– Жень, значит, ты ничего не забыл?
– Я не мог забыть об этом все тридцать лет. Потому что дурак набитый!
– Так почему же ты ни разу не появился в моей жизни за это время?
– Давай поднимемся на верхнюю смотровую площадку? – предложил он, не ответив на вопрос.
Он сказал этот таким тоном, что мне стало не по себе, у меня возникло ощущение, что он задумал что-то страшное. Я попыталась представить эту его задумку и вздрогнула.
– А где Фима? – спросила я и тут же поняла, что сморозила глупость.
– Фима? Нет Фимы больше! Ушла Фима.
– Как нет? – ужаснулась я.
– А вот так. Мы приехали в Париж, и она умчалась гулять. Она хорошо знает город, я и не волновался. Пришла поздно, поцеловала меня, я как раз собирался ложиться спать. А утром я нашел письмо. Она сдала свой билет на круизный лайнер и купила билет на самолет. Написала, что видит, что мне она больше мне не нужна и просит ее не искать и не беспокоить. Если нужен ей буду, сама меня найдет… А я в октябре хотел сделать ее генеральным директором. Мне тяжело уже самому все дела вести. Так она и об этом написала, – ненавижу, мол, ваш хлеб бородинский, и компания мне твоя не нужна. Жених, видите ли, у нее богатый! Гостиницу имеет в Майами. Квартиру свою на Манхеттене сдала, Йель бросила. Замуж выходит и уезжает к мужу. Противно ей находиться в одной каюте с предателем и страдальцем. Она посчитала меня предателем по отношению к Серафиме.
– Да-а, дела… – я не нашлась, что еще сказать.
– Еще написала, что простить мне не может, что покойную мать на тебя так быстро променял. За что боролся… Ириш, давай бросим все и уедем ко мне в Нью-Йорк! Я не бедный человек, ты не будешь ни в чем нуждаться, вот два билета без числа до Нью-Йорка, – он вытащил из бумажника бланки билетов.
Я подошла к перилам смотровой площадки и посмотрела на восток. Туда, где за горами, за долами грустит и ждет меня мой малиновый куст, под которым я была всю жизнь так счастлива. Разве я могу променять его на жизнь в Нью-Йорке?
– Если ты ждешь ответа, то я говорю тебе – нет. Забудь об этом. Я простила тебя, но… нет! У меня завтра поезд в тринадцать тридцать. И это все.
* * *
…Огромный черный зонт распластался над нами, словно намокшая птица. Я стояла, уткнувшись носом как раз туда, где у мужчины обычно находится узел галстука. Но рубаха Женьки была расстегнута, и я все вдыхала и вдыхала такой забытый запах... Чужой запах.
Мне страшно было оторваться от него. Я знала, что не увижу его больше никогда в жизни.
– Дай мне твою запонку! – попросила я Женьку.
– Зачем?
– Я положу ее в косметичку, чтобы ты всегда был со мной.
Женька вытащил запонку и протянул ее мне.
Но в этот момент поезд дал прощальный гудок, я вздрогнула и запонка, выпав из моих рук, быстро покатилась к краю платформы и упала на рельсы.
– Мадмуазель, поторопитесь! – окликнул меня стюард.
Я, не поднимая глаз, поцеловала Женьку и, развернувшись на каблуках, быстро вскочила в вагон...
Там было шумно. Стучали двери купе, прошуршала накрахмаленными юбками монахиня с четками и небольшим саквояжем в руках. Хныкал ребенок... Обычная дорожная суета.
Я открыла дверь своего купе. Подружка позаботилась – купе было одноместным. Этот уютный закуток должен был перенести меня далеко на юг. Я закрыла дверь и бессильно опустилась на мягкий велюровый диван. Через несколько часов я окажусь на Лазурном берегу.
Я представила себе уютный пляж, куда ведет старая скрипучая калитка в конце стены, увитой хмелем, который добавляет в пиво старый Патрик. Патрик – такая же знаменитость, как и сама крошечная уютная вилла.
Вагон тронулся так мягко, что, копаясь в своей сумочке в поисках пудреницы, я не сразу поняла, что поезд уже скользит по рельсам. Но так бесшумно и мягко, что чуть-чуть закружилась голова.
И когда я взглянула в окно, то только и успела проводить взглядом уплывающий перрон, на котором несколько человек махали вслед уходящему поезду.
Перрон оборвался как-то неожиданно, мелькнула стена вокзала с огромным циферблатом настенных часов, кажущихся под моросящим дождиком заплаканным глазом.
Дождь рисовал на вагонном стекле какие-то непонятные знаки, которые складывались в тарабарские слова, рисовал то пейзажи, то абстрактные картины, и за этим разрисованным стеклом таял в тумане такой любимый город с его прекрасными улицами, бульварами и площадями. Вот мелькнула среди домов размытая туманом ажурная конструкция Эйфелевой башни.
А город медленно уплывал за окном, постепенно становясь полупрозрачным видением. Туманно-дождевая дымка накрыла его серебристой органзой.
Как приятно прижиматься горячим лбом к прохладному стеклу вагонного окна! И было совсем непонятно, то ли на стекле дождик рисует свои картинки, то ли это мои слезы пишут и пишут одно и то же слово: « Прощай... Прощай? Прощай!!!»
Уже вечером мы ужинали в просторной столовой виллы, увешанной портретами предков. Нам прислуживал старый Патрик.
Я ждала, когда он подойдет ко мне. Патрик говорил по-английски, и я должна была условиться с ним о выходе в море на катере. Он сказал, что будет завтра в шесть утра ждать меня на пляже у скрипучей калитки.
Море слегка штормило. Патрик привязал мой альбом к большому камню и крепко обмотал бечевой. Потом протянул его мне: «Бросай!»
Но камень сам выскользнул из моих рук в морскую пучину: «Плюм»…
…И я проснулась у себя дома в Москве. На календаре 28 сентября. Пора встречать мужа.
* * *
P.S. В середине ноября в мою дверь позвонил темнокожий курьер из Американского посольства.
Он принес бежевый конверт, со штемпелем посольства США в Москве.
Я полезла в кошелек, зная, что у меня там 50 долларов, и протянула их курьеру.
Несколько удивленный такими чаевыми, он приподнял фуражку и проговорил бархатистым басом: «Thank you, ma’аm».
Закрыв за посыльным дверь, я поспешила вскрыть конверт.
Внутри оказался сложенный пополам лист.
Посередине по-русски было напечатано:
...
Китаев Евгений Алексеевич скончался 30 сентября 2003 года в York Presbyterian Hospital Center, после тяжелой и продолжительной болезни. Погребен на кладбище в г. Сан-Диего, штат Калифорния, рядом с женой, погибшей в теракте 11 сентября 2001 г.
Письмо было подписано чернилами от руки
...
Serafima Kitaeff
Следом за листом выпало яркое фото. На фоне статуи Свободы стоял Женька между своими Серафимами.У всех троих в руках связки воздушных шаров, а у маленькой Фимы еще и розовая сахарная вата на палочке. Они смеялись. Такого счастливого Женьку я не видела никогда.
Я перевернула фото. Там Фиминой детской рукой было написано «1989 Daddy\'s birthday».
Следом за фото из пакета выпали Женькины четки. Приглядевшись, я узнала те рябиновые бусы, которые бесследно исчезли много лет назад со стены, куда мы повесили их сушить.
Просто оглянись, уходя…
2001 – 05.04.2011. Москва. ©



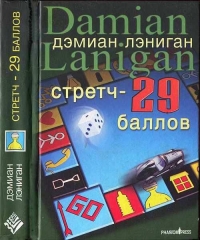
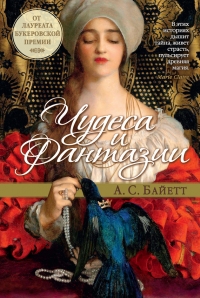





Комментарии к книге «В тени малинового куста», Рута Юрис
Всего 0 комментариев