Жан д’Ормессон Бал на похоронах
Роман
Было время, когда я ненавидел его: мы любили одну и ту же женщину. При этом Ромен был моим другом. Вот так иногда жизнь страшно усложняет самые простые вещи…
Мы с ним, молодые, хохочущие, объездили моря и сушу. Стоило мне подумать о нем — и перед моими глазами вставали корабли в порту, рисовые плантации на террасах и поля лаванды.
Он был высок, очень спокоен, всегда в ровном настроении, уверен в себе и беспощаден к себе и другим. Он ни во что не верил и над всем смеялся. И в то же время у него был редкий дар: он умел украсить жизнь.
Мужчины, женщины, дети, домашние животные, таможенники и связисты, профессора метафизики и продавщицы магазинов самообслуживания — все, кому довелось с ним однажды встретиться, уже не забывали его. Особенно женщины — они его просто обожали. Но он умел очаровать и мужчин. В общем, когда он проходил — внутри вас загоралось солнышко…
…Сейчас он окутан холодным сумраком и очень скоро будет навсегда опущен в землю, по которой он всегда шел победителем. Жизнь, которую он умел делать такой радостной, оказывается, довольно-таки мрачная штука…
У ворот кладбища я столкнулся с Жераром. Он разговаривал с фотографами. Жерар — один из его друзей. Мы с ним недолюбливаем друг друга. Я думаю, что Ромен тоже недолюбливал его.
— Бедный Ромен, — сказал он мне.
— Это мы — бедные, — возразил я. — Нужно будет привыкать жить без него, и это будет непросто.
Ромен не хотел, чтобы его хоронили по церковному обряду. Да и выбор такового был бы для него непрост. Его мать была немецкой еврейкой. Раввины, кюре, пасторы и, возможно, даже имамы были бы не прочь заполучить его. В результате целой череды приключений — в песках пустынь и на Среднем Востоке (о которых он никогда не рассказывал), а затем в небе России в составе эскадрильи «Нормандия-Неман» — он стал видным участником Сопротивления и получил нашивки майора или даже полковника, но, вместо того чтобы носить их на виду, — прятал их под рукавами. Так что теперь, приложив некоторые усилия, можно было бы организовать ему грандиозный похоронный спектакль — из тех, которые так мастерски ставят в Инвалидах.
Я немного помечтал об этой торжественной церемонии, которая четко предстала моему воображению и которая никогда не состоится в честь Ромена.
Мне ранее довелось присутствовать в Инвалидах на официальных похоронах… Я вспоминал обо всех затеях и украшательствах этой похоронной церемонии, продуманных с большим искусством, — все это могло вскружить голову любому наблюдавшему ее.
…Ничего этого для Ромена не будет. Он слишком любил удовольствия, чтобы отдавать себя во власть скучным почестям. Пусть даже посмертным. Он всегда укрывался от них, как от чего-то стесняющего, посягающего на его свободу. Он категорически возражал против малейшего проявления коллективной истерии на его будущих похоронах, против печали со слезами, эмоциями и сожалениями. В сущности, все это — лишь погремушки похоронного праздника…
Он всегда жил настоящим и отвергал любые рассуждения о жизни после смерти или бесполезные напоминания о прошлом. Жизнь должна проживаться — он был в этом убежден — тут же и сразу. Жизнь была для него продуктом, дегустировать который нужно немедленно и который не терпел искусственной консервации. Ее не стоило упаковывать, украшать бантиками, выставлять напоказ или издавать громкие возгласы по ее поводу. Что было кончено, то было кончено, и об этом разговора больше не было.
Ущербные любовные связи раздражали Ромена. Ему и в голову не пришло бы любить женщину, которая не любила его или уже не любила его. Все, что затормаживало жизнь, привязывало к прошлому или заглядывало слишком далеко в будущее, было для него невыносимо. Ему было нужно быстро идти вперед и не оглядываться. Его несколько удивляло, например, что мне не жаль тратить время на написание романов.
— Ты даешь себе труд, — говорил он мне, — писать романы, которые все равно хуже, чем жизнь. Ты хочешь, чтобы о тебе говорили? Или ты просто не можешь иначе?
— Гм, — отвечал я. — Ну, это как живопись… или музыка… Стараешься… Хотелось бы…
— Или ты воображаешь, — что было бы еще хуже, — что через пятьдесят лет кто-нибудь будет еще тебя читать? Когда ты умрешь, тебе на это будет наплевать.
Я вспомнил, как вечерами мы сидели с ним под тентом, на палубе корабля, за оригинальным блюдом — чем-то вроде смеси водки с говяжьим консоме, — на венецианской альтане, глядя сверху на черепичные крыши Венеции. В небе роились мириады звезд, и мы созерцали их в вечерней тишине. Нам не раз случалось говорить с ним о жизни, о смерти, о человеческой судьбе. Я спрашивал его, во что он вообще верит. И я заранее знал ответ: он ни во что не верил.
— Как? — переспрашивал я. — Совсем ни во что?
— Отчего же? — отвечал он мне. — В солнце. Воду. В снег на горах. В краски этого мира. В дружбу. И, может быть, в любовь…
— А в разумное устройство Вселенной?
— Во что? — переспросил он.
— В смысл истории. В суть вещей, скрытую за ними. В тайну, кроющуюся за видимостью.
— Ты говоришь о Провидении? Конечно, нет. Я не верю ни в какого Бога. Если таковой существует, пусть его приверженцы докажут мне это.
— А что после смерти?
— После смерти — ты и сам хорошо это знаешь, и все это знают, только боятся себе в этом признаться — после смерти нет ничего. Мы умираем, как деревья, подточенные временем или поверженные молнией; как эти морские птицы — ты помнишь, мы подбирали их, бездыханных, на пляжах Корсики или Греции, — и мы умираем полностью.
— И что, когда ты умрешь, не будет ни священника, ни отпевания, ни молитв, ни надежд?
— Молитв? Зачем? Нет, мне ничего не надо.
— Просто имя на могильной плите?
— Имя?..
Я видел, что он раздумывает…
— Мое имя? Я думаю, что этого уже слишком много. Это бессмысленно… Зачем? Нет-нет, я совсем ничего не хочу… Ни молитв, ни воспоминаний… Прошу — никаких речей. Я всегда ненавидел речи. Никаких рассуждений. Не надо дат. Имени тоже не надо. Меня зароют в яму — и покончим на этом.
— Да уж, — сказал я, — это будет не слишком весело.
…Это оказалось совсем невесело. Мы все плакали. Мертвых всегда оплакивают, потому что знают, что больше не увидят их здесь, на земле, — даже если мы храним в сердце смутную надежду встретиться с ними когда-нибудь потом и в иных сферах… С Роменом все было хуже. Нас было довольно много — тех, кто любил его, — но он не оставил нам ни малейшего шанса вновь встретиться с ним — ни здесь, ни там, в какой бы то ни было форме… Он занимал огромное место в жизни многих из нас и теперь уходил навсегда, не протянув спасительного шеста, за который могли бы ухватиться наши надежды…
Я пришел на похороны задолго. Не считая фотографов, уже готовых к работе и липнущих вокруг Жерара, народа было еще мало, и я шел почти в одиночестве по длинным кладбищенским аллеям, окаймленным деревьями и могилами. Было хмурое мартовское утро, падали редкие капли дождя. Меж тем весна уже начинала пробиваться издали — неприметно, но упрямо — сквозь тучи, бродившие высоко в понемногу голубеющем небе. Если не считать, что Ромен умер и мы собирались его хоронить, — вполне обычный день…
Но в этот день мир сосредоточился вокруг Ромена. Потому что мы были друзья, а он уходил навсегда. Смерть, как любовь, стирает все остальное. Остались только он и я. И бесчисленные связи, которые нас объединяли.
Разные картины представали передо мной. Я снова видел его в Венеции, на Бали, в монастыре Святой Катерины, на Синае — там мы бывали с ним вместе. Это были красивые и яркие воспоминания. Но временами его лицо уже как бы начинало стираться: мне не удавалось ясно представить его себе. Он ускользал, растворялся, и меня понемногу охватывала паника. Я начинал опасаться, что вскоре буду не в состоянии мысленно увидеть его образ…
В этот момент я заметил вдали идущий ко мне знакомый силуэт — в свободном пальто, руки в карманах — Виктора Лацло. Его черное пальто было отторочено меховым воротником. Он был в перчатках, кожаных сапожках, довольно высоких, в своем знаменитом галстуке-бабочке в горошек. Этот галстук был чем-то вроде опознавательного знака для тысяч его студентов, а они на Виктора просто молились. Его глаза блестели за стеклами очков и, в сочетании с очень белыми волосами, придавали ему странный вид человека, пришедшего в это угрюмое место просто развлечься.
Виктор Лацло и вправду был любопытной личностью. Он был венгр по национальности и преподавал в Высшей практической школе. Что он преподавал? Трудно сказать. Вообще он был лингвистом. Он говорил на добрых двух десятках языков, а начинал в Париже и Принстоне с курсов тибетских языков. Он называл себя мифологом, был великолепно образован, и его лекции в Высшей школе привлекали пеструю толпу студентов, а еще бродяжек в надежде согреться, да честолюбивых чиновников и светских дам, которым не повезло в жизни и которые не смогли найти утешения в религии.
Я сам прослушал — со смесью раздражения и восхищения — некоторые из его курсов и кончил тем, что вступил с ним в сдержанную дружбу. Как-то вечером я встретил его в доме у знакомых, возле Пантеона, где регулярно собирался маленький круг друзей из разных мест и куда случалось попасть посторонним гостям. Это было в конце правления генерала Де Голля. Лацло высказывался о президенте республики так, что хоть сейчас надевай на него наручники: он талантливо вышучивал его — жестко, почти с ненавистью, — и вызывал смех в его адрес у всех постоянных посетителей дома, среди которых, кроме хозяина и меня, были Ромен, Жерар и некоторые другие.
Как раз на следующий день Генерал открывал выставку египетских древностей в Лувре. Я пришел туда с Роменом и наблюдал издали за толпой придворных, стремящихся взять штурмом главу государства. И вдруг, к своему изумлению, я увидел моего Виктора, который, работая локтями, исхитрился предстать прямо перед Генералом. И я услышал, как он произнес громким и четким голосом, в должной форме, клятву верноподданности, которой от него вовсе никто не требовал. Заканчивалась она словами: «Будьте уверены, господин Президент Республики, что у вас нет более верного и преданного сторонника, чем я».
И тогда вдруг Лацло заметил меня, глядящего на него в изумлении. Он обернулся ко мне без малейшего смущения и бросил со смешком:
— Ага! Вы наблюдали одну из моих дьявольских штучек. Как вы ее находите? Забавно, не так ли? И вполне удачно.
Ничто не могло ни в малейшей степени поколебать его слепую веру в собственную персону…
— Вы пришли ради Ромена? — спросил я его.
— А ради кого или чего, по-вашему? — возразил он. Уж не думаете ли вы случайно, что я прогуливаюсь среди могил в поисках вдохновения или призраков прошлого?
— Я не знал, что вы были дружны.
— Были ли? Я не уверен в этом. Но я был другом его отца.
Мы медленно шли рядом.
— Ромен был человеком удовольствия и желания. Это мне в нем и интересно. Желание — ключ ко всему. Видите ли, все эти ценности, идеологии, мораль, убеждения… Нет, я верю в историю. А историей движет желание. Желание — единственный общий корень, который я сумел обнаружить в самых разнонаправленных поступках людей. Они воюют — это их желание. Они ничего не делают — это желание. Они убивают себя — это желание. Они поют — это желание. Во всем — желание.
И на аллее кладбища, где нас, по счастью, было пока только двое, Виктор Лацло принялся петь. Это была, по-моему, ария Лепорелло из самого начала «Дон Жуана»:
Notte e giorno faticar Per chi nulla sa gradir; Pioggia i venta sopportar, Mangiare male e mal dormir!Он воздевал руки, подражая оперным певцам, изображал танцевальные па, издеваясь над придуманным тут же образом. И было похоже, будто невидимый оркестр, всплыв из могил, беззвучно аккомпанировал ему… Я смотрел на него во все глаза и не мог удержаться даже от некоторого восхищения: этой свободой мысли, движения и, пусть несколько натужным, чувством юмора.
— Если бы мне нужно было найти кого-нибудь, кто воплощал бы собой прошедшие годы, — говорил он, — я не искал бы мыслителя, полководца, артиста или спортсмена, я взял бы Ромена. Потому что он был самым свободным из нас и потому что его желания точно отражали мир, в котором мы жили. Знаете ли вы, что он прошел войну от начала до конца, при этом умудрившись сочетать в себе почти героизм с совершенным легкомыслием?
Я пробормотал, что слышал об этом.
— Знаете, что я думаю обо всех этих прекрасных войнах? — Мне плевать на них. Это не мой конек. Но что в них важно… Вы знаете, что в них важно?..
Я вынужден был признаться, что, к моему стыду, не имею понятия о том, что в них важно.
— То, что важно сегодня, и не было важным вчера. Ну, что это? Что?….Но это же история!.. Вы знаете, что такое история?..
— Но это вы должны мне объяснить, — промямлил я. — Это ваша область, насколько я знаю.
— Хорошенькое дело! — воскликнул он. — Это и ваша область. Или должна быть вашей. Вы ведь пишете романы, мне говорили. И о чем вы рассказываете в этих ваших романах?
В конце зимы, на аллее кладбища объяснять профессору лингвистики, о чем я пишу в моих романах, — это было выше моих сил.
— Если вы рассказываете там о чем-то другом, кроме истории, то ваш труд напрасен. Именно романисты и должны говорить об истории. Историки же, которые спрашивают себя, что такое история, и пытаются это объяснить, приходят в конце концов к тому, что не знают, о чем говорят…
Голова у меня уже начинала идти кругом.
— Возможно потому, что Ромен никогда не задавал себе вопросов об истории, он давал довольно точное представление об истории своей собственной персоной. Вы знаете, что его отец был гитлеровцем?
Я словно с луны свалился. Я подумал, что Ромен никогда не рассказывал мне о своем отце. Но это умолчание еще не означало, что его отец должен был оказаться гитлеровцем.
— Как гитлеровцем? — воскликнул я.
— Он даже воевал в Испании. Но не на стороне Мальро, Хемингуэя и Оруэлла. Напомните-ка мне названия нескольких ваших романов…
— Гм… — протянул я, озадаченный этим очередным зигзагом его мысли.
— Вы в них рассказываете о Гитлере, о Сталине?
— Ну, — сказал я, — приходилось… Да, я припоминаю, что в нескольких моих книгах я говорил и о Сталине, и о Гитлере…
— Вот и не надо было говорить ни о чем другом. Все остальное бесполезно, особенно в романах. В этом веке каждого из нас уже больше не сопровождает наш личный ангел-хранитель. Его место занял один из близнецов-врагов: Сталин или Гитлер. Любовные истории, амбиции, успехи и провалы — все, что составляло плоть романов ХІХ века, — уже не имеет значения. И даже деньги и сам Бог, которые всегда были великолепными пружинами развития действия, потеряли во многом свою художественную силу. То, чего не могут объяснить историки и что должны рассказать романисты — через малые достоверные детали: о кафе, операх, путешествиях, о времени и чьих-то рассказах о нем — это то, как повседневное существование трех поколений, одного за другим, — еще со времен Ленина и Веймарской республики, и после них, до нашего времени, и, возможно, еще после нас — определяется этими фигурами, Гитлером и Сталиным: их взаимной ненавистью, сообщничеством, мимолетным союзом и борьбой не на жизнь, а на смерть.
— Но разве нельзя было, находясь вдали и от того, и от другого, — выдохнул я, — верить в свободу, прогресс, демократию?
— Да вы смеетесь? — вскричал он. — Попробуйте написать хороший роман о прогрессе демократии и либеральных идей. Все поднимут вас на смех, а ваши читатели захлебнутся от скуки. То, что способно дать настоящие краски, живые краски — красную и черную — тому времени, которое мы пережили, — это вот эти цвета ада: коммунизма и национал-социализма. Вот что интересно! И в добрый путь! Немного перца в безвкусную похлебку консервативной буржуазии и радикал-социализма! Как нам было бы скучно без Гитлера и Сталина! Ромен, кстати, неплохо расположился между матерью еврейкой и отцом нацистом: он мог выбирать произвольно, к какой стороне примкнуть. Он ни во что не верил, вы это знаете. Как вы думаете, из него мог бы выйти хороший эсэсовец?
— Нет, — сказал я так твердо как только мог, — я так не думаю.
— События подтвердили вашу правоту, поскольку он не был эсэсовцем, а воевал в эскадрилье «Нормандия-Неман» на стороне Советов, хотя не признавал ни их идей, ни их режима, ни их образа жизни.
— Очевидно, еще более ненавидел он идеи нацизма и его образ жизни?
— Вполне возможно, — проворчал Виктор. — Но известно ли вам, как и почему он отправился в Англию 21-го или 22-го июня сорокового года?
Нет, я об этом не знал. И я почувствовал раздражение: Ромен никогда ни словом не обмолвился мне об этом своем выборе, который стал для него решающим.
— Он бросил жребий. При этом случилось присутствовать еще некоей даме, а он был мертвецки пьян. И ему было всего семнадцать лет… В семнадцать лет, знаете ли, исторические понятия… В этом возрасте не бываешь серьезным… Его отец-судовладелец был фашистом; он увлекался авиацией и брал его с собой в самолет с десяти лет, а с пятнадцати учил его водить самолет. Студенты в то время были скорее правых взглядов… Тогда не было этих либеральных рохлей, как сегодня, которые пугаются собственной тени и молятся на рынок. Рынок! Вы могли бы умереть за рынок?.. Его отец был видным реакционером, он сражался в Валенсии и на фронтах Астурии на стороне Франко и пел гимн фалангистов:
Cara al sol con la camisa nueva Que bordaste de rojo ayer…Он опять принялся петь на пустынном кладбище и, внезапно остановившись, поднял руку в фашистском приветствии перед оторопевшими могилами…
— И можно было идти на смерть за вот эти слова?.. О-ля-ля! Прекрасные воспоминания, не так ли?
— Да, прекрасные воспоминания, — воскликнул я.
— Бросьте вы! Не изображайте из себя, прошу вас, юную девицу-моралистку. Мы здесь среди своих, старина. И если бы Ромен был жив, он первый посмеялся бы над вами. Когда я был молод, существовали всего два понятия — забавных и достаточно близких, чтобы они могли смертельно ненавидеть друг друга — фашизм и коммунизм, и чтобы понимать друг друга с полуслова — опять-таки фашизм и коммунизм. Они понимали друг друга так же, как ненавидели друг друга, и только дураки испускали павлиньи крики, узнав о подписании германо-советского пакта… Я сейчас открою вам секрет: во времена молодости, когда я был дружен с отцом Ромена, — только молчите как могила! — я сам колебался в выборе…
— Вы колебались?! — удивился я.
— Это было потрясающее время. И не только потому, что я был молод. История, которую изучают потом, всегда далека от того, чем она была в свое время, когда она делалась…
Так вот, Ромен был тогда влюблен в женщину, которая была на пятнадцать лет старше его. Она была женой префекта полиции Марселя. Пожалуй, это скорее она страстно влюбилась в Ромена. Она была чертовски хороша и бесстыдна. А у него был друг… постойте, вы должны знать его имя! — это был нынешний великий канцлер Почетного легиона генерал Дьелефи. Они учились тогда вместе в марсельском лицее и были неразлучны. Зимой они вместе катались на лыжах, а летом ходили на лодке в бухты Кассиса. А когда выдавалось пару часов свободных — отправлялись в Истр побродить вокруг самолетов. И вот в тот вечер, о котором я вам говорил, Андре двадцать раз рассказывал мне эту историю…
— Какой Андре? — переспросил я.
— Андре? Да шевелите же мозгами, старина: это отец Ромена, муж немецкой еврейки, сторонник Франко, марсельский судовладелец, фанатик авиации… В тот вечер в портовом кабачке сидели Ромен, Элен и Симон Дьелефи. Симон весь кипел энтузиазмом: он хотел поступать в Сен-Сир и хотел сражаться на войне. Уже тогда голос и имя временного генерала, которого звали Шарль Де Голль и который имел наглость не подчиниться приказам и отправиться в Лондон, начинали будоражить умы французов. Симон Дьелефи бредил одной идеей — присоединиться к нему. А Элен, с ее зелеными глазами и ногами, растущими от шеи, думала совсем о другом, как вы понимаете, — о том, как удержать возле себя Ромена. Это был ее мальчик, но этот мальчик был уже мужчина… Ромен упился в стельку, и, не зная, как отделаться от Элен и Симона, которые тянули его в разные стороны, решил вдруг сыграть в орла и решку: бросить жребий, отправляться ли ему в Англию. Он попросил Элен — та была вся в слезах и расстроенных чувствах, тоже пьяная в доску — подбросить вверх монетку в сто су. Затем все трое бросились на землю, чтобы узнать указание судьбы, — и это был орел…
В пять часов утра Ромен и Симон отплыли на посудине, которая направлялась в Алжир. Конец истории вы знаете…
— Конец истории? — пробормотал я. — Какой конец?
— Нет, вы посмотрите на этого кретина, — пробурчал он, словно меня тут не было. — Он действительно ничего не знает. Но Ромен же был вашим другом! Посреди Средиземного моря Ромен и Симон захватили корабль на манер Хэмфри Боггарта в фильме «Иметь или не иметь» и силой принудили их идти на Гибралтар… А из Гибралтара…
…Между тем люди постепенно начали собираться. Составлялись маленькие группки, в которых царила торжественная неловкость, присущая церемониям похорон и королевских аудиенций. Я спрашивал себя, что мог бы подумать Ромен, больше всего боявшийся скуки, о собственных похоронах. Я думаю, он бы сбежал: он слишком любил жизнь. Он подцепил бы одну из молодых женщин, оплакивавших его уход, и с нею удалился. Он всегда продвигался по жизни победным маршем… У меня же не было ни его циничности, ни его равнодушия. Я обернулся к Виктору и вздохнул:
— Идемте…
Но он отпустил меня, хлопнув по плечу, и я направился поцеловать руку Марго Ван Гулип. Она в ответ прижала меня к сердцу, она тоже любила Ромена.
Между Марго Ван Гулип и Виктором Лацло не было ничего общего. Они принадлежали к двум совершенно разным мирам и могли бы никогда не встретиться. Единственной нитью, их связывающей, был Ромен. И еще я тоже. Марго — Королева Марго, как ее называли друзья, — редко бывала одна. Она всегда была окружена поклонниками или шутами, которые должны были ее защищать, развлекать, смешить, а она их за это кормила.
На кладбище в этот день ее сопровождали два брата. Эти двое хорошо пожили в прекрасные дни молодости: поездили по свету, просиживали сутками в казино Монте-Карло. Об одном ходили слухи, что он был любовником одной из тех «королев в изгнании», о которых мечтал молодой Пруст; о другом поговаривали, что его выставили из казино за то, что он шулерничал. За это шутники их окрестили: одного — Бур-ля-Рен (дословно «королевское местечко»), а другого — Шуази-ле-Руа («выбери короля»), а когда видели их обоих вместе — «Большое Предместье»…
…Как и Виктор Лацло, Марго Ван Гулип была живой легендой. Вся хроника «безумных лет» — между двумя мировыми войнами — была освещена ее блистательной и роковой красотой. Ограничимся здесь только областью литературы, в которой она сыграла далеко не последнюю роль. Так, Габриель Д’Аннунцио, уже пожилой, Луи Арагон и Поль Моран — все они, последовательно или одновременно, пали жертвами ее чар. Она постоянно является под разными личинами, что только добавляет ей очарования таинственности в их пламенных письмах. Жюль Ромен посвятил ей свой чистый и уже несколько подзабытый роман «Особенная женщина». В свое время вокруг него было много шума в парижском кругу, но он оставил ее холодной как мрамор. Она витает в нем — жестокая и обожаемая повелительница — во сне воспоминаний…
Происхождение всех великих мифов теряется во мгле. Одни утверждали, что она родилась в борделе где-то на Ближнем Востоке. Другие — что она была дочерью весьма набожного раввина из Туниса или Триполи. Сама она время от времени бросала с напускной небрежностью красочные намеки, в которых можно было усмотреть все что угодно: от голодного детства до интерьеров, достойных «Тысячи и одной ночи». Она три или четыре раза выходила замуж, но имена ее мужей были менее известны, чем имена ее любовников, при этом состояния ее мужей были гораздо значительнее. Она жила в Риме, Лондоне, Венеции, Нью-Йорке, а в Париже ее дом на набережной Анжу стал местом встреч для мира моды, театра, журналистики и дипломатии.
— Боже мой! — сказала она мне. — Как мы любили Ромена, мы оба.
Что я мог ответить ей на это?
— Вы помните Патмос? — спросила она меня с улыбкой. Эта улыбка напомнила мне обо всех бесчисленных былых победах этой девяностолетней, теперь разрушенной временем живой карикатуры, которая стояла сейчас передо мной и обнимала меня, — эта улыбка символично соединяла в себе все: радость жизни с ее разочарованием…
…Помнил ли я греческий остров Патмос?!. Мне было двадцать лет, или даже меньше; огненное солнце сжигало небо Греции… Прошлое налетело на меня вихрем и унесло прочь в складках своих очарованных парусов, и это теперешнее кладбище в преображенном настоящем отошло в небытие…
Я знал Грецию теоретически: я уже прочел несколько страниц Гомера, Эсхила и Софокла, Платона, Фукидида… Я знал наизусть эту дивную сцену из «Илиады», где Гектор, сын царя Приама, идя на битву с греками, осаждавшими Трою, прощается с Андромахой. Плюмаж из конского хвоста, развевающийся на шлеме Гектора-отца, пугает его маленького сына Астианакса — ему, возможно, всего несколько месяцев от роду. И тогда блистательный Гектор снимает этот страшный шлем, кладет его на землю, прижимает сына к себе и покрывает его поцелуями. Затем передает его на руки Андромахе, которая, — говорит Гомер, — принимает его на свою благоуханную грудь со смехом в слезах…
Этот «смех в слезах» Андромахи окрылял меня счастьем. Я видел в нем одну из важнейших черт мира романа, который вот уже много веков идет рука об руку с миром реальным. По мере своего роста, роман постепенно освобождался от героев и богов, на которых он держался в своем младенчестве — в купели эллинического мира. Повзрослев, он повернулся лицом к человеку, к пожирающим его страстям, часто противоречивым…
Но родился он у Гомера в этом его гениальном оксюмороне[1], и благодаря ему мать Астианакса предстает перед нами как живая.
Греция уже давно манила меня благодаря книгам, которые много — может быть, даже слишком — занимали меня в юности. Сам же я еще никогда не бывал в этих легендарных местах, где жило столько героев: Антигона, Ахилл, хитроумный Улисс, Перикл… Естественно, когда мне представилась возможность отправиться к Эгейскому морю и Додеканесу, я ухватился за нее обеими руками.
Боже, как прекрасна была жизнь в мои девятнадцать лет! Вернее, какими прекрасными кажутся мне мои девятнадцать лет, в свое время очень нелегкие, когда я вижу их сейчас, в той дали, освобожденными от тоски и горечи, украшенными всеми прелестями прошлого и воспоминаний о нем, в свете этого одного-единственного лучезарного слова — Патмос, которое произнесла Марго Ван Гулип на этом застывшем кладбище, где скоро упокоится Ромен, произнесла с улыбкой в слезах…
Итак, мне было девятнадцать лет. Я был принят к участию в одном из этих жутких конкурсов в Школе, на которых куется элита нации, — это по мнению одних, а по мнению других — они лишь продлевают агонию буржуазных ценностей. Я прочел много книг, но совсем не знал жизни. Я питал в душе, воспаленной чтением, большие и смутные надежды, к которым тайно примешивалась неуверенность в неизвестном будущем.
Я не знаю, у кого в Школе на улице Ульм созрела эта гениальная идея — о конкурсе. Может быть, это был Луи Альтуссер, доброжелательный философ-марксист, который был репетитором и добрым посредником между студентами и администрацией — до тех пор пока его разум не погрузился в сумерки (ей-богу, жизнь — настоящая машина по производству вперемешку и счастья, и страданий!), это помрачение впоследствии толкнуло его на убийство: он задушил свою жену Елену…
А может быть, это был сам директор Нормальной школы. Возможно, тогда это был Фласельер, ставший жертвой грубой шутки бессердечных студентов-«нормалистов»: они послали от его имени и без его ведома запрос о его приеме кандидатом во Французскую академию; не удовлетворясь этим, они затем простерли свое коварство до того, что на его опровержение дали свое опровержение в соответствующих колонках газеты «Монд»…
От кого бы ни исходила эта гениальная идея, она состояла в том, чтобы организовать — по сниженной стоимости — для нескольких талантливых студентов, «помешанных» на литературных идеях и формах, культурноархеологическое путешествие в Грецию.
…Море, несмотря на довольно сильно дувший «мельтем», было сплошным очарованием. Земля же была вся в статуях и храмах. Мы поднимались к Акрополю, прогуливались в Пропилеях, Парфеноне, Эрехтейоне, обрамленном портиком, который поддерживают коры (или кариатиды), а также в храме Афины Никейской. Храмы, статуи, холм богов — мы сразу узнавали их, вплоть до мельчайших деталей, потому что, не видя их ранее, мы уже из книг знали о них почти все. Мы посетили Саламины, Эгину, мыс Суньон, где лихорадочно искали, но безуспешно, росчерк Байрона на одной из колонн храма Посейдона; были и на Делосе и просто сходили с ума от его куросов и львов… Мы плавали и к Санторину, воображая себе погибшую Атлантиду… Нас жгло солнце; мы брали напрокат велосипеды или мопеды, чтобы прогуляться на островах через поля лаванды, а потом купались в море — в море богов и героев…
В последние годы своей жизни апостол Иоанн — любимый ученик Христа, который стоял у креста рядом с Девой Марией и который принял ее тело замученного Христа — удалился на остров Патмос, где и написал свой Апокалипсис. Патмос был последним островом, который нам предстояло посетить перед долгим ночным — без захода в порт — возвращением в Афины. Большинство греческих островов — плоские. Патмос же — крутой, а в деревне Хора, которая считается его центром, возвышается монастырь Иоанна Богослова — он знаменит своей библиотекой. Мы высадились, как и все, в маленьком порту Скала (многие греческие порты под влиянием Венеции и Генуи стали называться Скала) у ворот Хоры и, как и все, приготовились медленно подниматься к монастырю. Было очень жарко. Мы решили искупаться, прежде чем предпринять восхождение, которое обещало быть трудным.
Едва мы успели войти в воду, как на пляже, почти пустынном, появилось удивительное авто. Это был маленький белый открытый автомобиль — такие можно было увидеть на площадках для гольфа, или в кино — в больших пальмовых садах экзотических отелей. Он был снабжен чем-то вроде навеса для защиты от солнца водителя и пассажиров. Из этого автомобиля, похожего на гибрид лунного робота с салонной безделушкой, вышли две женщины: одна — дама-брюнетка в черных очках, в большой соломенной шляпе, одетая в длинное просторное светлое платье; второй была молодая светловолосая девушка в шортах. Они вытащили из авто ивовую корзину, поставили на песок и принялись доставать из нее со сноровкой фокусниц помидоры, крутые яйца, ветчину, дыни и две бутылки вина.
Среди нас был лингвист-педант, историк, занимавшийся гностиками и богомилами, классическая филологиня… Понятно, что все мы — ученая публика — смотрели на это бытовое чудо большими глазами. Под солнцем «Одиссеи» это было как вторжение английского романа в курс литературы Коллеж де Франс. Или как мадам Соларио в Латинском квартале.
В общем, мы онемели от изумления. Однако в этой бухточке, пронизанной солнцем, невозможно было сделать вид, что мы не заметили друг друга. И «мадам Соларио» сделала первый выстрел, скромно представившись:
— Меня зовут Мэг Эфтимиу.
Затем она угостила нас фруктами и печеньем, несколько твердоватым. Молодая девушка была немкой с примесью русской крови, эта примесь сказалась на ее высоких скулах; ее звали Элизабет.
— Она играет на скрипке, — сообщила «мадам Соларио».
Мы провели вместе около двух часов: дремали, растянувшись на песке; время от времени, спасаясь от жары, бросались в воду и чувствовали себя восхитительно, хотя и немного напряженно. Когда обе дамы собрались обратно домой, они пригласили нас с собой. Но было абсолютно исключено, чтобы мы могли все разместиться в их игрушечном автомобиле. Мы разделились на две группы. Некоторые из нас — их было больше — решили не обременять «мадам Соларио» и скрипачку. Остальные трое — и я в том числе — решили принять их приглашение. Филологиня расположилась в авто вместе с дамами. Ле Кеменек и я с помощью Элизабет задействовали двух ослов, предназначенных для подъема к монастырю Иоанна Богослова. Дом «мадам Соларио» находился за монастырем.
День уже склонялся к вечеру. Дикая полуденная жара отступила. Все вокруг словно растворялось в нежном тепле. Элизабет, добравшись до вершины раньше нас в своем опереточном авто, вернулась навстречу нам пешком, чтобы показать дорогу. Дом «мадам Соларио» оказался большим старым строением с толстыми стенами, очевидно, когда-то оно служило жилищем служителям монастыря. Сейчас на разных его этажах располагались террасы, заполоненные красными цветами, я с восхищением повторял про себя их экзотическое название — «бугенвиллии», чтобы не забыть… С каждой террасы открывался потрясающий вид на море. Наша филологиня даже легонько присвистнула.
— Само собой разумеется, — сказала Мэг Эфтимиу, — вы останетесь пообедать с нами и переночевать. Вы можете остаться на несколько дней. Я собираюсь в Париж на следующей неделе, и было бы хорошо поехать туда всем вместе.
Однако остаться даже на несколько часов в очарованном замке «мадам Соларио» было проблемой. Дело в том, что все остальные «нормалисты» отправлялись тем же вечером в Афины. Противоречивые чувства раздирали нас, зеленых интеллектуалов. Сначала дрогнула филологиня: она решила вернуться к нашей группе, осматривавшей монастырь. Ле Кеменек и я долго не раздумывали. Мы поручили этой ученой девице сообщить нашим, что мы остаемся и будем добираться в Париж своим ходом.
Наш ужин на верхней террасе, под звездами и при свечах, был словно прекрасный сон. Ветер полностью стих. Мы ели голубцы в виноградных листьях, «сувлаки», «кефтедес», и запивали все это терпким вином. Были только свои: друзья «мадам Соларио». Среди них был высокий брюнет, одетый в белое, похожий на индейца-инка или на воина из легенды, сошедшего с какого-нибудь барельефа; он был бесподобно самоуверен, говорил громко, и я сразу стал испытывать к нему смешанное чувство притяжения и недоверия. Его звали Ромен. Вот тогда — на террасе дома Мэг Эфтимиу на Патмосе — я и увидел его в первый раз…
…Кто-то взял меня за руку. Я обернулся. Марго Ван Гулип уже осаждал рой ее «придворных», для которых она была образцом стиля и щедрой хозяйкой. А мне улыбалось несколько застывшей улыбкой еще одно знакомое лицо.
— А, это ты, — протянул я. — Здорово, что ты приехал. Ты откуда?
— Из Тосканы, — ответил он. — Вот примчался.
На меня нахлынул прилив нежности. Я взял его за плечи и всмотрелся в лицо. Я давно его не видел. Но его лицо, растиражированное газетами и телевидением, было настолько известно, что, казалось, вы виделись с ним только вчера.
— А твоя жена где? — спросил я.
— Ты ее сейчас увидишь. Она должна присоединиться ко мне здесь.
— Ты сейчас работаешь?
— Понемногу, как всегда, — ответил он.
— Это роман?
— Можно сказать и так. Здоровенное сооружение, и мне с ним тяжко.
Я засмеялся:
— Тогда я за тебя спокоен.
Ле Кименек — это был он — шумно вздохнул.
Он писал немного. Но каждая его книга делала много шума и имела успех. Будучи еще в Школе, он имел репутацию одновременно лентяя и живчика. Марксисты, троцкисты, психоаналитики смотрели на него несколько свысока. И когда — это было в шестидесятые годы — он получил Гонкуровскую премию за свою первую книгу «Прощай, жизнь, — прощай, любовь» (она разошлась тиражом в 600 000 экземпляров, а затем была переведена на 11 языков), это был сюрприз. Для всех, но только не для меня: я-то знал, на что способна его кажущаяся лень…
— Я видел, ты разговаривал с Лацло. Я с ним не знаком. Но мне нужно кое о чем с ним поговорить. Ты не мог бы меня ему представить?
— А куда он девался? — спросил я, оглядываясь вокруг.
И я его заметил: он разговаривал с Марго Ван Гулип, все так же плотно опекаемой «Большим Предместьем». Невзирая на их тяжеловесное присутствие, обе живые легенды казались вполне довольными друг другом.
— Идем, — сказал я.
И, ведя его за собой, я направился к Лацло.
— Простите за вторжение, — сказал я Королеве Марго, — но я хотел бы представить вам и Виктору Лацло автора книги «Прощай, жизнь, — прощай любовь».
— А, так это вы, новый гностик, — заявил Лацло нагловато, но с явным интересом к подошедшему. — Вы смотритесь лучше, чем на экране телевизора. Вот чего не нужно делать в наши дни, если занимаешься писательством.
— О, не говорите, — возразил Ле Кеменек. — Вы сами в этом смысле настоящий золотых дел мастер.
Я посмотрел на часы. Оставались еще добрые три четверти часа до появления похоронной процессии у ворот кладбища. Люди продолжали приходить. Я узнавал почти всех: все они так или иначе были связаны с жизнью Ромена или моей. Человеческое существование состоит из отношений, связей, встреч. Ромен через бесконечные пересечения людей был связан чуть ли не со всем миром. В пространстве. Во времени. Это как камень, упавший в озеро: волны от него распространяются все дальше и дальше и наконец достигают самого дальнего берега…
…Тот ужин на террасе я помнил до малейших деталей. Я думаю, здесь дело в возрасте. Я с трудом вспоминаю, что я делал год назад, тем более — четыре или пять лет назад. Но те ночи и дни на Патмосе… я так часто вспоминал их за прошедшие пятьдесят лет — боже мой, уже полвека! — что они просто врезались в мою память. Я снова вижу то ночное небо, созвездия, которые мы созерцали в тишине, очертания цветов в темноте, туники Элизабет и «мадам Соларио». И слышу как сейчас голос Ромена…
…Марина, пятилетняя дочь Мэг Эфтимиу, забавная, живая, уже умела — несмотря на свой юный возраст — занять достойное место в компании. Мэг вышла к ужину на террасу в блистательно скромном платье, с гладко зачесанными волосами, держа на руках свою дочь. Было уже десять часов или половина одиннадцатого вечера, и Ромен, садясь за стол, шепнул мне:
— Обычно здесь на островах ужинают в девять часов или в четверть десятого. Но что вы хотите: присутствие пятилетнего ребенка, конечно, обязывает нас отодвинуть ужин на более позднее время.
Малышка была восхитительна и явно очарована Роменом. Она сидела у него на коленях, играла с его волосами, довольно длинными, и они оба весело смеялись. Нужно было быть слепым — а я отчасти им и был, отупев от книг и учебы, — чтобы не заметить, что все присутствующие в доме женщины были без ума от Ромена. Впрочем, его шарм действовал и на мужчин. Я видел, что даже Ле Кеменек, обычно скептичный и насмешливый, был готов сдать позиции: он был очарован Роменом, хотя тот весьма отдаленно напоминал моралистов и археологов, которые составляли тогда, в окрестностях Пантеона, наш интеллектуальный хлеб насущный.
Там был еще некто, чья молчаливая и скрытная тень скользила время от времени в лунном свете. Это был мусульманин в красной феске, которого звали Бешир. Он давно был в услужении у Мэг Эфтимиу; он приносил нам кофе, холодные напитки и сигареты. Из всех, кто собрался — бог знает почему — в тот вечер нашей предыстории и кто должен был сыграть такую большую роль в моей жизни, именно Бешир, своими словно случайно нанизанными воспоминаниями и рассказами, перемежающимися с умолчаниями, увлечет меня дальше всего…
…Немного в стороне от групп, составившихся либо случайно, либо по близости воспоминаний о Ромене, здесь, на кладбище, Бешир разговаривал с Жераром. Трудно себе представить двух более разных людей, чем эти двое. Бешир тоже постарел и был похож теперь в сером костюме хорошего покроя на «уцененного» Омара Шарифа. Он был всегда наготове, если нужно оказать кому-либо услугу. Он мог сервировать стол, починить отопление или телевизор; он красил кухни, отвозил по телефонному звонку опаздывавших в аэропорт Орли или Шарль-де-Голль. Я не раз встречал его в самых неожиданных ситуациях на воскресных парижских обедах. И чаще всего — у Ромена. Я даже видел его однажды зимой у Королевы Марго: он заменял в партии бриджа четвертого отсутствующего. Сейчас я спрашивал себя, о чем они с Жераром могли говорить…
Высокий, худощавый, с живым и открытым лицом, Жерар был еще красив. Из всех нас возраст затронул менее всего именно его: он был все еще очень симпатичен. Я знал его еще с тех времен, когда он печатал сначала в «Экспрессе», а затем в «Воскресной газете» свои злободневные хроники. У него было все, и даже талант. Его погубило одно — его неврастеническая страсть к публичности.
Он был везде. На официальных обедах. На радио. На телевидении. Во главе всех процессий, шествовавших по улицам… У меня было впечатление, что он жил в постоянном страхе, как бы чего не упустить. Он гонялся за модой, знаменитостями, слухами, которые уже успевали устареть. Или он пытался их опередить?.. Однажды летним вечером у бортика бассейна он дал интервью некоей сирене с рыбьим хвостом из папье-маше, которой удалось заставить его снять с себя всю одежду, кроме кальсон, которые — вот незадача — оказались фиолетовыми.
— Ничто не нужно принимать слишком всерьез, — сказал ему тогда Ромен, — но вот фиолетовое белье все-таки носить не стоит.
— Это почему? — взвился уязвленный Жерар. — Почему я не могу носить фиолетовые кальсоны?
Ромен ответил ему с великолепным спокойствием:
— Потому что телевидение цветное…
Эти фиолетовые кальсоны вместе с острым словцом Ромена обошли весь Париж. Один бульварный журнальчик с их помощью повысил свой рейтинг. Жерар порвал отношения с Роменом и однажды явился ко мне за советом.
— Все указывают на меня пальцем. Не могу больше. Посоветуй, как мне быть. Ответить? Драться на дуэли? Влепить Ромену затрещину?..
— Да нет же, — сказал я ему. — Надо просто исчезнуть.
— Исчезнуть?!
— Исчезнуть. Ты уходишь. Хранишь молчание. Никто о тебе ничего не знает. Никаких кальсон. Никаких песенок. И через года два — вот увидишь — о тебе начнут сожалеть, а когда ты вновь появишься, тебя примут как пророка.
Я буквально слышал, как противоречивые мысли сталкивались у него в голове, — от них исходил звук, как от трещотки.
— Через года два?!. Но это невозможно!
И все же не два года, а гораздо больше Жерар, по его словам, усердно работал над каким-то грандиозным творением. Одновременно он пописывал пустячки, которые имели некоторый успех, и которые он сам считал общественно значимыми и красиво сработанными. Я не знаю, его враги или он сам распускали слухи, что он регулярно на несколько дней укрывался во дворце Трианон в Версале, чтобы посвятить себя своему шедевру. Шедевр, однако, так и не появился…
Я думаю, что в сущности он был несчастен. Он жил, как и все мы, в мире идей и мечтаний, существовавшем отдельно от мира реального. И не мог с этим ничего поделать. Но мир реальный этого не замечал: по результатам опроса, проведенного «Пари-Матч», о людях, которые наиболее полно воплощают собой французскую культуру, Жерар оказался на втором месте, сразу после министра… Сам он был совсем другого мнения о себе: он был очень умен и судил себя беспристрастно, возможно, гораздо строже, чем даже его критичные друзья.
…Сам факт разговора между Беширом и Жераром был удивителен. Первая ступень человеческого развития беседовала со второй или даже с третьей. Бешир ничего не знал о том маленьком рафинированном мирке, в котором процветал Жерар. Он долго жил в атмосфере средневековья с его лошадями, собаками, деревьями, простыми и грубыми чувствами, где книги, исключая, конечно, Коран, не имели никакого значения. Он был ростом ниже Жерара, но от его кряжистой фигуры исходило ощущение такой силы, что Жерар — да и любой бы другой на его месте — казался рядом с ним хрупким. Они говорили о Ромене, я полагаю. Диалог между ними явно выстраивался вокруг умершего Ромена, как он выстраивался ранее между Беширом и мной, когда Ромен был жив…
…Надо признать, что Марина была чрезвычайно настойчивой девочкой. Она проделывала с матерью все что хотела, да и с другими тоже. Начавшись так поздно, наш обед на Патмосе растянулся на час. Была уже половина двенадцатого ночи, когда до Мэг Эфтимиу дошло, что пора укладывать девочку спать. Но у Марины не было ни малейшего желания идти спать одной. Последовала перепалка. Мэг повысила голос. И тогда малышка, прижимавшаяся к Ромену, встала во весь рост и бросила своей матери:
— Разве так можно разговаривать с маленькими детьми?
Больше чем с Мэг и Элизабет (я предоставлял Ромену и Ле Кименеку поддерживать их компанию) я общался с Мариной в те долгие, залитые солнцем дни моего пребывания на Патмосе. Конечно, она предпочла бы Ромена, но и мне она подавала ручку, и мы с ней отправлялись на прогулку вокруг монастыря или на пляжи острова. В то время на греческих островах, и особенно на Додеканесе, можно было встретить намного меньше людей, чем сейчас. Потому ли, что я был молод, потому ли, что Греция, о которой я так мечтал, была совершенно нова для меня, потому ли, что Марина была первой маленькой девочкой, встреченной мною, я храню яркое воспоминание о своих прогулках по острову с этим пятилетним ребенком, который отвлек меня наконец от «Этики Никомака» и «Феноменологии разума». Она говорила без умолку, перескакивала с одной мысли на другую, останавливалась на каждом шагу, чтобы рассмотреть бабочку или поднять красивый камешек, потом она торжественно приносила его мне. Взамен я рассказывал ей истории об Ариадне и Федре, о Прекрасной Елене, Улиссе, Дидоне и Энее. Я только старался, чтобы они не были слишком долгими и имели счастливый конец. Вопреки Расину и Эврипиду, моя Федра обрела счастье между Тезеем и Ипполитом, а моя Елена Прекрасная сумела (что было явно ближе к Оффенбаху, нежели к Гомеру), пустив в ход слезы и чары, прекратить Троянскую войну без особых потерь. Самые жестокие трагедии оканчивались веселыми полдниками на пляже, где все обнимали друг друга. Марина была очень довольна. Она часто пересказывала Мэг эти кровавые мифы в моем варианте и заявляла, что хотела бы провести всю жизнь с Роменом и со мной, ну и с мамой, конечно.
— Вы ее покорили, — говорила мне Мэг.
— Это скорее она меня покорила, — отвечал я. — Она просто вьет из меня веревки.
Это было накануне моего отъезда: на берегу моря, где Марина собирала ракушки, ее опрокинула и потащила за собой волна, более сильная, чем предыдущие. Девочка тут же поднялась. Ее платье вымокло, вода стекала с волос на перепачканное в песке личико. Она возвращалась домой с нами, держась очень прямо, прижав руки к бокам, этакая Офелия, спасенная из вод, полутрагическая и полукомическая, и, немного подшучивая над собой, немного декламируя, воскликнула со сдержанным гневом:
— Что же теперь со мной будет?
…Что с ней будет… Что будет со всеми нами… Мы все умрем, как Ромен, который был самым живым из нас… Но прежде чем умереть, нам надо еще пройти через жизнь, а это гораздо труднее…
…Тогда я только входил в жизнь. Остальные вокруг меня уже успели испытать на себе ее крутые повороты. Мэг Эфтимиу каждый день откладывала свой предстоящий отъезд во Францию. Я был этому только рад. Мне нечего было делать во Франции, в Париже, на улице Ульм, в Школе, в Сорбонне. Я существовал как бы вне времени. В компании с Мэг, Роменом, Мариной я отдавался своей зачарованной лени, ее питали солнце и море. Я любил море. Я любил солнце. Я слишком мало знал их до сих пор. Книги, учеба, великие умы, идеи и доктрины, темные залы кино по вечерам в компании с Авой Гарднер и Гарри Купером — все они до сих пор поглощали мою юность без остатка. Греческие острова, вторгающиеся языками в море богов, ослепили меня своими белыми домиками, своими осликами… В конечном счете я провел под сенью монастыря на Патмосе добрых полмесяца или даже все три недели. Это было самое прекрасное время в моей жизни. Я запасался счастьем…
Мы плавали, ловили морских ежей, гуляли по острову. По вечерам собирались на террасе и пели под луной на французском, греческом, английском, среди выступающих из темноты цветов. Песни моряков по-французски:
Чтобы развлечь наверняка, Расскажем о любви девицы, — Той, что оделась в моряка И поступила на корабль…По-английски:
Отец мой был испанский капитан, И вот уж месяц как он вышел в море…Или вот такие меланхоличные жалобы, от которых слезы наворачивались на глаза:
Когда я был студентом, Я жил совсем один…Однажды вечером за ужином зашла речь о далеких островах, даже названий которых я толком не знал, и эти названия звучали для меня как мечта: Калимнос… Сими… Кастелоризо… Позднее, гораздо позднее я отправился на эти острова, которым суждено было сыграть огромную роль в моей жизни. Они расположены довольно далеко от Патмоса. Особенно Кастелоризо — он вообще на краю света. Это самый южный из греческих островов. Его розовые скалы и разноцветные домики, расположенные дугой, вздымаются уже в виду маленького турецкого порта Кас, который тогда казался мне недоступным и даже скорее мифическим, нежели реальным. Калимнос, напротив, располагается на доступном расстоянии. Ромен, вероятно, начинал уже немного скучать: он откровенно высказывал желание узнать поближе эти неизведанные земли и накупить губок, которые являются гордостью этого острова. После долгих споров, которые мы вели больше для удовольствия, было решено устроить экспедицию на Калимнос.
Мы вышли в море рано утром: Мэг с дочерью, Ромен, Бешир и я — на паруснике, принадлежавшем семье. Был ли это кеч или ял, который обычно ходил на двигателе? В тот день мы поставили паруса, чтобы воспользоваться отличным ветром. Мы оставили Лерос слева по борту, и через несколько часов приятного и веселого плавания Мэг вся светилась от удовольствия, а Ромен отлично справлялся с ролью капитана, потому что умел все. Мы пришли на Калимнос.
Домики в порту в тот год были выкрашены в зеленый цвет. Каждый год, или раз в два-три года, местные власти выбирали другой цвет, и маленький городок менялся: он становился голубым, или желтым, или красным, или белым. Нам он предстал зеленым. Гостиница «Акрополис» в те времена была единственной на острове и располагала всего семью комнатами. Четыре из них уже были заняты англичанами и немцами, чьи судна мы видели, проходя мимо. Три остальные мы распределили между собой на ночлег. Лучшую заняли Мэг с дочерью, другую взял Ромен, а мы с Беширом разделили третью.
Губки действительно были. Мы накупили их целые мешки — впрок на долгие годы. Потом я долгое время мылся с ощущением возвращенного счастья этими губками с Калимноса. Вода текла по моему лицу вместе с воспоминаниями. Когда последняя стерлась до волокон, надо мной пронеслось уже много лет. С их надеждами и печалями…
Марина была в восторге. Она не страдала морской болезнью. Ей нравился корабль. Зеленые домики забавляли ее. Она резвилась в грудах губок, и я как сейчас вижу ее прыгающей в их упругих и нежных волнах. Мы плавали, гуляли, веселились на Калимносе так же, как это было и на Патмосе. Мы обедали в «Акрополисе» и с сожалением вспоминали об Элизабет, Ле Кименеке, оставшихся на Патмосе. И только один раз мы легли рано, когда Марину сильно утомил ветер с моря.
В гостиничной комнатке, крошечной, побеленной известью, лежа в постелях без сна, мы с Беширом разговорились. Под напором моих вопросов Бешир, неуверенно и даже немного недовольно, стал рассказывать мне о своей жизни. Я был ошеломлен. Целый мир — но это был совсем другой мир — ворвался в этот наш, нынешний. На Патмосе, на ночной террасе, мы созерцали луну и звезды. Эти светила расположены на разных расстояниях одни от других, и свет, который они нам посылают, доходит до нас за несколько минут, или несколько лет, или несколько тысяч лет. Так же и то, о чем рассказал мне Бешир, шло очень издалека и уносило меня тоже очень далеко…
Он родился, как он полагал, где-то на Кавказе или около, но, честно говоря, от кого — не знал.
— Ну и что же, что ни отца, ни матери, — говорил я ему смеясь, а затем, чтобы его утешить: — Это мечта многих. Родители всегда стесняют: приходится подстраиваться, чтобы им угодить.
— Легко говорить тому, у кого они есть, — отвечал он мне. — А у меня не было никого. Никого, чтобы заниматься мной. Никого, чтобы научить меня хоть чему-нибудь. И никого, чтобы любить меня. Годами я выкручивался сам, как мог. Я учился у одних, у других. В шесть лет я очутился в Ливане, где выучил французский язык благодаря милосердным сестрам-монахиням, которые меня подобрали и от которых я вскоре удрал… а может быть, это они выставили меня за дверь? Я скверно вел себя, мне нужно было выжить, и я делал все, что мог, чтобы не подохнуть. И поверьте, это не всегда было весело… И когда мне повстречалась мадемуазель Мэг, она тогда была ненамного старше, чем сейчас Марина… нет, все-таки постарше… передо мной словно открылся рай…
— А ее семья… — сказал я в надежде узнать побольше о «мадам Соларио», — семья мадам Эфтимиу…
— А что семья… Это все она, только она была так добра ко мне. И я с ней больше не расставался. Ей было лет пятнадцать-шестнадцать, когда я с ней познакомился. И мне было около того. Она уже тогда была очень красива. Жизнь не была для нее, уверяю вас, так легка, как сейчас для Марины. Я помогал ей как мог, чтобы отблагодарить за все, что она для меня сделала.
— А она действительно много сделала?
— Много?! Да она меня спасла! Я не был бы сейчас с тобой, да я вообще нигде бы не был, если бы тогда не встретил ее! Она не звалась тогда Эфтимиу, она мало чего имела, но она все разделила со мной!
— Здорово, — сказал я. — Она стала твоей удачей. А ты — для нее?..
Мы молча лежали в темноте на своих кроватях. Я говорил себе, что мы вплотную подошли к очень щекотливым темам.
— Я все для нее сделал, — сказал он мне.
— Все? — переспросил я.
— Все, — пробормотал он. — Да, я все сделал.
Мы помолчали.
— Ну что, будем спать? — предложил я.
В ту ночь, наверное, я видел во сне Мэг и Бешира в антураже «Тысячи и одной ночи», каким его видел Феллини. Бешир храпел со спокойной совестью. Утром Калимнос снова был в плену у солнца и моря. А вечером мы вернулись на Патмос.
Я ничего не делал. Я ничего не читал. Я привез с собой книги, но ни разу не открыл их. Я слишком много работал с ними в течение четырех-пяти лет. Теперь я узнавал жизнь. И это занимало все мое время. Мне казалось, наверное, я был неправ… или это моя лень придумывала себе оправдания? Что Мэг и ее пятилетняя дочка давали мне больше, чем Платон, Спиноза, «Критика чистого разума» и Хайдеггер вместе взятые. Когда я не прогуливался с Мариной по пляжам и дорогам острова, я отирался возле Бешира. Он был спокоен и молчалив. Он не искал меня, но и не избегал. И он меня интриговал. Я ходил с ним на рыбную ловлю, но он почти все время молчал. И я, под жгучим утренним солнцем, учился у него тому, чего раньше не знал: тишине, молчанию…
…Шум голосов усиливался. Люди разговаривали тихо, но их становилось все больше. Пустые аллеи между рядами могил понемногу заполнялись автомобилями, из которых выходили друзья и иногда — незнакомые мне люди. Группки становились плотнее. Время от времени слышался смех, впрочем, тут же подавляемый смущением. Я задавался вопросом: какова же доля искренней печали и дани условностям в этих людях, которые пришли почтить память Ромена?..
Здесь присутствовала его «когорта верных», но она не была еще в полном составе. А вокруг нее — те, чья жизнь в тот или иной момент лишь пересеклась с жизнью Ромена. Удивляло отсутствие одних и присутствие других… Я думал, что все знаю о жизни Ромена, но оказалось, что она все время выходит из берегов моего знания о ней. Мир вообще больше всего того, что можно о нем сказать…
… Я чувствовал, что в рассказах Бешира много пробелов, или даже так: его повествование было тканью, состоявшей из сплошных пробелов. Я сейчас не могу вспомнить, узнал ли я еще на Патмосе или уже позднее — из его уст? или от других? — о некоторых темных вещах, которые так не вязались с белизной греческих домиков под летним солнцем. И, наверное, неслучайно мои воспоминания — такие точные в том, что касалось Марины или экзотических цветов на террасе, — здесь вдруг запутывались: подсознательно я хотел, как и сам Бешир, чтобы они канули в забвение…
…Приблизительно в то время, когда Ромен отплывал из Марселя на Гибралтар вместе с Симоном Дьелефи — вы помните эту историю, — Бешир отплывал во Францию. Тогда в жизни Мэг уже был мужчина — их будет еще много в ее жизни — это был некий француз. Мэг присоединилась к нему, сопровождаемая Беширом. Вот уже несколько месяцев как она была с этим французом неразлучна. Он бежал от войны в Америку налегке, один, без багажа и родных. Мэг уехала в Америку с этим человеком одна…
Еще в свою бытность в Ливане и Северной Африке Бешир так мечтал о Франции. И вот теперь он, покинутый и растерянный, оказался в одиночестве в этой стране на грани ее катастрофы, в стране, из которой многие бежали и, главное, бежала та, к которой он был так привязан. В общей неразберихе он сумел нелегально устроиться в ней, как нелегально многие ее покидали. Он неплохо говорил по-французски, на том общеупотребительном французском, место которого сегодня занимает английский. Так он протянул более года, существуя нелегально в полном одиночестве, подворовывая на пропитание, ухитряясь стибрить что-нибудь на черном рынке, много раз переходя туда-обратно демаркационную линию — это было для него чем-то вроде захватывающей игры, тем более, что нарушать демаркационные правила не составляло для него труда и даже было предметом гордости.
Французы, оказавшиеся в июне 1940-го года в руках маршала Петена, — а что они могли поделать? — были в подавляющем большинстве и сторонниками маршала, и, одновременно, враждебно настроенными к немцам. С беретами на головах и тщеславием в сердцах они чванливо распевали: «Маршал наш, что будет с нами? / Ты надежду нам вернул…», а заботились главным образом о том, чтобы прокормиться, согреться и выжить среди самой страшной катастрофы, которая когда-либо постигала страну. Организованное сопротивление оккупационным войскам в конце 1940-го и начале 1941-го годов было еще только в зародыше. Несколькими месяцами позже Бешир мог бы оказаться в рядах Сопротивления — и это было бы вполне естественно. Я даже представляю себе именно такой ход событий, который мог бы — с его-то энергией и храбростью — впоследствии принести ему авторитет в послевоенном общественном мнении и неисповедимыми путями поднять его по ступеням социальной лестницы. Я так и вижу его, бесстрашного и верного, сражающимся с немцами, отмеченным Мальро и шествующим в нескольких шагах от Де Голля и Бидо на Елисейских Полях в памятном 1944-м. Но летом 1941-го ему предоставился и другой путь. Его-то Бешир и выбрал…
Я не знаю, как и чьей помощью Бешир вошел в контакт с LVF. Об этом можно только догадываться.
Например, так… По раздавленному жарой военному Парижу, пустому, призрачному, лишенному души и все же захватывающе прекрасному, бредет Бешир. Вот он, засунув руки в карманы, медленно спускается по улице Руайяль. Он равнодушен к этому городу, происходящее в нем его мало волнует, если бы только не отсутствие Мэг, о которой он не перестает думать. Вот он выходит на площадь Согласия, между старым зданием справа — из него в свое время Шатобриан отправился на Восток — и Морским министерством слева, занятым немцами; здесь он останавливается, чтобы осмотреться вокруг. Вся огромная пустынная площадь пестрит белыми табличками с немецкими надписями — это указатели направлений и зданий для оккупационых войск: «Kommandantur», «Lazaret», — с какими-то еще непонятыми обозначениями: они для Бешира все равно что на китайском. Над несколькими крышами развевается красный флаг со свастикой. Даже Бешир, ничего не знавший о довоенном Париже и его бурной жизни, что била здесь ключом всего несколько месяцев назад, даже он осознает огромность этой катастрофы, в которой есть что-то мистическое. Он поворачивает налево к саду Тюильри и, восхищенный открывшимся видом, бормоча «Париж… Париж…», делает несколько шагов назад, чтобы полюбоваться… и вдруг сильный удар швыряет его на землю…
Из машины, которая неслась на полной скорости от улицы Риволи, выскакивает некая призрачная фигура с орлиным носом, за ней следует секретарь или охранник. Фигура с орлиным носом склоняется над Беширом, простертым на мостовой. Он в состоянии шока, голова кружится. Его несут в машину… Усаженный в нее, он быстро приходит в себя. Он уже чувствует себя нормально. Машина медленно движется к берегу Сены. Человек с орлиным носом посматривает на него обеспокоенно:
— Как себя чувствуете?
— Вполне хорошо, — отвечает Бешир.
— Вас отвезти куда-нибудь?
— Нет-нет, высадите меня здесь.
— Вы уверены, что…
— Да, все в порядке. Ничего страшного. Это я был невнимателен.
— Нет, это я ехал слишком быстро. А я вам говорил, Гастон…
Гастон — это шофер — опускает голову и ничего не говорит. Бешир думает только о том, как бы побыстрее выйти из этой машины — с непривычки ему в ней слишком душно.
— Да, вот здесь. Отлично.
Человек протягивает Беширу картонный квадратик — это визитная карточка. Бешир видит на ней фамилию, напечатанную выпуклыми буквами, но эта фамилия ни о чем ему не говорит, впрочем так же, как и последующий текст, набранный более мелким шрифтом:
ФЕРНАН ДЕ БРИНОН
Главный представитель французского правительства на оккупированных территориях
…Или другой вариант. Ночь. Перекресток между Клиши и Пигаль. Или со стороны Монпарнаса. Кучка подвыпивших вываливается из пивной. Завязывается потасовка. Бешир, как раз проходивший мимо, не может не вмешаться. Он наносит удар кулаком наугад… и выбивает нож из руки хулигана, уже изготовившегося пырнуть им крепкого мужчину. Когда потасовка прекращается и несколько теней растворяются в темноте, крепкий мужчина жмет руку Беширу и говорит:
— Заходи ко мне в любое время. Я всегда сделаю для тебя все что смогу. Меня зовут Жак Дорио.
Эти эпизоды попахивают романом. Да это и есть роман: я не знаю всего о Бешире — как и обо всех прочих — и таким образом заполняю пробелы. Я пытаюсь восстановить ход событий. Но что уже точно не из романа — это Легион французских добровольцев по борьбе с большевизмом — LVF. О нем сообщали афиши, расклеенные на стенах. Может быть, «одного прекрасного утра» одиночества и тоски и было достаточно человеку, чтобы оторвать от такой афиши лоскут с указанным на нем адресом…
После собрания 18 августа 1941-го года, на котором был сформирован этот Легион, после смотра первых добровольцев 27 августа в казармах Версаля (во время этого смотра рабочий-наладчик Поль Колетт из Кайенны стрелял в Деа и Лаваля — того, который был арестован и отстранен от власти Петеном, но вскоре вернулся) Бешир оказался в Германии. В немецкой униформе. С маленькой нашивкой, указывающей, что он француз. И что всего нелепее в этой всемирной драме — Бешир вовсе не был французом. В своей жажде завоевать всю планету национал-социализм, как в поговорке, «точил стрелы из всякой древесины». Здесь были все: итальянцы, румыны, французы, венгры, украинцы, мусульмане, люди из стран Балтии и стран Азии. Война перемешала нации, вырвала людей из родных домов, согнала с обжитых мест целые этносы. Немцы, естественно, железной рукой держали все под контролем. Это была избранная нация. Она делала историю. Но когда ветер начинал дуть уже в другую сторону, у них, естественно, возникла потребность на худой конец использовать и «лавочников», откуда бы родом они ни были.
Вскоре Бешир уже мог произнести несколько слов по-немецки. Он живой, энергичный, смышленый. Получивший рекомендацию «сверху», к тому же замечен с хорошей стороны. Его отправили в Польшу, затем — в Молдавию. Когда он очутился на русском фронте, немецкий «блицкриг» уже был остановлен неистощимой массой Красной Армии, которая успела оправиться от первоначального шока и пользовалась мощной поддержкой всей американской промышленности.
В конце осени 1942-го дела у немцев были еще не так плохи. Но война на русских просторах — это вам не оздоровительная прогулка для поднятия настроения, как в Польше или во Франции. Это, черт возьми, война! Со всей ее непредсказуемостью и риском. Подразделение Бешира задействуется во многих операциях, отводится в тыл, затем направляется на передовую в сторону Сталинграда. И здесь начинается ад.
Но этот ад — из льда. Зима ударила внезапно. И холод стал союзником русских. Немцы, которые надеялись на молниеносное наступление, как на западном фронте в 1940-м, оказались у разбитого корыта. Пресловутая германская расчетливость лопнула перед испытаниями второй военной русской зимы. Большинство еще не знает, что маятник уже качнулся в другую сторону. Со вступлением в войну Америки, с усилением ее военной промышленности, которое было спровоцировано нападением Японии, с высадкой в Северной Африке вскоре после катастрофы в Перл-Харборе, игральные кости войны выпали совсем по-другому. Те, кто повлиятельнее, похитрее, кто больше знал — они поняли это, и многие стали переходить из одного лагеря в другой. Оказавшись в грандиозной ловушке, в сети, о которой он ничего не знал и которой он был охвачен со всех сторон, Бешир сражался не за Великий Рейх, которого он не понимал и на который плевать хотел. Он сражался, потому что так было надо, против безжалостного врага, обманутый пропагандой, ведущейся непрерывно сутки напролет. И, главным образом, он сражался со снегом и холодом…
…Несколько капель — сущий пустяк — упало с переменчивого неба. Бешир повернулся и заметил меня. Я обнял его.
— Эх, месье Ромен! — с горечью восклицает он.
Я молча развожу руками. Мне нравится Бешир. Он никогда не произносит лишних слов. И я стараюсь делать так же.
— Чем сейчас занимаешься? — спрашиваю я его.
— Я привез сюда месье Швейцера, — ответил он.
…Андре Швейцер — вопреки своей фамилии — «черная нога» [2]. Мне достаточно вспомнить о нем, увидеть или услышать его — и сразу вокруг него выстраивается целая череда ассоциаций: Алжир, Эльзас, Вторая империя, генерал Де Голль с его прогрессистскими и освободительными устремлениями. На этом кладбище, где собрались в общем-то только хорошие знакомые Ромена, немало тех, к кому я испытываю (нет, не презрение, потому что этим чувством не стоит злоупотреблять), скажем, «ослабленное уважение». Что же касается Швейцеров — всех, — я уважаю их цельным блоком.
Прежде всего, Швейцеры — это настоящая семья. И семья со своей историей. Я знаю много отвратительных семейных историй. Они являют собой классический фон для многих романов. Здесь насилие, кровосмешение, тяжеловесные тайны; благопристойные фасады, рассыпающиеся в прах под грузом денег и преступлений; продажные нотариусы, ядовитые обольстительницы и добродетельные дамы, превратившиеся в отравительниц. Можно без труда заставить несколько полок томами с подобными историями. История же семьи Швейцеров исключительно почтенна. И даже романтична, несмотря на внешнюю суровость.
Их история восходит к давним временам. Швейцеры — эльзасские пивовары, которые сделали состояние еще при Луи-Филиппе. Они вняли советам Гизо, который рекомендовал своим современникам обогащаться собственным трудом. Поэтому, развив бурную деятельность, они создали целую сеть пивных заводов и скобяных производств. Затем они основали большие магазины. После чего стали серьезно присматриваться к текстильной промышленности. Так, одной ногой — на пиве, а другой — на «тряпках», они стали чем-то вроде местной власти.
Они протестанты. И суровые протестанты. Не в духе Морни или «Нана» — они не циники. Но и не выпячивают себя. Прежде чем предъявлять требования к другим — предъявляют их себе самим. Они не увольняли запросто тех, кто у них работал. Никто из тех, кто имел дело со Швейцерами, еще не умирал на соломе. Один из Швейцеров стал даже мэром города Кольмар в 1865-м году.
Когда в 1870-м году началась франко-прусская война и в пограничный Эльзас пришли немцы, семья Швейцеров не стала скрывать своих симпатий к французской стороне. Мэр Кольмара был расстрелян. В конце 1870-го или в начале 1871-го Швейцеры покидают Эльзас. Они вынуждены покинуть на произвол судьбы всех тех, кто от них зависел, но их собственная участь не лучше: они разорены дотла.
И вот Швейцеры в Париже. Провал. Затем — в Нормандии, в Оверни. Нигде их не принимают. И тогда они отправляются в Алжир и начинают там все с нуля на равнине Митиджа. Только представьте себе: во времена Третьей республики разоренная семья эльзасских пивоваров открывает для себя Северную Африку… И Швейцеры приняты арабами, потому что они заставляют их работать, платят им, обучают их, заботятся о них. Швейцеры и сами работают, как одержимые. Менее чем за два года они пускают корни на этой новой земле. Они были эльзасцами, хотели остаться французами и становятся алжирцами — это вестерн на наш манер. Такова эпопея этих франко-алжирцев.
— Я люблю всех Швейцеров, — говорю я Беширу. — И особенно этого — Андре. Как он поживает?
— Неплохо, я думаю. Он был очень расстроен. У него были слезы на глазах, когда он узнал о месье Ромене…
— Они же вместе воевали в Сирии, еще до отправки Ромена в Россию…
— А-а, — протянул Бешир…
…Русский снег, погубивший в свое время «великую армию» Наполеона, засыпал теперь другую «великую армию» — вермахт…
Перед Новым годом подразделение Бешира поступило в распоряжение неизвестного ему генерала — Фридриха фон Паулюса. Это произошло в районе города, где шли особенно ожесточенные сражения и одно название которого внушало ужас даже самым заядлым воякам, — Сталинград.
Холод и снабжение были хуже чем когда-либо. Бешир, уроженец юга, страдал от русской зимы больше, чем другие эльзасцы, фламандцы, жители Альп или Центрального Массива. Он обматывал ноги тряпками вместо носков, укутывался в шинели, сорванные с мертвецов. Он завел привычку мочиться только где-нибудь в укрытии, после того, как однажды ночью он вышел по малой надобности, и, к его ужасу, моча тут же замерзла в виде желтого прозрачного столбика… Особенно нестерпимо было ожидание. Движение, действие помогало согреться. Когда рискуешь жизнью, не так холодно. О моральном духе войска нечего было и рассуждать, высок он или низок: люди попросту вернулись в первобытное состояние, в котором думаешь только о том, как бы выжить. Среди снегов и снарядов, которые валились с неба без передыху, по ночам раздавленному страшной усталостью и холодом Беширу грезилась Мэг, но образ ее расплывался… Он представлял себе ее то на ливанских пляжах, то на длинных авеню Александрии, а великолепные здания Каира, сметенные воображаемой бурей, сменялись мифическими картинами никогда не виденной им Америки… Увязший в снегу, который набивался ему в сапоги, в глаза, в нос, казалось, уже под самую кожу, Бешир мечтал о пальмах…
Некоторое время война велась с воздуха откуда-то издалека. Это был ливень из снарядов. Но вдруг война приблизилась вплотную и стала рукопашной. Он отбивался штыком и ножом от теней, возникавших ниоткуда. Его жизнь висела на волоске. Он был пешкой среди миллионов ему подобных, и ими управляли из какого-то дальнего далека какие-то нереальные штабы, а они здесь, в реальности, дрались с примитивной жестокостью, как уголовники…
Жизнь превратилась в абсурдную и мерзкую штуку, и задумываться над ней не имело ни малейшего смысла. Цель в ней была одна: спасти свою шкуру, убивать, чтобы не убили тебя, и хорошо, если удастся дожить до вечера…
Иногда ему случалось вспомнить о добрых монахинях, которые учили его морали. Ха! С этой комедией было покончено навсегда. Как-то вечером во время атаки пуля просвистела у самого его уха. Он успел сделать бросок вперед. Спускалась тьма. Он очутился в воронке от снаряда носом к носу с калмыком, или татарином: он видел только его узкие глаза. Страшная ярость охватила его. Он зарезал врага с диким хохотом, а перед его глазами при этом стояла милосердная сестра Тереза, которая в далеком его детстве вдалбливала в него Катехизис…
Он видел, как рядом мучился в агонии его друг Этьен — старый коммунист, соратник Дорио, и еще его друг Хосе из Барселоны — анархист, ненавидевший Сталина; его друг Гюнтер — нацист первого призыва. У одного выбитый глаз держался на кровавых нитях; у другого вывалились внутренности, и он пытался запихнуть их обратно руками, изъеденными морозом; те, кто умирал сразу, — были просто счастливчиками…
Он обезумел от страха. Ненависть держала его в постоянном напряжении. Через пару дней после медленной мучительной смерти Хосе он с десятком товарищей напоролся на советский патруль, засевший на ферме. Последовала перестрелка. Те, другие, были напуганы не меньше, чем они. Беширу со своими людьми удалось поджечь ферму. Это была удача. Полдесятка советских, похожие на призраков в своем белом камуфляже, вышли из горящего дома, подняв руки, — затравленные, раненые, с обгоревшими и покрытыми пеплом волосами.
Кто-то крикнул:
— Расстреляем этих сволочей!
И тут перед Беширом опять возникло лицо сестры Терезы.
— Нет! — крикнул он. — Это пленные. Уведем их с собой.
Спускалась ночь. Пошел снег. Бешир и его люди передвигались с трудом. Некоторые из них были ранены, и приходилось их нести. Один из русских ухитрился сбежать. Ему вслед выстрелили, и он упал. Может быть, только притворился убитым? В снегу, на морозе бежать за ним не было сил. Мертв он был или жив, ранен или нет — неизвестно. Вскоре стало ясно, что добраться до своих, неся раненых и конвоируя пленных, невозможно.
— Расстреляем их, — опять крикнул кто-то.
— У меня есть другая мысль, — сказал Бешир.
Они остановились под купкой деревьев, срезанных картечью, чтобы немного отдохнуть. Разожгли огонь и растопили во флягах снег, чтобы сварить кофе. Стоило извлечь фляги из огня, как вода тут же начинала застывать. Русские в растерянности тщетно пытались приблизиться к огню: их отгоняли окриками и тумаками.
— Разденьте их, — приказал Бешир.
Среди пленников пробежало беспокойство: они не понимали, что происходит. Затем беспокойство на их лицах начало сменяться страхом. Под дулами ружей с них были сняты шинели, меховые шапки, рукавицы. Затем белье, хлопчатобумажное и шерстяное. Все это было грубо сорвано с них. Их швырнули на землю и стянули с них сапоги и штаны. Они оказались на снегу в рубашках и кальсонах и ошеломленно озирались.
— Ну как? — вопросил Бешир.
Затем рубашки и кальсоны на них были грубо разорваны.
— Встать! — рявкнул Бешир.
Под угрозой автоматов и ножей русские стояли голые, обхватив себя руками и приплясывая на снегу, как на горячих угольях. Они выли, бросались на колени, умоляли о пощаде. А их враги со смехом швыряли в них снежками… Сестра Тереза при этом блистательно отсутствовала…
Огонь бросал в ночь последние отблески и постепенно гас. Небо светлело. Снег уже не шел. Было градусов 35–38 мороза, может быть даже 40. Пленные уже не колотились от холода. Кровь, наверное, застывала в их телах, белых и затвердевших. Один за другим они падали на землю. Вероятно, они уже не испытывали страданий — медленно засыпали. Тогда Бешир и его люди достали из огня бидоны с растопленным снегом, который уже начал опять замерзать. Они полили этой полузамерзшей снежной кашей голые неподвижные тела, и те быстро превратились в ледяные блоки. Люди Бешира, поддерживая своих раненых, снова пустились в путь. Оглядываясь, они едва могли различить на снегу — там, где еще недавно были живые тела, — лишь ледышки, покрытые белым инеем…
— А где Андре? — спросил я Бешира.
— Он где-то здесь, — ответил тот, озираясь кругом. — Я только что его видел.
И я заметил невдалеке от меня в толпе, все более густеющей, Андре Швейцера: он разговаривал с Виктором Лацло. Я направился к ним.
— А мы как раз говорим о вас, — сказал мне Андре Швейцер.
— А я — о вас, — ответил я.
— Мы задавались вопросом, — сказал Лацло, — почему вы занимаетесь писательством?
Вопрос прозвучал не слишком любезно. Лацло смотрел на меня поверх очков, явно довольный своим выпадом. Я постарался не показать ни малейшего признака удивления, волнения или недовольства: я и сам спрашиваю иногда себя о том же.
— Не сочтите это за упрек, — высказался Андре Швейцер со свойственной ему мягкой доброжелательностью. — Это не критика: мне очень нравятся ваши книги, они интересны. Это принципиальный вопрос: почему вообще люди пишут? Для развлечения, как говорил Поль Валери? Или чтобы стать богатым и знаменитым, как провокационно утверждал Пьер Дрие Ла Рошель?
— Вы наверняка знаете, — ответил я, — у Борхеса есть прекрасное высказывание: я пишу не для себя и не для толпы. Я пишу для своих друзей и чтобы замедлить бег времени.
— Конечно, мы его знаем, — въедливо парировал Виктор Лацло. — Мы так давно его знаем, что вам не удастся выдать его за свой ответ. Мы желаем услышать ваше мнение…
— Я припоминаю, что Ромен задавал мне тот же вопрос, что и вы. Он удивлялся, что я трачу время на писанину вместо того чтобы пользоваться жизнью, которая так быстро проходит, и наслаждаться ею… «Ты лучше бы занялся чем-нибудь конкретным, говорил он мне, — а не витал в облаках с карандашом в руке. Приключения жизни лучше проживать, чем описывать». Но вы же помните: он очень любил живопись и музыку. И я спрашивал у него: «А почему пишут картины? Почему поют? Почему создают музыку?»
— А может быть, — спросил Андре, — вы думаете о потомках?
Виктор Лацло издал что-то вроде короткого ржания.
— Хм, потомки… — задумался я. — Зачем мне делать что-нибудь для потомства? Разве оно что-нибудь сделало для меня?
— Увертки, — проворчал Лацло, — увертки, уловки…
— Согласен, — сказал я ему, — согласен. Но потомки, честно говоря, меня мало волнуют. Признаюсь: я не был бы против, если бы лет этак через двадцать-тридцать, а лучше сорок, после моей смерти в какой-нибудь библиотеке (если они еще будут существовать) юноша или девушка взяли в руки мою книгу, открыли ее с любопытством и прочли с удовольствием…
— Именно это и понуждает вас писать? — уточнил Андре.
— Не совсем, — ответил я. — Если честно, я думаю, что люди пишут от грусти, но и для удовольствия. Или еще точнее: грусть и радость здесь нераздельны. Есть много причин и для грусти, и для радости. Хромота, болезнь, трудности существования, или смерть Ромена, например. Или, напротив, интересное зрелище, яркое чувство, да и вся красота мира. И даже желание описать вас, именно вас, рассказать о вашей жизни и оставить — только вот кому — след, пусть самый легкий, вашего пребывания на земле.
— А может быть, — присвистнул Лацло, — живейшее удовольствие выставить на посмешище своих приятелей?
— Почему бы и нет? — воскликнул я. — Отличная мысль. Но что касается такой мотивации, ответственность за нее я оставляю на вас…
К нам направлялся Бешир:
— Месье, — обратился он к Андре, но приступ кашля прервал его, — месье, хотели бы вы, чтобы я отвез вас обратно после погребальной церемонии или вы будете добираться сами? Мадам Ван Гулип хотела бы…
— Спасибо, Бешир, — ответил Андре Швейцер, — я думаю, что управлюсь сам. Но вы кашляете?
— Это ничего, — ответил со смехом Бешир, — я еще крепкий!
— Не сомневаюсь, — ответил Андре. — Я знаю, что вы еще крепкий. Но вам следует все-таки немного заботиться о себе. Держите вот это.
И, вырвав страничку из своего блокнота, Андре Швейцер нацарапал на ней несколько слов своим неразборчивым почерком врача — и уже не в первом поколении — и протянул ее Беширу.
— Благодарю вас, — сказал Бешир и положил листок в карман, — это так мило с вашей стороны…
Практичный клан Швейцеров тоже не обошелся без своей романтической истории…
Во времена расцвета Второй империи один из баронов Тенье стал пожизненным сенатором. Этот барон был веселым молодцом. Он женился на очень красивой молодой девушке; она происходила из древнего бретонского рода, известного своей приверженностью к католицизму, монархии, и совершенно разоренного. Словно христианская Ифигения, она пошла на венчание к алтарю как на заклание. Она родила сына, умершего во младенчестве, а затем подарила мужу дочь. При этом мужа она презирала: он волочился за всеми юбками в компании с Морни.
Этот Морни был сыном королевы Гортензии и Флао, который был, без сомнения, сыном Талейрана. Таким образом, Морни приходился сводным братом императору Наполеону III. Циничный, обольстительный, безнравственный, законодатель мод, это был Альцибиад Второй империи — распутник образца восемнадцатого века, попавший в девятнадцатый. Этакий персонаж Дидро и Бомарше, увиденный глазами Оффенбаха и купающийся в интригах и комбинациях нарождающего индустриального мира, который вскоре опишет Золя. Он приложил руку к государственному перевороту и более чем кто-либо помог императору прийти к власти. Он был везде, его активность распространялась на все области жизни. С неизменным успехом он выступал одновременно на трех сценах: политической, светской и финансовой. Он был министром внутренних дел после государственного переворота, президентом Законодательного корпуса, послом при русском царе. Из своей миссии в Санкт-Петербурге он привез восхитительную молодую девушку, принадлежавшую к высшей российской знати: шептались, что она была внебрачной дочерью самого царя, — это была княжна Софи Трубецкая. Ей было тогда восемнадцать лет.
Баронесса Тенье сердечно привязалась к герцогине Морни, урожденной Трубецкой. Ее можно видеть за герцогиней на знаменитой картине Винтерхальтера. Они обе принадлежали к блистательному миру, уходящему в прошлое, и смотрели несколько свысока на возникающие новшества и на успехи своих супругов в жизни деловой и личной. Они обе страдали от той жизни, которую вынуждены были вести. Баронесса сделала однажды герцогине признание, которое потом обошло весь Париж: «Мой муж мне столько раз изменял, что я даже не уверена в том, что мои дети — от меня»…
Дочь баронессы Тенье выросла столь же прекрасной, как и ее мать. Когда она начала выезжать в свет в конце Второй империи, ей даже довелось несколько раз танцевать во дворце Тюильри с наследным принцем — тем, который через несколько лет погибнет от копий зулусов. Баронесса с гордостью представляла обществу свою красавицу дочь. Она сама возила ее на придворные балы, не отходила от нее ни на шаг, мать и дочь превосходно ладили между собой.
Они вместе отправлялись к Ворту, который недавно открыл свой дом одежды в Париже в двух шагах от Вандомской площади. Они вместе выбирали на живых манекенах (которые скандализировали тогда публику) кружевные платья из муслина или белого газа, украшенные воланами, с бархатной каймой. Девушка, обладавшая тонким вкусом, носила их без всяких цветов и бантов, разве что с тонким браслетом из белого жемчуга; ее кринолины не выдавались спереди и были лишь несколько вытянуты назад; ее туники из голубого или розового бархата с очень низким декольте открывали грудь, прикрытую, впрочем, лучшим из украшений — изящной скромностью. Они ходили вместе на спектакли, где еще могли показаться порядочные женщины в ту эпоху, когда и в зале, и на сцене в равной степени начинала царить вульгарность, которая приводила их в ужас.
Однако через некоторое время обнаружились обстоятельства, препятствующие такому образу жизни. Какими бы натянутыми ни были отношения между мужем и женой, положение барона предполагало присутствие рядом с ним его супруги, если не постоянное (оно как раз бы сильно стеснило барона), то, по крайней мере, достаточно частое. Баронесса разрывалась между обязанностями супруги и матери.
— Друг мой, — сказала она однажды мужу, — я думаю, что следовало бы подыскать девушку из хорошей семьи, хорошо образованную и с хорошими манерами, англичанку, испанку или русскую, чтобы сопровождать Элен в свете, где ей необходимо показываться. Я не могу отпускать ее одну, конечно, но и не могу найти достаточно времени, чтобы сопровождать ее везде. Я не вижу другого решения этой проблемы, которая меня уже некоторое время беспокоит.
— Дорогой друг, — ответил ей барон, который в это время думал совершенно о другом, — в этом деле, как и в любом ином, я во всем полагаюсь на вас.
Он поцеловал ей руку, вызвал экипаж со своим кучером Жозефом, который был предан хозяину, как собака, и ненавидел баронессу, и уехал из дома как обычно.
Молодая мадам де Лонжемен, которая два — три года назад лишилась мужа — он упал с лошади — не была ни испанкой, ни русской. Она принадлежала к разоренной, но очень почтенной семье из Арденн. Она была светловолосой, тонкой и высокой, со спокойным и несколько холодным лицом, со сдержанными манерами. Элен Тенье быстро подружилась с ней, и они стали почти неразлучны. Мадам Тенье была весьма удовлетворена таким положением дел, и даже сам барон, который часто пренебрегал супругой и домом, соизволил несколько раз посидеть за чашечкой чая с дочерью и ее компаньонкой.
Как было дело и как распространился этот слух — никто уже не помнит. Одно несомненно: слухи о связи барона с мадам де Лонжемен дошли наконец и до баронессы Тенье.
Баронесса вынесла много унижений от своего мужа, однако ради дочери терпела все. Но непредвиденную связь барона с компаньонкой дочери она восприняла как пощечину. После долгих колебаний, она все же очень деликатно поделилась своими чувствами с дочерью, которая, кстати, к тому времени уже отдалилась от своей компаньонки. И тут мать узнала с изумлением, что ее дочь уже давно знала обо всем. Не решаясь огорчить мать, она, однако, была возмущена поведением отца, которого сурово осуждала.
Мадам Тенье была женщиной нежной и покорной своему супругу. За ее ровным нравом скрывался, однако, характер такой силы, которую трудно было подозревать в ней. Должно быть, она была обязана ею своим предкам, которым довелось много сражаться. В ней поднялся бунт против человека, которого она терпела возле себя, но не уважала и никогда не любила и который в очередной раз предал ее. И это рядом с дочерью, которую она обожала со всей материнской страстью, удвоенной печалью. В согласии с дочерью она за несколько часов приняла крайнее решение. Продала свои украшения — очень красивые и очень ценные — и оставила барону письмо о том, что она покидает их особняк в предместье Сен-Жермен безвозвратно. Они выехали в Гавр или Нант — точно не знаю — и сели на парусник, который баронесса накануне купила вместе с командой…
— Ну что, — со смехом сказал мне Жерар, — говорят, ты пишешь от грусти и для удовольствия?
— Кто тебе это сказал? — спросил я.
— Виктор Лацло. Он пересказывает это всем, кто хочет его слушать.
— Я рад, что позабавил его. Но не лучше ли писать от печали и для удовольствия, чем писать от самомнения и для скуки читателей?..
— Будь, однако, осторожен. Ты же знаешь, что в наше время радость, удовольствие, счастье не в моде. Ты должен немножко страдать. Ты пишешь о безднах психики? Нет? Займись безднами. Великий писатель должен быть удрученным. И часто даже удручающим…
— Плевал я на все это, — сказал я ему, — а великого писателя могу послать подальше…
— Ишь ты какой! — поддел он.
— Долгое время великие писатели не чуждались радости. Рабле только и думал как бы посмеяться. Мольер и грустен, и весел одновременно. Я думаю, что и древний Гораций, окажись он в бистро, мог бы составить им хорошую компанию. «Кандид» Вольтера и «Персидские письма» Монтескье очень забавны. И Шатобриан, несмотря на своих «Мучеников» и «святую» испанскую войну, был веселым парнем… И у Флобера в его письмах постоянно звучит смех…
— А вот Ле Кеменек не веселится.
— А он разве великий писатель? К тому же, в радости всегда присутствует немного грусти, что делает радость возвышеннее и придает ей достоинство, которого ей иногда не хватает.
— А о чем грусть?
— Вообще грусть, — ответил я ему.
Он посмотрел на меня немного сбоку, наклонив голову, — так он делал всегда, когда размышлял или хотел задать вопрос.
— Ты все еще думаешь о Марине?..
Это было уже слишком. Я же его ни о чем не спрашивал. Он хотел показать, что ему известно о том, что его вовсе не касалось.
— Смотри-ка, — сказал я ему. — Вот и она.
Марина приехала. Я наблюдал за ней. Она была высокой, широкоплечей, немного близорукой, с несколько отсутствующим выражением лица. Рядом с ней была дочь уже лет 16—17-ти, но сама она была все так же красива. Я пошел ей навстречу. Она бросилась в мои объятия.
— Здравствуй, дорогая, — сказал я ей.
— О, Жан! — воскликнула она. — Как грустно!
И она принялась плакать горькими слезами у меня на руках. Ее сотрясали рыдания. Я старался как мог успокоить ее: вытирал ей слезы большим носовым платком, вытащенным из кармана, гладил ей волосы.
— Он… он был… он был чудесным!.. — пробормотала с трудом она прерывающимся голосом, уткнувшись носом мне в плечо.
— Да, чудесным, — подтвердил я.
— Жизнь с ним… с ним…
— Да, — сказал я.
— Была прекрасной, — еле договорила она.
Я тоже так думал…
…Жизнь запуталась — это было, постойте… лет двадцать назад… или больше?.. или меньше?.. — когда Ромен предложил мне отправиться с ним вдвоем в восточную часть Средиземноморья на паруснике, который он одолжил у своего итальянского приятеля-антиквара. Я уже плавал несколько раз с этим антикваром, но никогда еще на этом узком изящном суденышке с названием «Афродита». Мне страшно хотелось принять предложение Ромена и в то же время я колебался. По разным причинам, которые я мог бы назвать, дав себе немного труда, я любил Ромена меньше, чем всегда. Он говорил слишком громко, он был слишком уверен в себе; я не разделял его взглядов, он предпочитал бурбон, а я — виски; все женщины падали в его объятия, включая тех, что нравились мне больше всего…
Я думаю, честно говоря, — спустимся в те самые бездны! — что этот последний мотив был главным. Я корчился, упрашивал сам себя, я придумывал себе даже проблемы с головой. Сейчас я спрашиваю себя, не был ли я тогда немного смешон…
— Ну же, поехали, — говорил он мне. — Мы будем только вдвоем.
Честное слово, говорил я себе, он меня уговаривает, как девицу. И, как девица, я сдался. Еще и поблагодарил его. В тот момент я был далеко от Парижа: в Америке или в Индии, точно не помню.
— Согласен, — телеграфировал я ему. — Приеду. Спасибо.
Это были две недели восторга между Грецией и Турцией. Мы не сходили на сушу, мы не бегали за девушками, мы не ходили выбирать ковры, браслеты, тростниковые корзины, пляжные шлепанцы; мы не посещали руины, мы провели все время в открытом море. Заходили в порты только чтобы запастись горючим и водой, купить рыбы и фруктов — их нельзя было раздобыть на рыбачьих шхунах. Мы мало разговаривали вообще, и никогда — о своей любви. И читали мало. Мы ничего не делали: слушали музыку, ловили рыбу, плавали. Спали на палубе. Встречали заход солнца и восход луны. Марина права: в Ромене жила благодать. Он умел делать жизнь чудесной…
— Здравствуй, Изабель, — я поцеловал дочь Марины. Я видел, как родился этот ребенок. Я был близок к тому, чтобы считать ее своей дочерью…
— Здравствуй, дядя Жан, — сказала она мне. — Мама сильно расстроена.
— Мне кажется, она его очень любила.
— Я тоже, — ответил я. — Мы все его очень любили.
— Она плачет уже два дня.
— Он терпеть не мог слезы. Плакать вредно. И едва ли прилично. Как твои дела?
— Неплохо, — ответила она.
Ее светлые глаза блестели.
— Ты выходишь замуж? Ты уже невеста?
Она засмеялась.
— Не так скоро! Вы очень торопитесь, дядя Жан. Не так скоро. Дайте мне еще немного пожить…
И на этом кладбище, полном слез, куда должны были привезти упокоившегося Ромена — сам он больше никуда не придет, — смех Изабель прозвучал как ожидание счастья…
…За три года мать и дочь Тенье объездили весь мир. В Бомбее, в Гонконге, в Панаме уже знали парусник этих дам. В те времена не требовалось столько бумаг, как сегодня. Порты были почти пусты. Платили не долларами, а фунтами стерлингов или золотом. Они попадали в штормы. У них случались приступы отчаяния. Но Элен была молода, и жизнь в приключениях ее радовала. А ее мать так настрадалась в чуждом, навязанном ей парижском существовании, что теперь вдыхала полной грудью этот воздух свободы, пусть и немного суровый… Они побывали в Сан-Франциско, на Таити, в Южной Африке, в Маскате, где им очень понравилось и где они прожили некоторое время, гостеприимно принятые султаном. Они бывали везде только вдвоем, сопровождаемые на почтительном расстоянии лишь двумя моряками, которые должны были защищать их в случае какой-нибудь неприятности.
В конце концов они заключили договор с одним капитаном — типичным мальтийцем с белой бородой пророка. Он набрал команду моряков из трех-четырех постоянных членов. Остальной экипаж был сменным и часто обновлялся. Случались всякие сюрпризы: хорошие и плохие. Попадались даже воры, маньяки, убийцы, просто неспособные. Но до беды дело никогда не доходило. В Гонконге нашли китайского повара, который всего лишь с плавниками акулы и рисом поднимался до подлинных кулинарных высот. В Сан-Франциско взяли на борт голландку-авантюристку, успевшую познать много несчастий, она худо-бедно служила нашим дамам камеристкой.
За это время баронесса сильно изменилась. Она превратилась в крепкую женщину с загорелым лицом, более резкую в движениях. Чаепития в старинных особняках Маре или в модных домах сен-жерменского предместья, балы в Тюильри, прогулки под кружевными зонтиками в экипажах, влекомых несколькими лошадьми, с лакеями в ливреях на запятках — все это осталось в другом мире, и она спрашивала себя, существовал ли он вообще. Тот мир казался ей теперь менее реальным, чем огромные пляжи черного песка или храмы Индии с их каменными колесами и эротическими изваяниями.
Элен, тоже бронзовая от ветра, солнца и моря (так она наивно описывала себя в своем интимном дневнике, который мне довелось держать в руках), с тонкой талией, светлыми глазами, ямочкой на щеке, волосами, заплетенными в две косы, была предметом восхищения и тревоги своей матери. Девушка была счастлива той жизнью, которую она вела, а мать упрекала себя, что втянула ее в безысходную авантюру: в море жениха не найдешь. По вечерам у них бывали долгие беседы о будущем.
— Моя жизнь окончена, — говорила баронесса, — а твоя только начинается. Ты не можешь всю жизнь мотаться по океанам.
Элен только смеялась в ответ, а мать переживала, вспоминая о придворных балах…
…Я посмотрел на Марину — она по-прежнему прижималась к моей руке.
— Твоя мать здесь, — сказал я ей. — Она разговаривает с Беширом.
— Не покидай меня, — попросила она, — я не хочу, чтобы ты меня оставил…
Она держала меня за руку и прижималась ко мне. И я вспомнил, как тогда — очень давно — мы с ней выходили из самолета и поднимались на корабль. Мы стояли на корме, и был сильный ветер. Мы держались за руки и улыбались навстречу солнцу…
…В один прекрасный день баронесса с дочерью прибыли в Алжир. Им понравился этот порт, белый город, дружеский прием нескольких французов, которых они помнили еще по Парижу. Они решили немного передохнуть и познакомиться со страной.
Для них составляли компанию из четверых. Завтраки, обеды, прогулки, экскурсии, встречи с городскими и духовными властями, импровизированные пикники среди дивных пейзажей и услужливые молодые люди. За время их отсутствия во Франции произошли страшные события, о которых они почти ничего не знали. Была война с пруссаками, потом поражение, потом Парижская Коммуна. Империя пала. Тьером и Мак-Магоном была провозглашена Республика. Мать с дочерью часами слушали рассказы об этих потрясающих событиях, свершившихся без них. Они узнали, что барон Тенье сначала отправился было в Лондон, но теперь прозябал в Брюсселе.
Везде радостно привечали двух дам, обошедших столько морей. Они принимали все приглашения: генерала, командовавшего алжирским гарнизоном, и даже — к удивлению и возмущению многих колонистов — во дворцы к арабам. В их честь организовывались трогательные балы, чем-то напоминавшие Элен тот танец с принцем: с лунным светом, апашами в отдалении, смятением молодых девушек, как в старых американских вестернах. Один из самых удачных балов был дан в большом доме недалеко от Алжира, где недавно устроились колонисты, прибывшие из Эльзаса. Этими колонистами были Швейцеры. Их сын, высокий здоровый парень, работавший на земле, с первого же взгляда безумно влюбился в прекрасную Элен Тенье, еще когда она только сходила с парусника. Со времен Адама и Евы, Шивы и Парвати, Кадмоса и Гармонии и до наших дней история строится на союзах мужчины и женщины, порой самых неожиданных. Робеющий перед этими дамами, которые казались такими благопристойными и в то же время такими отважными, папаша Швейцер надел белые перчатки и попросил у баронессы руки ее дочери для своего сына Поля. Поль был крестьянином с Рейна, волей судьбы оказавшимся среди арабов. Элен же была салонным цветком, превратившимся в искательницу приключений. Элен была католичкой, Поль — протестантом. Эти проблемы как-то уладили. Баронесса была более чем довольна поворотом судьбы своей дочери, чье будущее ее сильно беспокоило. Архиепископ Алжира, монсеньер Лавижери, который тогда еще не был кардиналом, согласился благословить новобрачных почти тайком скромным обрядом в тиши собора. Все были очень довольны. Потом появились дети — вехи, отмечающие движение жизни. Дети выходят из своих родителей и затем стирают их. Первым появился здоровый мальчуган. Это был дедушка Андре Швейцера…
Сейчас этот Андре здоровается с Марго Ван Гулип…
— Дорогой, — говорила мне Марина и тогда, — только не покидай меня. И прижималась ко мне.
Я всегда любил прибытие в незнакомые города. Мы с ней стояли на корме и держались за руки. Небольшое суденышко из тика и лакированной акации проходило между сваями, забитыми в грунт по три и огороженными железной полосой, чтобы отграничить непроходимые места в мелких водах лагуны. Их называют «отскоки», или «альбы». На каждой свае сидело по чайке.
Ветер развевал волосы Марины, солнце светило ей в лицо… А она склонила голову на мое плечо и вдруг посерьезнела:
— Я никогда тебя не забуду, — сказала она мне.
— Но я не покидаю тебя, — возразил я.
Она улыбнулась сквозь слезы…
Перед нами сверкала Венеция. Мы оставили позади Торчелло, Бурано, Сент-Франсуа дю Дезерт… И мы оставили за собой Ромена и Марго и целую толпу человеческих историй и связей, стянутых в узлы загадок, — это чтобы нам было больнее…
Мы проплывали вдоль кладбища на острове Сен-Мишель — там покоятся русские балерины, английские полковники, почтенные дамы-американки… Силуэты венецианских церквей четко вырисовывались на фоне неба. Справа — колокольня Мадонны дель Орто. Слева — колокольня Сан Франческо делла Винья. За ними, возвышаясь над всем, перемещалась перед нашими глазами против хода судна колокольня Святого Марка.
И вдруг, как по волшебству, мы вошли в Венецию, как в далекую сказку, внезапно оказавшуюся на расстоянии вытянутой руки. Или как если бы мы попали на борт высокого корабля, вокруг которого сначала долго суетились на шлюпках, чтобы его атаковать. Мы проплывали по каналам, впадавшим в другие каналы, из которых выплывали гондолы. Мы поднимали глаза ко дворцам с красивыми балконами и окнами, обрамленными барельефами. Мы проплывали под мостами, такими низкими, что приходилось наклонять голову. Мы играли роль, которую назначили себе сами для пребывания в этом застывшем красном городе, живущем воспоминаниями и умеющем создавать воспоминания. И мы целовались…
Вот мы вышли в Большой Канал напротив Ка’Пезаро. Марина испустила крик восторга. И я, и она впервые оказались в Венеции. Мы ничего не знали о ней, и нам предстояло открывать в ней все. Ее красота свалилась нам на голову, и мы задыхались под ее грузом. Моряк, который вел судно, небрежно указывал нам на дворцы, церкви, памятники, даже названий которых мы не знали… и вдруг — очень быстро, шквалом — понеслись словно приближенные гигантской рукой Ла Салют, Морская таможня со статуей Фортуны и двумя альтанами. И наконец — грандиозная площадь Святого Марка… Потом я двадцать раз возвращался в Венецию, тридцать раз, пятьдесят раз! В конце концов я уже выучил наизусть — увы, без Марины! — малейшие «sotoportego», «salizzada», «campiello» или «campazzo» этого города из воды и мрамора, и он потом много раз будет появляться в моих книгах. Но первый раз — всегда единственный…
— Я сейчас о многом думаю, — говорила Марина, идя рядом со мной и опираясь на мою руку. — А ты о чем думаешь?
— А я вспоминал Венецию, — ответил я.
— Дядя Жан, — заговорила Изабель, — Ромен всегда обещал показать мне Италию. Сейчас, когда его больше нет, может быть вы возьмете меня туда?
— Оставь Жана в покое, дорогая, — сказала Марина. — Сейчас не время докучать ему твоими вопросами.
— Она мне не докучает, — возразил я. — Ты мне не докучаешь, дорогая. Я полагаю, что дар превращать меня в своего раба у вас наследственный, он передался уже третьему поколению…
Марина взглянула на меня и улыбнулась сквозь слезы…
…С ней было связано единственное воспоминание о Ромене, которое могло пробудить во мне что-то похожее на злобу против него. Даже теперь, когда мы на этом кладбище ожидаем его похоронный кортеж, остатки злопамятства борются во мне с печалью. Долгое время я полагал, что чувства однозначны, как основные цвета, и отсекаемы, как простые органы: люди любят, не любят, ненавидят, сожалеют, надеются, желают… Сейчас я знаю, что чувства двусмысленны и противоречивы: можно жалеть своих палачей, бояться того, на что надеешься, продолжать любить тех, кого уже не любишь, желать того, что ненавидишь…
Толпа вокруг нас становилась все плотнее. Придя сюда, я спрашивал себя, будет ли нас здесь много, сколько его друзей, знакомых и незнакомых мне, дадут себе труд прийти на кладбище. Ответ был сейчас у меня перед глазами: многие испытывали к Ромену те же чувства, что и я. За свою достаточно долгую жизнь Ромен встречал многих людей. И он не всегда был только любезен. Он сделал хорошую карьеру художественного эксперта, и его коллекция примитивного искусства Китая и Индии сделала его достаточно широко известным. Сейчас здесь присутствовала целая фауна торговцев и любителей, с которыми его связывали профессиональные отношения и которых я не знал. Здесь были также, с каждым годом все более малочисленные, его старые товарищи по Сопротивлению и «Нормандии-Неман», они пришли отдать последнюю дань уважения одному из своих. Здесь были и спортсмены, с которыми он играл в теннис или гольф, с которыми он катался на лыжах в Шамониксе, Церматте или в Кортино-д’Ампеццо. Было немало меломанов и любителей оперы, разделявших его страстную любовь к музыке: к Моцарту, конечно, к Генделю, Шуберту и особенно к Баху, к которому он пришел довольно поздно, но зато — навсегда…
Все они были связаны с Роменом невидимыми нитями, но не связаны между собой. Там и сям виднелись лица незнакомых мне женщин: красивые, загадочные и молчаливые, они пополняли собой толпу женщин, которых я очень хорошо знал. Они были как окна в мир жизни Ромена, неизвестный мне…
Небо расчищалось. Дождя больше не было. Все ждали. И вдруг с миром что-то произошло, у меня даже пошла кругом голова. Мне пожимали руку люди, которых я не узнавал. Они напоминали мне о том, что я забыл. Они рассказывали мне вещи, которых я не понимал. С огромным облегчением я увидел перед собой Альбена и Лизбет Цвингли. Я обнял их — и это было как глоток свежего воздуха, поднявший меня ввысь над этой толпой…
Альбен и Лизбет — славные люди, обитающие в красивом деревянном шале в районе Гуарды, в самом сердце Ангандины. Ромен познакомился с ними первым. Как-то он проезжал в этих местах по дороге из Милана или Сен-Морица на фестиваль в Зальцбург. И вот посреди пейзажа сказочной красоты, после нескольких встрясок на ухабах, его машина выпустила тонкий шлейф дыма и стала. Мобильный телефон еще не был тогда изобретен. Пройдя в полном одиночестве (которое бывает даже приятным, но только в других обстоятельствах) несколько километров в одном направлении, затем еще несколько километров в другом, Ромен понял, что автомастерские не встречаются в этой местности так же часто, как между Женевой и Лозанной. Ему ничего не оставалось кроме как устроиться в ожидании на сиденьи своей машины с книгой в руках, и тут чей-то голос окликнул его. Это был Альбен Цвингли, проезжавший мимо. Он не ограничился тем, что отбуксировал машину Ромена к себе домой и покопался в моторе, поскольку уже темнело, он пригласил его поужинать и переночевать в крошечной комнатке, все пространство которой занимала кровать, но из которой открывался дивный вид на луга и горы. Ромен провел у них восхитительные вечер и ночь — самое веселое и самое спокойное время, которое он мог припомнить в своей жизни. Потом он не раз приезжал к ним весной, летом, зимой. А где-то к концу пятидесятых годов взял туда с собой и нас — Андре Швейцера и меня: подальше от разговоров о холодной войне, от событий в Алжире, экспедиции в Суэц и затонувшего на широте Нью-Йорка «Андреа Дориа».
Эти воспоминания пронизаны миром, счастьем и дружбой. Нам было очень хорошо с семьей Цвингли. Рано утром Альбер уводил нас на прогулки, и возвращались мы только вечером, уставшие и очарованные: перед глазами стояли очертания гор, а шляпы были полны цветов. Зимой мы с ним катались на лыжах по девственной белизны склонам, не обремененным толпой лыжников. Когда нас посещала ностальгия по цивилизации, мы отправлялись на денек в Давос и находили там (причем без всякого энтузиазма) старых знакомых, чайные салоны… и пробки на дорогах.
В получасе ходьбы от их дома у нас было местечко: у кромки леса, в конце тропинки, на возвышенности, один склон которой резко обрывался вниз, а другой был пологим. Оно было особенно дорого Альбену. Оттуда открывался вид, в котором сочетались покой и величие. Каждый раз, бывая у Цвингли, мы обязательно проводили там некоторое время: ведь у дружбы, как у всего, что связано с культурой и цивилизацией, должны быть свои ритуалы.
Несколько лет назад мы, все трое, опять побывали у Цвингли — это было что-то вроде паломничества по дружеским воспоминаниям. После сытного обеда — мясо по-местному, салат, омлет с картошкой, грюйер, яблочный сок, вино Долины — Альбен с трубкой в зубах, сидя скрестив руки на спинке поставленного задом наперед стула, с важностью поднял вверх указательный палец и заявил тоном таинственным и лукавым:
— Завтра я покажу вам сюрприз.
Назавтра он повел нас в то самое сакральное место. На первый взгляд там ничто не изменилось, но на том месте, где Альбен имел обыкновение любоваться пейзажем, оказалась скамейка. К ее спинке была прикреплена медная табличка с надписью по-немецки:
СКАМЕЙКА АЛЬБЕНА
К его 65-летию
Это была идея местных жителей, соседей Цвингли: они установили эту скамейку на месте, откуда открывался любимый вид Альбена, в качестве юбилейного подарка ему. Мы уселись, все четверо, на скамейку и долго молчали. Тишину нарушали только ветер и пение птиц, и наконец Андре Швейцер произнес:
— Вот сейчас мы счастливы, насколько это вообще возможно.
— Не сглазь, — проворчал Ромен.
— Я сейчас могу рассказать вам одну счастливую историю, — предложил Андре.
— Давай: сейчас для этого самый подходящий момент, — поддержал я.
И на этой маленькой скамеечке Альбена, сидя спиной к лесу и лицом к чудесному горному пейзажу, зажатый между Роменом и мной, помахивая подобранной сухой веткой, Андре Швейцер рассказал, чтобы порадовать Альбена, которому мы были обязаны этими счастливыми минутами, свою историю.
— Вы, должно быть, знаете, — кажется, я уже вам рассказывал вам об этих давних временах, — что мой дед был сыном того Поля Швейцера, который женился на молодой девушке — Элен Тенье.
— Да, — подтвердил я, — мы это знаем.
— У Андре Швейцера — я ношу то же имя, что и дед, — был сын, мой отец. Отец был врачом — как и я теперь — и последовал старинной семейной традиции: женился на молодой девушке, чьи родители разорились вчистую за несколько лет до «черного четверга» на Уолл-стрит. Они жили в Ле Ло — это в сторону Сен-Сирк-Лапопи…
Так вот, в километрах десяти от этой деревни у них был большой старый дом, к которому они все были очень привязаны и в котором моя мать провела свое детство. И когда пришлось его продать — это была античная трагедия: слезы текли рекой. Мать, бабушка, прабабушка моей матери — все родились там. И там же умерли. Продать его — это означало предать, растоптать, уничтожить все, что было получено от них и что уже невозможно будет передать следующим поколениям… Вам это должно быть понятно… вы даже говорили об этом в своей…
— Да-да, — поспешно заметил я, — многим это знакомо…
— Конец этого старого обиталища поверг мою мать — а она была тогда совсем молоденькой — в безысходную меланхолию. К тому же она вынуждена была расстаться с весьма достойной дамой — мадам Луазо (ее имя до сих пор «поет» в моей памяти[3]), которая занималась всем в доме, но, в первую очередь, моей матерью. Вынуждены были продать даже осла, верхом на котором моя мать ребенком совершала прогулки. Счастливые большие каникулы заканчивались, примерным девочкам оставалась лишь горечь воспоминаний… И только мой будущий отец сумел вернуть улыбку на ее печальные уста… Мне действительно повезло: они по-настоящему любили друг друга.
Их брачная церемония состоялась в Алжире — в том соборе, где за более чем пятьдесят лет до нее монсеньор Лавижери благословил брак моих прадедушки и прабабушки. Свадебное платье, приданое, цветы, участие всей семьи — всему этому еще придавалось большое значение во времена моих родителей. Я подозреваю, что самые молодые сегодня вообще не понимают значения слова «приданое». Даже мои родители уже ко многому относились проще: протестантская сторона натуры моего отца отказывалась признавать католические «побрякушки». Так что полное отсутствие приданого у моей матери никакой проблемы не составляло… И все же одну традицию отменить было никак нельзя: речь идет о свадебном путешествии…
Куда отправиться? В Индию, Гонконг, Манилу, на Бали, по следам бабушки-путешественницы? В Мексику, Бразилию? На озера в Баварию, в эпоху Людовика II, на поиски барокко? На итальянские озера? Моя мать не сводила глаз с отца, во всем подчиняясь ему. Потеряв свой любимый дом, она не интересовалась ничем другим и на все ласково кивала ему в ответ. Ей было все равно: любовь заменяла ей все на свете. Наконец мой отец решил отправиться на судне в Марсель и оттуда продолжить путешествие в автомобиле.
Новобрачные высадились, как рассказывали, в Марселе к вечеру. Они поднялись к Нотр-Дам-де-ла-Гард, прогулялись по Канебьер, пообедали в самой знаменитой гостинице города, которой сегодня уже нет, — «Ноай» — там для них была заказана комната. Моя мать очень устала, она еле держалась на ногах. И когда к концу ужина отец объявил ей, что комната ему не нравится и что он телеграфировал в какую-то деревенскую харчевню, находящуюся где-то не очень далеко, немного за пределами Экс-ан-Прованса, и там найдется лучшая комната, мать была готова лишиться чувств.
Мой отец обнял ее, утешил, нежно сказал, что автомобиль уже ждет, что он просторный и удобный, что она выспится в нем лучше, чем в этом шумном и малоприятном отеле. Путешествие будет недолгим, и она проснется в чудесной обстановке тишины и покоя. Моя мать была влюблена и послушна мужу, она соглашалась с ним во всем.
— Я очень устала, — сказала она, — но если ты считаешь, что так будет лучше…
— Доверься мне, — сказал он, — я уверен, что так будет лучше. Ты примешь успокоительный отвар, чтобы поспать, и даже не заметишь, как пролетит время в дороге…
Мать выпила отвар, устроилась в автомобиле и сразу уснула на руках мужа. Дорога показалась ей довольно долгой. Время от времени она выходила из своего полузабытья, приоткрывала глаза, волновалась.
— Спи, родная, спи, — говорил отец.
Она засыпала опять. Ей снились переходы через пустыню, подъемы в горы. Когда она проснулась, солнце уже было высоко в небе… но на очень знакомой широте… Она села в кровати и ей показалось, что она сходит с ума… Все вокруг было знакомо ей до малейшей детали, все напоминало об ушедшем прошлом… За окном она увидела осла. Она пробежала по лестнице, ступени которой сами стелились ей под ноги, а у окна она узнала силуэт мадам Луазо и в слезах упала в объятия мужа… который тайно выкупил и вернул ей родительский дом…
— Вот уж поистине триумф буржуазной сентиментальности! — воскликнул Ромен, поднявшись со скамейки и аплодируя. — Буржуазность проявляет себя в двух противоположных ракурсах: слезоточивом и циничном. Она любит поплакать и позубоскалить, растрогаться и насмешничать. Составные части слезоточивого буржуа — этот тип был представлен Седеном в литературе и Грезом в живописи накануне Великой Французской революции, которая и стала победой и началом правления буржуазии, — это несчастье, сломанный жизненный уклад, добросовестность и деньги. В истории твоего отца блестяще представлены все эти четыре элемента…
…Кто-то, возможно, Бешир или «Большое Предместье», указали Марго ван Гулип на присутствие на кладбище Марины, и теперь Марго продвигалась к нам. Она разрезала толпу, как большой корабль, гордо рассекающий волны. Все расступались перед ней: одни — потому что узнавали ее, другие — просто уступая дорогу: она умела быть весьма импозантной. Она производила впечатление одним своим присутствием, манерой держаться, несмотря на возраст, всем самоощущением значительности своего места и роли в мире — в мире, которым она распоряжалась по своему усмотрению. От ее былой потрясающей красоты почти ничего не осталось, только нечто вроде тени, волшебного ореола, не подверженного времени, который, существуя в весьма отдаленном прошлом, каким-то чудом продолжал и сейчас поражать всех вокруг восхищением и почти страхом.
— Марина! Дорогая! — восклицала она издали.
Мы продолжали держаться вместе: с одной стороны от меня Альбен и Лизбет, с другой — Марина с дочерью. Марина приникла ко мне, сжимала мою руку. Сейчас я был для нее убежищем, оплотом против несчастья. Я был свидетелем ее горя, которое соединялось с моим горем и в то же время отталкивалось от него. Наши с ней переживания объединялись, потому что страдание Марины было страданием для меня, но они и разъединялись, потому что преданность Марины памяти Ромена пробуждала во мне, где-то на самом донышке печали, самые смешанные чувства, вплоть до антипатии, которую я давно испытывал к его образу профессионального победителя жизни.
Больше для меня, чем для Королевы Марго, и больше для себя, чем для меня, Марина проговорила:
— И что теперь с нами будет?..
…Что теперь с нами будет?.. Боль и воспоминания опять вернули меня в прошлое, в тот последний день на острове Патмос. Наш отъезд был назначен на завтра…
К грустной прелести уходящего лета примешивалась наша меланхолия. Накануне отъезда, немного позже того случая, когда волна отбросила маленькую Марину на песок и вымочила ее летнее платьице, Мэг пригласила меня прогуляться в последний раз по острову. Мы миновали монастырь Иоанна Богослова и три четверти часа брели среди олив. Море то появлялось, то скрывалось из виду за поворотами дороги. Мы шли, останавливались, смотрели на море и пляжи, перебрасывались немногочисленными словами. Я благодарил ее за прием, она расспрашивала меня о моей жизни и рассказывала о своей. Мне было девятнадцать лет, ей — тридцать, тридцать пять, может быть даже сорок — я не имел об этом ни малейшего понятия. Она была само очарование и, в отличие от меня, ее спутника, успела многое повидать в жизни. У нее был уже второй или третий муж, греческий арматор, чей нефтяной бизнес хоть и не поднимался до масштаба Ниархосов, Онассисов, Ливаносов или Гуландрисов, но предоставлял ей все преимущества внушительного состояния и свободных разъездов по миру: в Ирак, Саудовскую Аравию, Соединенные Штаты… Несмотря на мою наивность, граничившую с глупостью, я понял, что этот муж не имел большого значения в ее жизни, а о первых двух вообще не стоило говорить.
— Я вышла замуж очень рано, очертя голову, только чтобы уйти из родительской семьи…
— С помощью Бешира, вероятно, — сказал я улыбаясь, и тут же испугался своей смелости.
— А-а! Вы кое-что знаете или думаете, что знаете. Ну-ка, ну-ка, откуда у вас эти мысли?
Меня охватила паника: я поставил себя в неловкое положение. Выдать Бешира, который доверился мне, было бы ужасно. Я попытался выкрутиться.
— Бешир меня заинтриговал, — пролепетал я. — Он очень интересный человек. Я спросил себя, какую роль он играет при вас. И я навоображал себе… Простите меня за нескромность…
Мой промах, однако, оказался не столь уж серьезным. Ее, очевидно, мало волновало то, что я мог о ней подумать. Она засмеялась, и мне так нравился ее смех…
— Вы очаровательны, — сказала она.
Первый раз в моей жизни женщина назвала меня очаровательным. Честно говоря, это был первый раз, когда женщина вообще заговорила со мной. Я гораздо лучше разбирался в оксюмороне и аористе, чем в отношениях между мужчиной и женщиной — таких непонятных и пугающих… Я, конечно, знал некоторых женщин: студенток-однокурсниц, официантку в баре Шамоникса, где я катался на лыжах, билетершу кинотеатра на улице Фейянтин, но мало и мельком. А здесь… со мной говорила женщина… на этом священном острове посреди моря Эллады… и вдобавок находила меня очаровательным… При этом какая женщина!.. Солнечная богиня Мэг Эфтимиу — брюнетка с синими глазами, длинноногая, элегантная и в то же время величественно простая, настолько, что впору было упасть перед ней на колени… Я это и сделал. А море фоном дополняло эту картину…
— Что такое? — спрашивала Мэг смеясь. — Что это вы делаете? Ну-ка вставайте!..
— Я целую ваши колени, — сказал я, обнимая ее ноги, как это делали все умоляющие в греческих трагедиях.
Она наклонилась ко мне, погладила меня по волосам, тогда прямым и длинным.
— Как это мило, — сказала она и тоже упала на колени передо мной.
Мы неподвижно стояли на коленях лицом к лицу. Затем я взял ее за плечи и запечатлел поцелуй на ее лбу.
— Оцените мою деликатность, — сказал я. — Я целую ваши колени и лоб, и пропускаю то, что мне не принадлежит.
Я где-то вычитал эту фразу, кажется, это было из письма Дюма к Иде Феррье, а может быть, к кому-то еще…
Она посмотрела на меня без смеха, почти серьезно, и погладила по лицу, нежно и мимолетно.
— И чего вы хотите? — спросила она.
— Поцеловать вас, — проговорил я быстро, чувствуя, что краснею.
— Ну что ж, — сказала она, не делая ни единого движения, — поцелуйте меня.
Я склонился к ней, прижал к себе и поцеловал в губы. И тут она вдруг сказала:
— Я люблю Ромена…
…Марго ван Гулип обняла Марину, несколько отчужденную, и та выпустила мою руку. Сейчас Марго прижимала Марину к себе.
— Марина, дорогая! Какой ужасный день! Откуда ты? Как ты себя чувствуешь?
— Я из Нью-Йорка. Мне очень грустно, но чувствую я себя хорошо. А вы?
— Я вдруг почувствовала себя такой старой! Такой старой… и я тоже очень грущу. Мы так любили Ромена…
— Да, — сказала Марина.
Она некоторое время молчала с замкнутым выражением лица. Затем повторила с силой:
— Да, мы любили его.
Она снова схватила мою руку и сжала ее так сильно, что я почувствовал ладонью ее ногти.
Все любили Ромена. И я тоже любил Ромена. Сегодня был праздник Ромена: здесь и сейчас все любили его, мертвого. Так заведено: мертвых положено любить. Они больше не делают вам зла. Они не мешают вам. Но надо признать, что здесь все было сложнее: я любил Ромена и тогда, когда он был жив, любил даже тогда, когда ненавидел…
…Кстати, он запаздывал… Я посмотрел на часы. Его похоронный кортеж уже должен был быть здесь. Толпа на кладбище, все более многочисленная, подавала уже признаки волнения. В ней начинали говорить о разном: о делах, о просмотренных фильмах, назначали встречи — жизнь всячески защищала себя от смерти. Я подозвал проходившего Бешира:
— Ты не можешь связаться с похоронным фургоном? — попросил я.
— Конечно, могу. У меня есть его номер и мобильный телефон.
— Тогда позвони и спроси, где он…
…Бешир… Та зима под Сталинградом была для него лишь преддверием ада. Он чудом выскользнул, с несколькими товарищами, из советского окружения, в которое попали триста тысяч солдат генерала фон Паулюса, получившего от Гитлера звание маршала в самый разгар военных действий. Только под Сталинградом, где осаждающие стали осажденными, а осажденные — осаждающими, где сражались за каждую улицу, за каждый дом, немцы за несколько недель оставили на снегу сто пятьдесят тысяч своих солдат, а русские взяли около ста тысяч пленных, среди которых было восемьдесят генералов и сам маршал. То были поистине картины ада, где кровь, снег, снаряды, гранаты, огнеметы, бомбардировки с воздуха перемешивались с воплями и стонами раненых с обеих сторон, и им почти невозможно было помочь; уцелевшие сражались жестоко, сражались за свою жизнь… В январе 43-го, немногим более года после вступления в войну Соединенных Штатов, через два месяца после высадки американцев в Северной Африке, за шесть месяцев до высадки союзных войск в Сицилии — именно Сталинградская битва обозначила перелом во всей войне…
…Бешира втянули в эту катавасию. Он был одной из бесчисленных крохотных пешек в этой грандиозной партии, которую разыгрывали между собой князья мира сего — мира, обезумевшего по вине некоторых из них, а вернее, одного главного, того, кто и запустил эту адскую машину… Теперь ее разогнавшийся маховик вращался уже своим ходом и продолжал перемалывать миллионы жертв…
Бешир перешел под командование другого маршала, ставшего во главе оберкоманды вермахта; его громкое имя заявило о себе миру вслед за другими, не менее громкими: Мольтке, Фалькенхайна, Гинденбурга, Бока, Клюге, Клейста, Браухича, Рундштедта — это был Эрих Левински фон Манштейн. Он почти не уступал другому военному гению — Роммелю. Товарищи Бешира шептались, что именно он планировал операции по захвату Франции в 1940-м году. Именно он захватил Крым за год до Сталинграда. И теперь он, чтобы отбросить противника назад, к востоку от Донца, устремился к Харькову: этот город был взят Рундштедтом в октябре 1941-го и отбит русскими в феврале 43-го. А в марте 43-го Бешир уже второй раз входил в Харьков…
О чем мог думать — если он вообще тогда мог думать — человек вроде Бешира ранней русской весной 1943-го? Он был лишь в середине того кошмарного пути, который с таким энтузиазмом был начат в июне
41-го операцией «Барбаросса» и которому предстояло окончиться в Берлине в первые бледные дни мая 45-го в грязи, крови, пламени, отчаянии и руинах. Понимал ли он, с чем связал свою судьбу?.. Осознавал ли он, хотя бы смутно, то, о чем уже догадывались люди в покоренных странах Западной Европы — во Франции, Бельгии, Голландии, Италии, в скандинавских странах, — люди, перевесившие ружье своего патриотизма на другое плечо и вывернувшие куртку своего патриотизма на другую сторону? Их территории были оккупированы, но теперь уже многие, уловив направление ветра истории, торопились присоединиться к той изначальной горстке храбрецов, которые в самую темную пору военной ночи первыми убежденно вступили в борьбу, тогда казавшуюся безнадежной. Но Бешир в степях Украины, выметенных пулеметами, не имел досуга взвесить шансы за и против. Он воевал уже два года. И ему предстояло воевать слепо, с пустым сердцем, еще два года…
Через четыре месяца после второй оккупации Харькова русские танки одержали верх над бронированными силами Манштейна, который теперь сражался против вдвое превосходящего его противника, прорвали немецкий фронт под Курском, севернее Харькова, и захватили Орел. Битва под Курском знаменовала окончательный провал операции «Цитадель», разработанной Манштейном в надежде повернуть ход событий вспять. Двумя месяцами позже Харьков был оставлен немцами. Таким образом, власть в нем менялась в четвертый и последний раз за два года сражений. Затем поочередно были сданы Смоленск, Киев, Одесса, Севастополь. Русские продвигались к Днепру, затем — к Днестру. Они разворачивали наступления в Белоруссии и Прибалтике. Потом перешли границы Польши и Румынии. Свершилось великое отступление вермахта…
…Сейчас в нескольких шагах от меня этот самый Бешир разговаривал по телефону с фургоном, который должен был доставить на кладбище тело Ромена — бывшего летчика эскадрильи «Нормандия-Неман», участника Освобождения, Героя Советского Союза. Интересно: где был он на Рождество 41-го, 42-го, 43-го, 44-го годов? Я мог лишь приблизительно восстановить его путь. К Рождеству 41-го с «блицкригом» было уже покончено, битва под Москвой закончилась поражением немцев. К Рождеству 42-го в сталинградском аду свершилась драма фон Паулюса. На Рождество 43-го он должен был находиться где-то между Киевом и Варшавой или между Киевом и Бухарестом. Есть много белых пятен в жизни даже тех, кто нам наиболее близок. Например, я почти ничего не знал об американских годах Мэг Эфтимиу, она же Марго ван Гулип. Я мало что знал о любовных увлечениях Ромена: за пределами того, что нас разделяло, мы с ним были как братья, но при этом никогда не откровенничали о наших женщинах (иногда одних и тех же). О Бешире я тоже многого не знал. Я даже удивлялся, что вообще знаю о нем столько благодаря тому, что мне о нем рассказывали другие, и, главным образом, он сам.
Он разговаривал по мобильному телефону. Марина прижималась ко мне, держа мою руку. Изабель разговаривала с бабушкой. Андре Швейцер прохаживался с Виктором Лацло и Ле Кименеком. «Большое Предместье» суетливо раскланивалось с улыбками направо и налево. Толпа ожидала прибытия Ромена.
— Они уже едут, — сообщил мне Бешир. — Было затруднено дорожное движение. Они будут здесь через минут десять, может быть, даже пять.
…Дорожное движение также было сильно затруднено в Восточной Европе и Померании в конце 1944-го и начале 1945-го. Тот путь, который Бешир проделал два-три года назад в одном направлении, он теперь проделывал в направлении обратном. Отступление вермахта, конечно, не было похоже на беспорядочный отход в 1939—1940-м годах польских или французских войск под натиском немецких «пантер», открывавших собой новую эпоху военной истории; в лагере противников ее предвидел тогда, пожалуй, только малоизвестный офицер по имени Шарль де Голль. Отступление вермахта было еще управляемым и организованным, но изменился сам дух войны. Победное наступление, которое казалось неостановимым, сменилось отступлением, полагавшимся на сомнительные чаяния: некие устрашающие революционные армии, обещанные фюрером… отступление союзников… возможность компромиссного мирного договора…
Высадка в Нормандии на заре 6 июня 1944-го положила конец долгому смутному периоду неопределенности, начавшемуся на западе с высадки в Северной Африке, а на востоке — со сталинградской битвы и длившемуся весь 1943-й год. Гитлер, который вернул Саарскую область Германии, ремилитаризовал Рейнскую область в обход Версальского договора, нарушая который раз данное слово, за несколько лет завладел Австрией, Судетами, Богемией, Моравией, Словакией, Мемелем, Данцигом и всей Польшей, Данией и Норвегией, Нидерландами, Бельгией и Люксембургом, всей Францией и доброй частью ее территорий, Югославией, Грецией, Белоруссией и Украиной, который дошел до Кавказа и до ворот Каира, теперь отступал по трем направлениям: на востоке, на юге и на западе. Десять лет он шагал от победы к победе, и вот уже два года он катился к разгрому…
— Держи меня в курсе, — сказал я Беширу.
— Извините меня, — подошла мадам Полякова, — вы сейчас разговаривали с Беширом?
— Да, мадам, — ответил я.
— Ах, я так расстроена, что совсем плохо вижу…
— Мадам, я понимаю вас как никто другой…
…Франсуаза Полякова была старшей сестрой Андре Швейцера. За несколько лет до войны она вышла замуж, опять-таки в Алжире, за друга своего брата, тоже врача, выходца из Литвы, исключительно уродливого и намного старше ее. Мишель Поляков был из тех редких мужчин — женщин было очень много, — которые могли похвастаться тем, что им удалось произвести впечатление на Ромена. А Ромен редко ошибался, хотя его учеба была пресечена на корню (к его великому удовольствию, я думаю) начавшейся войной, да и читал он немного. В пятидесятые годы за открытие (о котором я ничего определенного не могу сказать) Мишель разделил с каким-то американским ученым Нобелевскую премию по медицине или химии, не знаю точно. Мишель, как и Ромен, мало во что верил и терпеть не мог официальные почести. В противовес нобелевскому церемониалу мы тогда сами устроили себе грандиозный праздник: пили и пели всю ночь в каком-то русском кабачке Парижа и с большим старанием перебили там все стаканы и тарелки.
Поляков был евреем. В молодые годы, задолго до женитьбы, он практиковал в Марселе, где с ним приключилась интересная история, которую он и рассказал мне во время той попойки по случаю Нобелевской премии.
Однажды вечером после ужина он сидел дома в своей квартире в районе Биржи и Старого порта и спокойно читал, когда в дверь вдруг позвонили. Ничего не подозревая, он пошел открывать и оказался лицом к лицу с двумя мужчинами, которые поддерживали под руки третьего. Раненый, который беспрерывно стонал и был на грани потери сознания, получил где-то рану в живот и истекал кровью.
— В чем дело? — спросил Мишель.
— Займись, — приказал меньший из двух сообщников. — Лечи его и помалкивай.
Мишель в недоумении поднял брови.
— Он ета незнарочна, — заявил другой, который был покрупнее и посильнее. И в самых сильных выражениях он принялся поносить своего подельника, который больше не открывал рта.
— Он чистил свой пистолет, — пояснил затем крупный, — и…
— Я вижу, — прервал Мишель. — Лучше было бы отвезти его в больницу.
— Но, — заюлил здоровяк, — если бы мы при этом могли избежать некоторых осложнений… транспортировка связана с риском… формальности занимают столько времени…
— Понятно, — сказал Мишель. — Быстрота и соблюдение тайны — вот что вам нужно.
Чтобы засвидетельствовать ему свою благодарность за сообразительность, здоровяк отвесил ему такой дружеский шлепок по плечу, что Мишель едва не рухнул.
У доктора Полякова дома был небольшой кабинет, оснащенный кое-какой аппаратурой, где он осматривал своих пациентов. Он приказал ввести туда больного и уложил его на кушетку. Беглого осмотра было ему достаточно, чтобы понять, что рана впечатляющая на вид и достаточно серьезная, не была смертельной. Пуля не задела жизненно важных органов. Следовало извлечь пулю, которая только задела печень и поджелудочную железу, почистить, подшить, забинтовать рану и предписать полный покой. Мишель приспособил здоровяка к неожиданной для него роли медсестры, заставил вымыть руки, всунул ему в них некоторые инструменты, а затем сделал укол раненому, и тот потерял сознание.
Со всеми подготовительными и заключительными действиями, операция заняла каких-нибудь три четверти часа. Никто не произносил ни слова. Раненый спал. Врач отдавал краткие распоряжения подельнику-ассистенту. Когда все было закончено, Мишель спросил у обоих ангелов-хранителей, есть ли у них машина. Да, конечно, есть.
— Хорошо. Тогда все в порядке. Отнесите его в машину, отвезите домой, уложите… У него есть жена?
— У него их даже несколько, — насмешливо хмыкнул маленький.
— Тем хуже для него, — возразил Мишель. — Так вот, пусть все они проследят, чтобы он не вставал, и подержат рядом с собой в постели недели две. Затем — нормальный отдых, без женщин, насколько это возможно. Осложнений не должно быть. Если они все же будут, вот мой номер телефона… А теперь убирайтесь.
Через восемь дней у Мишеля Полякова зазвонил телефон.
— Алло! — ответил Мишель.
— Это я, — сказал мужской голос.
— Да? А кто «я»? — спросил Мишель.
— Ну, я. Это вы меня лечили?
— Хм… — Мишель был в затруднении.
— Ну, вы меня недавно лечили…
— А!.. Ну да. И как ваши дела?
— Очень хорошо. Я хочу вас отблагодарить. Сколько я вам должен?
— Мой гонорар — тридцать два франка пятьдесят сантимов, — сказал Мишель.
— Не валяйте дурака. Я тороплюсь. Сколько вы хотите?
— Я хочу именно тридцать два франка пятьдесят сантимов.
— Вы что — идиот?
— Я врач, — сказал Мишель, но не исключено, что я — врач-идиот.
— Ну знаете ли… Первый раз встречаю такое…
— Тридцать два франка пятьдесят сантимов, — повторил Мишель.
— Да послушайте же… Не могу я послать вам тридцать два франка пятьдесят сантимов. Это же идиотизм!
— Это не идиотизм. Это цена одного идиота.
— Ну, тогда я предложу вам другое. Сейчас я не пошлю вам ничего. Но если однажды — кто знает? — вам понадобится помощь, то меня зовут Карбон…
— А меня зовут Поляков, месье Карбон, — парировал Мишель, — и вы мне должны тридцать два франка пятьдесят сантимов.
И он положил трубку.
Прошли годы. Мишель Поляков женился на Франсуазе Швейцер, стал очень известным врачом. Он жил в Париже, на бульваре Сен-Жермен, почти на углу бульвара Сен-Мишель. Когда немцы вошли в город, в июне 40-го, он не захотел сниматься с насиженного места.
Июльским вечером 1942-го года, через несколько недель после речи Лаваля, в которой тот пожелал Германии победы, Мишель Поляков у себя дома старательно вслушивался в плохо различимый голос Мориса Шуманна по лондонскому радио, когда во входную дверь позвонили. Это было время, когда дверные звонки вызывали только страх. Немного позднее Жорж Бидо дал прекрасное определение мирной жизни, хотя сейчас и немного устаревшее: мир — это когда ранним утром раздается звонок в дверь, вы спрыгиваете с кровати, идете открывать, а на пороге — разносчик молока…
Мишель Поляков имел все основания бояться звонка в дверь. У них с Франсуазой была маленькая дочь семи или восьми лет, которую звали Ирен. Как-то вечером в конце зимы, возвращаясь из школы, Ирен с испугом услышала за собой шаги двух мужчин, которые, казалось, преследовали ее. Она пустилась бежать. Мужчины ускорили шаг. В конце концов, она спряталась под каким-то портиком. Мужчины прошли мимо нее, не останавливаясь, но один из них, повернувшись к ней, бросил мимоходом очень четко:
— Такая маленькая девочка не должна оставаться сейчас в Париже — скажи это своим родителям.
Ее немного успокоило только то, что она вроде бы узнала в говорившем мужа их консьержки, которая была славной женщиной. Ирен вернулась домой и все рассказала родителям.
— Напомни мне, чем он занимается, муж мадам Сассафра? — спросила Франсуаза у Мишеля.
— Он служит в полиции, — ответил Мишель.
Через четыре дня Франсуаза Поляков и ее дочь Ирен сделали попытку выбраться в свободную зону (сам Мишель по-прежнему отказывался покинуть Париж). Им нужно было пересечь демаркационнную линию. Боясь привлечь к себе внимание оккупационных сил, Поляковы даже не попытались получить «аусвайс», который давал разрешение на переход через линию. Друзья подсказали Франсуазе надежный обходной путь, где никогда не было контроля. Они с дочерью в автомобиле направились по этому пути и уже приближались к демаркационной линии, когда с ужасом увидели, что два автомобиля, шедшие перед ними, остановлены пикетом немецких солдат. Франсуаза хотела было тут же повернуть назад, но сзади уже подъехала другая машина. Они оказались в западне…
Небо было обложено тучами. Дул ледяной ветер. Франсуазу охватила тоска: у нее не было никакого документа, кроме водительских прав. Она, без единой мысли, как автомат, двигалась навстречу своей судьбе, воплощением которой стал для нее этот старый немецкий офицер SS, проверявший разрешения на выезд. Когда подошла ее очередь, офицеру вздумалось зажечь сигарету. Он пытался прикурить на ветру. Нагнув голову, он прикрывался козырьком своей фуражки и старался оградить сложенными вместе ладонями слабую искорку, которая тут же гасла: порыв ветра всякий раз задувал огонек его зажигалки. Вот он сделал очередную попытку, отвернувшись и сгорбившись. Еще две машины стояли в ожидании за бедной матерью, молча державшей руку дочери. Тогда, нетерпеливо, в раздражении, стоя спиной к Франсуазе, — а та уже не могла ни думать, ни дышать — офицер, укрывшись капюшоном и тщетно пытаясь прикурить от огонька зажигалки, колеблемого ветром, — сделал ей знак проезжать…
С тех пор Франсуаза испытывает большое почтение к курильщикам…
…В дверь Мишеля Полякова звонили все настойчивее и даже стали стучать, и когда он открыл, то увидел то, чего боялся: двух молчаливых верзил в черных кожаных плащах, которые без лишних церемоний сказали ему следовать за ними.
— Сейчас? — спросил он.
— Да, сейчас.
— Немедленно?
— Немедленно.
— Могу я взять с собой что-нибудь?
— Туалетные принадлежности. Две рубашки. Самое необходимое.
— Дайте мне три минуты.
— Ладно. Но поторапливайтесь. Нельзя терять время.
В машине, плотно зажатый между этими двумя парнями, упорно молчащими, Мишель прокручивал в памяти всю свою жизнь, а за стеклами автомобиля пробегал летний ночной Париж. Он спрашивал себя, что его ждет. Слово «Дранси» еще редко звучало летом 42-го. Но все знали, что нацисты преследуют евреев. Многие были вынуждены вести подпольную жизнь. Мишель думал о жене и дочери и радовался, что успел отправить их в так называемую «свободную зону», где в это несчастное и гнусное время было все же меньше риска.
Черный «ситроен» переехал на правый берег Сены, проследовал по Елисейским Полям, выехал на площадь Звезды и проехал по обочинам авеню Дюбуа. Выйдя из машины, Мишель, все так же плотно конвоируемый, задавался вопросом, не упоминал ли кто-нибудь при нем гестапо на улице Фош. Его провели на второй этаж по монументальной мраморной лестнице. Позвонили. Дверь открылась. Некая фигура, тоже вся в черном, но не столь застывшая, встретила их на пороге. Беспокойство Мишеля сменилось удивлением, а удивление — ошеломлением.
Он очутился в большой комнате, несколько пустоватой, которую можно было принять за салон. Посередине — большой белый кожаный диван с тремя креслами. Звериные шкуры на полу. На стенах — несколько картин… В углу — богато оснащенный напитками бар. Никаких униформ, никаких папок с документами. Мишель стоял, свесив руки, в ожидании беды, которую не мог не таить в себе этот стерильный светский интерьер…
— Садитесь.
Он сел.
— Чего хотите?
Чего он хотел? Вернуться домой!
— Вернуться домой, — сказал он.
Охранник засмеялся:
— Это, пожалуй, единственное, чего я не могу вам позволить.
— Так я пленник?
— О, это громко сказано. Скажем так: вы здесь на…
— На неопределенный срок?
— Именно: на неопределенный срок.
Наступило молчание.
— Хотите чего-нибудь выпить?
— Стакан воды, — сказал Мишель.
— Может быть, стакан вина? С какой-нибудь закуской?
Он пожал плечами. Это слово «закуска» почему-то заставило его поежиться. Охранник на минуту оставил его одного. Он вернулся почти сразу, толкая перед собой сервировочный столик. На нем была тарелка с маленькими продолговатыми штучками, на которые Мишель воззрился вытаращенными глазами: это были канапе с икрой и лососем. На столике был также стакан и бутылка красного вина. Неосознанно — и это удивило его самого — он бросил взгляд на этикетку, покрытую пылью, — это была «Белая лошадь»…
— Они точно меня расстреляют, — мелькнула мысль.
— Приятного аппетита, — бросил ему охранник.
Мишель попытался различить в этом пожелании, произнесенном тихим голосом, оттенок иронии, благожелательности или издевки. А затем… съел все канапе и выпил три стакана «бордо».
Через полчаса охранник вернулся, попросил Мишеля следовать за ним и отвел его в маленькую, но очень удобную комнатку с прилегающим к ней туалетом; в комнате уже была постелена кровать.
— Вы пробудете здесь некоторое время, — сказал охранник. — Вам будут приносить еду. Но я должен вас закрыть.
Он вышел, и Мишель услышал, как в замочной скважине повернулся ключ.
Он провел там три ночи и два дня. Утром третьего дня охранник появился снова.
— Вы свободны, — сказал он.
Мишель Поляков взял свои вещи и вышел. На лестнице охранник протянул ему конверт. Мишель открыл его на улице: там были тридцать два франка и пятьдесят сантимов…
Вернувшись домой, он узнал, что вооруженные полицейские приходили за ним утром два дня подряд и, не застав его, ушли ни с чем. Это была облава на евреев 16-го и 17-го июля 1942-го года…
Через полтора года Мишель Поляков, ставший участником Сопротивления, попал в западню, на которую так никогда и не удалось пролить свет. Он был арестован гестапо и выслан в Германию, откуда вернулся каким-то чудом, — это было за лет двенадцать до получения Нобелевской премии и за двадцать — до его смерти…
— …Но я все-таки должна была приехать, — говорила мне Франсуаза. — Мишель так любил Ромена…
— Да, мадам, — подтвердил я.
Она посмотрела на меня и положила свою руку на мою.
— Не надо так сильно грустить, — сказала она мне. — Жизнь продолжается…
Я молчал. Я обожаю Швейцеров. И очень люблю Франсуазу.
— Жан, — сказала она мягко, — о чем вы думаете? О Ромене?
— О том, что вы мне сказали, — ответил я.
Бешир торопливо шел ко мне.
— Кортеж прибывает, — шепнул он.
Я пристально смотрел на него, и он это заметил.
— В чем дело? — спросил он с легким беспокойством.
— Ни в чем, — ответил я. — Но тебе здорово повезло…
…Легион французских волонтеров против большевизма, под командованием полковника Лабонна, а затем генерала Пюо, который насчитывал около шести тысяч пятисот волонтеров, отобранных из двадцати тысяч кандидатов, был распущен в августе 44-го при освобождении Парижа. Это было через недель десять после начала операции «Оверлорд», высадки союзников в Нормандии и бравого марша генерала Саймона Фрейзера, будущего лорда Ловата, командовавшего Первой специальной бригадой, в состав которой было введено около двух сотен французов. Он уверенно вел своих солдат, и сопровождавшая их волынка Билли Миллина высвистывала под свист снарядов мелодию «Blue Bonnets over the Border».
Двумя месяцами позже большая часть французов, прежде входивших в состав Waffen SS, была переброшена вместе с некоторыми частями «кригсмарине», армии Власова и казачьего кавалерийского корпуса под командованием генерала SS Гельмута фон Панвица в состав дивизии SS «Шарлемань». Прежний состав дивизии «Шарлемань» был практически весь уничтожен советскими войсками в Померании весной 45-го года после занятия Восточной Пруссии генералом Черняховским. Вермахт, завоевавший почти всю Европу, часть Африки и замахнувшийся на Азию, теперь контролировал лишь узкий коридор от Норвегии до озера Комакко. Бешир был из малого числа тех, кому в апреле удалось выжить, выскользнуть из петли и добраться до Берлина. Через несколько дней он оказался в отряде из каких-нибудь трех сотен человек под командованием генерала SS Крюкенберга. Этот отряд защищал гибнущую столицу рейха и именно он лег в основу легенды о тибетской и монгольской гвардии, охранявшей затравленного Гитлера. Эта легенда впоследствии получила развитие у Луи Повеля и Жака Бержье в «Планете» и «Утре магов».
— Почему ему здорово повезло, дядя Жан? — спросила Изабель, подошедшая ко мне и слышавшая последние слова.
— Это слишком долго объяснять, дорогая, — ответил я, обнимая ее за плечи.
…Вечером 27 апреля 1945-го года Бешир получил приказ явиться ранним утром к дверям апартаментов Гитлера в бункере под имперской канцелярией, где фюрер находился уже около шести месяцев. Бешир, как мог, скудными подручными средствами вычистил мундир и башмаки, реквизированные им у какого-то покойника в Восточной Пруссии или Померании. Он проверил свое оружие, осадное ружье и «вальтер» калибра 7.65, которым особенно дорожил и с которым никогда не расставался. Солнце еще не поднялось над агонизирующим Берлином, когда Бешир уже занял свой пост у дверей бункера.
Тянулись долгие часы. Грохот рвущихся на поверхности бомб глухо проникал сквозь толщу бетона. Время от времени возникала суета: туда-сюда в спешке проходили генералы, руководство SS, врачи, медсестры, генерал фон Грейм, который чудом добрался сюда на самолете, пилотируемом женщиной, Ханной Рейтш, и даже Йозеф Геббельс собственной персоной. День уже был в самом разгаре, когда высокий белокурый лейтенант подал знак Беширу войти вместе с ним внутрь бункера — это оказался «зал карт». И тут изумление пригвоздило Бешира к полу: в состоянии крайнего возбуждения, со стаканом в руке, в окружении нескольких человек, поддерживаемый молодой брюнеткой лет тридцати, там громко разглагольствовал сам Адольф Гитлер.
Бешир, как и все прочие, видел множество изображений Гитлера, льстиво распространяемых нацистской пропагандой. Поэтому он сразу узнал истеричного диктатора, превратившего свой народ в фанатиков; его смертоносное безумие унесло жизни миллионов безвинных жертв с обеих сторон… И вот этому человеку он служил…
Впрочем, Гитлер, который отпраздновал на предыдущей неделе свое 55-летие, сильно изменился. Десять месяцев назад, в его логове «вольфшанце» в Растенбурге, под стол, за которым шло заседание штаба, была подложена бомба полковником графом фон Штауфенбергом — одноруким, с тремя пальцами на левой руке, с черной повязкой на глазу, вполне в актерском стиле Эриха фон Штрохейма в «Великой иллюзии», и эта бомба сильно покалечила фюрера. Она нанесла существенный урон окружающей обстановке и могла бы убить фюрера, если бы не случайность: один из присутствующих офицеров, которому мешала салфетка (а в ней находилась бомба), немного ранее отодвинул ее подальше в сторону…
Это было уже не первое покушение на диктатора, даже если не считать бомбы, брошенной в ноябре 39-го часовщиком Георгом Эльсером в Мюнхене. За год до неудавшейся попытки полковника фон Штауфенберга, в марте 43-го, лейтенант фон Шлабрендорф, а через восемь дней после него — полковник Рудольф фон Герсдорф также пытались убрать фюрера. Оба раза Гитлера спас холод.
Лейтенанту удалось установить два пакета с взрывчаткой, замаскированных под бутылки коньяка, в самолете, в котором Гитлер летел из Смоленска в Растенбург. Через полчаса после взлета коррозийная жидкость должна была разъесть проволоку и высвободить детонатор. Но воздушные завихрения вынудили самолет подняться несколько выше, чем предполагалось, и на этой непредусмотренной высоте жидкость замерзла.
Полковник фон Герсдорф решил погибнуть вместе с тираном во время церемонии в честь погибших героев в Музее Армии в Берлине. Он спрятал две бомбы под своим плащом и следовал по пятам за Гитлером. Бомбы должны были разорваться через семь минут, но достаточно сильный холод разрегулировал механизм, задержав на двадцать минут его пуск, и фюрер таким образом в очередной раз спасся.
Операция «Валькирия», разработанная полковником фон Штауфенбергом, представляла собой целую разветвленную сеть вовлеченных в нее людей. Ее провал имел самые тяжкие последствия: семь тысяч арестов, пять тысяч казней и несколько самоубийств среди военных самых высоких рангов гитлеровской иерархии. Среди них — маршал фон Клюге и, особенно, маршал Роммель, без сомнения, самый крупный немецкий стратег Второй мировой войны, наряду с Манштейном и Гудерианом, повелителем бронетанковых войск. В самом сердце старой немецкой армии пировала смерть…
Гитлер уже страдал сердечными расстройствами, воспалением ободочной кишки, болезнью Паркинсона, его тело беспрерывно тряслось. Он избежал смерти, но после покушения на него в Растенбурге сильно сдал: тусклые волосы, ожоги на ногах, язвы на спине — следствие падения на него балки, контузия барабанных перепонок, парализованная правая рука. Он не был безумным в клиническом смысле этого слова, он не был зависим от сильных наркотиков, но, напичканный лекарствами, впавший в депрессию, он постепенно терял рассудок перед лицом той чудовищной катастрофы, на которую он обрек Германию и весь мир.
Бешир не сразу понял смысл сцены, при которой присутствовал. Ему помог белокурый лейтенант, время от времени шептавший ему на ухо нужные пояснения. И тогда до Бешира дошло: Гитлер сочетался браком с Евой Браун, которая, в течение вот уже двенадцати лет числилась его любовницей.
Это зрелище граничило с галлюцинацией. Снаружи столица рейха, который должен был тысячу лет царить над Европой или даже над всем миром, превращалась в пепел под бомбардировками, а здесь, в бункере, обложенный со всех сторон диктатор любезничал с новобрачной и пил шампанское. У Бешира сверкнула мысль: о чем может думать сейчас героиня этого праздника? Он ничего не знал о ней: может быть, она вправду любила этого человека, ответственного за гибель миллионов? Он был палачом бесчисленных жертв, властелином мира наподобие Чингисхана, Тамерлана, Сталина и еще нескольких в истории человечества тех, которые пролили больше всего крови… Она долго мечтала стать его женой перед Богом и законом. И вот ее мечта осуществилась тогда, когда все рухнуло. Мечта стала реальностью и кошмаром… Он посмотрел на нее внимательнее. По сравнению с Мэг, четыре года ада не стерли ее образ из памяти Бешира — эта женщина казалась незначительной. Супруги шутили, держась за руки. Они вспоминали свои долгие прогулки в Альпах Бавьеры между Берхтесгаденом и Бад-Рейхенхалем: они искали там эдельвейсы на склонах Ватсманна. А Бешир видел только бесконечные белые равнины России и Украины, покрытые снегом и трупами. И слышал только крики Хосе и Гюнтера, тот был тоже родом из Альп Бавьеры, только немного западнее, из Гармиш-Партенкирхена, они так страшно кричали в агонии…
Адольф Гитлер сейчас совершал обход «ближнего круга», тех, кто присутствовал при брачной церемонии. Здесь не было Геринга, этого легендарного авиатора, германского Тартарена, полуопального после провала операций против Британии, сначала назначенного официальным преемником фюрера, но недавно лишенного доверия и обвиненного в предательстве. Не было Рудольфа Гесса — сердечного друга, но, к сожалению, слабого на голову, содержавшегося в плену в Англии после его парашютной высадки в Шотландии на землях герцога Гамильтона в 1941-м году. Не было Гиммлера, истребителя евреев, жестокого и бездарного шефа SS и гестапо, занятого бесплодными переговорами при посредничестве графа Бернадотта о достойной капитуляции вермахта. Зато присутствовал Геббельс с женой и шестью детьми, все шестеро были очень светловолосыми. Гитлер, проходя, погладил их по головам и обменялся несколькими словами с их отцом, шефом пропаганды, в чьи обязанности входили репрессии против врагов рейха: это он был горячим пропагандистом тотальной войны, которая теперь обернулась против своих же зачинщиков, независимо от их воли…
Вдруг Гитлер направился к Беширу, на латаном мундире которого выделялся железный крест.
— Wo haben Sie das Eiserne Kreuz erhalten? — спросил он, указывая пальцем на награду.
— In Stalingrad, mein Fuhrer! — ответил Бешир, становясь навытяжку.
— Ach, so! — протянул Гитлер. — Ach, so!..
Его тон, до этого угрожающий, истеричный и крикливый, вдруг стал мечтательным. Глаза затуманились. Может быть, вспоминал он о своем первом большом поражении — о битве, в которой весы судьбы качнулись в другую сторону, в которой на карту был поставлен исход всей войны…
Под удивленными взглядами своего интимного кружка Гитлер задержался перед Беширом. Он коротко спросил, откуда тот родом. Бешир ответил несколькими словами: Кавказ, Сирия, Ливан, Египет, Франция. Гитлер кивал головой с отсутствующим видом. Затем медленно удалился, опираясь на жену; его лицо и руки дрожали и нервно подергивались. Вдруг он остановился. Вернулся и снова остановился перед Беширом. Еле слышно пробормотал несколько слов. Беширу послышалось что-то вроде:
— Die Welt!.. Die weite Welt!.. Die ganze Welt…
Через несколько часов церемония была окончена, ее участники рассеялись кто куда, а Бешир получил приказ с завтрашнего дня быть в распоряжении фюрера.
— Дядя Жан, — сказала Изабель с подчеркнуто детской гримаской, — бабушка требует вас.
— Где она? — спросил я.
— Где-то недалеко от вас. Буквально две минуты назад она разговаривала с мадам Поляковой.
Я направился к двум дамам, которые уже расставались.
— Никак не скажешь, — проговорила Марго ван Гулип, — что вы уделяете мне слишком много внимания.
Этот упрек, сформулированный с присущим ей тактом, не был безосновательным. Окликаемый то одним то другим, отвлекаемый мыслью в прошлое Беширом или Андре Швейцером, бегая туда-сюда, беспокоясь о задержке погребального фургона, я и вправду не уделял внимания Королеве Марго. Звезда парижских светских обедов, благотворительных акций в Нью-Йорке и Вашингтоне, балов Феррьеры и отеля Ламбер на острове Сен-Луи, приятельница Луизы де Вильморен и Джекки Кеннеди, она не привыкла к невниманию. Она привыкла царить, а я сейчас относился к ней как к рядовой персоне. И она была вправе удивляться такому пренебрежению: ведь она явилась сюда не просто как участница церемонии, пусть даже привилегированная, и не как почетная гостья. Она видела себя, я полагаю, в роли законной вдовы, раздавленной горем, и следовало воспринимать ее со всем почтением не только к этому ее рангу, но и к ее чувствам: как и все женщины в черном, которых я видел вокруг, она некогда любила Ромена. Тем более что в Греции, когда она была еще Эфтимиу, затем в Америке, Англии, Франции в течение многих лет она была самой большой любовью Ромена.
— Простите меня, — проговорил я. — Слишком много людей, у меня голова идет кругом. Мне следовало бы быть возле вас.
— Ничего, — ответила она с обольстительной улыбкой и тоном китайского императора, прощающего осужденного преступника, — вы знаете, что я всегда все вам прощаю.
Я хорошо представляю, что за все время их любовной связи, то прерывающейся, то возобновляющейся снова и снова, Ромен и Мэг, затем Ромен и Марго, каждый со своей стороны, должны были многое прощать себе и другому. Они несколько раз расставались, но всегда потом находили друг друга. Наконец возраст, усталость, годы и некоторые особые обстоятельства покончили с тем, что называют страстью. Остались дружеские чувства, восторженные — со стороны Марго, живые и прочные — со стороны Ромена. Каждый оставался для другого до конца своим человеком, и смерть Ромена была, бесспорно, тяжелым ударом для Марго.
— Дорогая Марго, — сказал я ей, — я понимаю, что вы сейчас чувствуете. Я любил его, мы вместе объездили мир, и я думаю, что знал его хорошо, насколько это вообще возможно: так вот — он всегда принадлежал вам.
— Спасибо, — ответила она, кладя свою руку на мою, — спасибо.
— Знаете… — начал я неуверенно, — я уже долго вынашиваю мысль написать книгу о вас…
— Правда? — воскликнула она с удивлением и удовольствием одновременно. — Правда? И это после «Морской таможни»? Но это же абсурд. Я вам категорически запрещаю.
— Тогда я когда-нибудь напишу, вероятно, книгу о Ромене, и вы там будете фигурировать.
Это была, кстати, недурная мысль: взять Марго ван Гулип героиней романа, действие которого охватывало бы пять-шесть десятилетий и проходило бы понемногу везде, он вобрал бы в себя целую эпоху. Жюль Ромен уже сделал такую попытку, но лишь частично и с чувством ожесточения, которое я с ним не разделял. Он описал ее как интриганку, которая не останавливалась ни перед чем, чтобы обеспечить свое восхождение, и опиралась для этого на мужчин, которых использовала, а потом бросала. Я же видел в ней королеву, испытавшую многие несчастья и сумевшую создать легенду о себе на обломках своей жизни.
Марго ван Гулип была на добрую четверть века старше меня. В отличие от Ромена, который никогда не переставал поддерживать с ней тесные отношения, моя жизнь пересекалась с жизнью Марго лишь иногда и через долгие промежутки времени. Я знал ее в Греции под именем Мэг Эфтимиу. Через многие годы я встретил ее под именем Марго ван Гулип. Что происходило до этого, между тем и потом, я знаю только по рассказам тех или иных людей, начиная с Бешира и самого Ромена. Блестящая жизнь Королевы Марго всегда была прикрыта туманной завесой.
Высокая таинственная брюнетка, которую мы встретили тогда на Патмосе, была гречанкой только по имени и по стечению обстоятельств. Она была родом с Ближнего Востока и могла считаться американкой, равно как и француженкой. Ей не было еще и двадцати лет, когда она в первый раз, еще задолго до Второй мировой войны, оказалась в Нью-Йорке.
Она сбежала из родительской семьи, возможно, для этого она использовала свое первое замужество, еще более таинственное, чем все последующие. С благословения Бешира, который не останавливался ни перед чем, чтобы ей помочь, и решил посвятить всю жизнь своему кумиру, она отправилась попытать счастья в Париж, это были как раз межвоенные «безумные годы». В те времена она звалась Мириам и была хороша до изумления. Со смелостью, присущей молодости, она представилась самой Коко Шанель, которая к тому времени уже десяток лет процветала на улице Камбон. «Великая Мадемуазель» быстро сообразила, какую выгоду можно извлечь из экзотической красоты молодой женщины. Это она дала своей протеже имя Мэг, которое стало знаменитым буквально на следующий день не только в ателье Шанель, но и далеко за его пределами. Американцы, взбудораженные французской модой (она тогда достигла своего апогея, впрочем, как и литература: имена Ланвен, Шанель, Скиапарелли, Баленсиага, Нина Риччи, Грес были не менее известны в мире, чем Бергсон, Валери, Клодель, Пруст, Жид, Поль Моран), пригласили Коко Шанель представить им свои творения, и она отправила к ним свою любимую модель и уже звезду подиума — Мэг. Она отплыла из Гавра на пакеботе «Иль-де-Франс», тогда еще совсем новеньком, и на нем многие молодые люди сразу же принялись ухаживать за ней. Не прошло и сорока восьми часов после того, как она проплыла перед статуей Свободы, как судьба ее уже переменилась…
…В толпе началось движение. Бешир бежал ко мне. Вдали показался похоронный фургон, въезжавший на кладбище. Ромен прибыл к нам. Густая толпа теперь выстраивалась вдоль аллеи, по которой медленно продвигался длинный черный автомобиль. Две или даже три сотни человек одновременно думали о Ромене. Большая коллективная душа, слагавшаяся из множества индивидуальных чувств, зарождалась сейчас вокруг Ромена — того, кем он был и кем перестал быть. Марина рыдала. У меня на глазах тоже были слезы…
Фургон проплывал вдоль живой людской изгороди: тех, кто любил Ромена, и тех, кто его ненавидел; тех, кто жил рядом с ним, и тех, чьи жизни только пересекались с его жизнью; людей равнодушных, кто отдавал здесь дань привычке или общественным условностям, и тех, чье сердце было разбито горем. Бешир закрыл лицо рукой, Андре Швейцер поклонился, я осенил себя крестом. Глаза нескольких молодых женщин были красны от слез. Марго ван Гулип была неподвижна, как статуя. Марина снова положила голову мне на плечо, и я чувствовал, как она дрожит.
В моей голове проносилась вся жизнь, связанная с Роменом. В жизни бывают дни, месяцы, целые бесконечные годы, когда ничего не происходит. А бывают минуты и секунды, которые заключают в себе весь мир. Присутствие Ромена в жизни было таким мощным, что одного воспоминания о нем было достаточно, чтобы самой собой забылось теперешнее его отсутствие. Можно было бы даже сказать, с не столь большой натяжкой, что он сам присутствовал на собственных похоронах, чтобы оживить прошлое в нашей памяти.
Печаль, которая овладела нами, была родом тоже из тех счастливых дней, которые мы провели с ним, и из той его способности, которой он был наделен как никто другой, — делать жизнь праздником, всегда новым… Он знал не так уж много, но знал жизнь. Знание как таковое намного выше «умения жить», но оно — почти ничто перед знанием жизни. Для многих, кто был в этот день рядом с ним — мужчин и женщин, — жизнь станет менее легкой, менее веселой, менее яркой, чем была с ним.
Проскальзывало у собравшихся и другое чувство, и это был явный парадокс: Ромен, который был самой жизнью, теперь своей смертью заставлял нас думать о собственной смерти. Он сам, конечно, отверг бы роль распорядителя похоронного бала. Он предпочел бы, чтобы его смерть стала поводом для праздника — по образу и подобию его жизни. Не получилось: не удавалось нам преодолеть горечь от его ухода без него… Его не было здесь, чтобы утешить нас. Он любил саму жизнь, все в ней построил на этом, и, можно сказать, построил гениально… И вот смерть торжествовала. В эти мгновения на его мертвом лице она была сильнее, чем жизнь…
То, что мы, смертные, можем сделать, чтобы преодолеть смерть, — следовало искать в жизни. Надо использовать каждый день нашей жизни, чтобы найти в ней тот секрет, который и сделает ее бессмертной. Что это за секрет? Есть что-нибудь кроме удовольствия и любви к жизни, которые Ромен при жизни возвел в культ? Где искать спасение? В порыве к будущему через прошлое, который мы называем историей? В искусстве, которое иногда приоткрывает нам — не иллюзия ли это? — неведомые берега. В любви, которая имеет то великое преимущество, что о ней нельзя сказать ничего определенного? На какой-то кратчайший миг мне показалось, как ни абсурдно, что Ромен взял меня за руку и склонился ко мне, чтобы поведать мне этот секрет…
Бешир безотрывно сопровождал похоронный фургон…
…30 апреля 1945-го года он стоял на часах перед дверями фюрера в бункере имперской канцелярии. Под многометровой толщей бетона жизнь текла в нереальности. Все понимали, что авантюра, затеянная двенадцать лет назад, закончена. И конец этот был в крови, руинах и слезах. Но слезы ужаса и отрезвения, которые могли бы еще как-то изменить ход событий, пришли слишком поздно: через пять месяцев Соединенные Штаты первыми бросят первую атомную бомбу на Японию…
Секретные переговоры германской стороны то с теми, то с другими не привели ни к чему. Оставалось одно: умирать. Там, наверху, умирали вовсю. Под бомбами и снарядами. Под ударами «катюш» — этих сталинских «поющих органов войны», — бивших безостановочно с интервалом в две секунды… Вакханалия войны механизмов, развязанная Гитлером, в конце концов обернулась против него. Сначала он побеждал в ней своими танками и самолетами. Но, как это предсказал в самый разгар военной ночи один генерал в изгнании, приговоренный тогда к смерти, теперь побеждали самолеты и танки союзных сил. Гитлер отождествил себя со своей военной мощью, и он был побежден его же оружием. Чудовищная и нелепая война поглощала сама себя. Сила разрушалась силой…
…В бункере же ходили самые безумные слухи. Гейнц Линге, комнатный слуга фюрера, шепнул Беширу, что Геббельс недавно получил гороскоп Гитлера: после прохождения тяжелого периода звезды вот-вот должны были сойтись в благоприятном для него положении. До бункера доходили известия и о некоторых знаменательных смертях. Смерть Рузвельта пятнадцать дней назад обрадовала Гитлера, который не преминул увидеть в исчезновении ярого противника знак судьбы. Но полученное накануне сообщение о казни Муссолини и его любовницы Клары Петаччи — их захватили партизаны в Донго, на озере Ком, и их тела были повешены за ноги на мясничьих крючьях на площади Лорето в Милане — снова омрачило настроение фюрера. Шептались также, что генерал Фегелейн, шурин Евы Браун, женатый на ее сестре Гретель, был расстрелян за попытку договориться от имени Гиммлера с западным руководством… Всюду трупы, тысячи, сотни тысяч; оторванные руки и ноги, выбитые пулями и снарядами глаза, искаженные лица, калеки, обгоревшие, кучи раненых, умоляющих, чтобы их добили, и страдания, страдания, которым нет даже названия… Особенно много говорили о самоубийстве в самом бункере Геббельса и его жены, которые сначала умертвили своих шестерых детей, а затем — себя. Здесь тоже поселилась тень смерти, выпущенной в мир проклятыми, которые теперь сидели в нем…
Незадолго до полудня Бешир вдруг оказался лицом к лицу с фюрером, выходившим из своей комнаты. Гитлер, как всегда, лег поздно и встал поздно. Он уставился на Бешира блуждающим взглядом.
— Я вас знаю… — пробормотал он.
— Ja, mein Fuhrer! — ответил Бешир, стоя навытяжку.
— Вы были на свадьбе?…
— Ja wohl, mein Fuhrer, — повторил Бешир.
— А, вы тот мусульманин с железным крестом! Людей вашей закалки мне нужно было бы иметь гораздо больше… Я всегда мечтал о Востоке… На Востоке решается все. Многие воображают, и напрасно, что мои амбиции ограничивались Европой. Люди судят всегда по своей ничтожной мерке. Я видел дальше Европы. Мне нужен был весь мир. Опираясь на ислам, чтобы раздавить заговор международного иудейства, национал-социалистическая Германия могла бы завоевать всю планету и переродить ее…
Прислонившись к дверному косяку, конвульсивно подергиваясь лицом, пытаясь сдержать дрожание правой руки, бывший австрийский художник, агитатор массовых сборищ, ставший хозяином Третьего Рейха, сейчас разворачивал — уже в последний раз — свой план мировой империи… перед бедолагой, чудом выбравшимся из ада… Он говорил словно в бреду, полуодержимый — даже пена показалась на губах — на манер тех античных пифий, которые предсказывали будущее с лавровым венком на голове, в клубах курений… Под разрывами бомб, в пыли разваливающегося мира, в последние часы своей жизни, которая, после стольких триумфов, шла ко дну под грузом проклятий, он пророчески вещал о прошлом, которое не сбылось и никогда не сбудется…
Через много лет Бешир рассказал мне о том, как он тогда буквально впал в оцепенение в углу коридора бункера под «великой канцелярией» за несколько часов до безоговорочной капитуляции германского Третьего Рейха, который призван был установить огнем и кровью тысячелетний «новый порядок»… Его оцепенение было таково, что экзальтированная речь фюрера звучала для него как сквозь туман… Мимо него ходили туда и обратно секретари, медсестры, повариха Гитлера. Гитлер только что составил двойное завещание — политическое и личное, — в котором он, наряду с заявлением о своем бракосочетании и бредом о евреях, повинных во всех несчастьях, назначал новое и последнее правительство Германии: с генералом Доницем в качестве президента Рейха и главы вермахта и Иозефом Геббельсом в качестве канцлера. И вот сейчас он перед ошарашенным Беширом набрасывал величественный контур своей мечты о мировом господстве, разрушенной мечты.
Оказывалось, что не только ради нефти, чтобы лишить Красную Армию и Британскую империю снабжения ею, Гитлер бросил войска на захват Кавказа с его Тереком, окутанным легендами, и на покорение Эльбруса, на вершине которого 21 августа 1942-го года подразделением вермахта был водружен флаг со свастикой. Все это было сделано с дальним прицелом, здесь преследовались по-настоящему грандиозные цели.
При всей важности борьбы с большевизмом, план «Барбаросса», наступление против Красной Армии, прорыв на юг и к Кавказу — все это было лишь частью гигантского общего замысла. Начало 1942-го года ознаменовалось наступлением германских войск на другом театре военных действий, весьма далеком от русского фронта: в Триполитании, Киренаике, Египте. Это была война в песках после войны в снегу…
На протяжении всего 41-го года маршал Роммель, используя власть и интриги, чередуя успехи с неудачами, продвинулся на восток во главе своего «AfTicakorps», сначала до Марса-Матруха, затем отступил к западу, затем снова продвинулся до Бир-Хакейма, здесь 4-я бригада французской Свободной армии под командованием Кёнига держалась 15 дней, и затем до Тобрука, взятого в июне 42-го, и до Эль-Аламейна, захваченного в июле. К середине лета 42-го он уже был у ворот Александрии и на пути к Каиру. Глобальные амбиции Гитлера, казалось, вот-вот станут реальностью.
В соответствии с простейшим планом, который Гитлер составил накануне операции «Барбаросса» и который он сейчас, напоследок, громко пересказывал Беширу, застывшему от изумления статуей, три отдельные группы войск должны были сойтись на Востоке. Первая была представлена африканским корпусом Роммеля. Он должен был пройти с запада на восток, от Африки к Азии вдоль Средиземного моря, затем подняться по Нилу до Каира, где противники англичан и горячие сторонники Гитлера, конечно, уже лихорадочно пришивали свастику на куски красного полотна. И вот уже войска Монтгомери разбиты, а за Нилом нет никого: ни обороны, ни резервов. Тогда Порт-Саид и Суэцкий канал сами падают к ногам Гитлера, как перезрелый плод. Заблокировав канал, Роммель продолжает свою военную прогулку через Синайский полуостров и Палестину, по дороге прихватывает Иерусалим, из него высланы все евреи, и, наконец, достигает Сирии.
Вторую группу войск, в соответствии все с теми же директивами 1941-го года, возглавляет маршал фон Бок. Он начинает движение от Болгарии, пересекает Босфор, продвигается в глубь Анатолии, пересекает холмы Тауруса и соединяется с африканским корпусом Роммеля на севере Сирии, на Алеппских высотах.
Перейдя Кавказ, третья группа войск под командованием маршала Листа спускается к югу, переходит из Европы в Азию, захватывает всю территорию между Черным и Каспийским морями, проходит между Ираком и Ираном и выходит к Персидскому заливу. Таким образом, все три группы войск сжимают в тисках самое сердце Британской империи.
В то время, в 41-м—42-м годах, ситуация в Азии складывалась благоприятно для национал-социализма. Муфтий Иерусалима склонялся сам и использовал свое влияние на умы в пользу Рейха. Ирак, с его прежним премьер-министром Рашидом Али, тоже был готов перейти в германский лагерь. В Иране шах Реза, свергнувший Каджаров двадцать лет назад и установивший власть династии Пехлеви, был просто зачарован Гитлером. Он был вынужден отречься в пользу своего сына, но продолжал иметь много сторонников. В понимании фюрера, весь Средний Восток вслед за Ближним Востоком был готов упасть в объятия Германии.
В мыслях Гитлер уже держал в руках все энергетические ресурсы Баку, Моссула, Киркука и Абадана. Вот он уже распоряжается всей нефтью Ирака, Ирана и Саудовской Аравии. Он контролирует все сухопутные и морские пути, связывающие Британскую метрополию с колониями, и перекрывает на Суэце сообщение Англии с остальной частью империи. Поставки в СССР из Соединенных Штатов через два иранских порта — Хоррамшар и Бандар-Аббас — тоже становятся невозможными.
Так на Востоке складывается его мировая империя. Затем еще шире, еще грандиознее: Гитлер идет по стопам великих завоевателей. Он захватывает, как Бонапарт, Египет и Палестину. Как Фридрих II, он присоединяет весь Восток к Священной Римской империи Германии. Закрепившись на Тигре и Евфрате — здесь зародилась вся наша цивилизация, — он продвигается, как Александр Великий, до Индостана и Индии — колыбели индоевропейцев, «арийцев», столь милых сердцу поклонников Гобино и теоретиков нацизма. И вот наконец Красная Армия на коленях, Британская империя развалилась, Соединенные Штаты отрезаны от нефти, и Гитлер уже диктует свои условия всему освобожденному миру, который благодарно увенчивает его лаврами и ждет его приказаний…
— Mein Fuhrer! Повар спрашивает, в котором часу вы желаете завтракать. — Этот вопрос задал неслышно подошедший Гейнц Линге.
Гитлер, словно очнувшись, оглянулся.
— В два часа, — решил он.
Он повернулся к высокому лейтенанту-блондину, который в день его бракосочетания привел Бешира на церемонию в «зал карт».
— Я хотел бы знать, что происходит там, наверху.
— Zu Behehl, mein Fuhrer!
Лейтенант посмотрел на Бешира.
— Пойдем?
— Пойдем, — сказал Бешир.
Они выбрались вдвоем из бетонной массы бункера со всей осторожностью: сначала — головой, затем — всем туловищем. То, что они увидели, их ужаснуло: сплошные развалины, свист снарядов, повсюду трупы — картины апокалипсиса, — и посреди всего этого — два сержанта Советской армии, водружающие красный флаг над куполом рейхстага, в нескольких шагах от убежища Гитлера…
Когда лейтенант и Бешир вернулись в бункер, Гитлер садился за стол в сопровождении жены и еще нескольких людей из ближнего круга.
— Ну что? — спросил он. — Was is los?
Они кратко доложили о том, что они видели: лейтенант изложил факты, а Бешир уточнил некоторые детали.
Гитлер неожиданно спокойно, почти равнодушно, поблагодарил обоих и пожал каждому руку.
Они уже собирались уходить, когда фюрер снова позвал их.
Указывая пальцем на пистолет у пояса Бешира, он спросил:
— Что это у вас?
— «Вальтер» 7.65, мой фюрер! — ответил Бешир.
— Надежное оружие, не правда ли?
— Лучшее из всех, мой фюрер!
Гитлер мгновение колебался. Потом положил руку ему на плечо, в упор глядя на пистолет, и пробормотал неожиданно робко:
— Не одолжите ли вы мне его… пожалуйста…
Бешир, ни слова не говоря, но со смертельной тоской в душе — это оружие было его единственным сокровищем, он очень ценил его и никогда с ним не расставался — протянул ему пистолет…
…Вот погребальный фургон поравнялся с Марго ван Гулип, словно превратившейся в статую, она протянула руку и дотронулась до него напряженными пальцами…
…Молодая женщина танцевала. На следующий же день по прибытии в Америку два молодчика с черными прилизанными волосами, которые начали ухаживать за ней еще на пакеботе, затащили ее в какой-то кабачок на Манхеттене (названия сейчас на кладбище я не мог вспомнить), и там она пробыла с ними почти всю ночь. Это место не отличалось утонченной элегантностью, как позднее «El Morocco» или «The Stork Club». Скорее что-то вроде ресторанчика или бакалейной лавки с пристройкой семейного бизнеса: в таких обычно завсегдатаи развлекались в своем кругу, без посторонних глаз. Вдоволь натанцевавшись под звуки оркестра, игравшего чарльстоны и модные джазовые песенки, посетители могли пройти в задние комнаты, где тайком были установлены игорные столы и где «среди своих» можно было хорошенько выпить.
Если не считать формальных дебатов между республиканцами и демократами, Америка в то время находилась под воздействием двух социальных явлений, обусловленных денежными интересами: запрет на употребление спиртного и крах на Уолстрит.
В «черный четверг» 24 октября 1929 года курс на американской бирже, взлетевший было вверх в результате истеричной спекуляции, внезапно резко упал. Это была огромная финансовая катастрофа, которая намного превзошла развал системы Ло, тот задел лишь тонкий привилегированный слой общества, или даже проблему русского долга.
Общество рушилось под гнетом собственного успеха, или того, что греческие трагики называли «бесстыдным удовлетворением», чрезмерной уверенностью в себе. Банкиры выбрасывались в окно, маклеры разорялись повсеместно; эти подземные толчки, передаваясь от одного к другому, охватили чуть ли не весь мир; богатые становились беднее или почти бедными, а бедные теряли работу и впадали в нищету. Этот финансовый крах 1929 года занимает второстепенное, но почетное место в длинном списке катастроф, которыми был отмечен двадцатый век. Мировые войны, «прогресс» средств уничтожения, человеконенавистнические идеологии, впрочем, так же, как и завоевания науки и техники, призывы к справедливости и миру, распространение телевидения и электроники, — все это говорило о том, что мир унифицируется и превращается в единое огромное предприятие. И царят в нем деньги…
В то время, когда Мэг появилась в Нью-Йорке, отзвуки этого краха еще ощущались, и собенно — в самих людях. Были затронуты их деньги, которые для многих были самым дорогим в их жизни — дороже семьи, верований, традиций, религии, — и тогда люди переставали верить во что бы то ни было вообще…
«Сухой закон» — это было другое дело. С одной стороны, алкоголь все-таки более веселое дело, чем банковское; с другой — даже более трагическое: обвальное падение курса на Бирже дало все же меньше трупов (!), чем запрет на продажу и провоз спиртных напитков. К тому времени «сухой закон» действовал уже с десяток лет. В тот вечер, когда Мэг выплясывала как сумасшедшая со своими новыми приятелями, в воздухе уже витало предчувствие конца «сухого закона» и будущих бед, вызванных его последствиями. Сам этот запрет был признанием общества в своем бессилии, да в современном объединенном мире и невозможно противостоять силой изменениям в нравах и общественном сознании. А явным следствием «сухого закона» стал чудовищный расцвет американской мафии и усиление могущества древней и всегда новой профессии — гангстера.
Первая американская ночь Мэг была в разгаре, и молодая женщина постепенно забыла о своих недавних плосковолосых приятелях, которые ее сюда привели. Она переключилась на двух других, которых также поразила ее красота, они гораздо интереснее, они убрали с глаз долой ее приятелей, просто хлопнув их по плечу, и теперь забавно и трогательно ухаживают за ней. Они явно очень крепко связаны между собой, и это интригует молодую женщину. Одного зовут Мейер Лански — он еврей. Другой — Чарли Лючиано, но все зовут его Счастливчик. Он итальянец. Мэг, несмотря на свой молодой возраст, многое уже повидала. Она — кто угодно, но только не очаровательная идиотка. И вскоре она поняла главное про этих молодчиков, которые перехватили ее у двух раздосадованных попрыгунчиков, неспособных противостоять более сильным парням и дующихся сейчас в углу: что они ходят по краю закона, если уже и не по другую его сторону.
Они были не первыми, кто бросил вызов обществу, живущему под многозвездным флагом. Уже более двухсот лет живы легенды об американских гангстерах и о войнах между их группировками. На протяжении всего 19-го века «Разговорчивые парни», «Дохлые кролики», «Рассветные парни», «Заткни уродов», «Болотные ангелы», «Сорок воров» или «Белые руки» оспаривали друг у друга выгодные делишки, женщин, игру и жизненное пространство на мостовых американских городов. Постепенно на основе этносов — связи внутри них сохраняются на удивление прочными на этой земле иммигрантов — возникли три большие группировки, более живучие, чем прочие: ирландцы, евреи и итальянцы.
Согнанные с родины нищетой, кульминацией которой стал ужасающий голод 1845–1847 годов, ирландцы прижились здесь давно. Евреи, бежавшие от «pogroms» из Восточной Европы, появились здесь в массе к середине XIX-го века и поначалу чувствовали себя беззащитными перед итальянцами и особенно — перед ирландцами. Но постепенно они научились сражаться с ними на равных и отвечать ударом на удар. Они постепенно сменили свои «штетль», «лашуль», «бармицва» и чтение талмуда на бильярд и подпольные игровые залы. При этом язык пулеметов они зачастую подкрепляли библейскими притчами.
Итальянцы, как и ирландцы, издавна участвовали в гангстерских войнах, которые никогда не кончаются и подпитываются от самих себя. Это были бандиты «старого образца»: черный глаз, густые усы, ярко выраженный вкус к вендетте и символическим убийствам. Этот типаж прекрасно представлен в «Крестном отце». По аналогии с Питом-пистолетом — легендарной фигурой в истории Дикого Запада, — гангстеры-евреи презрительно окрестили таких «пит-длинный ус». Впрочем, нравится это или нет еврейским хозяевам криминального мира: клану Ротштейнов, являющему собой гангстерского «предтечу», великого предка, этакого «Моисея» всей их криминальной истории, который вдохновил Скотта Фицджеральда на создание образа Мейера Вольфсхайма в «Великом Гетсби», и всем этим Лепке, Шапиро, Шульцам, Кохенам, Танненбаумам, но главенствуют на ниве подпольной преступности все же «усатые питы» — итальянцы. А начиная с 1926-го года они получили еще и неожиданное подкрепление. Муссолини, пришедший к власти в Риме в 1923 году, разгоняет «Почтенное сообщество» на Сицилии, «Ла Ндрагетта» в Калабрии и «Ла Каморра» в Неаполе. И начинает действовать пресловутый «эффект бабочки», по которому трепетание крыльев бабочки в дебрях лесов Амазонки неизбежно должно вызвать тайфун в Японии на другом конце света. Так, изгнанные из пределов Неаполя и Кастелламаре, из деревень Сицилии и знаменитого Корлеоне, гении организованной преступности высаживаются на Манхеттене.
У любой банды есть два врага: полиция и другие банды, поэтому сражение ведется на два фронта. И война между соперничающими группировками иногда бывает более жестокой, чем борьба с силами порядка. В случае с итальянскими «усатыми питами» ситуация была еще сложнее: на их «разборки» с евреями и ирландцами накладывалось еще и внутреннее соперничество между их собственными группировками…
Итальянская преступная среда строго иерархична. Несколько семей возглавляются своим «capo» («головой»), а на верхушке всей «пирамиды» стоит «capo di tutti capi» («всем головам голова»). Им долгое время был Джо Массера. Его застывший ледяной взгляд не был столь впечатляющим, как у Марлона Брандо в той же роли, да и рост у него был 1 метр 60 сантиметров, а особым его шиком было умение как раз-таки избегать пуль, а не подставляться под них. При всем при этом, избавившись сначала от врагов, а потом — и от друзей, он стал Джо-Боссом.
Когда прихлынула новая волна криминальных авторитетов, изгнанных дуче, звезда Джо-Босса закатилась. Новоприбывший Сальваторе Маранцано в окружении сотни бесстрашных молодцов, которым нечего было терять, поскольку у них ничего и не было, к тому же вооруженных до зубов «на всякий случай», заявляет свои претензии на господство. Между бандами вспыхивает жестокая война. Люди валятся, как кегли: десять, двадцать, пятьдесят и более «бойцов» всего за несколько месяцев. Массера расправился со своими соперниками, а Маранцано, в свою очередь, вскоре расправится с Массерой.
…Итак, посреди Нью-Йорка времен «сухого закона» и финансового кризиса, в кабацком рассвете, среди шума оркестра, собирающего свои инструменты, среди игроков, не держащихся на ногах, и монетных автоматов, Мейер Лански и Чарли Лючиано нашептывают свои бандитские волшебные сказки на ухо молодой женщине, забавляясь ее изумлением и испугом, возможно, наигранными…
Лански и Лючиано — близкие приятели. Оскорбить одного — значит оскорбить другого. Они связаны друг с другом уже давно. Лет двадцать назад, почти в начале века, Мейер, тощий еврейский подросток, иммигрант-новичок, брел в одиночестве по заснеженной нью-йоркской улочке. Он ни о чем не думал, он мечтал. Жизнь пока не баловала маленького еврея, блуждавшего по обетованной земле денег и борьбы за выживание. Подняв глаза, он вдруг обнаружил, что окружен бандой молодых итальянцев, главарь которых на лет пять-шесть старше его.
— Привет, жиденок! — сказал главарь.
— Привет! — процедил Мейер сквозь зубы.
— А ты не боишься, дурья твоя башка, гулять в одиночку по улицам большого города?
Мейер не отвечал. Он молчал, опустив глаза.
— Ты явно нуждаешься в покровительстве, жиденок. С тебя — пятьсот в неделю. Такая такса. Гони монету — да еще аванс за месяц вперед.
— Иди-ка ты — знаешь куда? — Мейер посмотрел ему прямо в глаза. — А свое покровительство можешь заткнуть себе в задницу.
Главарем этих «усатых питов» и был Чарли Лючиано. Дерзость «жиденка» его восхитила. Вместо того чтобы распотрошить один другого, как того требовали «правила хорошего тона», они стали лучшими друзьями. Будучи выходцами из разных миров — можно сказать, противоположных, — они сделались кровными братьями.
В то время в этой стране национальная и религиозная принадлежность, как в нелегальных низах, так, в равной степени, и в самых изысканных верхах общества, были еще больным вопросом, так что такой подход к делу был огромным прогрессом. Когда Арнольд Ротштейн — тот самый легендарный праотец еврейского клана — развернул широкую кампанию против «сухого закона», Мейер Лански и Чарли Лючиано уже вовсю трудились рука об руку на еврейского гангстерского патрона. Это была целая криминальная эпопея — поход за бандитской «чашей Грааля». Как рассказывает Рич Коэн в своей «Yiddish Connection», Лански познакомился с Ротштейном благодаря «бармицве». Затем он привлек и своего друга Чарли к «военным операциям» и охране грузовиков, перевозивших запрещенное виски: шофер впереди, эскорт из двух вооруженных парней сзади, как в фильмах Джона Форда, только противниками здесь были не индейцы, и не было юной красавицы, влюбленной в героя или уже рожающей, а роль дилижанса с шестью лошадьми выполнял бронированный фургон.
Для чего нужна была столь впечатляющая «военная мощь»? Конечно, против полиции, но даже в большей степени — против других банд. Когда неведомо откуда возникали ночные пираты с платками на лицах и налетали на грузовики. Ну не обращаться же было к полиции, либо тщательно обойденной, либо подкупленной огромными деньгами. Надежнее было защищаться самим, организовать собственную «полицию». Так, в компании с другими живописными персонажами, падавшими один за другим под ударами конкурентов, Лански и Лючиано совершенствовались в своем ремесле и казались непотопляемыми.
…Мэг с наслаждением слушает эти кровавые истории, которые так запросто рассказывают ей новые друзья. Они нисколько не скрываются, даже посмеиваются и при этом выглядят так, будто они обычные кассиры, слесари, адвокаты или скрипачи и рассказывают о своем обычном рабочем дне. И перед Мэг открывается новый мир, его странность и неистовство ей даже нравятся. Когда они вспоминают историю с тысячами бутылок виски, сброшенных канадским производителем в озеро Эри или Онтарио, а затем прибитых течением к американскому берегу и выловленных «бутлеггерами», кстати, таково происхождение известной и респектабельной марки «Seagram», она находит ее страшно забавной.
Мэг рассматривает обоих. Красивыми их не назовешь, и одеты они с подчеркнутой тщательностью, весьма далекой от элегантности дома Шанель. Они не отличаются тем мужским шармом, который так впечатляет ее в повседневной жизни и на экране. В них поражает другое: они ходят по краю смерти, живут в ожидании ее и шутят: они словно играют со смертью, которая подстерегает их повсюду… И при этом такой избыток жизненной силы!..
… Я тоже сейчас рассматриваю ее. Я знаю о ней лишь то, что рассказали мне Ромен и она сама. Кумир Бешира, манекен Шанель, подруга Чарли Лючиано, красавица с Патмоса, теперешняя Королева Марго, погруженная в воспоминания о Ромене, — и все это один человек. Как они могут сочетаться? Я уж не говорю о тех тайнах, которые она еще хранит в себе. Как будто рассеянные во времени разные ее существования накладываются одно на другое под ее именем, точнее, под именами, потому что они тоже менялись. Человеческие существа так же непостоянны и разнообразны, как облака в небе, изменяющиеся и исчезающие. Только для собственного удобства мы считаем их однообразными и законченными. Они не выступают в некоем постоянном качестве. Их невозможно свести к одной формуле. И они не вечны. Уносимые временем, подверженные страстям, которые сами же и порождают, они реально существуют только в настоящий момент. Можно восстановить их прошлое, но никто не может предсказать их будущее. В этом нищета психологии: мы можем лишь кое-что констатировать о другом человеке…
— А тот коротышка, Массера… — спросила Мэг, — Джо-Босс, — это вы его убили?
— Я? — возразил Лючиано смеясь. — Ну что вы, я просто позавтракал с ним.
На самом деле все так и было. Война бушевала вовсю между людьми Массеры и людьми Маранцано. Лански старался оберегать Лючиано, который, с тех пор как работал на Ротштейна, уже однажды имел большие неприятности. Как-то ночью, когда он выгружал партию виски или наркотиков, четыре наглых типа с прикрытыми платками лицами силой усадили его в автомобиль и увезли «прокатиться». «Прокатиться в автомобиле» на языке Америки конца двадцатых — начала тридцатых годов означало одно: взять билет в иной мир с помощью ангелов-хранителей, не желающих вам добра. В результате этой прогулки Чарли Лючиано, измолоченный дубинками и рукоятками пистолетов, с перерезанным осколком стекла горлом, с опухолью вместо лица был выброшен из машины и оставлен «доходить». Он как-то выкарабкался и получил у подельников прозвище «Счастливчик Лючиано».
Война между итальянцами возмущала Лючиано.
— Какое дурацкое месиво! — восклицал он. — Так дорого обходится, а извлекают пользу и радуются только копы…
— Успокойся, — говорил ему Мейер. — Дождемся, когда они все друг друга перережут. А потом власть будет наша.
Одним прекрасным весенним утром, устав дожидаться, Счастливчик Лючиано отправился навестить Маранцано, всегда окруженного телохранителями, как какой-нибудь Панчо Вилья или Сапата, в его контору на Парк-авеню, где тот вынашивал и скрывал до времени свои планы. О чем они там говорили — знали только они сами и Мейер Лански. Через несколько дней после этой встречи Лючиано пригласил Массеру позавтракать в итальянской траттории на Кони-айленд. Джо-Босс приглашение принял.
— А сейчас в этой траттории можно пообедать? — спросила Мэг со смешком.
— Конечно, — отвечал Лючиано. — Она никуда не делась. Завтра вечером я свожу вас туда.
…Меня охватило беспокойство, правда сильно запоздалое и с оттенком иронии. И как это я осмелился тогда на Патмосе, пятнадцатью годами позже, на дороге, шедшей вдоль моря, поцеловать женщину, которую сам Счастливчик Лючиано повел в тот вечер в тратторию «Скарпато» на Кони-айленд? Я смотрел на Марго. Она была той молодой женщиной со Счастливчиком Лючиано; она была той молодой женщиной со мной на Патмосе. Сейчас в ней не осталось ничего из того, что было. Она была той же, но стала совсем другой. Сейчас она опиралась на Бешира… Да, жизнь — жестокая штука: словно само время протекло сквозь нас. Или мы прошли сквозь время. Что-то темное и непонятное переносило нас из Каира на Кони-айленд, затем на Патмос и вот теперь — на кладбище, где проплывали перед нашим взором воспоминания о Ромене и его останки… У меня даже немного закружилась голова…
…Они позавтракали вместе: «capo di tutti capi» и Счастливчик Лючиано поели «спагетти алле вонголе», «вителло тоннато» и запили «кьянти». После «эспрессо», перед «граппа», они начали партию в покер. Без двух минут три Счастливчик Лючиано по срочной надобности отлучился в туалет. В три часа и сорок секунд двери ресторана разлетелись вдребезги, четверо или пятеро вооруженных вломились в тратторию, открыли плотный огонь и изрешетили пулями «capo di tutti capi». Тело Массеры взлетело в воздух, как тряпичная кукла, и тяжело шлепнулось на стол, продолжая сжимать в выставленной руке карту. Ее фотографию дали назавтра все газеты: это был бубновый туз…
Чарли объяснил Мэг, что в то время у гангстеров Америки бубновый туз, как пиковая дама у Пушкина, был знаком смерти. Получить с утренней почтой или из рук неизвестного, который задел вас на улице или постучал в вашу дверь, конверт, или пакет, или даже букет цветов, где был бубновый туз, — было уведомлением о том, что вас приглашают «прокатиться в автомобиле».
— Наша жизнь заключается в том, — пояснял Чарли, а Мейер подтверждал, — что мы постоянно ждем. А чего мы ждем? Предательства и смерти. Мы приходим в дело через предательство и погибаем через предательство. Важно только успеть предать раньше, чем предадут тебя. То есть убить прежде, чем убьют тебя. Надо упредить удар других. Поэтому наводчик, стукач, раздающий в игре, и еще принцип равновесия сил имеют такое значение в нашем деле. Стукач стремится предупредить полицию или соперничающую банду, а тот, кого «закладывают», старается перехватить стукача прежде, чем тот выйдет на нужный контакт. Это кросс без финиша, игра в прятки на краю смерти…
— Случается, что установившееся равновесие сил колеблется. Бывает, что одни его защищают, а другие его нарушают. Иногда мы спасаем противника или даже полицейского высокого ранга, которого какое-нибудь ничтожество хочет убрать из личной мести. Если мы находим, что игра не стоит свеч и нарушение установившегося порядка слишком опасно для всех, мы можем даже стать на сторону копов и сами убрать виновника возмущений и беспорядка. Такой случай был. И еще не раз будет…
— В определенном смысле мы являемся гарантами справедливости и порядка. Люди нас опасаются, но они же и обращаются к нам. Мы, конечно, берем некоторое вознаграждение. И придаем немного живости слишком прямолинейному ходу шестерен администрации.
— Стрельбой из автоматов? — уточнила Мэг.
— Стрельбой из автоматов, — подтвердил Лючиано. — В самом обществе ведь много скрытого насилия. А мы отвечаем на него насилием открытым. Мы взрываем общественные барьеры. Как вы думаете, почему мы выживаем? Потому что люди нас боятся, но и любят даже те, кто нас ненавидит. Мы помогаем более слабым противостоять более сильным. В их глазах, особенно детей, мы выглядим скорее героями, чем отщепенцами…
— А риск, мстя за слабых, мы берем на себя. Ведь мы никогда не знаем, чем кончится наше вечное ожидание. Когда утром нам стучат в дверь или в окно, мы прыжком хватаем ружья: это может быть полиция; это могут быть враги; это могут быть друзья, обернувшиеся врагами; это могут быть враги, которые в этой мешанине превратились в друзей. И не исключено даже, что это друзья, оставшиеся друзьями…
— Значит, вы друзья? — Мэг переводила указательный палец с одного на другого.
— Да, — сказал Мейер Лански, — мы друзья.
— Вы друг друга не предаете?
— Нет, мы друг друга не предаем, — сказал Лючиано.
— И вы никогда не расстаетесь?
— Нет, мы расстаемся, конечно, — сказал Мейер. — Я, видите ли, еврей, а он — итальянец. Это не одно и то же.
— Но вы думаете одинаково?
Они посмотрели друг на друга и принялись смеяться.
— Послушайте, — сказал Лючиано, — он правильно вам сказал: я — итальянец, а он — еврей.
— Мы в одной лодке, — пояснил Лански, — и путь у нас один. И мы крепко держимся за руки. Но пункт прибытия у нас — не один и тот же. У итальянцев — одна идея: передать дело и власть своим детям. Для этого они создали систему семей с «capi» во главе. Они феодалы. Мы же, евреи, мечтаем о другом: вплавиться в толщу Америки. Мы — карьеристы.
— Итальянцы чуждаются общественной системы и стремятся прочно обосноваться лишь на ее окраинах, их «Почтенное сообщество» подпольно сосуществует параллельно с гражданским обществом. Для нас же подпольное существование — не выход, оно — скорее средство, путь к цели. Скажем откровенно: сын итальянского гангстера мечтает стать «capo», а сын еврейского гангстера мечтает стать адвокатом. Оба предпочитают обходной маневр, но один хочет остаться снаружи, а другой хочет войти внутрь.
— А теперь, — спросила Мэг у Лючиано, — вы работаете с другим… с этим… Маранцано? Вы его правая рука, что ли?
Лючиано и Лански опять посмотрели друг на друга и рассмеялись.
— Да, — сказал Лючиано, — я был его правой рукой. Это был великолепный организатор. К сожалению, его больше нет.
— Больше нет? — переспросила Мэг.
— Нет, — подтвердил Лючиано.
— Послушайте, — сказал Лански Мэг, — вы восхитительны, очень симпатичны, даже не глупы; уже четыре часа утра; мы вам рассказываем вещи, о которых не говорили ни одной живой душе, но мы вас не знаем. Может быть, вас подослала полиция, или прокурор, или какой-нибудь плохой мальчик, который имеет на нас зуб. Или вы — одна из этих шлюх-журналисток, собирающих информацию для своей статьи… Заметьте, наши рассказы, которыми мы имеем удовольствие вас развлекать, ничего нового миру не откроют: все это уже известно. Но не рассчитывайте: если у вас красивый носик и груди, о которых мечтает любой мужчина, это не значит, что мы готовы выложить вам все свои секреты до последнего…
— А если бы я воспользовалась тем, что вы мне рассказали, — спросила Мэг с несколько принужденным смехом, — что бы случилось?
— О! — воскликнул Чарли небрежным тоном и с вкрадчивой улыбкой. — Вы так очаровательны, что вас всего лишь нашли бы в реке с цементными ботинками на ногах!
Правда заключалась в том, что Маранцано, особенно в сравнении с отсталым и ограниченным Массерой, был гением организованной преступности. Он объединил вокруг себя вожаков преступного мира всего города и принялся перестраивать свою среду обитания. Это он заложил основы разделения всей бандитской верхушки на пять семейств — вскоре шесть, — представлявших собой военизированные объединения со своим «capo» во главе каждого из них. Это были семьи Анастазио, Лючезе, Профачи, Боннано и Лючиано. Здесь прямо-таки напрашивается сравнение с Фридрихом II, издавшим уложения Мэлфи, или с императором Наполеоном, раздававшим герцогства и княжества генералам из своего окружения. Разница между этими системами лишь в благополучии и длительности существования: в отличие от наполеоновской, основная схема гангстерской империи сохранилась до сих пор, даже при значительно увеличившемся числе семей. Единственное, в чем Сальваторе Маранцано последовал за Массерой, — это было назначение себя «capo di tutti capi».
Это была серьезная ошибка с его стороны, но он пошел на это сознательно. Целью жизни Маранцано была власть, вся власть. Он решил уничтожить всех, кто ему мешал, как Массера уничтожил всех своих соперников и как он сам уничтожил Массеру; первым же кандидатом на уничтожение стал Лючиано, который послужил ему, но теперь представлял для него угрозу.
Через пять лет после убийства Массеры — это было за год или полтора до прибытия Мэг в Нью-Йорк — Маранцано пригласил Чарли Лючиано с двумя его друзьями, Костелло и Джиновезе, в свою штаб-квартиру, напичканную вооруженными охранниками и снайперами. Лючиано опасался принять это приглашение и тут же проконсультировался у Мейера Лански. Лански же незадолго до этого получил информацию: в Чикаго нависла угроза над Аль-Капоне, который устроил бойню своим соперникам во время печально знаменитой ночи Святого Валентина. При сопоставлении этих фактов явно напрашивался вывод: Маранцано затеял операцию по генеральной зачистке. Когда же Лючиано и Лански узнали от своих платных осведомителей, что их соперником был недавно нанят ирландский гангстер с неизвестной целью, но вполне возможно, чтобы убрать их, они решили опередить Маранцано и убрать того, кто хотел убрать их.
Дело не было простым. Новый «capo di tutti capi» окопался в своей штаб-квартире, как в бункере. Его охраняли люди, которые умели мгновенно нажимать на спусковой крючок и которым он полностью доверял. Вот тогда-то и оказался плодотворным альянс между евреями Мейера Лански и итальянцами Лючиано. Лански быстро сообразил, что «усатые питы» должны были оставаться вне игры: охранники Маранцано знали в лицо всех итальянских гангстеров. Чтобы убрать «capo di tutti capi», Лански и Лючиано наняли еврейских гангстеров, чьи лица ни о чем не говорили людям Маранцано.
Однако тут же возникли новые проблемы. Нападение на штаб-квартиру главного «капо» было назначено на субботу — день, когда охрана Маранцано была менее многочисленной и предположительно менее внимательной, чем обычно. Но большинство киллеров, нанятых Лански, были ортодоксальными евреями и отказывались работать в святой день. Нужно было назначить другую дату.
В день операции — это не была суббота — люди Мейера, все евреи, явились на место операции, выдавая себя за агентов федеральной полиции, проводящих свой обычный рейд. Они предъявили удостоверения, приставили охранников к стене — как это обычно делают федералы, — вошли в кабинет Маранцано и аккуратно расстреляли его из пистолетов с глушителями, чтобы спокойнее ретироваться.
Во время отхода они несколько раз ошибались дорогой и даже очутились в дамском туалете, а когда пустились бежать, то столкнулись носом к носу с бандитом-ирландцем, нанятым Маранцано для проведения «большой стирки». Ирландец остолбенело смотрел на запыхавшихся типов, пролетавших мимо него.
— Смывайся! — бросили они ему на бегу. — Там полиция!
Лючиано и Лански не стали повторять фатальной ошибки Маранцано. Унаследовав его принципы, они сделали их более демократичными.
Должность главного «capo» была упразднена. Евреи и итальянцы, а также ирландцы — все работали теперь вместе. Вся система управлялась чем-то вроде административного совета, куда входили все главари преступного мира, кланы Анастазио и Костелло, наследники дела Арнольда Ротштейна и, конечно, Лючиано и Лански.
…По прошествии многих лет, после множества авантюр, к которым Мэг — якобы далекая от всех этих событий — имела все же непосредственное отношение, Лючиано и Лански умерли в собственных постелях — редчайшее исключение среди людей их профессии. Благодаря им и «американской помощи», сицилийская мафия вскоре отвоевала, и с лихвой, свои прежние позиции, поколебленные Муссолини. Целый пласт послевоенной истории Италии, да и всей Европы, будет связан с их деятельностью…
Когда Мэг встретила их обоих на следующий день своего появления в Нью-Йорке, они были еще в расцвете сил и фонтанировали прожектами: недавно избавившись от Сальваторе Маранцано, он закладывали основы демократической власти преступного мира. Они создают структуру «преступного синдиката» и управляют криминальной верхушкой. Вскоре журналисты, жадные до всего нового и сенсационного, изобретут по этому поводу формулу, способную поразить воображение: «корпорация убийц», или даже короче и лучше — «Murder Inc.»
Та ночь в нью-йоркском кабачке вскружила голову Мэг. Несколько последующих лет она проведет со Счастливчиком Лючиано, перемежая их с отлучками, путешествиями, возвращениями во Францию, иными авантюрами. Не исключено, что — и с Мейером Лански. Я не знаю всего о ее тогдашней жизни, и я совсем не уверен, что теперешняя Марго ван Гулип — она сейчас тихо обменивалась несколькими фразами с герцогиней де Меркер и генералом Симоном Дьелефи, великим канцлером Почетного Легиона, — что она сама хотела бы помнить все, что было в ее жизни.
Похоронный фургон остановился посреди застывшей толпы. Бешир бросился к нему. Люди в черном открыли заднюю дверцу и спустили на землю гроб с Роменом. Бешир помогал им…
…Бешир вновь занял свой пост в бункере, у дверей комнаты, где фюрер завтракал. Повариха Гитлера, которая не раз видела его на посту и даже заговаривала с ним, принесла ему тарелку мяса и стакан пива. Время шло… Бешир, почти не спавший уже несколько ночей, чувствовал, как сонное оцепенение охватывает его. Он принимался шагать взад-вперед по узкому коридору бункера, затем вновь занимал пост у дверей фюрера. После нескольких беспокойных дней и свадебной церемонии в бункере царило затишье, даже давящее. Генералы и высшее офицерство куда-то исчезли, не было видно Геббельса, никто больше не собирался в «зале карт».
И вдруг тишина взорвалась. Из апартаментов Гитлера вылетело несколько секретарей, кое-кто рыдал во весь голос: фюрер попрощался с ними и расцеловал. Их сопровождали два или три человека — этих Бешир не знал. Они прошли мимо него не говоря ни слова.
До коридора донесся приглушенный звук двух выстрелов. Менее изощренное ухо могло их даже не расслышать. Но за спиной у Бешира был уже колоссальный опыт — добрых десять тысяч часов — обращения с огнестрельным оружием. Он сразу понял, что в апартаментах Гитлера кто-то стрелял. Он бросился в дверь и столкнулся с выскочившим оттуда Линге. Тот кричал что-то, чего Бешир не мог разобрать. Но Линге выкрикивал одно и тоже, и Бешир, наконец, понял:
— Фюрер застрелился! Фюрер застрелился! Фюрер застрелился!
Адольфу Гитлеру, только что отметившему среди развалин столицы рейха свое 55-летие, исполнилось всего 55 лет и десять дней. Но за собой в могилу он тащил и весь свой народ… Беширу показалось даже, что за ужасом и тоской комнатного слуги сквозила тень облегчения… Напряжение в «блокхаусе» становилось уже нестерпимым — и вот оно мгновенно разрядилось. В тоске, фатализме и покорности судьбе все же наконец наступало будущее, и его приход был ознаменован этой самой смертью фюрера…
Мгновенно собралась небольшая толпа. Людей было почти столько же, как на свадьбе фюрера. Неужели все они прятались в щелях бункера? Люди толкались, хотели увидеть, что произошло. Они увлекли Бешира за собой в комнату фюрера.
Всего сорок восемь часов отделяли свадьбу двух любовников от смерти двух супругов. Там, наверху, город уже не существовал. Здесь, внизу, никто ничего не знал о своих семьях или любимых. Все чувства обитателей этого подземного мира были на грани истощения. Они были в состоянии только признать, что неизбежное наконец произошло. Они уже давно знали то, о чем боялись даже подумать. Мир шатался, и исчезновение этого человека окончательно срывало покров со всей той картины ужасов, которая теперь обнажалась в полной мере…
Два тела — Гитлера и Евы Браун — вытянулись на кровати. Рука диктатора и голова Евы почти касались пола. На полу валялся пистолет. Бешир узнал его сразу: это был его «вальтер» 7.65…
…Толпа сгрудилась вокруг гроба Ромена, установленного на подставке. По традиции, уходящей в далекое прошлое, мы зарываем мертвых в землю. Это данность, которую мы уже в течение многих веков не ставим под сомнение, как и многое другое. Идея хоронить покойников как-либо иначе кажется чудовищной многим ныне живущим. Мы мыслим так же, как Антигона, дочь Эдипа и Иокасты, у Софокла: ее глубоко оскорбил Креон, который, из политических побуждений, отказывался похоронить ее брата Полиника. Знаменитый спор между Антигоной и Креоном — этот образец дискуссии на философские и моральные темы — ведется вокруг одного-единственного пункта — захоронения мертвого тела. В ходе своей краткой истории человечество знало разные решения этой проблемы: мертвых сжигали, бросали в море, оставляли на вершинах башен, бросали диким зверям, заполняли ароматными веществами и заспиртовывали — все эти способы использовались поочередно, в явных или скрытых целях, с отчаянием или надеждой, но всегда — с ощущением времени и космоса над собой…
Великое дело всей жизни — смерть. Жизнь — это несколько лет. Смерть — это навсегда. Наше рождение не зависит от нас, а вот смерть — она нам принадлежит. Она завершает нашу жизнь и определяет ее смысл…
Ромен все поставил на жизнь. И преуспел в ней. Он не хотел ничего другого и не надеялся ни на что другое. И вот смерть настигла его. Жизнь берет свое, но и смерть берет свое, и, какой бы ни была жизнь, она всегда оканчивается смертью. Поэтому так хочется знать ответ на этот вопрос: если смерть — это последнее слово жизни, то является ли она последним словом вообще? Ромен верил в это изо всех сил…
… Я вспомнил одну лыжную прогулку в Северных Альпах, между Францией, Италией и Швейцарией, шесть или семь дней, которые я провел в компании Марины и Ромена. Это была середина весны; было еще холодно, но уже очень красиво. Сурки начинали высовывать носы из норок, в которых провели зиму. Повсюду пробивались ручейки и прокладывали себе дорогу сквозь снег и лед. Тишину нарушало только их журчание на камнях да пение нескольких птичек. Наша лыжня пролегала иногда среди крокусов и примул, которые уже начинали пробиваться из-под снега. Ромен умел все, или почти все, и катался он тоже очень хорошо. Марина, долгое время прожившая в горах Швейцарии, была сама элегантность среди снегов, впрочем, как и в любой другой обстановке. Мы ночевали в курортных домиках, еще пустых в это время года. Уже три-четыре дня мы не видели никого из посторонних. Солнце сверкало в безоблачном небе, и в этом блеске растворялись все темные стороны жизни. Не стало прошлого, не было будущего — все было лучезарным настоящим, и это было счастье…
Как-то вечером мы обратили внимание на несколько домиков, стоявших на отшибе. Мы устали и остановились, чтобы передохнуть и полюбоваться солнцем, садившимся за высокие горы. Горный пейзаж был прекрасен и показался мне знакомым. Я вспомнил, что уже бывал здесь несколько лет назад. Я рассказал Марине и Ромену, что зимой из-за глубокого снега дороги здесь становились непроходимыми, и всякое сообщение с внешним миром прерывалось. Поэтому тела тех жителей, кому довелось умереть здесь поздней осенью или зимой, укладывали на террасы — мы могли различить вдали такие террасы на крышах домов. Там, в холоде, покойники дожидались конца зимы. С приходом весны и таянием снегов, тела спускали вниз и относили хоронить на деревенское кладбище.
Этот рассказ понравился Марине: она нашла его очень романтичным. А Ромен проворчал, бравируя:
— Хорошенькое дело! Можно было бы просто сварить их или разрезать на куски. Это не имеет никакого значения. Для них в том числе.
Марина возмущенно вскрикнула…
…И вот теперь мы хоронили его. Ему было все равно. А нам — нет. Мы отказались от военных почестей, от церемонии в Инвалидах, от речей. Мы отказались даже от трехцветного флага и ордена Освобождения на алой подушечке. Был только деревянный гроб и печаль тех, чья жизнь пересеклась однажды с его жизнью и стала от этого хотя бы немного красивее…
…Он был самым молодым из тех французов, которые бросили свое «нет» поражению и оккупации своей родины. Как давно это было!.. Когда он прибыл в Лондон с Симоном Дьелефи после их морской эскапады, французов там было немного. И немало тех, кто прибыл туда раньше, как Моран, стремились, наоборот, вернуться во Францию. Это было время, когда Де Голль объявил ста двадцати четырем французам, прибывшим на пяти кораблях с острова Сейн, чтобы продолжать борьбу вместе с ним: «Вы — четверть Франции», — в этих словах были и слава, и позор…
Именно потому что его сторонники были так немногочисленны, наши юные добровольцы, прибывшие в июне 1940-го, имели верный шанс встретиться с самим Де Голлем или, в его отсутствие, с одним из его ближайших сподвижников. Они отправились по адресу, указанному им английским офицером — площадь Сеймор, 6, — и были приняты там секретарем, только что приступившим к своим обязанностям, ее звали Элизабет. Она отвела их к лейтенанту де Курселю.
Лейтенант де Курсель оказался человеком высоким, сдержанным уже немного на английский манер. Он был мужественен и везуч: прибыл в Лондон в одном самолете с самим Генералом. Он принял двух юношей торопливо, но при этом с той же обходительностью и сердечностью, с которой он встречал тех редких политических деятелей и офицеров высшего ранга, которые решались присоединиться к Де Голлю. Симон сразу объявил ему, что одна только мысль о том, чтобы остаться во Франции и бездействовать, была ему нестерпима. Затем Курсель обратился к Ромену:
— А вы? — спросил он улыбаясь.
— А я, — ответил Ромен, — поставил на орла или решку.
Курсель пересказал его слова Де Голлю. Через несколько дней, 14 июля, вместе с моряками острова Сейн и некоторыми другими, Ромен был представлен де Голлю.
— А, это вы, Короткая Соломинка[4], — сказал ему Генерал. — Поздравляю вас и примите мои наилучшие пожелания.
Эта кличка закрепилась. Я видел у Ромена фотографию Генерала, подписанную его рукой: «Ромену Короткой Соломинке, самому молодому из свободных французов, моему товарищу с первых дней — самых трудных и самых прекрасных — в доказательство уважения и симпатии. Шарль Де Голль».
Юный Ромен, как умеющий читать и писать, был отправлен в офис, где занимался оформлением бумаг. Не прошло и двух недель как он осатанел от этой работы. У него было одно большое преимущество: он говорил по-английски. Он встретился с высоким журналистом по имени Ив Морван, который избрал себе прозвище Жан Моряк. Этот Жан Моряк доверил ему работу на «Би-Би-Си», откуда Де Голль обращался с призывами к миру. Это было уже получше: Ромен корректировал тексты, подбирал материалы для Мориса Шуманна или Жана Оберле, которые организовали трансляцию передач «Французы говорят с Францией». Под яростными бомбардировками, предпринятыми Герингом летом и осенью 1940-го, чтобы поставить на колени Англию, среди горящих церквей, среди случайных прикрытий, под которыми горстка любителей виски и игроков в крикет спасала честь воюющего мира, Ромен интересовался главным образом некоей Молли, ее светлые волосы были так аккуратно собраны в узел на затылке, и вся она была такой свежей и кругленькой в своей облегающей униформе…
Они любили друг друга ночью, среди пожаров, в вое сирен; они прогуливались на заре, среди ночных развалин. Ромен чувствовал себя безумно счастливым. Он любил Де Голля, такого бедного и великого. Он любил англичан, которые все были героями, единственными героями на то время. Он любил Черчилля, речи которого знал наизусть, и часто повторял его слова: «Я могу предложить миру только свою кровь, труды, слезы и пот» или «Муссолини? Но это же просто карнавальный шут!» Но особенно он любил Молли, ведь было ему всего лишь чуть более шестнадцати лет, и находился он в Англии, осажденной, но не сдающейся…
Однако эта чудесная жизнь, которую он вел в самом сердце мировой катастрофы, в центре циклона — как в венецианской гондоле в бурю или во дворце «Тысячи и одной ночи», осажденном джиннами, — эта жизнь вовсе не соответствовала его представлениям о войне и, главное, о самом себе. В войне, которую вела Англия, он лично почти не принимал участия. И он опять обратился к Курселю, который, перейдя в «St. Stephen’s House» — довольно грязное старое здание в двух шагах от Уайтхолла, на набережной Темзы, — расположился теперь в Карлтон Гарденс.
Ромен всегда добивался того, чего хотел. Его юношеское обаяние сработало даже в горящем Лондоне. Курсель снова принял его.
— Я умею водить самолет, — заявил Ромен.
— И сколько же вам лет? — мягко спросил Курсель.
— Семнадцать, — объявил Ромен.
— И вы уже умеете… — чуть не задохнулся от изумления Курсель.
— Да, — подтвердил Ромен.
Так он оказался на базе военно-воздушных сил, где ему доверили складывать парашюты. Занимаясь этим, он повторял про себя по-английски: «Никогда столь многие не были обязаны столь многим тем, кого так мало». Через год он уже был в Сирии, вместе с Андре Швейцером, под командованием Катру и Лежентийома, которые одерживали победы над Денцем, поддерживавшим правительство Виши. Под «джебелем» Дрюзе шла ожесточенная перестрелка между французами и англичанами. Ромен с великим удовольствием присутствовал при передаче письма Де Голля британскому командованию: «Я не претендую на победу над всей Британской империей, но если вы не уйдете с позиций к полудню завтрашнего дня, то я атакую вас со своей полубригадой». Тогда же начало формироваться то, что впоследствии будет названо эскадрильей «Нормандия-Неман». Ромен проводил все свое время копаясь в самолетах. Пилоты и механики приняли как своего этого юношу, чье неизменно ровное настроение так благотворно действовало на окружающих.
Однажды Ромен прогуливался вместе с летчиками среди холмов неподалеку от Алеппо: там есть раннехристианская базилика с замечательными абсидой и куполом, хранящая память о святом Симеоне Столпнике, который провел тридцать семь лет на столпе, засыпая обличительными посланиями великих мира сего, и там, среди руин нартекса, его нашел лейтенант, только что прибывший из Англии. У лейтенанта было для него письмо. В письме сообщалось, что Молли была убита разрывом бомбы, упавшей на школу, из которой она эвакуировала детей…
…Мы стояли в молчании вокруг тела Ромена. Не было речей, потому что он не хотел их. Он уходил от нас, как бы незаметно стираясь, — такова была его воля. Ему оставалось быть среди нас совсем недолго. Конечно, некоторые из нас молились. За него. За спасение его души, в которую он не верил. И еще молились за себя. Иные старались вспомнить его живые черты, свои встречи с ним и разговоры. Иные же и вовсе думали о чем-то постороннем: о делах, любовных связях, назначенных на сегодня встречах или вовсе ни о чем. И все же многие были опечалены, и лишь некоторые скучали…
С другой стороны гроба, погруженные в свои мысли, стояли Жерар, Бешир, Ле Кименек, великий канцлер Почетного Легиона, Виктор Лацло, Альбен Цвингли, Андре Швейцер и его сестра Франсуаза Полякова. Стояли неподвижно и молча. Альбен плакал. Франсуаза — тоже. Я представил себе, какие слова все они могли бы найти, чтобы сказать о Ромене. Каждый из них сказал бы о своем. И я сказал бы о своем. И в этих разных воспоминаниях вместе взятых был бы весь Ромен…
Я, кажется, уже говорил, что мне случалось ненавидеть его. И что я любил его. Это бывало поочередно, а иногда — одновременно. Но он никогда не был мне безразличен — это точно. А теперь мне его не хватало, и жизнь без него представлялась пустой и тусклой. Он словно воплощал собою жизнь. Во всех жизненных испытаниях, печалях, даже в мыслях о самоубийстве нас спасает только любовь к жизни. И Ромен умел любить ее больше чем кто-либо.
Я мог бы сказать это над его гробом: что мне его очень не хватало. И что мы трое — Марго, Марина и я — страдаем. Нет, пожалуй, я не стал бы этого говорить. Я бы скорее вспомнил все те забавные эпизоды, которые были связаны у меня с ним. Мы так славно умели посмеяться вместе!..
Я взглянул на Бешира. Его жизнь была полна драматических событий, и при этом было что-то комическое во всей его фигуре: важность его манер подчеркивалась вдобавок еще некоторым снобизмом, происходившим от того, что ему доводилось общаться с людьми, мнившими себя важными персонами. Королева Марго «одолжила» его Ромену, и с тех пор Бешир верно служил ему, обращаясь с ним весьма почтительно. Не удовлетворяясь знанием немецкого, выученного во время войны, Бешир усовершенствовался во французском и владел им, как родным арабским. Он говорил по-французски без акцента, но несколько претенциозно, употребляя лексику и сочетания слов, которые напоминали Франсуазу из «Поисков утраченного времени», и это приводило нас в восторг. Так, однажды вечером, когда Ромен выказал раздражение — я уж не помню, по какому поводу, — Бешир вдруг изрек сдержанно и вместе с тем воодушевленно:
— Пусть месье не выходит из месье!
Эти слова стали крылатыми в нашем кругу. Если нам случалось повышать голос в спорах на самые разные темы: о сюрреалистической живописи, негритянском искусстве, порнографии, цензуре, Америке и Вьетнаме, о Генерале и Алжире (я сейчас вспоминаю об этих спорах с болью и нежностью), то достаточно было одному из нас провозгласить: «Пусть месье не выходит из месье!» — и все со смехом успокаивались.
Однажды Королева Марго, чета Ле Кименеков и весь клан Швейцеров пришли на ужин к Ромену. За столом прислуживал Бешир, затянутый в голубую или зеленую ливрею с высоким воротником, но с неизменной феской на голове, как в далекие времена на Патмосе. Когда пили кофе, вдруг зазвонил телефон. Бешир пошел к аппарату. Он вернулся, исполненный важности, и наклонился к Ромену.
— Месье, — сказал он ему на ухо, но так, что слышали все, — звонит архигерцог арсенала.
— Кто-кто? — переспросил Ромен.
— Архигерцог арсенала, — уверенно повторил Бешир.
— Архигерцог… не знаю такого, — проговорил Ромен.
— Ромен, — сказала ему Марго, — иди ответь…
Ромен вздохнул и встал. Через несколько минут он вернулся, корчась от смеха:
— Это звонили из национальных архивов…
Обычно Ромен и Бешир были на «ты». Мы много где побывали втроем. И только когда присутствовали посторонние или обстановка требовала некоторой официальности, Бешир облекался особым достоинством. Как-то (это было в шестидесятые или семидесятые годы) Ромен и я проводили лето в Париже, уже не помню почему. Стоял очень жаркий август. Бешир тоже был здесь — воплощенный образец преданности.
— Слушай, ну это же идиотизм, — сказал я Ромену. — Что он здесь делает? Надо его послать куда-нибудь в горы, к морю, в деревню. Мне думается, что он не имеет понятия ни о Провансе, ни об Альпах.
— Ты прав, — сказал Ромен.
Он позвал Бешира.
— Бешир, — сказал он, — тебе нужно взять отпуск. Куда ты хочешь поехать? На Лазурный берег? В Шамоникс?
— Ну уж нет! — ответил Бешир. — Благодарю покорно. Это хорошо для тебя. А я… видал я этот отпуск… Едешь, тащишься, скучаешь, не знаешь куда себя девать, тратишь сумасшедшие деньги, чтобы как-то развлечься. А потом, вернувшись без денег, сосешь…
Тут он посмотрел на нас с Роменом полунасмешливо-полусмущенно и закончил, важно выпрямившись:
— Месье понимает, что я хотел сказать…
…Далеко не все было комично в жизни Бешира. Тогда в Берлине, увидев собственными глазами мертвого Гитлера, Бешир среди общей суматохи вышел из бункера. Свежий воздух, заполнивший его легкие, опьянил его. В первое мгновение он просто отдался ощущению животного счастья. Однако то, что он увидел вокруг, быстро вернуло его к действительности. Повсюду, насколько хватало зрения, были развалины. Он еще помнил Берлин смертельно раненным, но все же живым. Теперь под ударами бомб, снарядов, «катюш» город превратился в мертвое поле руин.
Сначала Беширу показалось, что город застыл в неподвижности, превратился в кладбище. Время исчезло. Пустота нависла над пустотой. Лишь иногда в руинах проскальзывала чья-то смутная тень. Но вот совсем близко послышались пушечные выстрелы, похоже, с соседней улицы, или того, что от нее осталось, а затем — автоматные очереди. Изощренное долгим опытом, ухо Бешира определило по звуку автоматы Сударева (их еще не сменили тогда автоматы Калашникова) — значит, в городе были русские. Шли «живые» уличные бои, сменившие мертвую «безличность» бомбардировок.
У Бешира было при себе осадное ружье. Он не говорил себе: «Я буду сражаться до конца» или «Надо достойно умереть за мертвого фюрера и гибнущую Германию». Он подумал просто: «У меня нет выбора, и я буду стрелять в того, кого увижу».
И первое, что он увидел, было подразделение вермахта, отступавшее в мертвом молчании, словно парад призраков, вышедших из ада. Бесформенная масса лохмотьев, уходящая в небытие. Он столкнулся взглядом с одним из них и прочел в этом взгляде только безумие и смерть. Таково одиночество силы и нищета гордыни: Бешир вспомнил, как четыре года назад эта великолепная военная машина, уже имевшая за спиной покоренную Европу, отправлялась на покорение остального мира. И вот ее останки исчезали на его глазах…
Среди свиста пуль и разрывов бомб он бесцельно бродил по осажденному городу, уже готовому сдаться; он укрывался под разрушенными портиками и обходил воронки от снарядов. Он шел, глядя в пустоту, растерянный и изможденный, бывший солдат, уже ненужный, но еще вынужденный сражаться. На его пути попадались пожилые женщины и подростки, толкавшие перед собой повозки с пожитками, приваленными матрацем, столом или стулом. Попадались оравы ребятишек, грабивших выпотрошенные магазины. Он сам прихватил две бутылки пива и немного мясных продуктов — то, что валялось в разбитой витрине среди осколков стекла.
Спускалась ночь. Бешир проспал несколько часов в каком-то доме: двери и окна были выбиты взрывом, но кровать уцелела. Все было ничье, и все принадлежало всем. Когда солнце вновь поднялось над Берлином, уже стертым с карты и из истории, он вышел на улицу с осадным ружьем под мышкой.
Он очутился среди обгорелых остовов зданий и искалеченных деревьев — все это в другой жизни, до Всемирного Потопа, называлось Унтер-дер-Линден. Он поднялся по ней до Бранденбургских ворот. Там уже были русские…
…Торопливо подходили опоздавшие. Опустив голову, они тихонько проскальзывали в толпу присутствующих. Казотт и Далла Порта пристроились рядом со мной. Ромен любил их обоих. Я же мысленно послал их далеко: своим появлением они внезапно вырвали меня из разрушенного Берлина и вернули сюда…
— Это все транспорт… — прошептал Казотт.
— Да, знаю, — пробормотал я, — транспорт — это кошмар…
…Здесь были танки ИС, их Бешир часто видел издали покрытыми снегом, пушки 122 калибра с прицелом под 45 градусов, а в небе Берлина развевался красный флаг. Это были русские части под командованием Жукова…
…Георгию Константиновичу Жукову не было еще пятидесяти лет. Уже два года он был маршалом Советского Союза. В молодости он был рабочим на заводе, затем унтер-офицером царской армии, затем военным советником республиканцев во время гражданской войны в Испании и начальником Генштаба Красной Армии. Он защищал Москву против частей Браухича и Бока в 1941-м, организовал контрнаступление под Сталинградом в 1942-м, принудил немцев снять осаду Ленинграда в 1943-м. Вместе с Коневым, Малиновским, Рокоссовским, Ворошиловым и Тимошенко он составлял ту плеяду советских военачальников, которая одержала победу над немцами во Второй мировой войне.
Неизбежное появление выдающихся талантов, которым был бы заказан путь при прежнем режиме, — одна из ярких примет, отчасти оправдывающих политические и социальные революции. Она проявляется в разных областях, но наиболее очевидно — в области военной. Так, в начале царствования Людовика XVI талантливых французских военачальников можно было пересчитать по пальцам. Через двадцать пять лет, при Наполеоне, их пруд пруди. Пример из советской истории еще более поразителен. Несмотря на сталинские «чистки», уничтожившие девять десятых командного состава, у советской армии были блестящие военачальники. Всегда ли это необходимо — сбросить прежние правящие классы, — чтобы произошел расцвет новых талантов? Главный аргумент против этой гипотезы — и он не очень убедителен — это то, что два века революций породили скорее дух военных завоеваний и, соответственно ему, блестящих генералов, а не выдающихся ученых или экономистов… Однако военачальники — это само собой, но не надо забывать также, что война была выиграна огромной людской массой, которая имела в своем распоряжении — благодаря производительным мощностям американских заводов — многочисленные военные ресурсы…
Первый Белорусский фронт под командованием маршала Жукова вторгся в предместья Варшавы 1 августа 1944-го. Польские патриоты сразу подняли восстание против нацистских оккупантов. Но, по приказу Сталина, Жуков топтался на подходах к городу почти шесть месяцев. Он вошел в Варшаву только 17 января 1945 года, так что немцам вполне хватило времени, чтобы жестоко подавить восстание.
Поддерживаемый маршалом Рокоссовским справа и маршалом Коневым — слева (Конев, пришедший с российских равнин, встретился здесь с Паттоном, пришедшим от Авранша и Бретани и остановившимся, в соответствии с приказом, в сотне километрах от Праги, чтобы уступить поле битвы советским войскам), весной 1945-го Жуков наступает на Берлин. 2 мая, через день после самоубийства Гитлера, он занимает столицу Германии, но авангард его войск проник в город еще неделей раньше. Через несколько дней именно он в качестве командующего группой армий подпишет от имени всего Советского Союза акт капитуляции вермахта: это произойдет почти через четыре года после начала операции «Барбаросса» и через пять лет — почти день в день — после начала военных действий на Западе. По ходу войны в окружении маршала — более или менее близком — оказалось немало французов. Среди них, например, внук маршала Фоша — Фурнье-Фош, — который сумел бежать из немецкого плена несколькими неделями раньше. Там оказался и Ромен, уже давно сражавшийся на стороне русских…
…Мы не знаем тех, кого знаем. Мы не знаем даже тех, кого любим. Я не могу представить себе Ромена в военной форме. Я видел его в самой разной одежде: в смокинге, в сером костюме, в твиде, в шортах, в банном халате, в костюме ныряльщика, в фартуке повара, когда он готовил «спагетти карбонара», в костюме венецианского дожа на балу во дворце Лабия, в костюмах гондольера или охотника. Я видел его голым или в меховом манто, доставшемся ему от его деда. Я видел его лыжником и моряком, но никогда — в военной форме. Тем не менее он провел, как говорится, под знаменами пять долгих лет, и из них три года — под красными знаменами…
…Марго ван Гулип уже подавала все признаки усталости. Сколько лет ей сейчас могло быть? Восемьдесят — точно. Может быть, даже девяносто? Нет, девяносто — это слишком. Я поспешно рылся в своих воспоминаниях, как молодая женщина, вернувшаяся после работы принять душ перед выходом в город, нервно роется в своей сумочке в поисках ключей. В каком бы ослеплении от жизни «большого света» я, студент-нормалист, ни был, не могло же ей быть пятьдесят лет тогда, на Патмосе, когда я целовал ее на дороге, идущей вдоль моря? Не могло быть, чтобы эта женщина, держащаяся так прямо, несмотря на печаль и усталость, и вокруг которой еще витали отблески былой красоты… чтобы ей маячила на горизонте ее сотня лет? Я быстро подсчитывал: где-то между 82 и 86… Я подошел к ней, чтобы она могла опереться на мою руку.
— Пожалуйста, — сказал я, — обопритесь на меня.
Она посмотрела на меня — и я вспомнил Патмос.
— Спасибо, мой маленький Жан! — проговорила она.
Нет! Наверное, все-таки восемьдесят восемь… Жерар и Ле Кименек уже пошли искать стул, чтобы усадить ее…
Время… Если и не вечно, потому что время, естественно, не может быть вечностью, то веками и веками оно несет нас в своем потоке, оставаясь самим собой, и разрушает все, что тащило за собой, и то, что умирает, и то, что пока только рождается…
Жерар и Ле Кименек вернулись ни с чем: на кладбище среди могил трудно найти стул. Бешир, как всегда сообразительный и энергичный, уже успел подумать о машине, в которой привез Андре Швейцера, и сейчас подгонял ее сюда. Мы устроили Королеву Марго на заднем сидении и оставили там немного отдохнуть. Казотт и Далла Порта тут же составили ей компанию. Эти двое хорошо знакомы с проблемой времени. Казотт — этакий кочевник эрудиции, специалист по Иннокентию III и Фридриху II, Иерусалимскому королевству и, как ни странно, по древнему Ближнему Востоку, любитель примитивного искусства, как и Ромен. Он изучал время через прошлое, в котором оно скрывается, но через него же и выявляется. Далла Порта — профессор теоретической физики в университете Беркли, имеющий должность в NASA, близкий друг Ромена, считавшего его то гениальным, то полусумасшедшим. Он пытался совместить время и пространство, но по мере того как его исследования все более приближались к истокам и уникальности «большого взрыва», окончательно запутался…
…Хорошо, что Марго сидит пока в машине, она не сможет выдержать на ногах всю церемонию…
…Мириам, то есть Мэг, провела пять или шесть лет со Счастливчиком Лючиано. Она жила то во Франции, то в Соединенных Штатах. У них обоих была своя жизнь за пределами их совместного существования, но шесть-восемь раз в год она обязательно отправлялась сначала на «Иль-де-Франс», затем на «Нормандии» в Америку, чтобы повидаться с ним. Возможно, именно потому что они так часто расставались, они потом встречались с такой радостью. Эта пара была воплощенным образцом верности в неверности. Каждый давал другому то, чего тот не имел: полную свободу и нелегкие обязательства, немного парижского воздуха и авантюрный дух «коза ностра», беззаботность и могущество.
…Тогда в ночном кабаке Мэг сумела завоевать доверие Счастливчика Лючиано (она звала его настоящим именем — Сальваторе) и доверие Мейера Ланского — Мейера Суховлянского, родом из Белоруссии, а они мало кому доверяли. Они рассказали ей о том, что происходило в недрах американской мафии. Аль Капоне держал в руках весь Чикаго и синдикаты «teamsters» и «roofers» — грузовые перевозки и строительство. Счастливчик Лючиано царствовал над нью-йоркскими докерами.
— О! — говорила Мэг со стаканом виски в руке. — Вас, должно быть, немало. Сотни, наверное… или даже тысячи?
Лючиано и Лански со смехом переглянулись.
— Бывает по-разному… — ответил Мейер.
— И от чего это зависит? — спросила Мэг.
— От уровня… — ответил он.
Сами гангстеры — шесть семей, возглавляемых своими «capi», но со временем их количество возросло до двадцати четырех — составляли тысяч десять, а если брать широко — даже тысяч двадцать. Но те, кого они использовали, — наемные убийцы, пособники, исполнители, к которым можно было обратиться в случае необходимости хоть на другом конце страны, — перевалили за сто тысяч. А число тех, кого они держали под своим контролем, — чиновники, безымянные пешки, которые и сами не знали, что мафия манипулирует ими, — число этих доходило до миллиона.
— Вот здорово! — воскликнула Мэг. — И что вы никогда не попадаетесь?
Они рассмеялись еще веселее.
— Мадемуазель, — торжественно разъяснил ей Мейер, — усвойте, что Америка — это демократия и что решающую роль здесь играют деньги. А демократия и деньги всегда находят общий язык. Число тех людей, которых мы держим под контролем, достаточно велико, но еще больше число тех, кого мы покупаем. Каждый день мы покупаем журналистов, лидеров партий, судей, сенаторов, госсекретарей. К тому же, слава богу, в демократическом государстве юстиция не подчиняется властям, она независима, и это еще более облегчает нам дело… Единственно кто нам серьезно гадит — это несколько тысяч парней старика Эдгара Гувера. Он сует свой нос повсюду. Его молодчики из ФБР с маниакальным упорством прослушивают наши разговоры по телефону, которые мы ведем так доверчиво. По счастью, судьи относятся к этому совершенно иначе: они справедливо считают прослушивание телефонных разговоров покушением на права человека и индивидуальные свободы. Мы имеем адвокатов — прекрасных адвокатов. Мы, конечно, дорого оплачиваем их услуги, но они отрабатывают свои деньги с лихвой. Поскольку мы живем в демократическом обществе и имеем деньги, то битва между нами и репрессивными органами оказывается неравной: мы оказываемся намного сильнее этой своры, преследующей и облаивающей нас.
— И еще, — добавил Лючиано, — в демократическом обществе власть, настоящая власть, принадлежит тому, кто располагает информацией. Мы очень хорошо информированы. В своих банковских сейфах мы держим не только доллары. Мы там держим, например, фотографии про запас. Как ты думаешь, что можно увидеть на этих фотографиях?
— Ну, не знаю, — сказала Мэг. — Президента США, целующего Аву Гарднер?
— Не угадала, — объявил Лючиано. — Эдгара Гувера собственной персоной, но переодетого в женское платье и в чулках с подвязками.
— Ну и что из этого? — спросила Мэг.
— А то что в нашей стране такие дела дурно пахнут. Мы, конечно, демократия, здорово подпорченная деньгами, согласен, но при этом с пуританскими нравами. Надо как-то увязывать одно с другим. И мы неплохо с этим справляемся. Гувер знает, что мы знаем, и сидит тихо. И не только из самозащиты: он считает организованную преступность меньшей опасностью для установившегося порядка, который он призван защищать, чем коммунизм. Он рассказывает всем, кто согласен слушать, что мафия — это пустые басни, пугало, придуманное мэрами больших городов, чтобы было на кого свалить промахи в своей работе. Однажды он так и заявил журналистам: «В Америке нет мафии».
— А вообще, — вставил задумчиво Мейер Лански, успевший погрузиться в свои мысли, — при всех противоречиях и проблемах, у нас прекрасное будущее. Счастливчик — итальянец и сицилиец, а я — еврей из Белоруссии. Но прежде всего мы оба американцы. И мы гордимся этим. Всякий там фашизм, нацизм — это зловонные отходы системы, которая изживает себя. Американская же демократия распространится по всему миру. Ты моложе нас и еще застанешь это, малышка. То, что так устраивает нас здесь, постепенно установится повсюду…
— Демократия? — уточнила Мэг. — Права человека? Индивидуальные свободы? Деньги?
— И еще мафия, — добавил Лючиано, поднимая свой стакан…
…— Я чувствую себя уже вполне хорошо, — сказала Мэг. — Я хочу вернуться туда.
Она вышла из машины. Казотт, Далла Порта и она, а за ними мы с Беширом — все вместе мы присоединились к группе, окружавшей Ромена; еще ранее к ней присоединились Жерар и Ле Кименек. Люди в черном, которым помогали Марина и ее дочь, раздавали присутствующим розы, которые надлежало бросить в могилу. Меня охватила тоска, она пришла на смену меланхолии. Как?! Мы почтим тело Ромена лишь слезами и несколькими цветками и потом просто так вернемся домой?! Без единого слова, без пения?! Слова распирали меня. Мне казалось, наверное, самонадеянно, что я сумел бы рассказать о Ромене. Что я сумел бы объяснить, чем он был в нашей жизни, и выразить те чувства, которые он сумел пробудить в нас. И так хотелось бы спеть что-нибудь вокруг него. Мы часто пели вместе еще с тех памятных вечеров на Патмосе. Он сам любил петь и пел прекрасно. Мы могли бы спеть «Magnificat» или «Salve Regina», прочесть цитату из талмуда или суру из Корана, напеть «La Butte rouge», или «Le Temps des cerises», или одну из тех песенок моряков, которые трогали нас до слез даже в счастливые времена молодости. Сделать что-нибудь, что овеяло бы память о Ромене дыханием широких просторов и чьим-нибудь благословением. Хоть что-нибудь, что дало бы возможность чему-то неземному — возможно, самому имени Господа — возвысить нашу печаль…
Но он категорически отказался. Не хотел. Мы часто рассуждали с ним об этих вещах, исполненных света и при этом всегда остающихся для нас в тени. Однажды вечером, возможно, это было на Корсике или на острове Кекова, у турецкого побережья, который он очень любил, у стен византийского дворца, но точно на корабле, мне удалось поколебать его. Я передал Ромену высказывание одного раввина, которое меня поразило, оно поразило и его: «Важнее всего на свете все-таки Бог: есть Он или Его нет…»
— Вот оно как! — сказал тогда Ромен.
— Правда ведь? — поддел я его.
Мы долго молчали. Звезды, сиявшие над нами, сами собой располагали к тишине. И вообще, мне кажется, что лучшие наши с Роменом времена мы провели в молчании. Я припоминаю, что после долгой паузы я сказал:
— Возможно, самым гениальным в Божественном замысле было создание такого реального мира, который допускает сомнения в своей реальности.
Мы опять надолго замолчали. Через четверть часа Ромен обернулся ко мне:
— Ну, я пошел спать. Спокойной ночи.
Он направился к лестнице, ведущей к койкам. Затем вернулся ко мне и бросил:
— Ты меня так просто не возьмешь.
Он не был, однако, равнодушен к простому величию веры и к тому священному трепету, который испытывают верующие, хотя сам был далек от них перед религиозными обрядами, идущими из глубины времен. Я вспоминаю о нашем путешествии в Сирию: не так давно мы с ним посетили те места, в которых он провел несколько месяцев перед отправкой в СССР. В Дамаске мы посетили мечеть Омейадов и могилу Саладина; побывали в Пальмире… Затем из Алеппо мы отправились в Сен-Симеон — туда, где полвека назад он получил известие о смерти Молли. Мы обошли развалины базилики и залюбовались величественным куполом, увенчивающим одну из самых древних христианских абсид. Ромен был взволнован нахлынувшими на него воспоминаниями; он молча сидел на обломке поверженной колонны… Я удалился на несколько шагов и в тишине наблюдал, как солнце опускалось за холм.
Внезапно в эту тишину ворвалась шумная группа возбужденных итальянцев. Среди них было несколько девушек, и весь этот крикливый мирок бурлил, нарушая царившую здесь атмосферу и, казалось, не утруждал себя мыслями о потоках христианской крови, обагрившей некогда эти камни. Кто-то из мужчин достал мяч, и некоторые принялись играть в футбол на развалинах храма. Кое-кто даже пробовал сделать несколько танцевальных па. Многие растянулись на земле, отдыхая после проделанного пути. И все очень громко смеялись.
А затем произошло нечто удивительное. Итальянцы встали, достали из чемоданчиков одежды, похожие на туники, церковные ризы. Они надели их, молча собрались вокруг одного из них, седовласого человека, и… запели. Не сразу до нас с Роменом дошло, что все они — священники и пришли сюда, чтобы пропеть торжественную мессу у стен базилики, воздвигнутой в память Симеона Столпника. Они пели с таким воодушевлением и с такой благод арностью, что слезы навернулись нам на глаза. Это было потрясающее зрелище: руины храма, священный холм, забытый в стороне мяч, синее небо, женщины, коленопреклоненные в молитве, и вдохновенное пение «Sanctus» в тишине руин. Мы пели вместе с ними.
— Бывают моменты в жизни, — сказал мне тогда Ромен, — когда надо защищать свои Фермопилы.
Ромен любил музыку больше всего на свете. Он долгое время посещал все концерты Моцарта, которого очень высоко ценил и знал, кажется, всего. Он мог слушать его целый день у себя дома; он ездил в Зальцбург и Экс-ан-Прованс; он был знаком с уймой специалистов — многие из них сейчас присутствовали на кладбище — и даже спорил с ними. Именно отправляясь в Зальцбург из Цюриха или Милана, чтобы послушать «Женитьбу Фигаро» или «Cosi fan tutte», он и познакомился на дороге с Альбеном Цвингли. В последние годы жизни, впрочем, он проявил некоторую непоследовательность — увлекся Бахом и разве что не клялся его именем. Я несколько раз заставал его слушающим в наушниках кантаты № 19 и № 20 или «Кофейную кантату». Он говорил, что ему больше ничего не нужно для счастья и одного Баха достаточно, чтобы заменить все, что он любил в жизни. Я процитировал ему — с намеком — слова Сиорана: «Бог очень многим обязан Баху» — и он был восхищен.
Я воспользовался этим, чтобы «протолкнуть» свою идею:
— Ну, если Бах — кто-то вроде доверенного лица Господа, который вечно отсутствует, и если он может заменить собой все остальное в жизни… может быть, стоит сыграть что-нибудь из него в тот день, когда ты или я…
Ромен думал недолго:
— Нет, — отрезал он. — Это будет выглядеть позерством — тебе не кажется? Для себя во всяком случае я выбираю ничего.
Настаивать было бессмысленно. Он не раз говорил: ни цветов, ни музыки. Ни даже имени на могиле.
Я спрашиваю себя, не вызваны ли страницы, которые я пишу в память о Ромене, именно этим — отсутствием на его похоронах какого бы то ни было обряда, пения, литургического слова. Это воздаяние: тщеславие за тщеславие, пустяк за пустяк; вместо обязательных молитв — разрозненные воспоминания и вместо могильного памятника — надгробие в жанре романа. Он не хотел ничего, а я пишу о нем…
…В сентябре 1942-го Ромен с группой летчиков-истребителей «Нормандия» покидает Сирию и через Иран отправляется самолетом и поездом в СССР. Этот путь: из Райяка в Сирии до Баку, затем в Иваново, на северо-восток от Москвы, где они прошли стажировку на самолетах ЯК-7, и, наконец, в Калугу, на фронт, — занял добрых шесть месяцев. Командующий Пуликен передал свои полномочия командующему Тюласну. Когда Тюласн пропал без вести в воздушном сражении летом 1943-го, его сменил командующий Пуйяд. Первая победа была одержана в апреле 1943-го: немецкий самолет был сбит двумя французскими. Месяцем позже маршал Кейтель, возглавлявший «оберкоманду» вермахта, издал приказ: каждый французский летчик, попавший в плен к немцам на русском фронте, должен быть расстрелян. С приходом зимы подразделение «Нормандия», на счету которого уже было семьдесят два сбитых немецких самолета, — генерал Де Голль наградил его орденом Освобождения — эвакуируется под Тулу, на юго-запад от Москвы: это были всего шесть летчиков, оставшихся в живых.
В начале 1944 года подразделение было усилено 4-й эскадрильей. Его переформирование в полк и вхождение в состав 303-й советской воздушной дивизии знаменовало для них второй этап войны, и разворачивался он уже на территории Белоруссии. В ноябре 1944-го полк получает от Сталина в знак благодарности наименование «Нормандия-Неман». К концу третьего этапа военной кампании, который завершался уже на территории Германии, было налетано четыре тысячи часов и совершено около девяти сотен боевых вылетов. Более сорока летчиков из сотни погибли. Было сбито более двухсот пятидесяти немецких самолетов.
Ромен неохотно говорил об этих пяти годах, проведенных им в Сирии, в СССР и в Германии между своими семнадцатью и двадцатью двумя годами. Нужно было сильно его раззадорить, чтобы он произнес-таки это название — «Нормандия-Неман». А это было как-никак французское подразделение летчиков-истребителей, сражавшихся на русско-германском фронте в период между 1942 и 1945 годами, имевшее семь благодарностей от командования Советской Армии, награжденное орденами Красного Знамени и Александра Невского, награжденное орденом Почетного Легиона, военной медалью за отвагу и крестом Освобождения. Даже то немногое, что я знаю о «Нормандии-Неман», я узнал не от него. Я вынужден был рыться в книгах или расспрашивать его уцелевших боевых товарищей — Ролана де ла Пойпа и других. Когда я жадно расспрашивал его самого об этом отрезке великой исторической эпопеи, в которой и он участвовал, он только смеялся и отмалчивался. Если я настаивал, рискуя навлечь на себя его раздражение, он цедил сквозь зубы, что рассказывать особенно нечего, но что он был тогда очень счастлив.
Я спрашивал его, не проникся ли он коммунистическими взглядами, живя рядом с советскими людьми.
— Коммунистическими? Конечно, нет. Я полюбил русских: они были храбрыми и сражались за свою родину. Я даже не уверен, что они — во всяком случае те, что меня окружали, — были так уж привержены идеалам марксизма-ленинизма и коммунистического интернационала. Пожалуй, им было на них наплевать: они просто были русскими.
Я всегда знал, что Ромен далек от политических дебатов, которыми так увлекались французы. Не было ли это следствием его пребывания в Советском Союзе? Он был выходцем из консервативной среды, пропитанной идеями «Action francaise», крайне враждебно настроенной к коммунизму, и это должно было естественным образом привести его к Петэну и Виши. Но он встретил генерала Де Голля, стал «голлистом» и сражался на стороне Советов. На всю свою жизнь он сохранил верность Генералу в любых испытаниях, и всю свою жизнь он относился к политике как к двусмысленной и непоследовательной игре, где вчерашние враги превращаются в сегодняшних друзей, а затем опять — в завтрашних врагов и где никто не отвечает за последствия своего выбора.
— Математика, — любил он говорить, — это точная наука, в которой идет речь непонятно о чем и неизвестно, верны ли гипотезы, выдвигаемые ею. К политике приложимо то же определение с той лишь разницей, что она не является точной наукой.
И он приводил исторические примеры: Францию, старательно укреплявшую (и «доукреплявшую» на свою голову) Пруссию в противовес Австрии; или жителей Самарканда, которые жили в страхе перед китайским нашествием, но в один прекрасный день увидели возникших ниоткуда неизвестных завоевателей в белых одеждах: они нисколько не походили на китайцев из их кошмаров, потому что это были арабы…
Из всех французов «Нормандии-Неман» именно Ромен, наверное, сумел завязать наиболее прочные связи с русскими. Прежде всего, конечно, через женщин. Однажды я спросил его, как он устраивался целых четыре года, чтобы обходиться без женщин, — и это между его-то восемнадцатью и двадцатью двумя годами. На это он ответил:
— Есть два правила. Первое: без них можно просто обходиться. А как же монахи, моряки, солдаты, первооткрыватели? Они отлично себя чувствуют. И есть второе правило, которое самым естественным образом противоречит первому: красивые женщины есть везде.
В Туле такой красивой женщиной стала для него некая Тамара. Она была приписана к офицерской миссии и заменила лондонскую Молли. Это была украинка: очаровательная, немного полненькая, с высокими скулами и ямочками на щеках — тип милой хозяюшки. Ромен был очень красив. Он знал это и не придавал этому значения. Он просто пользовался этим. Он не собирался делать из своей жизни произведение искусства. Но он гениально умел превращать ее в самых трудных и, казалось бы, враждебных обстоятельствах в постоянный инструмент удовольствия. Таких людей часто ненавидят. Ромен и здесь выходил сухим из воды: раздражая многих других, для Тамары он был героем и творцом радости.
Проблема была только в том, что Тамара, знавшая немного немецкий, не говорила ни слова по-французски. А Ромен, для которого вторым языком стал английский, не знал ни слова по-русски. Но они вскоре нашли общий язык — язык улыбок и жестов. День за днем, долгими зимними вечерами, когда вылеты были невозможны, Ромен учил Тамару французскому, а Тамара учила его русскому. Это была «языковая любовь»…
…Тамара бежала из Украины, оккупированной немцами. Как только они с Роменом смогли обменяться несколькими словами, она рассказала ему то, о чем молчала уже более двух лет и о чем могла рассказать только ему, потому что он не был русским. Украинцы с трудом выносили тяжкое иго Москвы. Поэтому они встретили приход вермахта без особой враждебности; вообще чувства людей были самыми разными: от равнодушия до облегчения, вплоть до энтузиазма. Немцы сами были удивлены таким приемом; этим же объяснялась и быстрота их продвижения по территории Украины. Через несколько месяцев из-за жестокости оккупантов положение резко изменилось. Например, в Белоруссии, с ее населением в каких-нибудь десять миллионов, было уничтожено более миллиона: сначала гибли евреи, потом — партизаны. Около миллиона домов было разрушено. В Украине насчитывалось около пятидесяти миллионов жителей; там была создана украинская дивизия «Waffen-SS»; несколько тысяч человек из национальной армии вошло в состав вермахта, а повстанческая армия сражалась одновременно и против немцев, и против советских партизан; здесь погибло шесть-восемь миллионов человек. Около двух миллионов было вывезено в Германию на принудительные работы. Однажды, будучи расположенным к откровенности, Ромен рассказал мне, как Тамара, горя нетерпением поделиться своим горем с французским другом, еще плохо говорившим по-русски, чертила пальцем эти цифры погибших на снегу, увенчивая их крестом. И, глядя на ошеломленное лицо француза, улыбалась сквозь слезы…
Ромен был связан не только с женщинами. У него было много друзей чуть ли не во всех эшелонах советской армии. Русские приняли его как своего, и это именно они, летчики и механики, и даже сам командующий, который просто-таки видел в мечтах Париж, научили его летать на ЯК-3, на ЯК-9. В конце 1944 года, в начале наступления в Пруссии, французы «Нормандии-Неман» за один день сбили более двадцати немецких самолетов; на личном счету Ромена было два из них. Это событие было отмечено огромным количеством водки. Там присутствовали все, и Тамара тоже. Некоторые русские принялись пить даже одеколон, который им преподнесли французы. Ромен умел пить, когда это было нужно. Многие, французы и русские, уже валялись под столом, а Ромен с советским полковником, который на следующий день должен был встретиться с маршалом Жуковым, стойко продолжали обмениваться тостами за здравие Франции, России, маршала Сталина, генерала Де Голля и за собственное здоровье…
Через несколько месяцев в Германии, над равниной, где у кромки леса шло танковое сражение, Ромен снова сбил подряд два вражеских самолета, а затем сам получил пулеметную очередь. Мотор загорелся, и его самолет резко пошел к земле. В последний момент он выпрыгнул. Самолет взорвался в некотором отдалении от него. Рывок, спуск. На земле он ощупал себя — ни единой раны, если не считать пореза на левой руке, из которого текла струйка крови. Он наспех перебинтовал руку и еще не успел сложить свой парашют, как услышал сзади тарахтение. Он настороженно оглянулся: это был советский танк, проходивший рядом. Из его открытого люка выпало безжизненное тело. Ромен неподвижно стоял и смотрел не понимая, еще не отдышавшись после падения, и тут водитель танка резким жестом приказал ему залезть внутрь. Он подчинился и уже там внутри быстро сообразил, чего тот от него хотел. Заменив убитого стрелка, он открыл стрельбу по немецким танкам и подбил-таки один…
Когда сражение закончилось отходом противника, Ромен снял шлем и крикнул русскому, который взял его в свой танк:
— Franzouski!
И водитель показал ему большой палец.
Через некоторое время танковое подразделение вошло в какой-то большой город — полуразрушенный, но в нем царило оживление и веселая суматоха. Благодаря урокам Тамары, Ромен сумел быстро разобраться, где он очутился: в расположении штаб-квартиры VIII Гвардейской дивизии.
Там к Ромену бросился полковник, крепко обнял его и расцеловал. Это оказался тот самый советский полковник, с которым они несколько месяцев назад так лихо пили водку. Полковник потянул Ромена за раненую руку, исторгнув из него крик боли, протащил его через группу офицеров высокого ранга, о чем-то споривших, и втолкнул в кабинет, где за столом, покрытым картами, сидел человек. Ромен сразу узнал его, хотя раньше никогда не видел: это был маршал Жуков, командовавший всеми силами Первого Белорусского фронта.
Когда Ромен вошел, маршал, очевидно предупрежденный о прибытии бравого летчика, поднялся и пошел ему навстречу. Среднего роста, плотный, с серо-голубыми глазами, он какое-то мгновение рассматривал француза с кровоточащей левой рукой, а тот приветствовал его. Затем маршал раскрыл объятия и по русскому обычаю расцеловал Ромена. Затем, отойдя, он произнес по-русски несколько слов, которых Ромен не понял, снял орден со своей груди — это был орден Отечественной войны первой степени — и прикрепил его на летную куртку Ромена, который вдруг ощутил себя совершенно изнуренным, на грани обморока, но продолжал стоять навытяжку.
Маршал вернулся к столу, сел за него и спросил Ромена, понимает ли он по-русски.
— Da russki ni poni mai, — выговорил Ромен с чудовищным акцентом.
Маршал улыбнулся и заговорил по-французски. Он сказал Ромену, что знает о том вкладе, который внесли французы «Нормандии-Неман» и лично Ромен, в ход Великой Отечественной войны, которая теперь вступила в свою заключительную фазу. Маршал поздравил его с боевыми успехами и с наградой, а затем спросил, какой чин он имеет во французской армии.
— Лейтенант, господин маршал, — ответил Ромен, все так же стоя навытяжку.
Жуков повернулся к адъютанту, стоявшему позади него, и опять сказал пару фраз по-русски — их Ромен понял не лучше, чем те первые. Затем маршал наклонился вперед, упираясь кулаками в стол, и перешел на французский:
— Почему маршал Фош, возглавлявший французскую армию, не вошел в Берлин в 1918 году? — бросил он внезапно Ромену. — Я задал этот вопрос его внуку. Теперь я этот вопрос задаю вам, поскольку вы тоже француз.
Ромен расширил глаза от удивления и слегка развел руками в знак своей неосведомленности.
— А я пойду на Берлин, — заявил Жуков.
— Да, господин маршал.
— Мы пойдем на Берлин вместе, — сказал маршал, встав из-за стола, и увесисто хлопнул своего французского собеседника по плечу, к счастью, правому.
— Да, господин маршал, — повторил Ромен.
— А затем, — продолжал Жуков, — я дойду до Бреста.
Ромен сразу не понял, о чем идет речь. На мгновение он решил, что маршал говорит о Брест-Литовске, но тот уже остался далеко позади. Жуков заметил непонимание во взгляде Ромена.
— До Бреста, который в Бретани, — воскликнул он, ударяя по столу.
Несколько мгновений изумленный Ромен молчал. Затем все поплыло вокруг него. Все так же сохраняя военную выправку, он ответил:
— Но это так далеко, господин маршал.
Жуков рассмеялся. И тут Ромен, окончательно обессилевший, потерял сознание…
…Траурные розы были розданы… Рыдания сотрясали Марину: она прятала в ладонях свое искаженное горем лицо. Крупные слезы текли по поблекшим и сильно наштукатуренным щекам Марго ван Гулип…
…Катастрофа для мафии предстала в образе будущего кандидата в президенты от республиканской партии, который в свое время будет обойден сначала Рузвельтом, а потом — Трумэном: это был Томас Дьюи. Это был человек с короткими жесткими усиками, аккуратно причесанными волосами и ярко выраженным отвращением к гангстерам и их ботинкам с заостренными носами. Когда он был назначен прокурором по делам организованной преступности — это было сделано для успокоения избирателей, которые начинали думать, что уже вся страна находится в руках гангстеров, — завеса секретности над мафией наконец поднялась. Счастливчик Лючиано в это время в начале 1936 года жил под именем «мистер Росс» в «Waldorf Astoria», комната 39 D. Там он принимал Мэг — как и многих прочих, — когда она приезжала в Нью-Йорк навестить его.
Вместе со своим приятелем Мейером Лански (который старательно держал свои миллионы долларов в глухой тайне без единого проблеска) Счастливчик Лючиано был тогда одним из самых могущественных людей в Америке. Но еще и одним из самых ярких. Он не только контролировал все доки Нью-Йорка, он был еще одним из «королей ночи». Каждый вечер его видели в самых модных злачных местах в сопровождении женщин — одна зрелищнее другой. Самой красивой была Мэг.
Многие гангстеры как, например, Аль Капоне в Чикаго, были взяты за налоговые махинации. Что же касается Лючиано — этого Дьюи решил взять на проституции. Прокурор расположил свои апартаменты в башне «Вульворт билдинга». В один прекрасный зимний вечер, в результате повальной облавы в «теплых местечках», у него оказались там сотни девиц, владельцев баров и сутенеров с их подопечными. В течение долгих часов Дьюи допрашивал их по одному одного за другим. В признаниях измученных проституток постоянно звучало одно и то же имя некоего мистера Росса, обитавшего в «Waldorf Astoria». Дьюи, у которого уже были определенные догадки на этот счет, без труда отождествил этого «мистера Росса» со Счастливчиком Лючиано. Когда люди из ФБР явились арестовывать его в «Waldorf Astoria», он был там с Мэг.
— Кто эта женщина? — спросил у него шпик.
— Она не имеет ко мне отношения. Это жена Малоне. Она просто занимается нашими делами.
— Мы ее забираем, — сказал шпик.
Малоне, итальянский эмигрант, был адвокатом мафии и лично Счастливчика Лючиано. Этот жирноватый холостяк являл собой довольно темную личность: был на содержании и у полиции, и у мафии. Мэг грозило быть обвиненной в пособничестве сутенерству и она, ни разу в жизни не видевшая Малоне, на следующий же день вышла за него замуж: свадьба происходила в Лас-Вегасе. Ее оставили в покое.
Судебный процесс над Счастливчиком Лючиано длился три недели: он был на подозрении — и был оправдан — по делам о кражах, шантаже, контрабанде, торговле наркотиками, рэкете и убийствах, но зато осужден за сводничество: федеральный прокурор старательно подготовил для этого сто пятьдесят восемь свидетелей обвинения; в результате Лючиано был осужден на два срока: на тридцать и пятьдесят лет тюремного заключения.
— Эти сроки вместе взятые означают целую вечность, — говорил он Мэг. — Не многовато ли за преступление, которое не имеет никакого отношения к тому, чем я на самом деле занимался?
Миссис Малоне, насколько мне известно, не провела и дня под одной крышей с мистером Малоне, но зато проявила исключительную преданность клиенту своего «мужа». Она была самой заботливой ассистенткой у всего того батальона адвокатов, который был нанят и брошен Мейером Лански на спасение обвиняемого. Она навещала его в тюрьме, приносила ему его почту и любимые блюда, поддерживала его дух и передавала ему все слухи, ходившие в обществе на его счет.
Счастливчик Лючиано и Мейер Лански питали нежную привязанность к демократии и к стране, которая их приютила и законы которой они так успешно извращали, и потому они были враждебно настроены к фашизму и нацизму. Лючиано ненавидел Муссолини, потому что он сам и ему подобные были изгнаны им из Сицилии. Будучи другом еврея Мейера Лански, он естественным образом должен был ненавидеть нацистов. Оба они — один в тюрьме, другой в своих тайных логовах — с беспокойством следили за событиями, развертывавшимися в Европе.
В феврале 1942 года, через два месяца после Перл-Харбора и вступления в войну Соединенных Штатов, пакебот «Нормандия» (на котором Мэг неоднократно путешествовала и познала немало приключений), реквизированный в пользу американской армии и превращенный в транспорт для перевозки войск, загорелся у причала на реке Гудзон. К тому времени немецкие субмарины уже затопили добрую сотню торговых судов в Атлантике. Американские спецслужбы обеспокоились: не было ли это связано с саботажем — и предприняли расследование. Для этого им пришлось войти в контакт с некоторыми влиятельными докерами, которые в большинстве своем были итальянцами. Все полученные сведения вели к Мейеру Лански. Он же, когда с ним проконсультировались, заявил, что знает только одного человека, который мог бы помочь разобраться в ситуации: это Счастливчик Лючиано, но он, к прискорбию, находится в тюрьме.
Люди из ФБР, всегда хорошо информированные, обратились к мистеру Малоне, но прежде — к миссис Малоне. Она согласилась помочь, но поставила определенные условия. Они все были приняты по личному указанию президента Рузвельта, который придавал гораздо большее значение ходу войны, нежели гангстерским делам. Счастливчик Лючиано был помещен в более комфортабельную камеру и получил «режим благоприятствования». Он мог свободно общаться со своим адвокатом и женой своего адвоката: им было позволено — одному и другой, вместе или по отдельности — проводить ночь в его камере. Очаровательная мадам Малоне разрывалась между посещениями тюрьмы и визитами к членам правительства, то есть была посредником между гангстерами и официальными лицами. Она передавала важные послания в обоих направлениях. В Нью-Йорке, в Майами и в Голливуде, где снимались в это время шедевры, обличающие фашистскую диктатуру, ее неоднократно видели в кампании госсекретаря Самнера Уэллеса или «звезды» кинематографа Кэри Гранта.
Когда Черчилль и Рузвельт встретились в Касабланке в январе 1943 года, чтобы обсудить ход войны и высадку в Сицилии, в это время Сталинградская битва уже шла к победному концу, Мэг была в составе американской делегации в качестве личного помощника госсекретаря. В конце официального обеда она была представлена премьер-министру Ее королевского величества, и он не остался равнодушным к ее чарам. Генерал Де Голль тоже присутствовал там, так же как и Жиро. На вопрос одного из своих сотрудников, как он относится к этой особе — любовнице известного гангстера и одновременно жене продажного адвоката, — генерал ответил:
— Пути Провидения неисповедимы, и мадам Малоне вносит в общее дело свой оригинальный вклад, причем не без чисто французского шарма, с чем я ее и поздравляю.
Лючиано, в обмен на любезность властей, при посредничестве Мэг и Мейера Лански передавал приказы всем «capi» докеров. И вскоре, выйдя из добровольного заточения в своем полуподполье, Мейер Лански, охраняемый для пущей безопасности своим адвокатом мистером Малоне и его женой, смог предстать в известном здании на Манхеттене (которое находится под высоким покровительством Church Street) перед шефами секретной службы Морского министерства — этими американскими джеймс-бондами. Он заявил им:
— Я могу твердо обещать вам: в порту Нью-Йорка больше не появятся нацистские агенты, и немецкие субмарины не проскользнут туда ни под каким видом.
После войны, подкрепленный состоянием в несколько миллиардов долларов, неоднократно обвиненный в финансовых махинациях и неизменно оправданный, Мейер Лански попытается найти пристанище в Израиле, но будет изгнан оттуда Голдой Мейер, которая произнесет свои знаменитые слова: «В Израиле мафии не будет!» Он проживет оставшуюся жизнь во Флориде, купаясь в долларах и начисто забыв о прошлом, в образе самого обычного мелкого буржуа, прогуливая по вечерам собачку в своем квартале в компании вдов нефтяников или бывших актрис, подцепленных анонимно. Его прикончит в 1983 году сердечный приступ в Майами, ему будет восемьдесят один год. Он осуществил-таки золотую мечту любого гангстера высокого полета: умер от старости. Марго ван Гулип присутствовала на его похоронах…
Когда американский генштаб утвердил план захвата Сицилии, только два посторонних человека были посвящены в тайну — один был Счастливчик Лючиано, а другая — мадам Малоне, но не ее муж-адвокат.
— Дорогая Мэг, — сказал ей генерал Эйзенхауэр, — я рассчитываю на ваше абсолютное молчание, даже в ваших разговорах с мужем.
— Дорогой Дуайт, — ответила Мэг, — мой муж вообще не в счет. Вряд ли мы с ним обмениваемся десятком слов в неделю. Но, говоря серьезно, я обещаю вам ничего никому не говорить, даже моему любовнику.
— А, это необязательно, — сказал генерал небрежно, — он уже в курсе…
— Я говорю уже о другом, — уточнила Мэг.
Из своей тюрьмы, которая стала уже для него почти местом отдыха, Счастливчик Лючиано развил бурную деятельность. Как Симеон Столпник с высоты своего столпа, он рассылал послания всем сколько-нибудь значительным лицам. Он направлял своих друзей в самые отдаленные деревни Сицилии. Он рисовал разведывательным службам армии детальные карты острова и просил своих там, на Сицилии, оказать должный прием американским войскам и указать им путь по сицилийским лабиринтам. Он потрясал, что называется, небом и землей, но наконец сумел временно выйти на свободу, и уже там, на месте, выполнял роль консультанта во время операции высадки на остров. Он посылал Мэг ходатайствовать за него к генералу Кларку, Маршаллу, Паттону, затем снова — к Эйзенхауэру и самому Самнеру Уэллесу. Тщетно, его не освободили окончательно. Но отказ правительства не обескуражил его. В обмен на обещание общей амнистии (и оно было строго выполнено) он передал секретным службам подробную схему мафиозной организации на Сицилии — сотни семей и тысячи «филиалов», — то есть выдал им грандиозную преступную организацию, не уступавшую той, которой он вместе с Мейером Лански долго руководил сам в Соединенных Штатах.
Через год после окончательной победы, уже в 1946 году, просьба об освобождении, представленная Мэг Малоне от имени Лючиано, была принята к рассмотрению и завизирована Томасом Дьюи. Счастливчик Лючиано был освобожден под честное слово и выселен в Италию, где прожил богатейшим «пенсионером» с таким жизненным опытом, которого хватило бы на сюжет сногсшибательного романа; через пятнадцать или двадцать лет он, как и его приятель Мейер Лански, умер от сердечного приступа. Расставание экс-миссис Малоне со Счастливчиком Лючиано (к этому времени она уже была разведена со своим мужем) произошло тогда, когда бывший патрон нью-йоркских докеров был еще в тюрьме. Все произошло очень просто и без малейшей аффектации с обеих сторон. И вот через несколько лет бывший муж Мэг, адвокат мафии, мирно сидел с пеной на лице в кресле своего парикмахера, брившего его, и вдруг увидел перед собой в зеркале двух типов в шляпах, одетых в черное и с револьверами в руках. Он не успел и глазом моргнуть, как они открыли огонь и прикончили его на месте. Так Мэг стала вдовой, но ей было на это плевать…
…Четыре человека наклонились и подняли гроб, затем поставили его себе на плечи. Толпа раздалась. Все пятеро — четыре похоронных работника и покойник — медленно двигались вдоль «живой изгороди» слез, которая сама собой вырастала по ходу погребального кортежа. Все молчали. Никто ни на кого не смотрел. Раздавленная печалью, толпа вибрировала на тонкой грани между ощущением абсурда и прозрением вечной тайны. Послышался всхлип, будто скулил зверек, попавший в ловушку. Это плакал Бешир…
…Церемония проходила просто и весело. Шарм Ромена сработал в очередной раз: маршал Жуков взял себе в сопровождающие этого француза, одержавшего двенадцать побед в воздухе. С разрешения командующего Пуйада, который ценил добрые отношения между французами и русскими, он взял его к себе в штаб Первого Белорусского фронта. Ранним весенним утром, уже на германской территории, сразу после форсирования Одера перед объединенными войсками был воздвигнут красный флаг. Были речи и вручение наград: орденов Красного Знамени, Красной звезды, ордена Отечественной войны 2-й степени, орденов Суворова и Александра Невского. Церемония несколько затянулась, когда Ромен, смешавшийся с группой советских офицеров, увидел маршала Жукова, его появление было встречено присутствующими русскими настоящей овацией. Маршал потребовал тишины, произнес несколько слов и вручил собственноручно около десяти крестов — орденов Отечественной войны 1-й степени. Затем он склонился к своему адъютанту, сделал знак рукой — и рядом с красным флагом взвился на шесте французский флаг.
— Можешь мне не верить, — сказал мне Ромен в тот единственный раз, когда он заговорил об этом событии, — но для меня это было потрясением.
Он был потрясен еще более, когда увидел перед собой группу своих французских товарищей, среди них были Марсель Альбер, граф Ролан де ла Пуап, Жак Андре, Марсель Лефевр, которые уже получили высокие советские награды. И еще неожиданность: в толпе новоприбывших он увидел сияющее лицо Тамары.
— У меня стоял ком в горле, — признался он.
Маршал зачитал приказ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении Ромену звания Героя Советского Союза. Раздались аплодисменты. Ромен подошел к Жукову, и тот его расцеловал.
— Я тогда здорово разволновался, — признался мне Ромен.
И уже полной неожиданностью стало для него слово, произнесенное перед его фамилией, — это было звание «podpolkovnik». Это что-то вроде лейтенанта-полковника. Этот произвольный дар — следствие своевольной личной симпатии Жукова — через несколько лет во Франции имел не очень приятные последствия: Ромену пришлось пройти через особую процедуру, это было нечто среднее между военным судом и дисциплинарной комиссией. Надо было определиться с экстраординарным статусом лейтенанта элитной авиации в чине лейтенанта-полковника, присвоенного в иностранной армии. Комиссия приняла двоякое решение: учитывая его заслуги, с одной стороны, и ставя ему на вид, что граничило с предупреждением, с другой стороны, назначить его командиром…
Больше всего тронуло Ромена то, что новичок-«podpolkovnik» был уполномочен маршалом вручить несколько наград советским военным. Француз, вручающий на советско-германском фронте советские медали русским, согласитесь, это зрелище не рядового порядка. Что-то сжалось в груди Ромена, когда перед ним предстал обладатель последней гимнастерки, на которую он должен был прикрепить медаль, — это была Тамара. Под гром аплодисментов он поцеловал ее в губы.
Через две недели Ромен, как Герой Советского Союза, был приглашен посетить Москву. Переезд, гостиница, рестораны — все было оплачено. Снег уже таял. На Москве-реке ломался лед. Ромен провел в Москве несколько восхитительных дней в компании с Тамарой: она попросила отпуск и получила его. Держась за руки, они посетили Кремль, соборы Успенский, Благовещенский, архангела Михаила, а также Красную площадь, собор Василия Блаженного, мавзолей Ленина. Прошлись вдоль реки, побывали на Новодевичьем кладбище. Посетили Загорск и его монастыри, Тамару они взволновали до слез и даже повергли в священный трепет. Чтобы успокоить ее, Ромен долго держал ее в своих объятиях.
Через день они решили провести вечер в Большом. На афише стояло: балет «Ромео и Джульетта» на музыку Прокофьева. Когда они подошли к окошку кассы, им объявили, что все места проданы и зал полон. Тамара выступила «парламентером» Ромена перед билетершами. Они пригласили контролера, а тот — директора. Директор оказался седовласым старым человеком и утонченно вежливым. Он коротко переговорил с Тамарой и пригласил молодых людей следовать за ним. Оставив их за кулисами, он вышел на сцену перед занавесом и обратился к публике.
— Товарищи, — сказал он, — Администрация Большого благодарит вас за то, что вы сегодня пришли к нам, и за вашу преданность нашему театру. Я надеюсь, что вы оцените по достоинству сегодняшний спектакль. Я буду краток: у меня есть сообщение и просьба к вам. Сообщение: сегодня среди нас находится французский летчик, который сражается на фронте вместе с нашими воинами и который за свое мужество удостоен звания Героя Советского Союза. И просьба: поскольку зал полон, свободных мест нет, не согласятся ли двое из вас уступить свои места герою и его советской подруге? Двое зрителей, которые окажут такую любезность, получат приглашение на любой спектакль по своему выбору. Спасибо.
И он поклонился. Полная тишина установилась под сводами Большого. А затем в едином порыве весь зал встал…
…Четыре человека наклонились, взяли веревки, лежавшие на земле, и закрепили на них гроб…
…Ромен вошел в Берлин с основными силами маршала Жукова 1 мая 1945 года. Его экипировка выглядела совершенно фантастически: на ногах — американские ботинки (их отдал ему американский офицер, прибывший из Торгау, что на Эльбе, где произошло соединение русских с американцами); штаны остались еще от французской летной формы; фуражка и куртка были советские со знаками «podpolkovnik», с орденом Красного Знамени и Звездой Героя Отечественной войны первой степени.
Перед Бранденбургскими воротами он остановился, взглянул на небо, оглянулся на руины вокруг и вздохнул с облегчением:
— Вот я и в Берлине, — сказал он себе. — Война окончена, и мы ее выиграли.
Ощущение счастья охватило его. Но была и горечь. Ромен не любил войну. Он воевал, потому что так было надо. Но он не любил ее, он воевал против людей, которые любили войну и были ответственны за ту катастрофу, в которую ввергли свою страну и многие другие страны. В этот день пьянящего счастья, когда он наконец дошел до конца войны, и еще миллионы людей вместе с ним, он вспоминал об ужасах в Украине и Белоруссии, о которых рассказывала ему Тамара, о которых он слышал от других или свидетелем которых был сам. Это были неслыханные страдания, гимн смерти, которому, казалось, не будет конца. Начиная с Молли и кончая Тюласном, пять долгих лет он видел рядом с собой искалеченные и безжизненные тела. Его молодость прошла среди слез и трупов. Он вступил в войну почти неосознанно и весело, потому что сам был веселым и ненавидел все тягостное: он всегда был врагом велеречия и погребальной напыщенности. Но жизнь оказалась невеселой, и мир мрачным. Он был потрясен тем, что сумели сделать со своим большим миром такие маленькие люди…
Ужасы жестокости были везде и с обеих сторон. Несколькими днями ранее советские офицеры предложили Ромену пойти с ними на охоту. Он принял их предложение и испытал странное чувство: в Померании теперь можно было ходить без опаски, с ружьем под мышкой, совершенно беззаботно; живые цели, по которым они стреляли, не могли выстрелить в ответ. По пути охотникам встретилась удивительная процессия: верблюды, нагруженные оружием и амуницией; погонщики были татары или монголы откуда-то из Центральной Азии, из мусульманских республик в сандалиях на босу ногу. Верблюды на равнинах Польши и Германии! Ромену пришли на ум слоны Ганнибала в Альпах. В конце дня охотники оказались у какого-то большого красивого поместья и спокойно зашли туда, как к себе домой. Перед крыльцом они увидели пять мертвых тел, лежащих в ряд и прикрытых простыней: хозяйка поместья и ее четыре дочери — из старинной прусской военной аристократии — покончили жизнь самоубийством перед приходом советских войск. Старый садовник, весь в слезах, должен был опустить эти пять трупов в могилы, заранее вырытые по приказу хозяйки; этот старик помнил — еще в прошлом веке — императора Вильгельма II и его знаменитого министра Отто фон Бисмарка, и вот теперь всему этому миру приходил конец…
Было много случаев изнасилования фабричных работниц, торговок, работниц ферм. Ромен не раз наблюдал сцены грабежа и насилия, которые можно было счесть местью русских за все те преступления, что совершались немцами в Белоруссии и Украине. Эти злоупотребления с советской стороны продолжались обычно два-три дня, а затем элитные подразделения восстанавливали порядок.
Иногда трагедия войны обретала черты комедии. В апреле 1945-го, после перехода через Одер, Ромену встретился советский военный врач, уцелевший после Сталинграда; он только что получил письмо от своей жены. Бедняга был в полной растерянности, и Ромен утешал его как мог: жена была уверена, что он погиб в декабре 1942-го, и теперь сообщала ему, что у нее уже трое детей, из которых только старший от него…
Но над всеми бедами и жестокостями войны, более или менее обычными во все времена и у всех народов, — монгольское нашествие, тридцатилетняя война или война в Вандее тоже ведь не были увеселительными прогулками — уже поднималась тень грандиозного бедствия, которое еще тогда не было названо «холокостом»: его чудовищный размах и механизмы еще полностью не определились и станут известны позднее. Летом 1944-го Ромен с группой советских офицеров побывал в Треблинке — это километрах в шестидесяти к северо-востоку от Варшавы, куда только что пришли советские войска. А до этого, в последние дни апреля, ему довелось разговаривать с американским офицером, тем, что отдал ему свои ботинки, так что названия «Аушвиц» («Бжезинка»), «Бухенвальд», «Дахау» уже были ему известны. И накануне падения столицы Рейха, который должен был простоять тысячу лет, он имел возможность поговорить с женщинами и детьми, которых русские освободили из Равенсбрука…
— Я ведь тоже еврей, — говорил себе Ромен, сжимая кулаки. — Моя мать была еврейкой. Значит, я тоже еврей…
Пройдя через пять лет войны, он поражался тому легкомыслию, с которым тогда в Марселе, пять лет тому назад, разыграл в жребий свою жизнь. Понадобилось много времени и испытаний, пусть даже он переносил их с легкостью, если это были только его собственные испытания, которых он никогда не боялся, чтобы понять, насколько правильным оказался его выбор. Расстреливать заложников или партизан — это еще как-то вписывалось, на худой конец, в жестокие законы войны, если их можно вообще назвать законами. Но расстреливать евреев за то, что они евреи, — такое искупить нельзя было ничем.
— Все забывается, — сказал тогда Ромен американскому офицеру, прибывшему из Торгау. — И войны забываются. Но страдания евреев останутся навсегда укором миру.
Ромен был счастлив от того, что лагерь победителей, к которому он принадлежал, был в то же время лагерем правды, справедливости и добра, которое победило зло. Он обожал Рузвельта и особенно Черчилля: он один, покинутый всеми, обреченный на смерть, запертый на острове, как в тюрьме, бросил вызов Гитлеру. Он почитал Де Голля, который наперекор всему спас честь Франции в глазах всего мира. И он уважал Сталина.
Уже через много лет Ромен рассказал мне, как поразило его уничтожение двадцати тысяч пленных польских офицеров в Катыни:
— Это стало для меня еще одним доказательством дикарства немцев, хотя доказательств больше и не требовалось. Солдаты, способные на такое преступление, способны на все. А потом…
Он замолчал и махнул рукой.
— Что потом? — полюбопытствовал я.
— А потом стала просачиваться правда. Ее старались скрыть, но она в конце концов вырвалась наружу. В Катыни убийцами не были немцы — это были русские… Для меня катынское дело стало драмой дважды — трагедией с двойной отдачей, открытием наоборот. До этого я с каждым днем все больше узнавал о зверствах нацистов. Я жил среди русских, их храбрость поражала меня. Я полюбил их. Я не был коммунистом, но был расположен признать за Сталиным немало достоинств. Я ничего не знал о советских концлагерях и миллионах жертв его режима. Когда русские рассказывали мне о Катыни, я разделял их чувства. Только гораздо позже я узнал, что есть сомнения по поводу виновных в этом массовом убийстве. Честно говоря, я сразу не поверил, что русские могут быть повинны в нем. Только когда они сами восстановили правду и признались в своем преступлении, только тогда поверил и я. Для меня это стало страшным ударом. Я другим взглядом посмотрел на век, в котором живу. Мой лагерь — лагерь правды — тоже оказался способным на все. Я спрашивал себя: не является ли Трумэн, бросивший атомную бомбу на Хиросиму и Нагасаки, тоже преступником против всего человечества? Просто ему повезло стать победителем и опередить своих чудовищных противников, которые, если бы могли, сделали бы то же самое — и еще хуже…
Он засмеялся и хлопнул меня по плечу:
— Я становлюсь помпезным. Рассказываю о своей войне и о своих душевных метаниях. Не будем больше об этом. Ты же знаешь: я ни во что не верю. Ни в Бога, ни в Сталина. Впрочем, Сталин — и мне стыдно за это — продержался у меня дольше…
…Но тогда, перед Бранденбургскими воротами, Сталин еще держался крепко. И даже крепче чем когда-либо. Он победил самую мощную военную машину всех времен. Его победная тень простиралась над всем миром. Народы мира курили ему фимиам. Великие умы льстили ему. Красные флаги с серпом и молотом развевались повсюду. Советская армия, которая оставила на полях сражений более восьми миллионов убитых, располагалась теперь в оккупированном Берлине. Через сто лет после «Манифеста коммунистической партии», через двадцать пять лет после убийства Карла Либкнехта и Розы Люксембург, в результате победы Сталина над Гитлером (хотя тот напал первым двумя сотнями дивизий, шестью тысячами танков, тремя тысячами самолетов, и не сразу был превзойден количественно) — в результате коммунизм устанавливался в самом сердце Европы, и, как многие думали, — навсегда…
Ромен въехал в разрушенный Берлин на командирской машине, которая беспрерывно ломалась, — водитель Евгений то и дело чинил ее с помощью обрывков веревки. Русские выиграли эту войну на транспорте, который по большей части не работал, но они как-то умудрялись приводить его в движение. В каких-нибудь ста метрах от Бранденбургских ворот машина стала как вкопанная. Дальше Ромен двинулся пешком. Пушечная пальба уже стихла. Время от времени были слышны только отдельные автоматные очереди — это стрелки-одиночки на крышах дорого продавали свою жизнь. Ему попалась на глаза группа советских солдат, толкавших немца в разорванном мундире.
— Что происходит? — спросил Ромен по-русски.
— Ничего, — ответил сержант. — Мы его расстреливаем.
Ромен посмотрел на немца. Он был невысокий, темноволосый, со славной физиономией. Даже под восьмидневной щетиной можно было разглядеть, что ему всего лет тридцать, или чуть больше. Он сам прислонился к обломку стены и спокойно ждал приказа стрелять и последнего залпа.
— У него было ружье, и он пустил его в ход.
И сержант потряс осадным ружьем, которое он отобрал у немца.
— Ну что ж, — сказал Ромен, — еще один пленный.
— Ба! — воскликнул сержант. — Их и так слишком много. Проще расстрелять его.
— Нет! — возразил Ромен. — Пленных не расстреливают.
Сержант засмеялся:
— Если его не расстрелять — так что с ним делать? Не таскать же его за собой весь день!
— Я заберу его, — сказал Ромен.
Слегка поколебавшись, сержант как бы с сожалением взглянул на полковничьи знаки отличия Ромена и наконец уступил:
— Как прикажешь, «tovaritch podpolkovnik».
Опустив злополучное осадное ружье, он махнул рукой — и его солдаты убрали ружья на плечо.
Достав наган, Ромен сделал знак своему пленнику следовать за ним. Как раз в этот момент его машина, чудом приведенная в ходовое состояние Евгением, выезжала из развалин, которые прежде были Унтер-дер-Линден. Вдвоем они забрались в машину. Ромен положил наган в кобуру.
— Спасибо, — сказал по-французски пленный; он был в полном изнеможении.
Ромен искоса посмотрел на него, держа руку у кобуры, которую еще не успел закрыть.
— Так ты не немец? — спросил он.
— Нет.
— Француз?
— Нет.
— Не эльзасец?
— Нет.
— Я так и думал, — сказал Ромен. — Ты не похож. Но кто тогда?
Человек пожал плечами. Он явно не хотел говорить.
— Итальянец? — настойчиво добивался Ромен. — Испанец?
— Нет.
— Тогда… калмык, киргиз, чеченец? Мусульманин?.. Араб, вероятно?
— Можно сказать и так.
— Из армии Власова?
— Нет.
Он отвечал с явной неохотой.
Ромен почувствовал, как в нем закипает гнев; он набросился с кулаками на пленного, а тот лишь уклонялся от ударов, защищая руками лицо.
— Придурок! Кто тебя перетащил на сторону убийц? Почему ты к ним пошел? Ненавидел коммунизм?
— Да плевал я на коммунизм…
— Тогда ты вообще идиот. Но это же не из-за любви к Гитлеру и национал-социализму ты оказался в СС? И не из-за денег? Может быть, это была женщина? Тоска? Что это было?..
— Случай, — ответил тот устало.
— Случай?.. Да, это сильная штука, я кое-что о нем знаю. Но его нужно приручить, пользоваться им и направлять его в нужную сторону. Ты ведь не немец, и ты не пытался удрать от них в первый же удобный момент?
— Нет.
— Ты не мог или не хотел?
Пленный опять пожал плечами. Машина резко вильнула в сторону, чтобы не раздавить простертый на земле труп.
Помолчали.
— Так что ты делал в Берлине?
— Я был в охране Гитлера.
Ромен схватился за голову.
— В охране Гитлера! Какая скотина! И что я теперь должен с тобой делать? Ты хоть понимаешь?
— Да, — сказал Бешир.
И, отвернувшись от Ромена и глядя в пустоту, он опять пожал плечами…
…Ромен и Бешир, каждый по отдельности, пересказывали мне эту сцену и почти одними и теми же словами. Они сблизились именно тогда. Бешир был обязан Ромену всем, прежде всего, самой жизнью. И вот теперь гроб с Роменом медленно опускался в безликую яму, где ему предстояло простоять несколько лет, которые мы называем «вечностью». Бешир горько плакал.
— Я бы так хотел, — прошептал он мне между всхлипываниями, — умереть вместо него.
Рядом с Беширом я увидел Виктора Лацло. Я вдруг вспомнил то, что он мне недавно говорил о месте Гитлера и Сталина в современной истории и в книгах, которые должны все это описать и объяснить. Те давние нити, которыми история связала Ромена и Бешира, заброшенных силой обстоятельств во враждебные лагеря, их оборвать невозможно: путы прошлого слишком крепки. Крепче их только нити любви…
Марина не помнила себя от горя — ее поддерживала дочь. И у Марго ван Гулип уже не хватало слез…
Земля еще не накрыла его полностью, но уже усыпала все тело. Мир, который он так любил, если он мог его видеть оттуда, где лежал, должен был выглядеть лишь квадратом серого неба…
Вообще, в жизни было немало того, чему он уделял мало внимания: смерть, религия, деньги, политика, газеты, прошлое и будущее. Его жизнь прочно обосновалась в настоящем, далекая от дебатов и «великих проблем», которыми нам прожужжали все уши; в сущности, это была жизнь физическая. Ключ к его разгадке, возможно, потрясающе прост: он был очень здоровым человеком. Никакой астмы или аллергии, как у Пруста. Ни обмороков на манер Паскаля или Кафки. Он не был эпилептиком, как Флобер или Достоевский, и не был хромым, как Байрон. В общем, никакой ущербности, которая часто обнаруживается в собственных признаниях художников и писателей. И я подозреваю, что его сексуальные возможности были побогаче, чем у какого-нибудь Арагона.
— Честное слово, — говорил он мне не раз в беседе, — ну незачем мне заниматься писаниной.
Когда я только познакомился с ним, я, естественно, расспрашивал его о его прошлом. Оно было несложным. В силу обстоятельств он не получил систематического образования. Он окончил первый курс лицея в Марселе, и в том возрасте, когда ему положено было сдавать «башо», как тогда говорили[5], он уже копался в обгорелых самолетах на английском аэродроме. Вернувшись с войны, он два-три года много читал — гораздо больше, чем хотел в том признаться. И не то, что, как говорится, подворачивалось под руку, а все, что нужно было прочесть. Что мы обычно читаем? То, что хочется. По чудесному совпадению, Ромену всегда хотелось читать только хорошие книги. Я никогда не видел его читающим один из этих модных романов, которые забываешь через несколько недель, ни то, что удостоено литературных премий, ни то, что обсуждается в газетах и еженедельниках, их он тоже не читал. Он интересовался Сен-Симоном, Шатобрианом, Прустом, еще несколькими, но никогда об этом не говорил.
Он никогда не работал в том смысле, который обычно придают этому слову: письменный стол, расписание на день, папки с бумагами, патрон, клиенты, подчиненные. Такую работу он терпеть не мог. У него было одно ценное свойство: он редко ошибался. Он знал не так уж много, но инстинктом угадывал все. Его близкое знакомство с художниками, писателями, музыковедами, учеными, как Казотт, астрофизиками, как Далла Порта меня сначала удивляло. А объяснение было простым: он не говорил глупостей.
Вскоре после войны он был приглашен в СССР в числе других Героев Советского Союза. Избегая официальных церемоний, которые всегда были ему невыносимы, он отправился по специальному разрешению в Самарканд и Бухару, одни названия эти были для него как сказка. Люди с Запада, получившие разрешение посетить Узбекистан, были чрезвычайно редки в то время. Ромен одним из первых французов посетил могилу Тамерлана, обнаруженную в Самарканде русскими археологами в тот самый день, или около того, когда Германия развязала войну против СССР, 21 июня 1941-го. Красота этого места, хоть и нарушенная различными работами и лишними постройками, привела его в восторг. Ромен заинтересовался Тамерланом, до сих пор известным ему только по имени, больше он не знал о нем ничего. Затем ниточка потянулась к монголам и Чингисхану. Одна история совершенно восхитила Ромена: в XIII веке в лагере крестоносцев пронесся слух, что на их противников — мусульман — с тыла напал серьезный враг. Христиане тут же вообразили, что этот воин, упавший с неба к ним на подмогу, был Священник Иоанн, легендарный покровитель христиан, потомок царя Соломона и царицы Савской, владения которого, по легенде, располагались где-то между Индией и Эфиопией. Но мнимый союзник оказался не Священником Иоанном, а свирепым Чингисханом, крайне враждебным к христианству во главе бесчисленных монгольских орд…
Из Самарканда и Бухары Ромен привез несколько вещиц: шелковый ковер, который ему понравился, старинный кинжал в ножнах, несколько украшений, шкатулку, инкрустированную грубо обработанными камнями. Приехав в Париж, он сразу позвонил своему однокашнику по лицею, бывшему, как и Симон Дьелефи, его давним другом — Адриену Казотту; Адриен поступил в Школу на улице Ульм приблизительно в то же время, что и я, и начал специализироваться по цивилизациям Древнего Востока. Они позавтракали вместе у Бальзара, и Ромен, снимавший тогда комнатку в районе улицы Муфетар, показал ему свои сокровища, разложенные на кровати.
Казотт долго молча рассматривал их. Потом сказал, присвистнув:
— И сколько ты за это заплатил?
— Ба! Я точно и не знаю, — сказал Ромен. — Я платил в рублях. Что-то между тремя и пятью тысячами франков за все. И что — меня надули?
— Ну… — проговорил Казотт, — кого-то здесь, конечно, надули, но только не тебя. Прикинув на глаз, я бы сказал, что эти твои штуки сегодня в Париже стоят в сто, а может быть, в двести раз больше, чем ты отдал за них.
Ромен сделал широкий жест. Самую красивую вещь своей зарождающейся коллекции — шелковый розово-голубой ковер начала XVII века он подарил музею Гиме. Он завязал знакомства с археологами и специалистами по истории искусства, и те вскоре поняли, что этот молодой двадцатипятилетний человек не является ни эрудитом, ни оборотистым торговцем, ни спекулянтом, что это просто любитель с хорошим вкусом и с удовольствием помогали ему советами.
Ромен еще несколько раз побывал в России. Во время одного из своих путешествий он завернул в Тегеран, где он уже побывал несколькими годами ранее по пути из Сирии со своими товарищами по «Нормандии-Неман». Он добрался до Испахана, Шираза и Персеполиса. Иран ослепил его своей красотой. В столице шаха Аббаса он долго бродил по Майдан-шаху с его великолепными мечетями и в садах дворца Чехель-Сотун любовался легендарной красотой замка Сорока Колонн, удвоенной его отражением в бассейне. Он привез оттуда золотые скифские украшения с растительным и животным орнаментом, маленького каменного льва, приобретенного в Луристане или Персеполисе, персидские миниатюры и старинные ткани. Каменного льва он подарил мне. Я намеревался теперь положить этот подарок в его могилу, но потом передумал: он не хотел бы, чтобы смерть взяла верх над жизнью, хотя бы и через этот маленький предмет…
Каждый год Ромен проводил несколько недель в Азии. Под предлогом репортажей для газеты, в которой я тогда работал, и чтобы подготовиться к написанию книги, которая потом получит название «Слава империи», я посещал вместе с ним Индию, Афганистан, Китай.
Сейчас я стоял на краю его могилы: его вот-вот должны были зарыть; от этой мысли кровь стыла в жилах и хотелось застонать, а в голове вереницей проносились воспоминания: вот мы с ним у могилы императора Цин Че Хуанг-ти, охраняемой огромной армией терракотовых солдат; вот мы в Гилине, где непрестанно шел дождь и где журавли, летящие над острыми горными пиками, казались сошедшими живьем с китайских картин, которые ранее только казались нам придуманными, здесь не хватало только старого мудреца в белых одеждах, медитирующего с кисточкой в руке, вместо него пейзаж дополняли красногвардейцы; вот мы в храме Солнца в Конараке с его высеченными из камня колесами, или в Пури в отеле Юго-Восточной железной дороги, очаровательно старомодном, с огромными деревянными, медленно вращавшимися вентиляторами, где мы готовились наблюдать за многолюдной процессией, красочной и даже несколько пугающей, в честь лорда Джаганната аватара самого Вишну.
Мальро, например, привозил из Индокитая кхмерские статуи, которые выламывались из многочисленных храмов Ангкора. Ромен же привозил отовсюду вещи, которые покупал, как правило, недорого, но которые вызывали восхищение и зависть знатоков. Он обладал безошибочным чутьем и, поначалу не зная ничего, постепенно приобрел вместе с вазами, мифическими животными, статуэтками из нефрита обширные и, главное, точные познания по искусствам Востока. Так, год за годом, он собирал свою небольшую коллекцию шедевров, и это давало ему возможность вести свободный образ жизни.
Ромен был всяким: милым, обольстительным, циничным, храбрым, великодушным, эгоистичным, привлекательным и невыносимым. Многие из тех, кто провожал его сегодня на кладбище, любили его именно за это: прелесть цинизма и очарование эгоизма. В жизни он ценил прежде всего свободу. Именно свобода украшала жизнь его собственную, а затем и жизнь других возле него.
…Последний акт подходил к концу. Люди в черном подняли обратно веревки, на которых был спущен гроб. Смотали их и уложили, они сделали свою работу и сейчас вернутся к другим делам. И еще раз, в последний раз, мне отчаянно захотелось услышать благословение этому уходящему телу, услышать над ним пение в честь… не знаю чего: жизни, смерти, этого жестокого мира… Толпа топталась в нерешительности на аллее кладбища. Первой подошла к могиле с розой в руке Марго ван Гулип…
…Мэг и Америка… Ромен оказался в Америке в первый раз. Он прибыл сюда не через нью-йоркский порт, как большинство европейцев. Он прибыл с запада через Китай, Японию и Индонезию. По пути он посетил Киото, Нару и грандиозный храм Боробудур с его буддийскими «ступами». Затем пересек Атлантический океан. Провел пару недель в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе. Президентом США тогда был Трумэн. Война в Корее была в разгаре; свирепствовал маккартизм. Потом Ромен отправился в Нью-Йорк. Здесь он тоже повидал немало: «Met», «MoMa», «Frick Collection». Если он оказывался в музее — что случалось не так часто, — он не перебегал от картины к картине. Он выбирал одну, стоял перед ней некоторое время, а затем уходил. Посетив «Frick», он особо выделил для себя «Польского кавалера» Рембрандта. В «Metropolitan» он долго стоял перед картиной Мане, которая, похоже, иллюстрировала одну из новелл Мопассана «В лодке»: на ней изображены сидящие рядом в лодке двое, усатый господин в канотье, тип «красавца мужчины», в белой нательной рубашке и панталонах, и женщина, с длинными волосами, в бледно-голубом платье, под вуалеткой она выглядит немного таинственно. Вода доходит почти до верхнего края картины.
Выходя из музея, Ромен увидел молодую женщину, входящую в него… Это уже не были времена викторианской чопорности, перенесенной на землю Новой Англии. И это еще не было время пуританского феминизма, который отбивает у американских женщин всякое желание общаться с мужчинами. Это был один из тех послевоенных периодов, в которые мужчины — что совершенно естественно — особенно интересуются женщинами. Он взглянул на нее сначала рассеянно, затем внимательнее. Нашел, что она красива. Походка королевы. Затаенное внутри веселье. Он почувствовал, что она тоже его заметила и даже бросила ему… нет, это был даже не намек на улыбку, а просто один из тех взглядов, по которому еще нельзя судить о духовной близости людей, но который дает почувствовать, что ты замечен и отмечен. Ему захотелось поговорить с ней. Она держала за руку, а потом взяла на руки ребенка двух-трех лет. Дети, как и собаки, иногда дают мужчине предлог заговорить с женщиной. Ребенок был одет по традиции в бело-голубое и совершенно очарователен, и от этого Ромен почему-то оробел. Он мгновение колебался: не вернуться ли в музей, из которого он только что вышел. Затем побоялся показаться смешным.
— Не буду же я, в самом деле, увиваться за женщиной с малышом, — сказал он себе.
Сделав сначала движение, чтобы вернуться в музей, он с сожалением все-таки ушел. Ему, впрочем, показалось, может быть, напрасно, что взгляд молодой женщины, украдкой перехваченный им со стороны, выражал легкую иронию…
Начало осени в Нью-Йорке бывает очень красивым. Ромен, как и все, был под впечатлением от этого вытянувшегося вверх города, новизны и необычности нагромождения его небоскребов в сочетании со старыми красными автобусами и воздушным метро, проходившим над Третьей Авеню и доживавшим уже свои последние дни, его тогда называли «elevator», но потом это слово несколько изменило свое значение. Война еще не успела уйти далеко в прошлое, и Ромен, вспоминая разрушенный Берлин, представлял себе, во что могли бы превратиться эти «skyscrapers» от бомбы как та, что была сброшена на Хиросиму, или даже от воздушного налета, как те, которых он немало повидал. Выйдя из музея, он пошел в Ценральный парк и долго с удовольствием гулял там. Его удивила многочисленность молодых людей и их оживленное настроение: в войне погибло более сорока миллионов людей, военных и гражданских, из них русских около двадцати миллионов и немцев около восьми миллионов, американцы же во всех своих военных операциях потеряли менее трехсот тысяч человек; они воевали не на своей территории и выиграли войну, не испытав тех страданий, что их союзники и противники.
Адриен Казотт, марсельский ученый друг Ромена, имел брата, старше его на двенадцать или пятнадцать лет, который был генеральным консулом в Нью-Йорке.
— Позвони ему, если будешь проездом в Нью-Йорке, — сказал Адриен Ромену. — Он любит музыку и живопись. Ты быстро найдешь с ним общий язык.
Ромен вернулся в свой отель — это был «Algonquin», № 42 или 43 на Западной улице между 50-й и 60-й авеню (за комнату в нем Ромен платил 11 долларов), немного посидел в баре, а затем позвонил в консульство. Его быстро соединили с братом Адриена; тот отнесся к нему дружески и тут же сообщил, что через день устраивает обед в честь знаменитого пианиста, поляка по происхождению (его имя мало что говорило Ромену).
— Мы собираемся в «Pavillon» — это довольно известный ресторан на Восточной улице, 57. Приходите и вы. Мне будет очень приятно познакомиться с французским другом моего брата, о котором он мне столько рассказывал.
Ромен принял приглашение. Назавтра, наивно полагая, что нужно явиться в точно назначенное время, он явился первым в ресторан, который был еще почти пуст. Чувствуя себя несколько стесненно, он немного побеседовал о погоде с консулом, высоким, немного чопорным и в общем симпатичным человеком, пока наконец не стали появляться приглашенные. Их появление повергло Ромена в еще большее смущение: женщины были в вечерних туалетах с немалым количеством украшений; все мужчины, как и сам консул, были в смокингах «dinner jacket». Он один был в темном костюме с голубой рубашкой и черным трикотажным галстуком, который уже тогда повсюду возил с собой. Он извинился перед хозяином за свой вид.
— Не обращайте внимания, — успокоил его консул. — Это что-то вроде игры, которую любят наши друзья, но никто не относится к этому всерьез. А вообще американцы — самые простые люди в мире.
Однако впереди был еще один сюрприз этого обеда. Сразу после польского пианиста, встреченного с непривычным сочетанием шумного веселья и почтительности, появилась и последняя гостья. Ромен сразу узнал ее и испытал при этом легкий шок в виде приятного холодка в желудке: это была та самая молодая женщина у музея. Сопровождаемая консулом, она обошла всех приглашенных. Она знала почти всех, некоторых поцеловала. Когда дошла очередь до Ромена, консул представил его в хвалебных выражениях. Слух Ромена выхватил только имя незнакомки:
— …Один из редких французов, удостоенных звания Героя Советского Союза; а это, мой друг, мадам Мэг Эфтимиу: о ней можно сказать, что она — одна из королев Нью-Йорка.
Они посмотрели друг на друга улыбаясь.
— Вы уже знакомы? — спросил консул с любопытством.
— Бог мой, — ответил Ромен, — достаточно для того, чтобы иметь право восхищаться издали.
«Музейная» незнакомка сейчас была еще прекраснее, чем тогда. Она была в черной, расширявшейся книзу юбке почти до щиколотки, и в черном бюстье, которое, подчеркивая бедра, делал талию особенно тонкой. А над этой талией — широкие плечи и, главное, смеющиеся синие глаза в сочетании с длинными черными волосами… В общем, это была прекрасная живая статуя, само воплощение жизни и радости.
Приглашенные стояли с фужерами в руках, обмениваясь незначащими фразами, которыми обычно тянут время. Затем возникла легкая суета, по приглашению консула, гости перешли в маленький обеденный зал. На круглом столе были расставлены приборы и стаканы, перемежавшиеся букетиками анемонов и лютиков с листиками и мхом, и стояли картонные таблички, на которых голубыми чернилами были написаны от руки имена приглашенных. Место Ромена оказалось рядом с прелестницей из «Metropolitan». Жизнь складывалась совсем неплохо…
…Она стояла сейчас передо мной, неподвижная, затерянная в своих воспоминаниях, все еще держа розу в руке. Задержав движение руки, утопая в нахлынувшей печали, она отчаянно пыталась задержать ход времени… и не решалась первой бросить цветок на гроб, в котором исчезало ее прошлое…
— Мне как всегда везет, — объявил Ромен, усаживаясь рядом с ней. — Благодарю вас за то, что вы так красивы, и за то, что сидите рядом со мной.
Она засмеялась. Потом слова пришли сами собой. Смущение исчезло, и они разговаривали так свободно, что это было удивительно им самим.
— Простите меня, — говорил Ромен, — но один вопрос прямо-таки рвется из меня наружу: вы заметили меня позавчера у музея? И поняли, какое впечатление произвели на меня?
Она опять рассмеялась. Разве об этом можно спрашивать незнакомую женщину? Нет, конечно, что он себе вообразил? Она не припоминала никакой встречи у музея… И все же ей казалось, что лицо Ромена ей не совсем незнакомо… она определенно его где-то видела… И она посмотрела на него.
— Любопытно, — сказал он. — Я никого здесь не знаю, а вот вы… мне кажется, что я знаю вас уже целую вечность.
— Вы хотите, — сказала она тихо, — чтобы я рассказала вам о людях, с которыми мы обедаем и которых вы не знаете?
— Я предпочел бы, — прошептал он, — чтобы вы рассказали о себе.
— Тем хуже для вас, — возразила она, — потому что я начну с других.
И она быстро перевела разговор…
Немного дольше она задержалась на даме с сиреневыми волосами, крупной, уже в возрасте, которая сидела по правую руку от консула. Это была хозяйка одного из самых знаменитых салонов Нью-Йорка. Она устраивала много приемов, интересовалась музыкой, лекциями, культурой и занималась благотворительностью в пользу «Альянс франсэз».
— Она определенно захочет пригласить вас, — сказала Мэг Эфтимиу.
— Вместе с вами? — спросил Ромен.
— Скорее вместе с Артуром.
— С каким Артуром?
— С Артуром Рубинштейном, — пояснила Мэг.
Артур Рубинштейн и был тем пианистом польского происхождения, уже очень известным в Америке, в честь которого давался обед. Это был человек маленького роста, лет шестидесяти, очень быстрый, с подвижным, на удивление изменчивым лицом, почти комичным; его курчавые волосы стояли дыбом и он говорил на всех языках.
— Это гений, — сказала о нем Мэг. — Он великолепно исполняет все. Но особенно — Шопена.
Пианист сидел справа от хозяйки салона, поклонницы французской культуры и, как все за столом, говорил по-французски.
— Все за ними следят, — прошептала Мэг. — Так забавно видеть их вместе.
— Это почему? — спросил Ромен.
И Мэг рассказала ему, понизив голос до шепота, следующую историю. Где-то в начале войны в Европе, или перед самой войной, дама с сиреневыми волосами заранее попросила Артура за месяца полтора-два прийти поиграть в ее салоне.
— Мы пообедаем все вместе, а затем вы сядете к фортепьяно и осчастливите нас своей игрой.
Она спросила о его условиях на этот вечер, и они сошлись на цене, которая устраивала обоих.
Рубинштейн относился с некоторым недоверием к этой особе, которая слыла неразборчивой в выражениях и бестактной. О ней рассказывали, что в Риме, на приеме у папы, она обратилась к нему «ваше святопрестолие»; что накануне войны она распространялась в сожалениях по поводу «данцигского коридора»; что она пригласила трио братьев Паскье играть у нее в салоне, а в конце вечера вручила конверт Пьеру Паскье и на глазах у двух его изумленных братьев просюсюкала:
— Это чтобы дать вам возможность увеличить ваш маленький коллектив.
За пятнадцать дней до условленного концерта, словно для того чтобы подтвердить его опасения, Артур получил от этой дамы витиеватое письмо. В нем она сообщала, что вице-президент США и глава Сената будут присутствовать у нее не только на вечере, но и на обеде. Она поясняла музыканту, что в таких обстоятельствах ситуация за столом должна быть пересмотрена. В конечном счете, ее просьба сводилась к тому, чтобы Рубинштейн пришел в ее салон «осчастливить гостей» только после обеда. В качестве компенсации она предлагала ему прибавить 25 % к той сумме, которая была ранее оговорена.
Рубинштейн ответил письмом, текст которого обошел весь Нью-Йорк и которое Мэг пересказала Ромену дословно:
— Мадам, я получил ваше письмо, отправленное в среду. Благодарю вас за него. Если я не обязан более обедать с вами, то буду рад сделать вам скидку в 25 % от прежней договоренности.
Искренне ваш Артур РубинштейнИстория позабавила Ромена. Он другими глазами посмотрел на героя торжества; впоследствии он стал его горячим поклонником и близким другом. И с еще большим интересом Ромен стал приглядываться к жизнерадостной соседке, которая рассказывала ему все это.
Артур Рубинштейн, явно примирившийся с дамой, которую он тогда сумел из палача превратить в жертву, до слез смешил приглашенных, неотразимо забавно изображая Трумэна, Чаплина, Дали и своих коллег-музыкантов. Тем временем Мэг и Ромен были заняты только друг другом, как если бы они были одни за столом, а может быть, и в целом мире.
Они говорили о Трумэне, о Дьюи, который три года назад был его неудачливым соперником на президентских выборах; о Джозефе Маккарти — сенаторе-республиканце от штата Висконсин и яром антикоммунисте, о генерале Мак-Артуре, который собирался продолжить наступление до самой китайской границы и которого Трумэн снял с поста командующего войсками в Корее; о докладе сенатора Кефауэра об организованной преступности в стране и о маленькой дочке Мэг Эфтимиу, которую звали Марина. Но при этом они говорили прежде всего о себе самих.
— Этого Дьюи, — спрашивал Ромен, — вы его знаете лично?
— Да, отвечала Мэг, — я была с ним знакома. У него были отличные усы. Он носит их и теперь.
— Так вы были с ним знакомы! — восклицал рассеянно Ромен, любуясь рукой Мэг, державшей сигарету.
— Я была связана с одним из его противников.
— Политическим противником?
— Не совсем, — отвечала Мэг. — Это был Счастливчик Лючиано.
— Счастливчик Лючиано? — переспросил Ромен. — А кто это?
— Г ангстер, — ответила Мэг. — Один из главарей мафии.
Они говорили о мафии, о «сухом законе», о нью-йоркских докерах, о высадке союзников на Сицилии. Ромен верил всему, что рассказывала Мэг, и не напрасно: все было правдой.
— Тогда, мне кажется, — сказал Ромен, — доклад сенатора должен был вас сильно заинтересовать.
— Он навеял мне воспоминания. Сейчас я уже не в деле. Я соскочила с поезда. Я вышла замуж.
— За Счастливчика Лючиано?
— Нет. За его адвоката.
— Он отец вашей дочери?
— Нет. Отец моей дочери мой второй муж. Или, точнее, третий. Его фамилия — Эфтимиу. Это греческий нефтяник.
И они продолжали говорить… Они обменивались словами, словно фишками в таинственной игре, правил которой они сами не знали, но которым невольно подчинялись. Они поочередно двигали их — осторожно и в то же время смело — даже с каким-то наслаждением, и все это, отделяя их от этого вечера и от всех присутствующих на нем, толкало их друг к другу.
— Ваша дочь… — говорил Ромен, — ваша дочь… она была в чем-то белом и голубом. Издали я сразу не разобрал, девочка это или мальчик. Но потом она показалась мне восхитительной. Я чуть было не вернулся в музей, из которого вышел, чтобы пойти следом и еще раз увидеть ее.
Мэг Эфтимиу засмеялась. Она очень хорошо смеялась, открыто, без стеснения, но и не вызывающе. Ромену нравилось видеть ее смеющейся. И еще больше — вызывать ее смех.
— Моя дочь — все для меня. Какими бы ни были чувства отца к сыну, а тем более, к дочери (я даже знаю таких, которые любят дочерей до безумия), любовь матери к своему ребенку, которого она выносила в себе, — это нечто такое, чего мужчины понять не могут. В мире я повидала многое, а теперь весь мир для меня в моей дочери.
Ромен сразу понял, что третий муж значил для нее не больше, чем первые два.
— А с ее отцом, — спросил он, — …вы с ним познакомились в Нью-Йорке?
— В Нассау, — ответила она. — Я была там с друзьями. А у него там был корабль.
— Большой корабль?
— Большой корабль.
Она посмотрела на него. Он смотрел в ее глаза, смотревшие на него. Синева ее глаз была чистой и глубокой, словно омытой блестящими успехами ее жизни, которые были в то же время и ее печалями…
Они смотрели друг на друга… Ромен молча взял руку своей соседки, и она не отняла ее…
— Давайте уйдем, — шепнул он ей на ухо.
— Пожалуй, — согласилась Мэг.
Едва выйдя за двери ресторана, они испытали облегчение, смешанное с приятной тревогой, она была вызвана той свободой, которую они сами себе отвоевали своим уходом. Шел небольшой дождь. Капли звонко стучали по полотну «awning» — так называется длинный тент, натянутый на металлический каркас: на нем в городе обычно обозначают улицу, номер дома и название заведения. Некоторое время они стояли молча, не зная, как себя вести дальше, и прислушиваясь к своим ощущениям.
— Ну что ж… — начал Ромен.
Она подняла голову. Он взял ее за плечи.
— Спасибо за все, — сказал он.
— Вы не хотите пригласить меня в «El Marocco»? — спросила Мэг.
— Я очень плохо танцую, — извинился он.
— Волокита, — бросила она ему смеясь. — Волокита, который не танцует…
— Вы знаете… — начал он и замолчал.
— Что же? — подтолкнула она.
— Это счастье для меня — то, что я вас встретил.
Посыльный ресторана, ушедший под дождем за автомобилем Мэг, подогнал его к выходу.
— И куда вы пойдете, месье нетанцующий?
— В «Алгонкин», — ответил Ромен.
— У вас нет авто?
— Нет, я — бедный путешественник.
— Тогда садитесь, — пригласила Мэг.
Они ехали в машине под дождем. Тишину нарушали только четкие, как метроном, щелчки дворников. Мелькали улицы за улицами, возникали силуэты домов, очень разные: элегантные и неуклюжие. Мэг вписывалась в повороты с некоторой нервозностью. Наедине в машине, они казались друг другу более чужими, чем среди толпы в ресторане. Они вдруг словно спохватились, что толком не знают друг друга, и между ними пролегла неловкость…
— Как вы думаете, — спросил наконец Ромен, — мы с вами еще увидимся?
— Почему нет? — спросила Мэг.
— А почему да?
— Но это же вы верите в случай, — возразила Мэг.
— Я верю в то, что нужно ему помогать.
Они снова замолчали, и это молчание разделило их, как стеной, чем-то похожим даже на враждебность, чего они никак не могли преодолеть. Вдруг Ромен воскликнул:
— Остановите!
Она резко затормозила. Он выскочил из машины и затерялся в пелене дождя:
— Подождите меня!
Через несколько мгновений он появился с полными руками роз. Он успел заметить одного из ночных торговцев, которые продают цветы в ресторанах: тот толкал перед собой детскую коляску, заполненную красными и белыми розами. Это был афганец или индус, возможно бывший солдат старой армии той Индийской империи, которой лорд Маунтбетен, вместе с верной леди Маунтбетен (поклонницей Ганди и другом Неру) недавно вернул независимость. Индус увидел, как из пелены дождя выскочил человек и крикнул:
— How much?[6]
— How many?[7] — уточнил индус с таким густым акцентом, что хоть режь его ножом.
— All of them![8] — крикнул Ромен.
Он бросал розы охапками в голубой шевроле, и вместе с льющимся от них ароматом в открытую дверцу лился дождь. Мэг не могла произнести ни слова, а потом они оба рассмеялись.
Они еще продолжали смеяться, когда Мэг, притормозив, указала пальцем на высокий дом.
— Я живу здесь, — сказала она.
— Тогда высадите меня здесь. Мой отель недалеко отсюда, и дождь уже небольшой. Я дойду пешком.
— Как хотите, — сказала она.
Автомобиль остановился. Дождя почти не было.
— Помогите мне хотя бы отнести это домой: здесь целый сад.
Взяв в охапку цветы, они вошли в дом, роняя их по дороге. Розы были везде. Ромен набил ими свою куртку и прижимал ее к себе. Мэг тоже несла охапку, и ее лицо утопало в розах. Она шла вся в розах…
Мэг с трудом нашла ключом скважину. Они вошли в большую комнату, где две кушетки, затянутые полосатой тканью, стояли возле низкого стола, заваленного книгами и журналами. Цветы были брошены на стол, на диваны, на пол, и они оба стояли над ними неподвижно и ошеломленно.
— Спасибо за цветы, — сказала наконец Мэг с улыбкой.
Он наклонился, поднял три розы и протянул их молодой женщине. Она взяла их, понюхала, и молча посмотрела на Ромена…
Он обнял ее и поцеловал в губы. Она тут же сдалась и обеими руками, в которых еще были цветы, обняла шею молодого человека…
…Марго ван Гулип уронила свою розу в гроб Ромена. Мы — Бешир и я — вовремя подскочили, чтобы поддержать ее: она шаталась с закрытыми глазами на краю могилы и теряла равновесие. Она повисла у нас на руках. Открыв глаза и держа меня за руку, Марго повторяла:
— Мой маленький Жан, мой маленький Жан…
Андре Швейцер, подошедший, чтобы бросить свой цветок на гроб, оказался возле нее. Он наклонился над ней, пощупал пульс и положил руку на лоб.
— Ничего страшного, — сказал он, выпрямляясь и обращаясь ко мне. — Это просто эмоции.
…Как это буднично прозвучало: «просто эмоции»… А сколько у нас в жизни их было — этих «просто эмоций». Они возникали отовсюду; одни шли за другими, одни стирали другие; они затопляли нас и сплавлялись намертво с нашей жизнью. Они рождались, прежде всего, из красоты и любви, но их порождали также история, наука, политика, спорт. Нет формулы, которой можно было бы описать жизнь, которая всегда не есть то, что она есть… За Андре Швейцером я увидел Далла Порта и Адриена Казотта. Они всегда были людьми солидными, не склонными к сентиментальности, но сейчас они были расстроены, как какие-нибудь мидинетки. Вообще же их эмоциональность имела иную природу, нежели надрывающее душу горе Марго ван Гулип. Хотя жизнь жестко прошлась и по ним…
Нет ничего более фальшивого, чем затертый образ педанта-ученого, бесстрастно занимающегося своими исследованиями. Я часто наблюдал Адриена Казотта чуть ли не впадающим в транс над какой-нибудь шумерской надписью… и переживания эти были, пожалуй, острее, чем у юной девушки, целиком захваченной своей любовью…
С Далла Порта дело обстояло еще поразительнее. Он постоянно находился на связи со всей таинственной Вселенной, с каждым элементом бесконечно малого и бесконечно великого. Когда он говорил о нейтронах, лептонах, босонах, гравитонах, глюонах — всей этой бурлящей массе, которая скрывается за привычными формами предметов, заложниками которых мы являемся, — в него вселялось что-то сродни одержимости. Особенно его вдохновляли «кварки». Часто, когда я слышал, как он рассуждает об этих крошечных непонятных частицах, мне приходило в голову, что он… любит их настоящей любовью…
Я вспомнил, как однажды Ромен наивно спросил у него, существуют ли на самом деле все эти частицы, о которых он говорит чуть ли не с вожделением, или это всего лишь условные названия, которые исследователь дает наблюдаемым явлениям и которые не имеют под собой конкретной реальности. Лучше бы он этого не говорил! Далла Порта как с цепи сорвался! Перед нашими вытаращенными глазами он развернул всю Вселенную: от бесконечно малого до бесконечно великого, которые являются обратным отражением одно другого. Он растолковывал нам, что между двумя воображаемыми линиями на расстоянии миллиметра одна от другой могут располагаться миллионы атомов, и каждый из этих атомов заключает в себе целый мир, крошечный и одновременно необъятный, полный непознаваемых тайн…
Он прибавил еще, что нейтрино, как и следовало ожидать, почти неразличимы и что они имеют весьма отдаленное отношение к материи. И поскольку всех этих ужасов, имевших в его глазах столько очарования, ему показалось недостаточно, он завершил свою лекцию, призвав на помощь еще одни элементарные частицы, мало того что строго невидимые (это само собой разумеется), но еще и не определяемые никакими средствами; он назвал их «wimps» — «weakly interactive massive particles». Термин «wimps» можно перевести на французский красивым словом…
— Непонятки? — предложил Ромен.
— Лучше «воробышки», — поправил Карло.
О да! Все это: крошечное, неощутимое, материя на грани стирания и исчезновения — это было здорово. Но и огромное на грани бесконечного тоже было не хуже… Карло, астрофизик, больше всего любил устроиться вместе с нами под открытым небом прекрасной летней ночью или холодной ясной зимней ночью где-нибудь на террасе или в саду естественно, для того чтобы любоваться звездами. Они были очень далеко, а Вселенная к тому же еще и расширялась: астрофизик по имени Хаббл открыл и доказал, что мироздание не является неподвижным и постоянно растет, как дерево, ребенок или опухоль, и вот уже пятнадцать миллиардов лет непрерывно раздвигает свои границы…
…Мы созерцали мироздание, абсолютно раздавленные своим ничтожеством: нам оставалось только посыпать головы пеплом… Получалось, что мы были меньше, чем ничто в этом мире — столь необъятном, что мы даже не могли себе его представить, и в то же время мы были в нем, вероятно, единственными, кто мог воссоздать своим разумом концепцию этого мира…
…Да, двадцатый век, прежде чем стать веком национал-социализма и коммунизма, электричества, транспорта и скоростей, джаза, кино, пилюль «от всего», забытых лошадей, развала прошлого и уничтожения традиций, он стал веком математической физики: квантовой механики Планка, Бора и Броглио, которая занимается бесконечно малым, и всеобщей относительности Эйнштейна, которая занимается бесконечно большим…
…По словам Далла Порта, в конечном счете все сводилось к вопросу Лейбница — единственному настоящему вопросу, потому что на него никогда не будет ответа: «Почему существует что-то вместо ничего?» Когда Карло произносил эти слова, которые сейчас молнией блеснули в моей памяти, и еще многие другие слова, которые нам с Роменом трудно было понять в точности, его лицо светлело и по телу пробегала дрожь, и в этом было гораздо больше страсти ученого, чем голого интеллекта.
…Такие разные эмоции… Почему эмоции?.. Ах, да, это Андре Швейцер только что сказал: «Это просто эмоции» — потом выпрямился и повернулся ко мне… Королева Марго тоже выпрямилась. Провела рукой по лицу и чудесным образом стерла с него отпечатки возраста и боли, искажавшие его. И сразу вновь стала почтенной старой дамой, умеющей владеть собой и помнящей о своем ранге.
Мы вчетвером — Далла Порта, Казотт, Андре Швейцер и я — проводили Королеву Марго в машину, недавно подогнанную Беширом. Она опять бессильно упала на заднее сидение и сделала нам знак рукой:
— Идите, идите! Мне уже лучше. Нужно быть там…
Мы подчинились. Возвращаясь к могиле, Андре, с посеревшим лицом, схватил меня за руку.
— Боже мой! Боже мой! — причитал он в горести…
…И тут вспомнилось… Когда-то я уже слышал от него это «Боже мой»…
Я вижу его растерянным, мертвенно бледным, когда он сидел, наморщив лоб и обхватив голову руками, в бистро на улице Верней в Париже: это была весна 62-го, смутный период социальных волнений, предшествующий объявлению независимости Алжира и подписанию Эвианского договора. Андре был «голлистом» и «черной ногой», то есть не попадал в нужную струю. Он был из семьи колонистов, которых судьба давно уже забросила в Магриб[9], и он привык любить и уважать арабо-мусульманский мир, в котором вырос. А теперь история (столь милая сердцу Виктора Лацло) разрывала его пополам: он был осужден всем, что он любил, и, возможно, самим собой.
Я не помню всего, что он говорил мне тогда прерывающимся от волнения голосом. Я пришел на встречу с ним в кафе первым, держа в руках свежую газету «Монд» или «Фигаро». Крупные жирные заголовки кричали о том, чего следовало ожидать: о бесславном окончании войны в Алжире. Он пришел через несколько минут после меня в сопровождении Ромена. Он сел, взял в руки газету, лежавшую на столе, и произнес:
— Боже мой!
Мы дали ему выговориться. Я не знал Алжира. Ромен — тоже, не считая каких-нибудь эпизодических сведений. Андре же там родился и жил. Он рассказал нам, как события, которые мы видели «снаружи», происходили на самом деле там, «внутри». Это был взгляд «изнутри»… Впрочем, не совсем: сердце Алжира было арабским и мусульманским, а Андре был французом, христианином и потому «колонизатором»…
Проблемы копились давно. Их можно было проследить от самого года Диен-Биен Фу и Женевской конференции «Вьетминя» и Франции. Рене Коти только что был избран в тринадцатом туре голосования президентом Французской республики. Пьер Мендес Франс стал президентом Совета. Тунис и Марокко готовились выдвинуть требования о независимости. Только Алжир, состоявший из трех департаментов, казалось, был неразрывно связан с метрополией. «Алжир — это Франция», — заявлял Мендес Франс. И вслед за ним все политические деятели — правые и левые — считали невозможным идти на компромисс с оппонентами, когда речь шла, как они говорили, о стране как «нераздельном целом».
1 ноября в католический праздник всех святых в Алжире разразилось восстание, возглавленное десятком вождей Революции: Ахмедом бен Беллой, Хосином-Айт-Ахмед ом, Мохаммедом Будиафом, Мохаммедом Хадером, Белькасемом Кримом и другими; все они, за одним исключением, кончат изгнанием или насильственной смертью, революция всегда пожирает своих собственных детей… Последующим летом, в один из августовских дней, в полдень, повстанцами было совершено по всей стране одновременно более сорока террористических актов, в результате было зарезано около двухсот гражданских лиц, среди которых пятьдесят детей. В ответных репрессиях погибло около полутора тысяч мусульман. Так началась алжирская война.
Начиная с 13 мая 1958-го и до Эвианского договора и референдума 1962 года, с отклонения от курса самолета Бен Беллы и «дела базуки» с Жоржем Бидо и до последних действий OAS, все эти события унесли общим счетом более полумиллиона жизней. И всего лишь через несколько лет после немецкой оккупации и падения Республики, после режима Виши, соперничества между Петэном и Де Голлем, после всех подвигов и жертв Сопротивления эти события во второй раз резко раскололи национальное сознание французов на «за» и «против»…
…Эльзасцы по происхождению, Швейцеры оказались на юго-западе Алжира вскоре после начала франко-прусской войны 1870 года. Их дом, постепенно воздвигавшийся вокруг своего «patio»[10], получил название Дар-аль-Мизан. Это было большое низкое строение, не слишком красивое, но окруженное виноградником, оливами, лимонными и апельсиновыми деревьями. Весной, с корзинами, полными экзотических вкусностей — «cocas», «merguez», «kemias», — соседские семьи собирались вместе на пикник где-нибудь в лесу или на берегу моря и чудесно проводили время за «паэльей»[11] или «мешуи»[12]. Праздничными вечерами ели жареную барабульку, запеченные сардины, креветок, морских ежей, фиги, зеленый миндаль, канталупы, клементины[13]. И, конечно, кислую капусту: она, как и аисты, была напоминанием о далекой родине — Эльзасе. Здесь, в Алжире, природа и сердца были пропитаны солнцем. В очень ясную погоду, поднявшись на высокую террасу, над верхушками оливовых рощ можно было различить вдали море…
…Однажды летним утром, рано выйдя из дому, Андре увидел тело, лежащее на земле в нескольких метрах от дома. Андре был настоящим врачом, он сразу бросился к нему. И сразу узнал: это был их садовник Ахмед, служивший семейству уже более тридцати лет; он участвовал с отрядами Жуэна в боях против местных повстанцев. Помочь ему было уже нельзя: он был зверски зарезан. Распоротый живот был выпотрошен и набит камнями…
Смерть Ахмеда знаменовала собой вторжение исторической трагедии в частную жизнь — традиционно сложившуюся и спокойную — французского семейства, обитавшего в доме Дар-аль-Мизан. Богатые люди обычно живут в своем мире, одновременно реальном и мифическом. Это прочный мир, не задающий вопросов, мир основательный, где все есть так, как оно есть, и не может быть иным; в этот мир не вмешивается ничто постороннее: оно существует отдельно, само по себе, и потому как бы и не существует.
Ахмед был частью дома, как неизбежный дальний родственник. Ранее его присутствия не замечали. Теперь мертвый Ахмед занимал умы семейства в доме Дар-аль-Мизан гораздо более, чем за все тридцать лет его жизни в этом доме. О нем вдруг вспомнилось то, что было давно забыто или казалось не имеющим значения. Так, вспомнили, что у него есть сестра гораздо моложе его. К ее счастью, а может быть к несчастью, она была очень красива. К тому же она получила блестящее по тому времени образование. Она работала в администрации легендарного отеля, который был неотделим от облика тогдашнего Алжира, отеля Святого Георгия.
Когда американцы, уроженцы Вайоминга или Аризоны, высадились в Северной Африке и пришли в Алжир, они, естественно, сразу принялись ухаживать за местными девушками. Упитанные и здоровые, щедрые на обещания и ласковые слова, они преследовали при этом две цели. Первая была возвышенной и политической: это борьба против колониального наследия. Вторая была менее абстрактной — желание любить девушек. В вихре эпохи, приблизительно в то время, когда Дарлан был убит Боннье де Ла Шапелем, красавица Айша из кабильской народности, с ее зелеными глазами, полученными, вероятно, в наследство от племени вандалов, стала любовницей американского лейтенанта, которого привели сюда зигзаги истории, оторвав от семейной фермы пуритан, процветавшей на пшеничных полях Нового Света.
— Я несколько раз встречал их вдвоем на городских пляжах и в модных ресторанах, — рассказывал Андре. — Это был свежий, очаровательный роман, в лучшую свою пору напоминавший страницу из «Свадеб» Камю: солнце, море и горячий песок. Но слишком быстро он обернулся кошмаром. Это была двойная трагедия: личная и историческая. Вообще, история и любовь — это взрывчатая смесь. Американцы вернулись домой, и тот лейтенант тоже, предварительно пройдясь по Сицилии и силой преподав убедительный урок демократии потомкам Мария, Макиавелли, Кавура и Гарибальди, которых сбил с толку их «Дуче». Брошенная своим лейтенантом, обольщенная той жизнью, к которой он ее приучил, и особенно той, на которую она с ним рассчитывала, Айша вступила в краткую связь — это было всего несколько недель — с сыном моего брата, который был, как тогда говорили, «скорее симпатичен, чем наоборот». Ситуация получилась не из лучших. Наше семейство повело себя в ней так, как и следовало ожидать.
— Ну понятно, — поддел Ромен.
— Моего племянника звали Жак. В то время он еще был веселым и милым, это потом он стал таким экзальтированным и мрачным. Его родители были протестантами, как и все Швейцеры, и потому не склонными шутить с вопросами морали, еще весьма строгой тогда и в Алжире, и в самой Франции, особенно в провинции. Американское присутствие в Северной Африке дало толчок зарождению алжирского национализма, постепенно зревшего затем в течение десяти-двенадцати лет, вплоть до его взрыва в мае 68-го. Родные быстро отослали Жака подальше. Он участвовал в итальянской кампании под началом маршала Жуэна, где-то неподалеку от Ахмеда, которого не раз там встречал, и от американского лейтенанта Айши. Затем его отправили в Марсель и Экс-ан-Прованс для завершения учебы. Когда он вернулся в Алжир, то обнаружилось, что Айша стала на сторону Революции, а Жак стал решительным сторонником интеграции Алжира с метрополией и равенства прав для французов и арабов. Эти принципы немного позже будет защищать в правительстве деятель культуры левого направления Жак Сустель…
…Тогда, в кафе, Андре вспоминал, мы молча слушали. Он говорил о ненависти, которая нагнеталась с обеих сторон, о добрых моментах в жизни, которые случались все реже, о каждодневно растущей тревоге, о мятежах на улицах больших городов и о смятении в сердцах.
К началу Второй мировой войны в Алжире проживало около девяти миллионов мусульман, из них около миллиона — безработные бедняки, и менее миллиона европейцев. По декрету Кремье около ста пятидесяти тысяч евреев уже давно являлись полноправными представителями французской нации. Арабы же с течением времени все явственнее стали ощущать, что щедрые обещания, раздаваемые в годы войны сначала американцами, а затем и французами, не претворяются в жизнь, что их ожидания обмануты, что будущего у них нет, счастья нет, и, вообще, рай где-то совсем далеко. И вот, после того как пал Берлин, вермахт капитулировал и война в Европе закончилась, разразилось арабское восстание в Сетифе. По официальным данным, в ответных репрессиях погибло около полутора тысяч арабов, а на самом деле в четыре-пять раз больше. Кипя от возмущения, Жак отстаивал свои принципы и старался завязать дружеские связи с возможно большим количеством мусульман, к которым относился как к братьям. И потому в то прекрасное летнее утро 55-го смерть от рук повстанцев Ахмеда, который никогда не скрывал своей привязанности к Швейцерам и к тому цивилизованному образу жизни, который они представляли на земле Алжира, ударила его как обухом по голове…
…Андре Швейцер вернулся на свое место в процессии, топтавшейся на месте перед могилой Ромена и глухо роптавшей: все глаза были устремлены на высокую старую даму, которая задержала движение. Андре стоял рядом со мной, черты его доброго лица были искажены болью, перед которой теперь уже он чувствовал себя совершенно беспомощным. Он держал в руке цветок. Потом бросил его в могилу.
Движение траурной процессии возобновилось. Соблюдение ранжира, который обычно предусматривается протоколами официальных церемоний и немедленно нарушается за дружеским столом, в семейном кругу, в больших катастрофах и на кладбищах, на этом кладбище тоже разлетелось в клочья. После Королевы Марго и Андре Швейцера подошла очередь молодой женщины, которая обслуживала Ромена в парикмахерской, куда он ходил постоянно. Вся в черном, с опущенной головой и скрещенными на груди руками, она горько плакала; своими сильно высветленными волосами, суровым видом и особенной гримаской она явно подражала Брижит Бардо в старых фильмах, мода на нее вернулась у девушек конца этого века. За ней следовал Симон Дьелефи — великий канцлер Почетного Легиона, который был товарищем Ромена в их морской эскападе из Марселя в Гибралтар, а затем и на английской земле в то далекое героическое время уже более полувека назад…
Я вспомнил, как во времена моего детства — это было время Народного Фронта, прихода к власти Гитлера, — как тогда трагедии Первой мировой, рассказы ветеранов Вердена о том, что было всего каких-нибудь двадцать лет назад, казались мне очень далекими, потонувшими в тумане истории и совсем чужими. И вот теперь то, что было шестьдесят лет назад: разгром Франции, приход к власти Петэна на руинах Республики, появление на арене истории генерала Де Голля — все, что потрясло нас тогда, продолжало волновать нас и сейчас, хотя с тех пор времени прошло в три раза больше. Но все это сейчас тоже уходит в прошлое, стертое и превращенное в легенду ускорившимся ходом времени. Время спряталось в воспоминания, архивы, в пыльную рухлядь, а наши горячие молодые страсти вдруг обернулись пеплом. Вторая мировая война стала такой же далекой, как Столетняя война или наполеоновские кампании. Даже события мая 1968-го, когда казалось, что из обломков прошлого и грубо стертых в прах традиций вот-вот родится новый мир, даже они уже воспринимаются как нечто доисторическое…
…За великим канцлером шел мальчик лет семи-восьми, неловко держа розу в руке, — это был племянник Ромена. Для него события 1968-го будут выглядеть еще более далекими и смутными, чем были для меня в детстве какие-нибудь инвентарные описи…
Сбылось то давнее предсказание Ионеско[14], которое он бросил молодым революционерам — «сердитым молодым людям», — стоявшим под его окном и требовавшим его: он тогда сказал им, что их будущее уже явно отпечатано на них и что все они станут нотариусами, и действительно, многие из тогдашних майских бунтарей превратятся впоследствии в министров, деловых людей, генеральных директоров и строгих инспекторов той самой системы национального образования, которую они так стремились разрушить. Кстати, я видел сейчас некоторых из них в толпе, топтавшейся у могилы Ромена. Они сделали себе карьеры в электронике или цифровых технологиях; они стали более буржуа, чем те буржуа, которых они когда-то обличали: ездили в черных автомобилях; дымили дорогими сигарами, изучая статьи бюджета; громко заявляя о своем либерализме в его самых современных и радикальных формах, они защищали свое благополучие от грозящих им сельскохозяйственных манифестаций с помощью тех самых сил CRS, в которые они тридцать лет назад швырялись камнями, обзывая их «эсэсовцами»…
Для маленького Пьера, который бросает сейчас свою розу на гроб дяди Ромена, и даже для более старших детей, события 1968-го будут мало чем отличаться, если не покажутся еще худшим фарсом от Фронды, революций
1830-го и 1848-го, от Парижской Коммуны. Это все нудное старье. Так же и алжирская война: что-то непонятное и запутанное, увязшее в грязи и пустынях прошлого. Среди толпы, теснившейся у гроба Ромена, эта война оставалась живой и болезненной только для Андре Швейцера…
…Через несколько лет после убийства Ахмеда Айша вздумала заняться доставкой бомб в Алжир, а он был уже разделен на квадраты парашютистами; она и раньше приводила в ужас брата резкими выходками в разных сферах своей бурной жизни. Жак Швейцер, со своей стороны, боролся — едва ли не в одиночку и безрезультатно — за такой Алжир, в котором арабы-мусульмане станут полноправными гражданами Франции. Изредка им с Айшой случалось встретиться между манифестацией «черных ног» против губернатора и взрывом джипа, захваченного FLN. При этом они испытывали смешанные чувства, свойственные людям, которые некогда любили друг друга и которых жизнь потом разлучила. Кроме того, они были противниками, которых история и политика развели по разные стороны баррикад. Повторялось извечное противостояние: с одной стороны, взбунтовавшиеся рабы, которые осознают свое численное превосходство и которым нечего терять, а с другой — их хозяева, загнавшие себя в ловушку истории и охваченные колебаниями: наименее слепые из них, чтобы восстановить мир, предлагали более справедливое общественное устройство и в этом видели свое единственное спасение.
— Я знаю, — говорил ей Жак, — ты меня ненавидишь.
— Тебя — нет, — отвечала Айша. — Ты просто слабый человек. А вот всех твоих — конечно, да. Их я тоже хорошо знаю.
— Разве ты не веришь в то, что можно построить такой мир, в котором мы будем равны, будем иметь одинаковые права и не будем вынуждены ненавидеть друг друга?
— Слишком поздно, — говорила Айша, — война уже идет. Среди нас больше нет таких людей, каким был мой брат. А среди вас нет таких людей, как ты. Одна сторона должна победить, а другая — проиграть. Вы уже проиграли в Индокитае, в Марокко, в Тунисе. Проиграете и в Алжире. А мы — победим.
— Ты хочешь победить вместе с теми, кто убил Ахмеда?
— Вы убили куда больше народа, чем мы убили и еще убьем.
— Так прекратим убивать, — умолял Жак.
— Уходите, — ответила Айша. — Верните нам мир. Освободите нас. Ведь вы должны знать, что такое свобода: вы воевали против нацистов. А теперь вы — наши нацисты.
Жак ушел от нее в отчаянии. Он чувствовал себя виноватым со всех сторон. Их личные отношения потерпели крах. И потерпели его потому, что эти личные отношения оказались вписанными в социальный и исторический конфликт, он захлестнул их с головой и не оставил им никакой надежды.
В один «прекрасный» вечер еще одна новость взорвала течение жизни в доме Дар-аль-Мизан: Айша была арестована парашютистами. Нужно отдать справедливость клану Швейцеров: при всех социальных предрассудках, свойственных их классу, и притом что они всегда осуждали связь Жака и Айши, когда это известие было получено, они не остались в стороне. Андре и Жак немедленно отправились в столицу и пустили в ход все связи. Сражение за Алжир было в самом разгаре. Их отсылали из одного кабинета в другой; они добрались до Массю, до Салана, до самого резидента, которым тогда был Робер Лакост. В результате всех хлопот через два дня они узнали, что Айша уже мертва.
Дело получило широкую огласку. Ведущие газеты Парижа — «Экспресс», «Монд», «Франс-обсерватер» — писали о пытках, которым была подвергнута Айша. «Фигаро» утверждала, что она покончила жизнь самоубийством, чтобы не выдать тех из своих, с кем она закладывала бомбы, и тех, кто прибыл из Франции и помогал им. Так, на двух противоположных берегах Средиземного моря, Айша стала одновременно алжирской и французской Святой Девой-мученицей революции.
Жак Швейцер, который так никогда и не оправился ни от ее любви, ни от разрыва с ней, после всего этого погрузился в состояние, которое вызывало опасение за его жизнь. Получался некий вариант «Береники» — слезоточивой трагедии в стиле эпохи Просвещения, — только перенесенной на почву Магриба. Через несколько лет, обратившись к католицизму, который позволял угрызениям его совести войти в надлежащее русло и найти путь, если не более легкий, то хотя бы более осознанный к долгожданному миру в душе, Жак поступил, пока не становясь монахом, в картезианский монастырь. Постепенно, как говорится, жизнь возвращалась в свое русло…
События 13 мая 1958 года для Швейцеров, раздавленных историей и семейной трагедией, стали подлинной надеждой. Все они были «голлистами». Андре сражался в Сирии вместе с Роменом против сторонников Виши, а затем присоединился к Леклерку. И вот теперь генерал Де Голль подошел вплотную к решению проблемы алжирского «осиного гнезда». Каким будет его решение? Пока было неизвестно. Но скорее всего, в полном соответствии с благородными идеями Жака Швейцера и Сустеля, Генерал сделает всех алжирцев настоящими французами.
Радужное весеннее настроение, вновь обретенная общность взглядов, слепая вера и безумная надежда сторонников интеграции — все это длилось недолго. Когда Генерал объявил французский Алжир самоопределяющимся и независимым… это был переворот в умах не меньший, чем падение Франции под гусеницами немецких танков. Рушился целый мир! Это был мир, в котором была еще жива огромная колониальная империя Индия, мир белого господства, расовой иерархии, незыблемого порядка вещей и вдруг оказалось, что этот незыблемый порядок не вечен: он пал под ударами великих батальонов истории!..
…Уже восемь лет шла война в Алжире. В первые четыре года волна насилия особенно нарастала с обеих сторон. Ответом на революционный террор стал террор государственный. Наконец положение ухудшилось до такой степени, что общественная система оказалась на грани истощения и теперь нуждалась для решения своих проблем во внешнем волевом импульсе. Это оказалось отличным шансом для генерала Де Голля, который вот уже двенадцать лет ждал своего часа, и теперь должен был появиться на авансцене, чтобы спасти Алжир, увлекающий метрополию за собой в пропасть. И если Генерал придет — так считали прогрессисты и интеллектуалы, — то обязательно проявит себя как противник прав человека, независимости, эволюции нравов, движения истории, как противник всего, что представляет собой современный мир. Он обязательно встанет на защиту Государства и Разума, которые он всегда воплощал собою лучше чем кто-либо во Франции. На защиту традиции и порядка. На защиту единства нации и армии, которая сделала его тем, что он есть. Вся алжирская ситуация вращалась вокруг единственной оси — возвращения в политику великого человека. И вот как раз тогда, в самый разгар этой восьмилетней войны, и произошло нечто невообразимое. Вместо того чтобы пойти в направлении, ожидаемом всеми — прессой, международной общественностью, людьми осведомленными или считающими себя таковыми, в направлении, ожидаемом даже людьми с улицы, — война разворачивается в направлении обратном. Призванный сторонниками французского Алжира, Генерал был их последней надеждой, а он высказался за автономию Алжира, и затем — за его независимость… После этого война, под знаком личности Де Голля, велась уже не против тех, кто его боялся и ненавидел, она шла против тех, кто жаждал его прихода как своего спасения…
Это чудесное превращение возвращает Францию в русло истории. Оно застает врасплох ошеломленных интеллектуалов, которым трудно смириться с мыслью, что их противник, которого они называли фашистом, сделал то, чего не смогли сделать их высокопоставленные друзья — прекратил войну, и не репрессиями, а объявлением независимости… Это превращение застало врасплох и тех, кто возвратил его к власти, но теперь не понимал, что происходит… Изумление его вчерашних противников примешивалось к горечи его верных сторонников, и от этого их горечь еще более возрастала.
…Надо отметить, что авторитет Генерала позволял ему — и только ему — совершить в Алжире невозможное…
История идет своим ходом. Она делает очевидным то, что казалось невозможным. Сегодня все, кто присутствует на похоронах Ромена, через сорок лет после алжирских событий, не может себе даже представить иное решение той проблемы, нежели то, которое принял Генерал. Сам Ромен, которого никак нельзя было отнести к левым интеллектуалам (да, честно говоря, и к интеллектуалам вообще), быстро понял раньше, чем многие, что все другие варианты решения были заведомо обречены.
— В плане военном, — говорил он Андре, — война выиграна. Кто может сомневаться в том, что французская армия сильнее, чем FLN? А что потом? В наше время выиграть войну или проиграть ее не составляет большой разницы. Сегодня есть нечто посильнее — это общественное мнение.
Ромен не стеснялся быть резким в выражениях, он не щадил ни мужчин, ни женщин. Андре Швейцер не отвечал ему. Этот человек был разорван пополам и разделился в самом себе…
Общественное мнение, однако, не является объективной реальностью, да еще и раз навсегда данной. Его обрабатывают, его меняют. Франция была «петэновской» в 1940-м, и она же стала «голлистской» в 1944-м. Де Голль, который всегда был «правым», первым заявил — раньше, чем «левые», — что общественное мнение в Алжире не может обернуться в пользу Франции. И что политика жестких репрессий, на которую Франция не решилась окончательно, не в интересах самой Франции. Он выбрал единственный путь, который вел в будущее. И снова в боли и слезах страны он оказался столь же велик в 1960-м, как и двадцать лет назад.
Несмотря на тяжелые испытания, идея «свободной Франции» вызревала в сознании народа. Но для миллиона «алжирских французов», хотя и понимавших неизбежность принятого решения, конец алжирской войны стал бедствием, которому даже не было названия. Во второй раз за четверть века национальное сознание было раздираемо смертельно опасными страстями. Сторонники «французского Алжира» считали, что преданы Генералом: многие офицеры, внушившие себе некую идею о слове чести, вступили в ряды OAS; Жак Швейцер тоже воевал в течение нескольких месяцев. Французы были побеждены самой историей. Но какое это имеет значение, что ты побежден, если веришь в свою правоту? Теперь им оставалось только убеждать себя, что им не о чем жалеть. Еще более жестоким оказалось потрясение для тех из «алжирских французов», кто, как Швейцеры, были преданными сторонниками Де Голля. Они продолжали следовать за ним, но теперь уже в полном отчаянии…
Когда мы — Ромен и я — слушали Андре Швейцера в бистро на улице Верней, мы видели перед собой человека, который сломлен ходом истории и все же принимает его. Он понимал, что Де Голль избрал единственно возможный путь и что будущее его оправдает. Он понимал также, что это означает для него самого и для всего, что было ему дорого. Он принимал свою судьбу и ужасался ей… — Ну что ж, — говорил он нам, — жребий брошен. Шар судьбы докатится до конца. Обратного хода нет, потому что Генерал перешел на другую сторону. Он не просто стоит за отделение Алжира. Он отстаивает эту идею против тех, кто сражался за единство нации, и теперь преследует их от имени этой нации… Путь, намеченный Де Голлем, тем более жесток, что это крестный путь для волонтеров. Он призывает своих сторонников сражаться против всего, что было связано с его же именем, и рука об руку с теми, кто продолжает его ненавидеть…
— То, что гибнем мы, — это не самое страшное. Мы покинем наши земли, дома, кладбища, воспоминания. Этим можно пренебречь. Не мы одни — многих других в истории постигала та же участь. Но изощренная жестокость — возможно, это уникальный случай в истории — состоит в том, что мы бросаем на произвол судьбы тех, кто поверил нам и принял нашу страну как свою: сотни, тысячи, десятки тысяч Ахмедов будут страдать и погибнут по нашей вине, потому что мы, под предлогом самосохранения и строительства собственного будущего, предаем их и бросаем. Мы разорены — пусть. Мы будем жить в другом месте. Мы обесчещены, тоже согласен. Хуже другое: мы вместе и погибнем…
В бистро на улице Верней Андре Швейцер плакал. Мы гладили его по плечу, хлопали по спине, отводили глаза, чтобы дать ему справиться с собой: вскоре ему надо было лететь в Алжир, чтобы в последний раз побывать в Дар-аль-Мизане, где его родные печально сидели на чемоданах. Когда мы расстались с ним и вышли на улицу, Ромен сказал только:
— Он просто слишком сентиментален, я уверен.
Вот уже чего никто не мог бы никогда сказать о самом Ромене…
Через год, в конце весны, когда был подписан Эвианский договор, начался исход… За несколько дней от шестидесяти до ста тысяч «арки»[15], уцелевших в этой войне, должны были покинуть Алжир и уйти куда глаза глядят, а с ними — и миллион гражданских «черных ног», среди которых были и Швейцеры, навсегда покидали насиженные места.
Мы все хорошо знаем, что такое изгнание. Начиная с Адама и Евы, изгнанных из земного рая ангелом с огненным мечом, и до Скарлетт О’Хара (она же Вивьен Ли), вынужденной бежать из Атланты, преданной огню «синими мундирами» — войсками северян под командованием генералов Шермана и Гранта: это все одно долгое рыдание, передающееся из века в век. Никто не сказал об этом лучше, чем один наш старый виконт, бретонский меланхолик, патентованный соблазнитель и держатель гарема (но католик в душе), охотник до новизны ощущений, с сердцем, открытым настежь: «Порвать с реальным — ничего не стоит. Но как быть с воспоминаниями? При разлучении с мечтой сердце разбивается». Вот и Андре Швейцер: не сумев расстаться с мечтами, жил с разбитым сердцем…
Через четверть века после рассказанных им событий немало было пролито слез над одним из фильмов Сиднея Поллака — это был фильм «Прочь из Африки» с Робертом Редфордом и Мерил Стрип в главных ролях. Он был триумфально принят всеми без исключения. Это была история любви в стране масаев и львов, с великолепными картинами природы… В начале фильма голос за кадром вспоминал: «У меня была ферма в Африке…» В конце фильма осталась только могила, вооруженные солдаты и усталые львы. У зрителей на глаза наворачивались слезы и в горле першило… У Андре Швейцера тоже была ферма в Африке…
…Похоронная процессия медленно двигалась. Гроб Ромена уже был покрыт цветами, и в воздухе стоял аромат роз. Мимо меня двигалась, один за одним, толпа людей, прибывших — иные даже издалека, — чтобы проститься с ним этим угрюмым и холодным мартовским утром…
Передо мной теснился целый пестрый мир. Здесь были люди высокие и низкорослые, важные и скромные, богатые, в мехах и манто с бархатными воротниками, и бедные, робкие, не знавшие, как держаться в таком окружении.
Немного больше женщин, чем мужчин. И очень много незнакомых, о которых я спрашивал про себя с удивлением, даже с раздражением, что могло их связывать с Роменом. Все они вместе являли собой целую незнакомую мне сеть жизни Ромена, состоявшую из любви, дел, удовольствий, путешествий…
Я смутно вспомнил о тех, кого здесь не было и кто был Ромену небезразличен. Не было Молли, не было Тамары. Возможно, Тамара, ставшая почтенной старой дамой или, наоборот, спившаяся, живет где-нибудь в Украине или в России, в Киеве или Москве? Осталась ли она коммунисткой или примкнула к этому старому пьянчужке-либералу Ельцину? Не было и Артура Рубинштейна: он отправился к своему любимому Шопену несколько лет назад…
…Несмотря на все предупреждения Ромена, его похороны оказались вовсе не такими беззаботными, как ему бы хотелось. Метафизические пары ударили нам в голову: вот-вот сейчас, казалось, мы поймем главное. Неужели в жизни имеет значение только смерть, и мы просто безумцы, если думаем о чем-то еще? Конечно, безумцы! Но какими сильными и счастливыми безумцами бываем все мы в этой жизни! Все кончается смертью? Но пока ее нет, жизнь царит безраздельно благодаря этому вечно возобновляющемуся чуду забвения смерти…
…Перед нами, держась очень прямо, проходит Франсуаза Полякова. Вот уж кто хлебнул и бед, и трауров. Шесть человек из семьи ее мужа не вернулись из Аушвица, Равенсбрука, Берген-Бельсена. Депортация подорвала здоровье и ее мужа. Все страдания, возможные под солнцем, она их отстрадала в своем сердце. Она бросила свою розу очень быстро. И направилась ко мне. Она поцеловала меня, поцеловала своего брата Андре, стоявшего рядом со мной. А затем она сделала что-то вовсе невероятное — протянула руку Беширу.
— Это вместо Ромена, — прошептала она мне.
Я поклонился и поцеловал ей руку.
Глядя ей вслед, я подумал о другой траурной церемонии, о которой мне когда-то рассказывал Мишель, ее муж. В лагере, куда он был депортирован, пятнадцатилетний мальчик при попытке бегства ранил охранника. Попытка не удалась, мальчик был осужден на повешение. Рано утром всех узников согнали вместе присутствовать на казни. Появился мальчик в окружении капо. Его повели к эшафоту. И вдруг… все запели рождественские канты, песни моряков, народные песенки. И ребенок пел вместе со всеми…
— Ведь должно было совершиться ужасное, — говорил Мишель. — И все же это был потрясающий момент мира в душах, почти счастья. Все стали на колени. И ребенок, идущий на смерть, шел с улыбкой между рядами поющих, которые стояли на коленях перед ним…
…Поляковы, как и Швейцеры, умели сохранять во всех испытаниях мир в душе и достоинство…
…Прошло еще несколько человек, которых я не знал или не узнал; среди них — две молодые девушки с плоскими лицами азиатского типа. Подошла очередь Виктора Лацло. По своему обыкновению он паясничал, — возможно, чтобы скрыть скуку, равнодушие или, наоборот, волнение и неловкость от того, что находился не в своей обычной среде. Раскачиваясь наподобие танцующего медведя и размахивая своей розой прямо под носом у Ле Кименека, находившегося рядом, он громко декламировал обрывки стихотворных строк, якобы соответствующих ситуации:
Rose, reiner Widerspruch… И роза жила — сколько розы живут… …Жив ты иль мертв — пусть тело станет розой… Die Rose ist ohne Warum; sie bluhet weil sie bluhet, Sie ach’t nicht ihrer selbst, fragt nicht ob man sie siehet… Фиолетовая роза — о, цветок святой Гудулы… Падайте, белые розы! Вы — насмешка над богом, Белые призраки, падайте — с этого неба в огне… …Из каски военной царицы-ребенка, Тебя представляя, посыплются розы…При этом он тряс пальцами над землей, изображая ливень из роз. Еще тогда, до похорон, когда я разговаривал с ним на почти пустом кладбище, он показался мне каким-то возбужденным и даже странным. И тут мне пришло в голову, что он… да попросту накачан наркотиками! На своих лекциях он часто цитировал слова Флобера о литературном творчестве: «Надо уметь вскружить самому себе голову». Вероятно, он и проделывал это каждое утро при помощи амфитаминов или коки. Он успел уже подцепить какую-то девицу: было непонятно, пришла ли она на похороны Ромена или оказалась на кладбище случайно, с зелеными волосами, подстриженными под щетку, и синим камешком-пирсингом на подбородке. Он прижимал ее к себе и тащил, нашептывая что-то на ухо, чего ей по большей части было не понять: она то гоготала с рассеянным видом, то спохватывалась и растерянно озиралась. Они держались за руки и вдвоем бросили одну розу в могилу Ромена. Проходя мимо, Лацло шепнул мне:
— Вы же знаете, дорогой друг, что такая парочка понравилась бы Ромену больше, чем вся эта чудная публика…
И, изящно повернувшись на каблуках, он широким жестом как бы отмел от себя всю эту толпу. Я не мог позволить одурманенному специалисту по мифологии в его бредовой мании величия поминать всуе Ромена.
— О! Вот в этом я совершенно не уверен, — ответил я ему. — Вы прекрасно знаете, что Ромен был непредсказуем.
Подошел Ле Кименек с женой, которая только что присоединилась к нему… Он женился на Элизабет через несколько месяцев после их первой встречи на Патмосе. Она играла на скрипке. Он писал книги. Она жила в Париже. Он ездил по миру, чтобы отвлечься от своего успеха. Дело в том, что Гонкуровская премия свалилась на него как снег на голову, когда он читал курс лекций по истории средневековья в Монпелье. Свалилась как манна небесная и как катастрофа. Скромная сумма этой премии со всеми ее последствиями перевернула всю его жизнь.
Ни одна другая страна в целом мире не чтит так своих литераторов, как Франция. В США, Китае, арабском мире, в Германии или Швейцарии писательство — это профессия; писателей мало кто знает… Во Франции писатель — это священнический сан, овеянный легендами и мифами. Это, пожалуй, все, что осталось от французского господства в области культуры… То, что написано у нас за последние полвека, — часто выглядит вполне достойно и общую картину не портит. Но за границей престиж французской книги упал. При этом всякий наш писатель блистает — в сознании самих французов — негаснущей славой Вольтера и Гюго… Толпы поклонников жаждут общения с ними, словно они пророки, знающие больше, чем простые смертные.
На самые разные темы: от межконтинентальных ракет до иранской революции, от падения коммунизма до бог знает чего еще, не говоря уж о грамматике, экзаменах на бакалавра, эволюции нравов, об исчезновении из современной жизни философов, историков, об абонентах телеэкранов и подписях под различными петициями — вездесущие СМИ допрашивали Ле Кименека обо всем, и таким образом его борода и очки оказались у всех на виду. Когда он шел по улице, прохожие оборачивались на него: изумление и восхищение читались на их лицах. У нас были Пиаф, Морис Шевалье, Сердан, генерал Де Голль, Бардо, Бобе, Депардье и Денев. Еще Сартр. И теперь вот — Ле Кименек.
Эта слава, вернее, известность, была ему в тягость. Сначала это было счастье, но потом вдруг — тяжкий груз. Он ждал ее, надеялся на нее, — и вот она стала для него страшной обузой. Он считал, что приобрел известность незаконно. Прежде всего потому, что сам сомневался в себе. По вине Гонкуровской премии он теперь жил больше в чужих умах, чем просто жил своей жизнью, и больше — за счет своей репутации, чем за счет реальной убежденности в своих заслугах. Самое лучшее и сильное в нем — это, конечно, его критический ум, к тому же развитый образованием и самим укладом жизни Школы на улице Ульм. И потому в конце концов он сам себе стал казаться лжецом.
Теперь он с тоской вспоминал, как тогда, в первый понедельник ноября, ждал телефонного звонка, который должен был принести ему облегчение определенности — вердикт десяти членов Гонкуровской комиссии… Их авторитет литературных арбитров намного обгонял авторитет их соперников — обветшалых, хоть и покрытых золотым шитьем, — с набережной Конти[16]: это в противовес им и собрал своих сторонников Эдмон Гонкур в память о своем брате Жюле, которым никто не желал тогда заниматься в парижских редакциях. Гонкуровцы были не менее могущественны, чем Десять Жрецов вышеупомянутой Величайшей, и внушали не меньший страх.
Дрожа, как школьники в ожидании своих оценок, Ле Кименек и его коллеги по несчастью ожидали их приговора с тем же лихорадочным нетерпением, как гангстер перед судом присяжных, как больной перед врачом, изучающим его рентгеновский снимок, как задолжавший биржевой игрок перед объявлением курса. Это ожидание, подпитываемое слухами, витавшими в издательстве и прессе, становилось уже нестерпимым.
Мы, Ромен и я, завтракали с Ле Кименеком, помню, накануне присуждения премии на втором этаже «Флоры» в Сен-Жермен-де-Пре.
Французские писатели всегда любили собираться вместе, чтобы поговорить о том, что их интересовало. Так, Лафонтен, Мольер, Буало и Расин, в году 1660-м, отправлялись пропустить рюмочку куда-нибудь вроде «Белого барана» или «Соснового яблока» на гору Сен-Женевьев… Сюрреализм у своих истоков был представлен группой писателей и художников, собиравшихся в «Сирано» или где-нибудь еще. Но после смерти Сартра не стало в Париже литературных кафе; еще раньше исчезли литературные школы, объединения, кружки, салоны. Только ритуал «завтраков» еще был жив в среде писателей и издателей, как, впрочем, в банковских и деловых кругах, в кругах высокой моды, кино, прессы, — в общем, как и везде. Парижская литературная жизнь, которая прежде бурлила в салонах «жеманниц», на светских обедах… это оживление, которое присутствовало даже в пристойных и лицемерных собраниях академиков и шумело в подвальчиках и модных кафе Сен-Жермен-де-Пре, теперь свелось к скучноватым завтракам где-нибудь в районе между бульваром Сен-Мишель, Сен-Жермен и Сеной. Просто созваниваются, встречаются и завтракают вместе — вот и все, что осталось от прежних литературных ритуалов. Лишившиеся какой бы то ни было доктрины или идеологии, литераторы конца века являют собой одиночек, которые общаются с большим миром только посредством завтраков в собственном узком кругу на маленьком городском пятачке, который знают как свои пять пальцев.
Ле Кименек в тот день с трудом скрывал нервозность.
— Ну, как дела? — спрашивал у него Ромен.
— Я скажу тебе завтра, — отвечал кандидат Л.-Ф.-Г.
Есть писатели, имена которых все знают: Виктор Гюго или Марсель Пруст, Редиард Киплинг, Жюль Верн, Оскар Уайльд. Имена других писателей часто опускают или не знают: Арагон, Ионеско, и даже Сен-Симон и Монтескье. Еще со школьных времен Ле Кименек, чье полное имя было Луи-Фредерик Гийом, с удовольствием от этого имени отказался. Когда же все-таки приходилось его употреблять, он его сокращал до этого самого Л.-Ф. Г. Пресса, которая всегда обожала всяческие аббревиатуры, осталась верна себе и жадно набросилась на это «Л.-Ф.-Г.».
— Тебе это так важно? — вопрошал Ромен.
— Эта премия меняет всю твою жизнь, — отвечал Л.-Ф.-Г. — Назавтра ты просыпаешься богатым и знаменитым.
— Но тебе же на это наплевать, — убеждал Ромен. — Ты же пишешь не для этого.
— Мне наплевать… конечно, мне наплевать… — бормотал Ле Кименек со смешной гримасой, — но лучше бы все-таки ее получить…
Следующий день стал для него самым ужасным: он колебался между надеждой и сомнением, вздрагивал от каждого звонка, на грани сердечного приступа, не мог ни за что взяться и мог только ждать… презирая себя за слабость и будучи не в состоянии ее преодолеть… В довершение ему из окна были видны орудия пытки, которые только подливали масла в огонь: это автобусы радио и телевидения, припарковавшиеся у самых его дверей.
— Когда ты услышишь, что они отъезжают, — говорил он жене, опуская занавеску, — это будет означать, что Гонкуровская премия присуждена другому.
Ле Кименек, при некоторой ограниченности, все же не был идиотом. Он прекрасно понимал, что стал игрушкой в руках могущественных сил, намного превосходящих его.
— Да, — говорил он, — непростое дело эта литературная стратегия.
В прежние времена под словом «литература» понимались литературные произведения. Сейчас это скорее литературная политика, проводимая литературными властями. В какой-то мере литература и сейчас связана с талантом, но более чем когда-либо втянута в сложную игру различных общественных структур. Непосредственная связь «автор — читатель» погребена под ворохом каких-то посторонних связей. Просто удовольствие, которое можно получить от чтения, уже не в счет… Как и все другие премии, Гонкуровская присуждается не только авторам, но и издателям. Поэтому требуется соблюдать равновесие между этими сторонами, а следовательно, выдвигаются альтернативы, обсуждаются варианты обменов. Литература ныне в меньшей степени искусство и в большей — биржа, на которой идет обмен акциями…
В тот ноябрьский понедельник дождь лил как из ведра. Когда в доме Ле Кименеков, раздавленных ожиданием, зазвонил телефон, Л.-Ф.-Г., питавшийся лишь малыми крохами надежды, в самом прямом смысле, не нашел в себе силы поднять трубку. Он посмотрел на жену. Она сжалилась над ним и подошла к телефону. Мгновение слушала и потом пробормотала:
— А-а, хорошо… спасибо…
Она повернулась к нему и крикнула:
— Есть! Ты ее получил!
Он бросился к ней. Обнял. Счастье переполняло его. Секундой позже телефон уже разрывался, в дверь звонили, объявился издатель, телевидение и радио приступили к трехнедельной эксплуатации своей покорной жертвы. Итак, чистое счастье длилось пятнадцать секунд. Счастливое волнение растянулось на два месяца…
Успех может быть не менее драматичен, чем поражение. Постепенно сквозь счастье стала опять просачиваться тревога — другая, но еще более жестокая, чем предыдущая. Ле Кименек вспоминал, какие аргументы он использовал, чтобы утолить свою первую тревогу. Мол, все эти премии — лишь лотерея; это игра случая и различных комбинаций; они никогда не увенчивают тех, кто их на самом деле достоин. Но эти доводы, которыми он утешал себя на случай неудачи, обернулись против него же в ситуации успеха. Он был достаточно уверен в своем таланте, чтобы презреть неудачу, и он был недостаточно уверен в нем, чтобы пережить удачу…
По мере того как росло число продаж его книги, росло и его беспокойство. Когда тираж перевалил за пятьсот тысяч и дошел до шестисот, Л.-Ф.-Г. впал в панику. Он точно знал теперь, что никогда, вообще никогда больше, не достигнет такого успеха. Он чувствовал, что этот триумф опустошил его: никогда не сможет он больше писать, и в будущем, омраченном его нынешним успехом, он не видел ничего…
Когда Ромен и я случайно встретили его на улице Сен-Пер через месяцев пять-шесть после получения им премии, от него осталась лишь тень того, каким он был в те благословенные времена, когда слава еще обходила его стороной.
— Осточертело! — сказал он нам. — Мне все осточертело!
И он обхватил лысеющую голову руками, жестом, модным тогда, у молодежи особенно.
— Что именно? — вопросил Ромен, как всегда жестокий. — Ты хотел премию — ты ее получил. И ее «пятьдесят франков» нарожали тебе малышей. Эти шестьсот тысяч экземпляров сделали тебя богатым и знаменитым. Ты этого хотел, я полагаю. На что ты теперь жалуешься?
Он жаловался на все. Он не выносил отблесков славы, излучаемых на него газетами и телевидением. Он не мог слышать собственного имени, повторяемого на всех углах. Но… он не вынес бы также, если бы о нем говорить перестали…
Л.-Ф.-Г. понял, что включился в нескончаемый кросс, где невозможно отличить успех от провала и где болезни и лекарства от них были ему равно ненавистны…
Ромен гнул свое:
— «Ты этого хотел, Данден!»[17]. Подумай лучше о тех, кто страдает от того, что не получил премию. Подумай о всех тех, кто хотел бы быть на твоем месте. А если тебе в самом деле плохо, живи так, как будто весь этот цирк вообще для тебя не существует. Отдай эти деньги бедным. Запрись дома и пиши. А если не можешь писать, делай, что можешь. И старайся, по старой поговорке, хотеть того, что имеешь. Л.-Ф.-Г. с болезненным видом качал головой:
— Это не так легко, как ты думаешь. Все гораздо сложнее. Ты слышал о законах Паркинсона?
Конечно, Ромен слышал о них: количество работы остается тем же, а персонал, ее выполняющий, увеличивается ежегодно на два процента…
— Вот именно, — сказал Ле Кименек. — А есть еще «принцип Петера»: каждый индивид стремится занять уровень своей максимальной некомпетентности. На нем строятся все органы управления всех общественных и частных структур и прямо-таки мистические карьеры наших политиков. Мне кажется, что со мной произошло что-то в этом роде.
Эти бесконечные разговоры в конце концов начали меня раздражать.
— Слушай, — однажды резко оборвал я его, — я начинаю думать, что тебе доставляет удовольствие мучить себя, ты раздуваешь из мухи слона и Гонкуровская премия здесь ни при чем…
— Ни при чем! — взорвался он. — Ничего себе «ни при чем»! Мало того, что она обнаружила всю мою несостоятельность. На ней построено — камень за камнем — все мое несчастье. Я хотел иметь ее — это правда. Но теперь я жалею, что получил ее.
— А как же слава? — поддел его Ромен.
— Честно говоря, — ответил тот, — славы мне жалко.
— Ага! — пробормотал я. — Это как у святой… святой…
— Что ты там бормочешь? — спросил Ромен.
— Да нет… ничего… — отнекивался я.
— Так о ком ты все-таки говоришь?
— О святой Терезе Авильской…
— И что?
— Это она оплакивала свои мольбы, — когда они осуществлялись…
…Подошла очередь Жерара. Он прошел мимо нас, и я посмотрел ему вслед…
Нельзя судить людей, потому что их, в сущности, не знаешь… Взять хотя бы Жерара. Он совершенно несносен. Но насколько верно наше мнение о нем? Жерар всегда раздражал меня и Ромена своей тягой к публичности и страстной любовью к масс-медиа. Хуже того: вся его жизнь рассчитана, заранее составлена, подчинена заданной программе с маниакальной тщательностью…
— Человек, который слепо следует моде, — говорил мне Ромен, — чье имя не сходит со страниц газет, а лицо — с экранов телевизоров, кто дружит со всеми и оказывается везде, где должен быть, кто постоянно планирует свое будущее, — такой человек не может быть хорошим. С ним не пойдешь охотиться на тигра…
Снисходительность явно не была в числе добродетелей Ромена. Ему нравилось иметь врагов даже среди друзей. Составив себе определенное мнение о Жераре, Ромен никогда не менял его и осудил приятеля раз и навсегда.
— У меня много друзей, которых я не люблю, — объяснял он мне, — но этого я просто не терплю.
Я же был к Жерару более благосклонен. Презирать его — это было уже слишком. Может быть, он просто чувствовал себя потерянным в этом мире, и потому так старался не отстать от него? Среди стольких людей, которые действительно заслуживают недоверия и презрения, за что было так уж презирать этого парня, если он был повинен только в смешных слабостях? И кто их не имеет? Но Ромен обладал искусством находить себе объекты для критики. Его выбор пал на Жерара, и он вгрызался в него с аппетитом людоеда.
…Рука за рукой бросали розы на гроб Ромена. Поток не иссякал. Каждый из пришедших напоминал мне какой-нибудь совместный эпизод нашей жизни. Путешествия, страны, завтраки, любовь, ненависть, бесконечные споры, достойные или постыдные ситуации. Воспоминания отсылали меня в более или менее далекое прошлое. Действующие лица были те же — и уже другие. Прошло время, и лица, фигуры, речь, походка, манера держаться сильно изменились. Тайна жизни и времени хорошо поработала над нами. Но есть еще и тайна индивидуального сознания, и потому каждая жизнь — отдельная тайна… Ведь никто не может знать наверняка (разве что произвольно реконструировать) намерения людей, мотивы их поступков, неведомые пути души. Они не открыты никому, может быть даже своим «владельцам». Эти тайны нашего бессознательного — область, доступная только Всемогущему Создателю, провидцу наших сердец, и Его Страшному Суду…
Дальше, там, где очередь заворачивалась, я увидел Марину, опиравшуюся на дочь. Еще много народа отделяло ее от меня: несколько расстроенных молодых женщин, подозрительные адвокаты, какие-то гомосексуалисты, финансовые советники, работники радио, отставные политики, монахиня под покрывалом… Я вдруг почувствовал сильную усталость. Вообще-то я люблю поспать, но вот уже несколько ночей спал плохо. Вероятно, из-за этого мир стал восприниматься мною как-то иначе… как каким-нибудь циклотимиком… И Ромена уже не было со мной, чтобы вдохнуть в меня частицу своего оптимизма…
…В сущности, к чему сейчас вся эта комедия?.. Человек рождается, страдает (или бывает счастлив), смотрит на мир, мечтает, умирает. Все остальное — притворство, церемония, дань общественным условностям. И все же давление общества на личность постоянно усиливается. Напрасно мы воображаем, что все время движемся вперед, туда, где больше разума, свободы, и называем «прогрессом» некоторое увеличение наших знаний. На нас все так же давят предрассудки, мы лишь льстим себе мыслью, что все они остались позади…
…Мне вдруг пронзила мозг мысль, что эта толпа — тоже проявление общественного груза и что я оказал ею плохую услугу Ромену. Ему не нужна эта толпа возле его гроба. Нужно было выбрать главное и отбросить ненужное; похоронить его впятером или вшестером: Марго, Бешир, Марина, Швейцеры, Казотт, Далла Порта… исключить всех прочих и отправиться куда-нибудь выпить — в память о нем — за жизнь… Мы предали его во всех смыслах: нас было слишком много; мы плакали вместо того, чтобы радоваться жизни, как он этого бы хотел; мы соблюдали ритуалы, которые он всегда отвергал, а мы ему их навязали…
Очень трудно быть свободным! А вот Ромен таковым был… И в последний момент мы его все-таки настигли. Жить — значит зависеть от других. Он всегда старался забыть об этом. Мы напомнили ему об этом своими розами…
Каждый из нас пленник своей семьи, среды, профессии, своего времени. Нашему поколению достался один из самых темных периодов истории. Он начался войной 1914-го и закончился только падением Берлинской стены в 1989 году. Ему предстояло длиться три четверти века. Три четверти века насилия, лжи, ненависти, преступлений. Три четверти века, в течение которых многие из тех, кто мог служить правде и справедливости, оказались слепыми служителями мертвых соперничающих идеологий… Три четверти века служения — в той или иной форме — интеллектуальной лжи…
Парадокс: в эпоху объявленного торжества разума и пацифистского гуманизма (в наиболее просвещенных умах) катастрофы в ускоренном темпе следуют одна за другой. Это Первая мировая война, развязанная по таким мотивам, которые по прошествии времени кажутся пустячными до невероятия; через десяток лет — экономический кризис и «великая депрессия»; еще через несколько лет — подъем волны национал-социализма; затем один монстр был сражен другим монстром; потом сорок лет ядерных угроз, холодной войны, которая в любой момент могла обернуться открытым столкновением. Самое парадоксальное то, что в предсказанном (или уже совершающемся) Апокалипсисе звучат ангельские мотивы: никакое другое время не знало столько умиротворяющих лозунгов, нравственных принципов, благих намерений и стольких потоков крови…
Как все люди этой эпохи, Ромен жил среди крови. Нас омывали реки боли. Это был пир убийц. Литература, театр, кино, живопись, философия — сам воздух времени был окрашен в красное и черное. Две мировые войны, концентрационные лагеря, холокост, узаконенные пытки, взятие заложников, ставшие обычным делом насилие и шантаж, государственный террор и террор против государства — все это оставило след в каждом из нас. Сам воздух времени был тяжел. И нужно было оставаться хозяином самого себя, чтобы остаться свободным. Чтобы не растерять радость. Ромен это умел…
Но вот катастрофы ушли в прошлое, зато остались воспоминания, шлейф ужасов, запах тоски. Вопреки прогрессу науки (или, наоборот, из-за него), несмотря на возросший уровень жизни (но по-прежнему неравный), на протяжении уже некоторого времени в нашей цивилизации ощущается что-то болезненное…
В то утро у могилы Ромена можно было, конечно, отнести это ощущение болезненности не к нашему времени как таковому, а к смерти, к человеческой жизни вообще. Мол, всегда было принято жаловаться на свое время, сравнивая его с предыдущими временами… Впрочем, в окружающей толпе были свои причины для болезненности и беспокойства, свойственные только нашему времени. Любую нашу попытку почувствовать себя счастливыми подтачивает скрытое зло. Неосознанно все те, кто сейчас бросает цветок на тело Ромена, болеют одним страхом перед будущим. Прогресс оборачивается к нам своей теневой стороной…
Мы становимся, с одной стороны, все более могущественными. С другой стороны, мы все больше не доверяем своему могуществу. Сегодня небо, грозящее упасть нам на голову, произведено на наших собственных заводах…
И здесь я опять подумал о Ромене, профессиональном эгоисте, убежденном ретрограде, стороннике воздержания, окрашенного решимостью, «пофигизмом» и мудростью: он сочетал в себе сиюминутный пессимизм с каким-то всеобъемлющим оптимизмом, даже странным в этом противнике всякого духовного начала, верившем только в природу:
— Не вторгайтесь в жизнь! — восклицал он. — Прекратите «развиваться»! Прекратите «информироваться»!
Я доказывал ему, что его «программа» реакционна. Он только смеялся в ответ. Я убеждал его, что будущее представляет интерес хотя бы потому, что нам предстоит провести в нем остаток нашей жизни. Он смотрел на меня с сожалением:
— Меня интересует только настоящее. Мы живем всегда в настоящем.
Немного лукавя, я переводил разговор на науку и ее потрясающие открытия, о которых нам рассказывали Казотт и Далла Порта. Я говорил ему, что история неостановима, что она движется с нарастающей сложностью, которая неизвестно к чему приведет, и что поэтому все труднее предвидеть ее последствия, благотворные или гибельные…
— Это взбесился прогресс, — шутил он, пожимая плечами.
— Но ты же как все, — возражал ему я. — Ведь ты не пренебрегаешь прогрессом: ездишь в автомобиле, летаешь самолетом, звонишь по телефону, лечишься…
— Ну не очень-то… — уточнял он.
— Пусть не очень, но все-таки… Ты садишься в поезд, ты пользуешься теплом… Ты осуждаешь то, что тебе служит.
— Да, оно мне служит. Оно мне служит, но не я ему…
Он не служил никому и ничему. Он старался быть свободным. И он умел быть счастливым…
…Еще одна молодая женщина подошла с розой к могиле. Это была венецианка, которая приобрела известность благодаря своей любовной мести. Она была в свое время любовницей одного из тех итальянцев, которые презирают женщин под видом любви к ним и которые готовы пойти на что угодно, только чтобы о них говорили. Об этом итальянце рассказывали такую историю. Как-то раз в компании двух приятелей — из того же теста, что и он, — они втроем зашли в одну из венецианских кофеен, где блестящие автоматы выдают крохотные чашечки очень крепкого кофе. Один из них заказал кофе «крепкий» — stretto; другой, «повышая ставку», заказал «крепчайший» — strettissimo; тогда тот, чтобы не дай бог не уступить, усталым голосом объявил: «chuiso» — «закрыто»…
Он был на несколько лет моложе ее, и после двух-трех сезонов любви, заполненных различными бьеннале, фестивалями «Золотой лев» и прогулками на островах в рычащих мотоциклетах, сменил ее на молодую венгерскую актрису в духе сестер Габор, известных не столько своим талантом, сколько великолепной копной светлых волос.
Анна-Мария происходила из древнего патрицианского рода Бьянка-Капелло. Четыре века назад одна из этих Бьянка, пятнадцатилетняя девушка немыслимой красоты, стала тайной любовницей незнатного венецианца. Обманув бдительность родителей, она каждый вечер ходила на свидания, оставив приоткрытой дворцовую дверь, и рано утром незаметно возвращалась. Однажды ночью дверь оказалась случайно заперта парнишкой-слугой, который, также при полном неведении семейства Бьянка, возвращался от своей любовницы, местной швеи. Бьянка-Капелло колебалась недолго. Не имея возможности вернуться домой, она вернулась к любовнику и спросила его, действительно ли он ее любит. Получив ответ утвердительный, но несколько растерянный, она презрела все условности и даже серьезный риск, и бежала с ним во Флоренцию…
После целой череды авантюр — одна невероятнее другой — эта Бьянка-Капелло, которая не боялась самого черта и возвела в искусство любовную и политическую интригу, стала любовницей великого герцога Тосканского, а затем его супругой. Монтень встречал ее во время своего путешествия по Италии и описал в своем «Журнале». Подвергшись нападкам своего деверя, кардинала Медичи, движимого страстью, в которой смешались любовь и ненависть, она решила его отравить. По несчастному стечению обстоятельств, ее муж появился на прекрасной вилле Анны-Марии Де Поджио у подножия Монте-Альбано в тот самый момент, когда она угощала кардинала отравленным пирогом, который втайне приготовила. Великий герцог возвращался с охоты, он был голоден и протянул руку за пирогом. Воспротивиться, остановить руку мужа — значило бы сразу себя выдать. Бьянка позволила ему взять пирог, со смехом взяла кусок сама… Супруги немедленно скончались в страшных мучениях, а кардинал Медичи занял трон Тосканского герцогства…
Тень этой прародительницы Бьянка-Капелло, столь быстрой в принятии решений, предстала перед посрамленной Анной-Марией. Я сейчас видел ее перед собой, такую нежную и сдержанную. Но люди поистине непредсказуемы: и мужчины, и, особенно, женщины, а итальянки, тем более. К тому же Венеция — это небольшой город, в котором под горячим солнцем на водах его каналов быстро закипают страсти.
Возможность отомстить была предоставлена ей театром «Феникс», который тогда еще не сгорел и блистал в центре Венеции сотнями огней своей рампы. В тот вечер там давали праздничное представление. Это не был ни Вивальди, ни Гольдони и ни Верди. Театр принимал китайскую оперу, в ней были положены на музыку приключения знаменитого Хьюан-Чанга.
В VI или VII веке — через тысячу лет после Будды и полтысячи лет после проникновения буддизма в Китай — Хьюан-Чанг был одним из тех китайцев-поклонников Будды, которые, презирая все опасности, преодолевали горы и пустыни, чтобы достигать совершенства на земле самого Будды в Индии. Это долгое паломничество, длившееся 10–12 лет, становилось важнейшей частью всей жизни. Пилигримы проходили через бесчисленные приключения, гибли от жары и холода, тонули в реках, встречали на своем пути монахов, бандитов, прекрасных принцесс и полчища обезьян. Они поклонялись зубам Просветленного — их было не менее сотни, рассеянных по разным местам, — и Его же волосам.
Уставшая от своих Карпаччо, Тьеполо и Палладио, от регат на Большом канале, от громовых балов в сотрясаемых ими дворцах, которые обожали устраивать богатые американки, помешанные на «старой Европе», Венеция вдруг вспомнила, что Китай ей уже почти близок благодаря тесту, митрам, пороху и сказкам (Золушка-то родом из Азии), и посредником между ними стал в свое время один из самых знаменитых венецианцев — Марко Поло. В общем, небольшой театрик, весь красно-золотой под великолепным голубым потолком, в тот вечер был полон.
Анна-Мария была знакома с режиссером театра «Феникс»: через него, под разными лукавыми предлогами, ей удалось заполучить место в зале как раз за тем креслом, которое тот самый ветреник абонировал для своей прекрасноволосой венгерки, которую он сам нежно держал за руку.
В самый патетический момент, когда Хьюан-Чанг попадает в руки жестоких приверженцев кровожадной богини Кали, Анна-Мария достала из сумки солидные ножницы, более напоминавшие секатор. Глаза всех зрителей в тот момент были устремлены на Учителя Закона. Окруженный бандитами, ждавшими с саблями в руках приказа своего главаря снести голову подвижнику, Хьюан-Чанг обратил свои помыслы к горе Сумеру и сумел-таки своим мужеством и мудростью обратить заблудших к великим постулатам Будды. В тот самый момент, когда бывшие бандиты склонились один за другим перед Хьюан-Чангом, покоренные силой его духа, Анна-Мария в тишине крепко ухватила длинные белокурые волосы, свисавшие со спинки кресла перед ее глазами, и… как можно ближе к корням — темно-каштановым, как она сразу заметила, — она отхватила их ножницами!..
«Дело о стрижке» получило огласку в Венеции. Оно привело в восторг Ромена, и он постарался вернуть Анне-Марии — и с лихвой — ее угасавшую радость жизни…
…Вот и она бросила свою розу в его могилу.
Сестра в сером прошла мимо нас, склонив голову. Она слыла святой и была большой оригиналкой. Уж она-то разбиралась в розах и цветах, так как занималась тем, что дарила их «неприкасаемым», умиравшим в приютах для отверженных в Калькутте. Она делала это для тех, для кого ничего другого уже нельзя было сделать. Она не приносила им еду: они уже не могли есть; она не приносила им книги: они никогда их не читали. Она приносила им цветы — это живое чудо формы, цвета и аромата, как правило, бесполезное: их обычно приносят тем, кто не нуждается ни в чем, потому что имеет все. К возмущению тех, кто считал, что есть более насущные нужды, и к восхищению некоторых, она укрывала яркими ароматными цветами страдания и язвы тех, кто умирал в одиночестве, нисколько не сожалея о такой жизни. Она превращала в принцев тех бедолаг, которые никогда ничего не имели: в самый последний момент их жизни она возвращала им хотя бы немного их попранного достоинства, как застают на перроне вокзала или на подножке автобуса своего отбывающего друга, которому забыли сказать что-то очень важное…
…Ромен, когда он был проездом в Калькутте, где остановился в помпезном отеле с четырьмя ресторанами и шикарными бутиками, услышал о ней и заинтересовался. Однажды вечером, возвращаясь с ужина с хорошей выпивкой, проведенного с англичанами из Оксфорда и японцами, друзьями Мишимы, которые бойко цитировали Пруста по-французски, он наткнулся в холле отеля на что-то мягкое. Это была больная женщина. Настолько больная, что умерла прямо у него на руках. На следующий день он послал этой сестре сумму, которая позволяла скупить цветы во всех лавках города. С тех пор они и поддерживали отношения. У Ромена и сестры даже был свой ритуал: каждый раз, когда ей, всегда одетой в серое, строгой и энергичной, случалось проезжать через Париж, он обязательно приглашал ее на обед…
…За этой сестрой следовал назойливый тип, который долгое время преследовал Ромена своими предложениями услуг и просьбами. Он во что бы то ни стало хотел иметь с ним дело. Неважно какое. Это был сноб, любивший поговорить. В последний раз мы виделись с ним по случаю я уж не помню какой награды, которую он должен был передать Жерару. Он воспользовался этим случаем, чтобы произнести пышную речь, начав с дедушки, отца, дядей и теток Жерара, он упомянул затем все его публикации, вплоть до самых незначительных, и принялся перечислять мельчайшие детали его жизни, в сущности банальной… В общем, речи не было видно конца. Далла Порта, зевавший рядом со мной, с трудом скрывал нетерпение.
— О-ля-ля! — шепнул он мне.
— И я того же мнения, — ответил я ему.
Чтобы занять время, он рассказал мне о еще одной церемонии, но только совсем короткой. Леон Блюм должен был вручить почетный знак командора или высшего офицерства Почетного Легиона — Луи де Броглио (это ему Энштейн написал однажды: «Вы приподняли уголок великого занавеса…»). Блюм, похожий на длинную борзую, просто буркнул в адрес отца квантовой механики, который рассеянно и скованно выглядывал из своего высокого жесткого воротника:
— Месье, вы принадлежите к семье, в которой талант передавался по наследству, пока не перешел в гениальность.
И прицепил ему галстук — или орденскую планку…
…Процессия продолжала двигаться. Большинство были католиками, но разными: среди них следует различать традиционных, обрядовых, убежденных и критично мыслящих; среди них встречаются также «гошисты» и «интегристы», а также «действующие» и «симпатизирующие». С ними смешались протестанты: лютеране и кальвинисты. Были и евреи: ашкенази или сефарды. Присутствовали и мусульмане: сунниты или шииты, несколько измаэлитов. Были атеисты, более или менее явные. И целая толпа «никаких», которые не знают, во что верят, и вообще не хотят задумываться над неразрешимыми проблемами. Нет ничего более зыбкого, чем те представления, которые создают себе люди о Вселенной и о собственном существовании в ней…
Мир быстро меняется. Я подумал о своих родителях и дедах, о предках Ромена, Марго ван Гулип или всех тех, кто проходил передо мной. Подобная церемония была бы невозможна три века назад, и даже двести или сто лет назад. Наша планета становится единообразной. Текучей. Все границы и барьеры размыты вместе с теми ценностями, которые они должны были охранять…
Широкие празднества, о которых мне рассказывали или я читал о них в книгах Морана, Пруста, Шатобриана или Сен-Симона, исчезли в пропастях памяти. Четкие представления о чем-либо обратились в пыль. Неторопливый и разнообразный мир лошадей с колясками, гувернеров и лакеев в ливрее, компаньонок и субреток в черном и белом, с передником на талии и кружевным чепчиком, придворных балов и псовых охот (я сам еще застал их конец) ушел в туманное небытие, которое мы называем прошлым. Туда же канули венецианские и генуэзские купцы, турниры, трубадуры, каменщики, возводившие соборы, аркебузы, весталки, древнеримские предсказатели и цирковые ристалища. Когда-нибудь и наш образ жизни, который кажется нам таким естественным и неизбежным, тоже исчезнет, как исчезли в свое время тоги, камзолы, любовные ухаживания или суждения о Боге: они покажутся устарелыми и абсурдными новым поколениям, исполненным вызова и веры в себя и уже заранее обреченным, в свою очередь, на осмеяние и забвение…
Эта карусель вращалась без остановок, и чем дальше, тем быстрее. Мир, в нашем субъективном сознании, — превращался в калейдоскоп…
Между тем, среди этого хаоса наших представлений о мире сам мир менялся мало. Пространство и время продолжали существовать как существовали. Все оставалось на своем месте: Солнце, Луна, море, горы, реки, очертания континентов, киты, пчелы, муравьи с их военной дисциплиной; человеческие страсти, вечные и преходящие: жажда власти, любовь к любви, любопытство самодостаточного разума. И было возможно и позволительно иной раз отвлечься от утомительных превратностей истории и найти себе убежище в том, что не менялось: в главном…
Что-то главное, что не меняется… Может быть, существует все же это главное, только мы не знаем где и как?..
…Что же все-таки неизменно? Ведь меняется все. Нет ничего под Солнцем, что не менялось бы. Да и само Солнце…
Начало философии, которое сразу же стало и философией Начала, заслуживает великого уважения за то, что сразу стало различать два Понятия: с одной стороны, это «изменчивое» и «преходящее», а с другой стороны — «неизменное» и «вечное». Метания человеческой мысли между временным и вечным, между множественностью творений и единством бытия воплотили собой два величайших философа: Гераклит и Парменид.
Что же длится и не проходит? Что не рождается, а следовательно, и не умирает?..
Вечное, которое не от мира сего, где ты есть? Это был именно тот вопрос, который Ромен опасался себе задавать. Определив себе место в самом «оке циклона», в самой горячей точке времени, которую мы называем «настоящим», он подсмеивался надо мной, когда я, рассуждая о том, что запредельно для человека, пытался прыгнуть выше головы.
Этот запретный вопрос мог предполагать два ответа. Один из них — Небытие. Был и другой ответ на вопрос о вечности. Это Время. Ромен, который всегда жил слишком нетерпеливо и не утруждал себя проблемами такого рода, объединил бы, возможно, без лишних рассуждений оба варианта. Время есть вечность по одну сторону жизни, а небытие тоже есть вечность — по другую ее сторону…
Дивно устроен человек. У могилы Ромена, среди всей этой круговерти воспоминаний о любовных связях Королевы Марго, ножницах Анны-Марии или преступлениях мафии я стоял и думал теперь о Времени.
Было ясно, что время объяснить невозможно. При мысли о том, что же это такое, начинала кружиться голова. Что это за штука, утекающая между пальцами, о которой ничего определенного нельзя сказать, но которая существует в самой сердцевине жизни, внутри каждого из нас? И все живущее во времени будет когда-нибудь из него изгнано…
А как мы любим это свое время! Неслучайно столько людей пришло к тебе, Ромен, с цветами: все они понимают, что ты умел быть хозяином времени, ты держал его в руках. Ты не занимался прошлым, и очень мало — будущим. Ты устроился в настоящем, как в завоеванной тобой стране, и ты делал его праздником. Ты был гением жизни, потому что побеждал время.
…Время — наша тюрьма. Мы украшаем ее занавесками на окнах или цветами на балконе, но не можем никуда выйти. И не потому что нас кто-то не пускает. Мы просто не можем… Вокруг этой тюрьмы простирается другой мир: враждебный и холодный, а может быть, и лучезарный, но никто этого не знает, потому что никто оттуда не возвращался. Некоторые из этой нашей тюрьмы сбежали, но не подали о себе никаких вестей. И мы тянем свое время как можем. Кто-то из нас — директор тюрьмы, кто-то тюремный священник или тюремный музыкант. Одни убирают в ней мусор, другие отдают приказы и бряцают ключами. Мы украшаем свою тюрьму и даже время от времени разоряем ее. Мы сочиняем правила, организуем праздники, держим собак, котов, красных рыбок, растим деревья, пишем стихи и рождественские сказки в учетной книге этого заведения. И строим много догадок о неизведанных краях, которые есть где-то там, за пределами тюрьмы. Ромен сейчас их исследует…
Жизнь, вообще, несправедлива. Место, которое занимал в ней Ромен, не соответствовало его талантам, деятельности и тем более — роли в истории. Он был очень талантлив, — но гораздо менее, чем огромное количество безвестных талантов, которые умирают в одиночестве, забытые всеми. Он оставил свой след в мире, но этот след незначителен в сравнении с теми художниками, музыкантами, политиками, учеными, философами, которые изменили наш взгляд на мир и саму нашу жизнь. Тогда что же в нем было такого, что столько людей оплакивает его? Кто может ответить?..
«Я просыпаюсь утром, — писал где-то Монтескье, — с тайной радостью. Я вижу свет и в восторге от этого. И потом весь день я доволен». Ромен тоже был доволен. В этом была его сила и его слабость. Он не сыграл великой роли в этом веке, который сейчас заканчивался. Этот век с его массовыми убийствами, фальшивыми праздниками, последовательно сменяющимися болезнями, шантажом и заложниками, слишком большой любовью или слишком большой ненавистью к деньгам, с его чудовищными наклонностями, крахом всякой веры и надежды, с отвращением к искреннему смеху, но большим желанием высмеивать, с его колоссальным лицемерием, был, бесспорно, одним из самых зловещих за всю историю. Ромен не плыл в его потоке. Он плыл против течений своего века. И не столь важно, что он не отметил собой свою эпоху. Избегая моды как чумы, Ромен не подражал никому. И поэтому он был неподражаемым.
… В конце процессии, опираясь на свою дочь Изабель, приближалась Марина. Я давно ждал этого. Я хотел видеть, как она склонится над телом Ромена…
Честно говоря, в этот момент все это: великая депрессия, мафия и авантюры Марго ван Гулип, сталинградская битва и проблема времени — были мне глубоко безразличны. Дело в том, что я долго, более двадцати лет, в сущности делал только одно — любил Марину…
Нет, конечно, я занимался и другими делами. Ложную идею о любви преподносят нам книги, фильмы, театральные пьесы (ведь она главный «поставщик материала» для них): они описывают любовь как нечто заполняющее весь горизонт жизни и все поле деятельности тех, кого она поразила. Да, она заполняет горизонт, но не стирает его. Я не оставался в неподвижности, лелея в себе страсть, которая, надо признать, полностью захватила меня. Я ездил по миру, писал книги, выпускал газету, но земля для меня не перестала вращаться. Я жил той же жизнью, что и все, подчиненной своей эпохе и своей среде. Но при этом вся она была сосредоточена на Марине…
…Самый прекрасный сон когда-нибудь кончается. Мне нужно было продолжать учебу, Париж призывал нас, и мы все покинули Патмос, где под жарким солнцем и яркими ночными звездами я был так счастлив в компании с Роменом, Беширом и Мэг Эфтимиу. Мы расстались в зале аэропорта так, как это издавна заведено: пообещали друг другу обязательно встретиться. Затем Мэг с дочерью и Ромен сели в большой автомобиль, прибывший за ними, и каждый из нас пошел по жизни своим путем.
…Война уходила в прошлое. Была середина века, пятидесятые годы. Это было время Эйзенхауэра, триумфа Мао-Цзедуна, войны в Корее, смерти Сталина, прихода к власти Хрущева. В кино царили два Бергмана: Ингмар, подаривший нам «Улыбки летней ночи», «Седьмую печать» и «Земляничную поляну», и Ингрид, которая вышла замуж за Росселини после съемок «Stromboli». Во Франции всю театральную сцену заворожил Сартр. Я любил проехаться на автомобиле по холмистым селениям Тосканы и Умбрии, где парни в белых рубашках прогуливались по вечерам с девушками среди этрусских могил или вдоль сельских изгородей. Я поддерживал связь с Роменом. Он часто встречался с Мэг и рассказывал мне о ее американских приключениях; иногда он упоминал о ее маленькой дочери, которая так забавляла меня на террасе Патмоса: она учится читать, у нее выпал зуб, она пошла в школу, она учится ездить верхом со своим отцом, она начала танцевать. Я улыбался.
— А помнишь, — говорил я ему, — нашу первую встречу на террасе, зеленые домики Калимноса, забавные словечки Марины…
Конечно, он помнил.
— Она была чудесным ребенком…
— Да, — говорил Ромен, — чудесным. Как все дети. Интересно, какой она станет…
Мэг Эфтимиу была сильно влюблена в Ромена. Она была первой из известных мне женщин, на кого так действовали чары Ромена. При этом самой красивой и обаятельной. Все остальные, а их было немало, как правило, намного уступали ей. Он мало рассказывал мне об их отношениях. Тогда я еще был менее близок с ним, чем стал потом. Я припоминаю, что в начале наших отношений я даже задавался вопросом, не является ли он отцом Марины. Это было, конечно, глупо, так как она родилась до того, как Ромен первый раз встретился с ее матерью в Нью-Йорке. Я думаю, что Мэг очень хотелось выйти за него замуж, хотя он был значительно моложе ее. Да и сам Ромен, вероятно, вертел эту мысль и так и сяк в своем воображении. Но для него оказалось невозможным пожертвовать тем, что он ценил больше всего на свете, — своей свободой. Они страстно любили друг друга и не связали себя официальными узами; у каждого из них были свои бесчисленные любовные связи, но, покидая друг друга надолго, они никогда мысленно не расставались.
Ромен слишком тяготился любыми официальными церемониями, чтобы участвовать в обрядах, возглавляемых мэром, пастором, раввином или священником. В результате череды замужеств, все менее удачных, Мэг превратилась в Марго. Тед ван Гулип, последний из ее мужей, руководил в Нидерландах и Соединенных Штатах одним из влиятельных каналов телевидения и прессы, который мощно содействовал победе на выборах, с малым отрывом, Джона Кеннеди над Ричардом Никсоном в 1960-м году… В 1956-м году ему посчастливилось уцелеть в крушении лайнера «Андреа Дориа». Зато через лет двенадцать (и через четыре года после женитьбы на Мэг, которую он называл Марго) его личный самолет разбился во Флориде. Марго была в это время в Париже с Роменом.
Я в то время не слишком интересовался Мэг, чья жизнь постепенно двигалась к «периоду Марго», и ее дочерью Мариной тоже. Можно сказать, что их почти не было в моей жизни, ни одной, ни другой. Девочка была пристроена матерью в какую-то швейцарскую школу, возможно, в Розе или Монтессано. Рассказывали, что какой-то журналист или американский банкир на одном из обедов спросил Марго, где учится ее дочь, и нежная мамаша не смогла ответить: она сама толком не помнила, куда ее сплавила. Так что, боюсь, мать не перегружала себя заботами о дочери… Я же в это время работал, катался на лыжах, несколько раз путешествовал по Азии с Роменом. Лишь изредка в разговорах мелькал блистательный и несколько таинственный силуэт нашей хозяйки с Патмоса.
Прошлая жизнь в нашем собственном представлении вовсе не подобна банку данных в компьютере. Это скорее игра зеркал, в которых мы представляем или реконструируем образы такими, какими они нам помнятся.
Сейчас, у могилы Ромена, в моих ушах еще отчетливо звучал его голос. Всякий раз, когда во мне возникало то далекое воспоминание о Патмосе, оно, в свою очередь, вызывало во мне образ Марины-ребенка. Я не видел ее уже столько лет, и мне трудно было представить, слушая Ромена, образ молодой девушки и черты ее лица, измененные временем, более могущественным, чем наше воображение…
… И вот однажды я опять увидел Марину. Она была той же и, конечно, другой. Это было немного до или немного после, точно не помню, событий 68-го года. Возможно, в «Одеоне» или в «Старой голубятне», во всяком случае, в театре. Тогда, кажется, генерал Де Голль был еще у власти. Ей было лет девятнадцать — теперешний возраст ее дочери Изабель, которую я сейчас вижу перед собой.
Марина была почти так же красива, как ее мать. Но, несмотря на сходство с матерью, я бы ее не узнал. Я уже пару раз бросал на нее взгляд только из-за ее блистательной молодости и жившей в ней радости, которая угадывалась еще в той маленькой девочке с Патмоса и которая стала — я узнаю об этом позже — ее отличительной чертой.
Она подошла ко мне, улыбающаяся, очень прямая, и, чуть наклонив голову, сказала самым естественным тоном, как если бы мы были давно знакомы (впрочем, так оно и было):
— Я Марина.
Я переспросил:
— Марина?..
А потом прошлое налетело на меня вихрем, и я прижал ее к себе.
…Прошло еще какое-то время. На то оно и время, чтобы идти. Несколькими годами позже я опубликовал книгу, в которой упоминал некоторые места Индии, Китая, Афганистана, где побывал вместе с Роменом, — это была моя «Слава Империи». Студенты пригласили меня побеседовать с ними в зале Сорбонны. Вхожу и вижу: в первом ряду — Марина. На этот раз я узнал ее сразу. Она задала мне какой-то вопрос. Я ответил, назвав ее «мадемуазель». Когда все разошлись, я предложил Марине сходить вместе в «Бальзар» или «К Липпу». Она тут же согласилась. Мы заговорили о Греции, о Соединенных Штатах.
Она помнила Патмос, но очень смутно. Я описал ей маленькую девочку, которая гуляла вдоль моря, держа свою ручонку в моей. Я рассказывал, какой она была и как очаровала меня на террасе под южными звездами. Она смеялась. В тот вечер она смеялась, как прежде — на острове…
Я расспрашивал Марину о Швейцарии, где она долгое время жила, об Америке, где ее мать проводила часть своей жизни. Я восстанавливал для себя целые пласты ее жизни, неизведанные континенты…
Я поостерегся рассказывать ей то, что знал о ее матери от Ромена и чего она не знала: об отношениях Мэг со Счастливчиком Лючиано и об обстоятельствах ее замужества с адвокатом Малоне. Ее представления о матери оказались столь далекими от того образа, который я сохранил в собственной памяти и от того, что я составил себе по редким рассказам Ромена, что можно было подумать, что речь вообще идет о трех разных женщинах…
Мы вспомнили Бешира, который был для нее чем-то вроде дорогой старинной японской вазы, несколько потертой, или какого-нибудь почтенного социального института. Говорили мы и о Ромене.
Поистине, земля вертится как ей вздумается. Марина мало знала о матери, о которой многие другие сохранили столь яркие впечатления. Конечно, несколько мутное прошлое этой сверкающей звезды не оставляло дочь равнодушной. И когда она заговорила о матери, в воздухе запахло тревогой.
— Скажите, — спросила меня она, — это правда, что она была хорошо знакома с Д’Аннунцио?
Д’Аннунцио! Здесь только не хватало этого пламенного любовника Дузе! Я почти ничего не знал об отношениях Мэг и знаменитого автора книг «Дитя сладострастия» и «Огонь», он был таким старым, что казался частью давно ушедшего мира. Да, о Мэг рассказывали, что она была подругой Арагона до или после Нанси Кюнар; что Д’Аннунцио обожал ее, когда она была моделью знаменитого дома Шанель. Но, в отличие от ее общеизвестной связи с Мальро, что можно было сказать определенного о ее отношениях с Д’Аннунцио?..
— Твоя мать, — говорил я уклончиво, — знала много людей. И ты знаешь, какая она красивая. Когда я увидел ее тогда на Патмосе, она выглядела богиней, спустившейся с Олимпа.
— Да-да, — отвечала Марина, — она такая красивая…
В ее голосе слышалось нежное восхищение и что-то еще, звучавшее как отдаленный упрек.
Она спросила меня:
— Вы очень дружны с Роменом?
Я ответил:
— Я очень люблю его.
— Я тоже, — прошептала девушка.
— Ты часто видишься с ним?
— Не очень, — ответила она. — Он часто видится с мамой.
Было уже поздно. Мы расстались на бульваре Сен-Жермен. Расстались со смешанным чувством радости и печали, которое станет потом на долгие годы лейтмотивом нашей любви…
…Марина уже не плакала. Я неподвижно стоял под бледным солнцем, освещавшим кладбище из-за туч, и смотрел на нее: она тоже неподвижно стояла перед могилой Ромена, опираясь на дочь. Она была почти в самом конце длинной процессии, вот уже более часа топтавшейся на подходе к могиле. Марина… Она неотделима от моей жизни. И от жизни Ромена…
Через несколько дней я обедал с Роменом, Казоттом, Далла Порта и Жераром у Ле Кименеков. Ромен должен был на следующий день улетать в США, где его ждала Марго, поэтому хотел лечь спать пораньше. Мы вдвоем ушли первыми.
Выходя, я рассказал ему, как мы встретились с Мариной.
— А-а, — только и сказал он.
— Мне было так приятно снова увидеть ее. Ты, вероятно, видишься с ней чаще, чем я. Мы с ней случайно столкнулись в театре года два назад, а потом я опять потерял ее из виду. И вот она пришла в Сорбонну на эту мою встречу со студентами. Она очень симпатичная. И вообще очень хороший человек.
— Да, — ответил Ромен, — неплохой.
— Неплохой?!
— Лучше, чем неплохой, если уж тебе так хочется. Но слишком настойчивый.
Я внимательно посмотрел на него:
— Ты не очень-то хорошо настроен к ней, — сказал я ему.
Мы спускались по улице Суффло. Он остановился и закурил сигарету.
— Я очень хорошо к ней отношусь, — сказал он.
— Но?.. — подтолкнул его я.
— Я предпочитаю ее мать.
— Я знаю. И что из этого?
— А то, что она бегает за мной.
В интонации Ромена мне послышался не просто цинизм — это случалось с ним довольно часто — сейчас слова его прозвучали настолько вульгарно, что на моем лице, должно быть, отразилось изумление.
— Приди в себя, — сказал он и хлопнул меня по плечу.
Я расхохотался:
— Так на что же ты жалуешься? В детстве она была такой очаровательной девчушкой. Ты помнишь, какой она была на Патмосе, когда прыгала к нам на колени?
— Помню… — сказал он задумчиво. — Да, она была очаровательной…
— И, я уверен, никто не скажет, что теперь она стала хуже.
Мы пошли дальше и подошли к Люксембургскому саду.
— Она тебе нравится? — спросил Ромен, с сигаретой в зубах, держа руки в карманах.
— Да, конечно, — ответил я. — Очень.
— Тогда будь другом, займись немного ею.
…Говорила ли она мне «позвоните»? Говорил ли я ей «я тебе позвоню»? Не могу сказать. Во всяком случае, я тогда попросил у нее номер ее телефона, и она мне его дала. Был ли я влюблен в нее уже тогда, на бульваре Сен-Жермен, у перекрестка улицы Фур, рядом с баром, где подавали настоящий ром с Мартиники и где на протяжении многих лет назначали друг другу встречи многие наши друзья? Был ли я уже влюблен в нее в тот вечер с Роменом, у Люксембургского сада? Не думаю. Скорее мне стало ее жалко. Те несколько слов, которыми мы обменялись тогда с Роменом, вызвали во мне какое-то щемящее чувство. Возможно, по вине самого Ромена что-то проскользнуло между ним и мной: это «что-то» и была она. У нее было все, или почти все, она ни в чем не нуждалась, но при этом она выглядела потерянной и какой-то заброшенной. Вообще-то, двадцатилетним людям часто свойственно впадать в тоску, но она казалась самим воплощением этой юной тоски…
…Она бросила розу. И я отвел глаза, так и не осмелился посмотреть на нее в это мгновение… Затем она направилась ко мне, и я обнял ее. Изабель подошла к бабушке и отцу, оставив нас с ней вдвоем…
… Я позвонил ей. И мы встретились. Мы стали назначать свидания где-нибудь на углу улицы, у входа в метро. Время от времени мне вспоминались слова, брошенные тогда Роменом после ужина у Ле Кименеков, но я тут же гнал их от себя. Мы с ней часто ходили в кино «Золотая каска», «Рашомон»… Мы пересмотрели все старые фильмы, на которые ее мать и Ромен ходили еще в Нью-Йорке… Нам понравился «Notorious» с его лестницей ужасов; «Магазин за углом» с его сверхизысканностью, там вообще ничего не происходит; «Касабланка», «Сыграй еще, Сэм…»; «Филадельфийская история» с ее парусником и Хепберн, той первой, несравненной; мистический «Великий сон», в котором мы ничего не поняли: возможно, это произошло потому, что во время этого сеанса мы с ней первый раз поцеловались…
… — Вот и все, — сказала она.
— Бог с тобой, — пытался я утешить ее. — Пройдет время — и все забудется.
— Забудется? — возразила она. — Никогда.
— Не спорь — забудется. У тебя еще вся жизнь впереди.
— Да у меня дочь уже взрослая, — ответила она.
В нескольких шагах от нас Изабель разговаривала с Жераром и бабушкой.
— Тебе было столько лет, сколько ей сейчас, когда — помнишь? — Мы с тобой смотрели «Великий сон».
Что-то вроде улыбки мелькнуло на ее несчастном лице.
— Ты помнишь это? — спросила она.
— Никогда не забуду, — ответил я.
Но мы говорили не об одном и том же…
…Я уже не был мальчиком. Мне было тридцать три или тридцать четыре года. Когда голова Марины лежала у меня на плече или на коленях, мы часто подсчитывали эту разницу: она была на пятнадцать лет, три месяца и двадцать два дня моложе меня. К этому времени я уже написал несколько книг. Это были далеко не шедевры, но они все же не прошли незамеченными. Через несколько лет у меня появятся некие общественные функции, выполнять которые и при этом вести себя как мальчишка было несовместимо. А я дал вихрю наших с ней чувств увлечь себя как восемнадцатилетнего. Счастье и несчастье, все демоны и ангелы нашей любви в сущности, это самые прекрасные воспоминания моей жизни. И сейчас, когда жизнь уже прожита, мне кажется, что только это и было в ней прекрасным.
Как ни странно, я никак не мог задать Марине два мучивших меня вопроса, во всяком случае, в первое время нашей сумбурной связи. Первый — насчет Ромена. Он говорил мне о ней, но я не осмеливался спросить ее о нем. Второй вопрос касался ее и меня. Очень скоро я признался Марине, как сильно нуждаюсь в ней. Но я никогда не спрашивал, нужен ли я ей. Я боялся услышать ответы…
Это были, во всяком случае для меня, незабываемые дни и бредовые ночи. Мне казалось, что Марина всегда была рядом со мной с той далекой встречи на Патмосе, когда она была еще ребенком. То, что было в ее отсутствие, не существовало. Она была сладостью, забвением, нежностью. Для жизни мне было достаточно ее присутствия, простого и очевидного.
Мы мало разговоривали. Я говорил ей:
— Я так счастлив с тобой.
Она смотрела на меня и говорила в ответ:
— Обними меня.
И бросалась в мои объятия. И я, словно с повязкой на глазах, больше не видел ничего…
…Она бросилась в мои объятия. Траурная процессия заканчивалась. Толпа понемногу рассеивалась. Слышался шум отъезжающих машин. Напряжение спало, повседневная жизнь вступала в свои права. Смерть уже не держала так плотно всех нас в единой охапке. Работники кладбища и похоронной службы возвращались в свою среду обитания, которая на несколько часов была отдана друзьям Ромена. Гроба не было видно. Он был усыпан розами, и сейчас его должны были засыпать землей. И я уводил Марину, уводил от смерти и от прошлого. Я увлекал ее за собой к ее матери и дочери, к Жерару и Беширу…
Я уговаривал ее:
— Уходим…
…И мы с ней уходили. Покидали Париж и отправлялись куда-нибудь. Все равно куда. В Рим, Флоренцию, Венецию, где — чудо совпадения — ни она, ни я еще не бывали; в Лондон, в Зальцбург… Мы много ездили. Мы убегали… От чего? От обыденности. От кого? Ото всех, и в первую очередь, от самых близких: Марго и Ромена… Был период — в семидесятые годы, — когда мы путешествовали непрерывно. Часто через два-три уикенда, иногда — каждый уикенд. Все авторские гонорары за мои первые книги уходили на эти поездки. Марина была абсолютно свободна, даже слишком, и в этом была ее драма: отец отсутствовал, мать тоже зачастую находилась где-то далеко. Ромен ею не интересовался. Ее занятия историей искусств, весьма необременительные, позволяли ей отсутствовать почти всегда, когда ей вздумается. Вследствие таких частых отлучек моя работа, конечно, страдала. К изумлению многих, я отказался от нескольких должностей только для того, чтобы иметь больше свободного времени и посвятить его Марине. И еще: в эти годы две из написанных мною книг явно нуждались в более тщательной проработке, некоторые критики не преминули указать мне на это, и они были правы.
А мне было на это наплевать. Мы уезжали, и это было счастье! Чаще всего на юг, и там так светило солнце! Мы побывали на берегах Средиземного моря во все времена года. Капри, Портофино, Трани, Отранто, Палермо, Корфу, Чанте… Чаще всего летом, но также весной и осенью мы устраивались там на две-три недели, иногда даже на месяц или два. Когда я бросаю взгляд в прошлое, я вижу там Марину в солнечном свете…
…Ко мне подошел Бешир: возникли кое-какие проблемы. Нужно было помочь организовать людям отъезд. «Большое предместье» (они приехали сюда в машине Королевы Марго) были уже пристроены. Бешир усадил их обоих — «Королевское местечко» и «Выбери короля» — вместе с Виктором Лацло в миникар, который он предусмотрительно заказал до начала траурной церемонии. Генерал Дьелефи согласился подвезти в своей машине с кокардой белокурую парикмахершу и даже не заставил долго себя упрашивать. У Альбена и Лизбет Цвингли, прибывших сюда на такси, не было на чем вернуться. Казотт потерял очки, ухаживая за Марго. Многие, кто приехал издалека, ввиду того что приближалось время обеда, спрашивали, есть ли где-нибудь поблизости бистро, где можно было бы поесть… Марина все время держалась возле меня…
…Мы с ней прогуливались на Авентинском холме, таком спокойном со стороны Сент-Сабины, и возле виллы кавалеров Мальтийского ордена в толпе тысяч туристов, таких же, как мы. Мы пытались рассмотреть собор Святого Петра через замочную скважину. Мы прогуливались вдоль Арно, в садах Боболи и у подножия Сан-Миниато. Мы побывали в Вероне у бронзовых дверей Сен-Зенона, под балконом Джульетты… Ради взгляда Марины, ее улыбки, ее руки в моей руке я был готов дарить ей весь мир…
Вероятно, оттого что я любил ее и она была так молода, у меня остались волшебные воспоминания о том времени. Меня не раздирали мрачные страсти, которые обычно отравляют нашу жизнь: жадность до денег, скупость, тщеславие, погоня за почестями, зависть, ревность. Я равнодушно взирал издали на карьерные успехи людей моего возраста. Одни становились депутатами, а затем министрами или государственными секретарями; другие писали книги, выходившие большими тиражами, и получали за них премии; третьи занимали важные посты или зарабатывали большие деньги, с которыми не знали что делать. Чужие успехи — наказание лентяям. Я же был так счастлив с Мариной, что они были мне безразличны. Эти люди скорее забавляли меня. Мне даже было их жаль. Мы наслаждались кофе на террасах, залитых солнцем… Мы вели жизнь эгоистичную и легкомысленную. Нас редко раздражали события и люди, потому что мы их игнорировали. И мир прекрасно обходился без нас…
Два или три лета подряд мы жертвовали нашей любимой Италией ради одного из греческих островов. Мы снимали недорого домик где-нибудь в удалении от деревни, на самом берегу моря. Автомобили, газеты, разнообразные факты, налоги, политические дебаты и учреждения, — мы оставляли позади себя все это, а заодно и Марго с Роменом. В Наксосе наше окно выходило прямо на поле лаванды. В Сими посреди нашего сада росло фиговое дерево. В его тени я писал книгу о своем детстве, потом я назвал ее «На радость Богу». Мы с Мариной когда-то прочли это изречение в Риме в одной круглой часовенке…
Мы бродили по песку, много спали, ни с кем не виделись, купались везде, где только можно; мы питались помидорами, голубцами в виноградных листьях, «цациками». Раз в неделю в порт прибывали парижские газеты, мы не ходили их покупать. Когда я потом однажды утром случайно встретил Жерара на бульваре Сен-Мишель, он спросил меня чуть ли не изумленно:
— И не скучно вам бывает там вдвоем?
Нет, нам не было скучно. Мы почти ничего не делали. И мы любили друг друга.
Мы с ней избегали говорить о Ромене. Слова, которые он бросил мне тогда, на улице Суффло, не выходили у меня из головы. Я лишь старался загнать их в самый дальний угол памяти. Но и там они упрямо просились на волю. Я бил их по макушкам — они успокаивались, но не исчезали. Я доходил до того, что спрашивал себя, не встречаются ли Марина и Ромен за моей спиной. Но эту мысль я тоже немедленно гнал прочь. Между нами тремя установилась своя система умолчаний. Ромен больше ни разу не произнес передо мной имени Марины. Ни Марина, ни я никогда не упоминали о Ромене, хотя его тень довлела над нами даже в его отсутствие. Только от него я знал о тех невидимых нитях, что связывали их двоих. Она не догадывалась, что Ромен говорил мне о ней с таким усталым пренебрежением. Все это стало нашим «великим молчанием»…
…Я пожимал чьи-то руки. Белокурая парикмахерша поцеловала меня, и я обещал посещать ее. Супруги Цвингли, которых Бешир «утрамбовал» в машину посла в отставке, приглашали меня в свой шале в Гризоне погулять по горным тропкам, послушать Баха и вспомнить Ромена. Отец-иезуит убеждал меня вполголоса, что в доме Отца нашего Небесного есть много обителей. Я ответил ему, что уже где-то слышал это… Раввин-друг Ромена рассказывал мне, что два-три года назад принимал его в своей синагоге по случаю «бармицвы» одного из племянников. Раввин, бывший сефардом, спросил тогда у Ромена, не относит ли он себя, в память о матери, к иудейской конфессии.
— О, — сказал ему тогда Ромен, — я далек от какой бы то ни было религии. Если бы мне вдруг вздумалось присоединиться, то я, вероятно, счел бы себя «ашкенази», как моя мать.
— Но тогда, — ответил ему раввин с бледной улыбкой, — вы дважды чужой в этом Божьем доме.
…Наше с Мариной «великое молчание» взорвалось в то знаменательное майское утро в комнате номер семнадцать отеля «Карузо-Бельведер» в Равелло.
Долгое время я любил отели. Приезжаешь, уезжаешь, ничто тебя не стесняет: ни книги, ни привычки, ни мертвящая рутина. Никто не знает, где ты: ни любопытная тетушка, ни налоговый инспектор, ни главный редактор, ни школьный товарищ, который обязательно хочет отпраздновать с тобой тридцатилетие своей семейной жизни, — все они, к счастью, потеряли твой след. Не надо заботиться об отоплении и питании. Останавливаясь в скромных, но добротных заведениях, можешь держаться каким-нибудь герцогом, если оплачиваешь все услуги разом.
Посетив в Италии, особенно в стороне Сиенны, Монтепульчиано, Тоди, Орвието, добрый десяток прекрасных отелей, мы с Мариной задумали составить что-то вроде справочника в форме путевых заметок, где был бы дан обзор музеев, церквей, магазинов одежды и обуви, исторических событий и литературных воспоминаний, виноградников и кипарисов, тратторий, отелей, семейных пансионов и комнат, сдаваемых внаем. Мы таким образом уже «сняли пенку» с Тосканы и Умбрии, где изъездили все дороги и чувствовали себя как дома. Мы отметили даже несколько «белых пятен» — грунтовых дорог, которые еще там оставались.
После Тосканы мы исследовали Марчи, Абруццо, Пуйи, эти незабываемые Пуйи. Все-таки жизнь сильнее смерти: даже возле могилы Ромена я вспоминал Пуйи как обещание счастья на всю жизнь…
Потом мы отправились в Неаполь. На побережье между Позитано и Амальфи было слишком много народа, и мы направились вглубь, через долину Дракона, к Равелло.
Легендарный Равелло спокоен и величествен. И он оставил свой благородный след в искусстве. Роман Стирона «Жертва пламени» открывается описанием Самбуко. Его Самбуко — это Равелло. Вагнер писал свою оперу «Парсифаль» в садах виллы Руфоло, и с тех пор они навсегда стали садом карлика Клингзора. На вилле Чимброне, великолепной сопернице виллы Руфоло, Грета Гарбо и Стоковский пережили за три дня историю своей вечной любви. Мы выбрали в Равелло отель «Карузо-Бельведер» возможно из-за его комичного двойного названия, в котором почему-то объединились представитель культуры и частица природы…
…Марго возвращалась ко мне, опираясь на Казотта, который наконец нашел свои очки; супруги Цвингли махали мне на прощание за стеклами дипломатического автомобиля; Бешир пожимал руку раввину из Нью-Йорка… вот мелькнули заснеженные украинские степи; затем возник в Касабланке генерал Де Голль, сопровождаемый супругой адвоката Счастливчика Лючиано… комнатный слуга Гитлера по имени Гейнц Линге… рука Марины в моей на пляже Патмоса… успех Ле Кименека, как производное его печалей, и наоборот… Тамара в Туле и английская Молли под бомбами… безжизненное тело Ахмеда перед Дар-аль-Мизаном с животом, набитым камнями… месса итальянцев у Симеона-Столпника… «белая лошадь» Мишеля Полякова в салоне у Карбоне… надежды и горести любви… розы… все закружилось вдруг вихрем вокруг меня…
Целый мир возникал из одной-единственной реплики Бешира, фразы, сказанной когда-то Роменом, взгляда Марины, образа оливы из Равелло… Не было ничего в пространстве и времени и во всех его глубинах, что не отсылало бы, в свою очередь, к чему-то еще… Ничто не существует само по себе. Ничто не является конечным. Все течет, все перемешивается. Инь и ян, заполненность и пустота, грязь и звезды…
…Я вернул себя в тот день в Равелло: вокзал, поезд стоит сорок секунд, буфет, корреспонденция, отель «Карузо-Бельведер»…
Я открыл ставни. Солнце хлынуло в комнату номер семнадцать; она была совсем простой, но осталась в памяти навсегда. Всего несколькими днями ранее, в Париже, терявшая силы зима еще топала в теплых калошах по улицам, а здесь, в долине Дракона, зацветали лимонные деревья. Оливы благодарно вздымали руки к небу, они освободились от зимы. Вдали, за виноградниками и кипарисами, виднелось море.
Я смотрел на мир: он был прекрасен. Я повернулся, чтобы позвать Марину. Она еще спала. Ее голова, в облаке светло-каштановых, почти светлых волос, покоилась на согнутой руке. Простыня наполовину укрывала и в то же время обнажала ее. Линии ее тела были так чисты, что казались воплощением земного совершенства. Эта очаровательная картина удержала меня, и я молча вновь обернулся к окну.
Слышалось пение птиц. Детский голос. И больше ничего. Небесная синева поглотила все вокруг. Неподвижная, тихая долина сверкала под солнцем. Перспектива звала вдаль к морю сирен, по которому плыл Одиссей… От всего этого зрелища перехватывало дыхание…
Я вернулся в постель, где спала Марина. Она проснулась. Я обнял ее. Почувствовал на губах ее дыхание. Ее дыхание, ее руки, ее стройные длинные ноги… Все остальное исчезло, весь мир стал ею… Ее ртом, животом, ее нежными круглыми грудями… Самое глубокое у человека — это его кожа. И мы задержались на этом самом глубоком… Мы обменивались нашими дарами. Она возвращала мне то, что я дарил ей. На самом-самом краю страдания, всего за мгновение, счастье опередило его и накрыло меня с головой…
Мы долго лежали вытянувшись рядом. И ничего не говорили. Наши руки касались. Ее голова лежала на моей груди, и я слушал ее дыхание. В такую минуту нельзя лукавить, произносить пустые красивые слова. Я сказал только:
— Мне так хорошо.
Она сказала:
— Мне тоже.
Я поднялся. Подошел к окну и позвал ее:
— Вставай. Посмотри, какое солнце.
Она подошла. Я прижал ее к себе. Мы вместе любовались виноградниками, оливами, кипарисами. Ну-ка, а что это там вдали? О-о, да там море…
Мы вернулись в комнату. Я бросил ее на кровать. Мы со смехом поцеловались. Она хотела встать. Я не пускал. Она подчинилась. Положив руки ей на плечи, я сказал:
— Ты красивая.
Она погладила меня по щеке. Мне показалось, как-то поспешно. Я сказал:
— Не покидай меня.
Она засмеялась. Тогда я взял ее за запястья, за ее тонкие, нежные запястья, и сказал:
— Я люблю тебя.
Она долго смотрела на меня, без улыбки, как будто видела сквозь меня что-то совсем другое…
— Я люблю Ромена, — сказала она мне…
…Вот и все. Ромена похоронили. Все разошлись и разъехались. В Соединенные Штаты, в Англию, в Россию, в Прованс и Нормандию, в 18-й округ Парижа или в Нейи. Осталась только «когорта верных» Ромена, всегда одни и те же. Могильщики делали свое дело: бросали лопатами землю на гроб Ромена. Вот на гроб упали первые камни, звук их показался зловещим. Но затем слышался лишь струящийся шорох земли, он словно укрывал собой прошлое. Бешир и я, Казотт и Далла Порта старались увести от могилы, заполняемой землей, Марго ван Гулип и Марину…
…Эти ее слова были для меня… но я продержался три недели. За это время я не сказал Марине ни слова о Ромене. Время от времени я встречался с ним. Мы никогда не говорили о том, что встало между нами. Наша с Мариной жизнь продолжалась. Это при том, что после того… она стала невозможной. Слова материализуют чувства. То, что не сказано, не существует в полной мере. Но стоит назвать страсть словом, и она словно с цепи срывается. То, чего я не хотел видеть, но о чем знали все, поскольку об этом уже не раз упоминалось при случае, было простым и ужасным. Ромен, который был любовником Марго и которого Марго любила, не любил Марину. Но Марина любила его, а я любил Марину. Это была трагедия в духе Расина, только перенесенная в 20-й век, во времена холодной войны…
Нам всем было плохо. Мать и дочь желали одного и того же человека. Марина спала со мной, потому что не могла делать этого с Роменом. Шоры упали с моих глаз. Мир, который кажется таким сложным и непонятным, становится таким простым и понятным, когда узнаешь о его скрытых движущих силах! Раньше мне была непонятной сдержанность Марины в отношениях со мной, тогда как она явно во мне нуждалась. А теперь вот она, правда: она бросилась ко мне, чтобы я защитил ее от Ромена, но в конце концов убедила себя, что это я разделил их с Роменом! Она любила меня вместо Ромена, и упрекала меня за то, что я сжимал ее в своих объятиях, тогда как она хотела, чтобы это был Ромен…
Это были страшные дни. Через три недели, доведенный до крайности этой мукой, я решил разделить ее с Мариной. Мы отдыхали, сидя на стульях в Люксембургском саду. Иногда мяч, с которым играли дети, подкатывался к нашим ногам, мы толчком отсылали его обратно, принужденно смеясь, и наш разговор медленно и постепенно подошел к тому, о чем я должен был и хотел молчать: что Ромен не только был любовником ее матери, но что он прямо уполномочил меня «заняться» ею, чтобы отвлечь ее от него, Ромена. Когда я говорил об этом, два чувства постепенно овладевали нами, погребали нас в своих складках, вырастали до размеров Люксембургского сада, целого города, целой страны, целой Вселенной, несуществующие и неуничтожимые, запечатленные неизвестно где и сметающие все на своем пути, — это были мой стыд и ее отчаяние…
…Сейчас, на кладбище, она плакала у меня на руках. Она всегда плакала у меня на руках. Еще на Патмосе, в тот день, когда волна опрокинула ее и выбросила на песок (она тогда воскликнула, с мокрыми волосами, облепленная мокрым платьем: «Что теперь со мною будет?», — а мы все весело смеялись над этим), она бросилась мне на руки, и я утешал ее. Вот и теперь: мы уходили прочь от могилы, остававшейся в прошлом, и она плакала у меня на руках…
…Тогда-то и наступил настоящий ад. Оказалось, что до тех пор я имел о нем лишь бледное представление. Все же она долго хранила в глубине своей печали усталую привязанность ко мне. И вот я не решался признаться себе в этом, но приходилось считаться с очевидностью: тогда, в чудесном Люксембургском саду, забавляясь с играющими детьми, она вдруг постигла, что на свете существуют презрение и ненависть. Она презирала меня и, через меня, презирала себя. Она любила Ромена и ненавидела его за то, что он ее не любил. Она любила свою мать и ненавидела ее за то, что ее мать любила Ромена. Она думала, что любит меня, потому что я любил ее, а она нуждалась хоть в чьей-нибудь любви, но теперь ненавидела меня за то, что я оторвал от нее Ромена, рассказав ей о ловушке, которую он ей подстроил и в которую я ее завлек.
Прежде она отдавалась мне с безразличием, замаскированным под нежность и страсть. После этого она могла еще отдаваться мне, но уже с отчаянием, смешанным с презрением. Быть презираемым тем, кого любишь, — это одно из самых жестоких страданий. И хотя мы по-прежнему много путешествовали, теперь даже в самых волшебных местах наши ночи были ужасны…
…— Месье, — обращался ко мне Бешир, — уже пора уходить…
Марго забирала у меня свою дочь. Она забирала ее из моих рук в свои. Марина шептала:
— Мама, о мама!
Они обе сотрясались от рыданий. И мы все — Бешир, Казотт, Далла Порта и я — в растерянности не знали, что делать…
…Что здесь можно было поделать? И я решил повидаться с Роменом. Как он поживает? Спасибо, очень хорошо. Он был спокоен, как всегда. Он сообщил мне, что недавно потерял деньги, но, как обычно, и не думал переживать по этому поводу. Он ни на чем не задерживался, он любил жизнь всякой. Я рассказал ему, что по моей вине, или нашей с ним, или по ее собственной, так как она была слишком чувствительной, Марина оказалась на грани тоски и помешательства. Я сказал ему, что мы с ней очень славно пожили, но всему свое время. Как сказал некто, есть время жить — и время умирать, время смеяться — и время плакать… И если мы хотим, чтобы она жила и перестала плакать, надо что-то делать.
— Что-то делать? — переспросил Ромен, подняв бровь.
— Да, что-то делать, — подтвердил я. — Но я не знаю что…
…И мы пошли прочь с кладбища. Я обернулся в последний раз. Кладбищенские рабочие, завершив свое дело, отставляли лопаты и утирали потные лбы…
…Мне было страшно. Страшно за Марину. Страшно и за себя тоже. И еще был страх, что на этот раз Ромен может не справиться с положением…
— А как твои дела? — спросил он у меня.
Я пожал плечами. Определенно, бывали моменты, когда я его ненавидел.
— Да ладно тебе, — он широко улыбнулся мне. — Что-нибудь придумаем. По порции виски?
И он отправился купить лимонов…
…Сейчас все это было уже в прошлом. Ушедшая жизнь… Нужно только подождать, и все пройдет. Мы меняемся, умираем; проходит время, и мы уже с улыбкой вспоминаем то, что заставляло нас страдать, над чем мы рыдали до потери сознания. Мы уже спокойно смотрим, как под нашими окнами проходят чередой тени наши прошлых страданий…
…Все постепенно перестраивалось на другой лад. Так, даже в смерти Генерала — то поколение помнит — находили много положительного. От конца «битлов» и восхождения Франсуа Миттерана, через «Звездные войны» и «Механический апельсин», «Imagine» Джона Леннона, моду на «Peace and Love» и от длинных плащей до миниюбок и шортов — все семидесятые годы были пропитаны для меня любовью к Марине.
Мы, конечно, следили, но несколько отстраненно, за тем, что происходило в мире… Но малейшее движение Марины, ее слово, взгляд, рука в моей руке, манера отбрасывать назад волосы, были в моих глазах важнее, чем все пертурбации, сотрясавшие нашу планету. Когда я вспоминаю, чем была моя жизнь «во времена Марины», я прихожу к тому, что история — это лишь пена на поверхности подлинных событий и что на самом деле существует только то, что волнует наши сердца.
То, что происходит в наших сердцах… Долгое время я думал, что там ничего особенного не происходит. А то, что происходит, окрашено лишь в белое или черное. Любят — не любят — больше не любят — любят другого: все обезоруживающе просто. И все оказалось не так. Сначала я удалился от Ромена, чтобы приблизиться к Марине. Но это были «еще цветочки». Я думал, что любовь к Марине заполнит пустоту, образовавшуюся на месте моей прежней дружбы с Роменом. Как гром среди ясного неба грянуло на меня открытие, что Марина любит Ромена, и оно не просто превращало друга в чужака, оно делало его противником. Все становилось с ног на голову. Правила игры менялись, но сама игра никуда не делась. Я уже примерял к себе другую идею, далеко не приятную, но хотя бы понятную: считать Ромена своим врагом. Однако я не принял в расчет неисчерпаемые запасы чувств в нашем сердце…
…Далее события развивались оригинальным образом. Можно, конечно, было заподозрить Ромена в том, что он повел себя в этой ситуации как стратег, который взвешивает сильные и слабые стороны армии противника, а затем принимает выгодное для себя решение. То есть можно было обвинить его — многие так и сделали — в чудовищном цинизме. Но можно было объяснить его поведение совершенно иначе — я сразу так и сделал — и понять, что он вовсе не думал интриговать, не преследовал никакой корыстной цели, а просто отдался на волю своего природного здравого смысла. Он позвонил Марине и пригласил ее пообедать вместе.
— Ты же этого хотел? — уточнил он у меня.
Хотел ли я этого?.. Но, в любом случае, этого хотела Марина. Великолепная Марина, капризная, упрямая, переменчивая, беспокойная… И вот она наконец получала то, чего хотела. Она могла отомстить, — только кому и за что? Может быть, своей матери? Ее тень постоянно витала где-то в отдалении. Что касается меня… Я не совсем понимал свое место в той игре, которую вел Ромен и суть которой была мне пока неясна. Все происходило помимо меня, не считаясь с моими ограниченными понятиями и личными желаниями. Я лишь присутствовал при дальнейших событиях. Марго с ними соглашалась. Ромен ими управлял. При этом не исключено — и это был бы верх изысканности и неосознанной жестокости, — что он лишь по-королевски снисходил до всего этого.
Они встретились. Я продолжал с ним видеться. С ней я встречался постоянно. Мне хотелось исчезнуть, но я не исчезал. Я уже пережил с Мариной дни счастья на грани преисподней. Теперь мне было страшно опуститься сознанием в те пропасти, которыми были уже и без того населены мои ночные кошмары. По счастью, мы стараемся не давать нашему чувственному воображению заходить слишком далеко, и я пребывал по милосердию Ромена в состоянии блаженной неясности, напоминавшем райское…
В одно прекрасное осеннее утро (во Франции в это время, после двадцатипятилетнего периода Де Голля и постдеголлевского либерализма, готовился прийти к власти союз левых сил на последующие четверть века с некоторыми перерывами) Ромен сказал мне:
— Поехали.
Это «поехали» я и раньше слышал от него много раз. Мы ездили с ним вдвоем в Индию, в Китай, на побережье Турции и привозили оттуда целый ворох незабываемых впечатлений. На сей раз он тоже сказал мне «поехали», и мы поехали, но не вдвоем: с нами была Марина…
…Мы шли медленно. Марго ван Гулип опиралась на дочь и внучку. Все мы — группка в шесть-семь человек — шли молча. Молча мы подошли к воротам кладбища. Мы не знали, о чем можно сейчас говорить. Время от времени кто-нибудь из нас поднимал глаза к небу и отпускал какое-нибудь замечание по поводу погоды в Иль-де-Франсе в пору ранней весны.
Бешир поравнялся со мной и произнес торжественно:
— Мне думается, месье, что все прошло как нельзя лучше.
— Спасибо, мой дорогой Бешир, — ответил я ему. — Все было на высшем уровне. А ты, ты всегда на высоте. Ромен был бы тобою доволен.
— Спасибо, месье, — произнес он.
Решительно, в его манерах иногда проявлялось что-то классически-британское…
…Был конец сентября. И мы опять поехали туда: на Самос, в Сими, где мы вдвоем с Мариной провели столько чудесных часов в тени нашего фигового дерева; на Родос, на Калимнос, с которыми нас тоже связывали воспоминания; потом были Кас, Кастеллоризо. Наше судно называлось «Черный Сванн». Оно принадлежало Спиро Эфтимиу, который каждый год отдавал его в аренду Ромену. Судно имело гордую осадку, а на борту находился моряк по имени Паша, державшийся несколько высокомерно. Он занимался всем. И он хорошо ладил, слава богу, с Роменом, который тоже занимался всем. Начало осени на Средиземном море, как правило, бывает замечательным. И мы провели там двадцать восхитительных дней.
Потом мы совершили втроем много других путешествий. В Испанию, Марокко, Египет, Австрию, еще в Грецию и, конечно, в Италию. Мы вспенивали моря, бороздили снега и исходили много дорог. И, презирая пересуды (далеко не всегда доброжелательные), заставляя их умолкнуть своим непререкаемым авторитетом, к нам часто присоединялась Марго ван Гулип, уже далеко не юная, но все еще прекрасная.
В тот первый раз Марина снова, как тот ребенок на террасе Патмоса, оказалась между Роменом и мной. Она снова смеялась. Она снова была счастлива. Это было естественно. Места, выбранные Роменом, могли служить лекарством от тоски сами по себе. И мы были опять все вместе… Все это вместе взятое действовало как механизм, вырабатывавший сплошное счастье…
Мы с Роменом заранее присмотрели эти места, сработали как разведчики. Это было поверхностное знакомство, чаще всего взгляд со стороны открытого моря. А сейчас, все вместе, мы исследовали каждую бухточку, выходя на берег; мы останавливались в портах, слонялись по лавчонкам, где продавались ковры и поддельные украшения; и еще мы поднимались по рекам, осматривали античные амфитеатры и развалины древних храмов.
«Сванн» Спиро Эфтимиу плавал под панамским флагом, что облегчало нам переходы от турецкого побережья к греческим островам. Так, греческий Сими зажат между двумя полосками турецкой территории, а остров Кастеллоризо, самый удаленный из всех греческих островов (одно его название напоминало мне далекие времена Патмоса), расположен всего в нескольких кабельтовых от турецкого города Кас. Но тогда, во второй половине двадцатого века, заход в порты Сими или Кастеллоризо был для турецкого судна несбыточной мечтой. А для греческого парусника переход от своего острова к расположенным прямо напротив турецким берегам был равносилен двенадцати подвигам Геракла всем сразу. Но мы, на нашем панамском «Сванне», который на самом деле носил имя «Ясмина», переходили из одних владений в другие без особых трудностей…
…Марго ван Гулип передвигалась все с большим трудом. Она сама настояла на том, чтобы дойти до ворот кладбища пешком, но силы покидали ее. Бешир тут же подогнал машину, и она с помощью внучки, уже во второй или третий раз, устроилась на заднем сидении автомобиля. Марина на несколько мгновений осталась наедине со мной. И тут внезапно солнце пробилось сквозь тучи и затопило своим светом все кладбище.
— Смотри-ка, — сказала она мне, силясь улыбнуться, — какое солнце: совсем как в Сими, ты помнишь?
— …Помнил ли я Сими и его солнце!.. Образы Сими проплывали в моем сознании, такие похожие и такие разные. Я был там с Мариной, я был там с Роменом, и я еще раз возвращался туда с Мариной и Роменом. Эпизоды моей жизни проносились вихрем, обрушивались каскадами…
Наши переходы от Сими к Родосу, от Каса до Кастеллоризо… воспоминания обступили меня толпой. Некоторые образы стояли перед глазами как наяву. Вот фиговое дерево в Сими и Марина под ним… Стада коз, спускавшихся с холмов прямо к воротам нашего сада в оглушительном трезвоне колокольчиков… Вид из нашего окна на причудливые изгибы побережья в Педи, мимо которых, как в декорациях огромного театра, медленно проплывали корабли, мечтательные, нереальные… Купание втроем среди трех островков в заливе Фетхие, которое привело нас в такой восторг, что мы просто вопили от радости и распевали во все горло рождественские песенки, и это в разгар жаркого лета, что должно было со стороны выглядеть весьма странным…
И гениальный ход Ромена заключался в самом его присутствии рядом с нами в тех же самых местах: оно помогало нам всем стереть прошлое, придать новый смысл знакомым пейзажам и прежним чувствам…
… — Ах, — шептала Марина, вновь опираясь на мою руку, — как нам будет его не хватать!..
Я посмотрел на Марину. Посмотрел на Марго: ее лицо, совершенно потерянное, виднелось сквозь стекла автомобиля… Это было правдой: он объединял нас всех. В Париже мы довольно редко виделись все вместе. Каждый занимался делами по своему усмотрению. Я иногда завтракал с Роменом. Ромен обедал с Марго и иногда обедал с Мариной. Я встречался с Мариной. Мы распутывали этот клубок как могли… А потом отправлялись все вместе куда-нибудь: в Тоскану или на горный курорт, утонувший в снегу… Это не представляло для нас никаких проблем, и не столько благодаря свободе умов и нравов (Байрон или Рембо в девятнадцатом веке, «либертены» в восемнадцатом, легкомысленные персонажи эпохи Регентства — Виван Денон или Шодерло де Лакло, от которых попахивало серой, — были гораздо раскованнее нас), сколько благодаря современным средствам передвижения, набравшим полную мощь во второй половине ушедшего века: поездам, автомобилям, самолетам. Такая свобода была немыслима в веке предыдущем, который знал столько страстей, но не знал автомобиля и самолета. Наш «Большой тур», наше «Путешествие по Италии», наше «Путешествие по Востоку» не были случайными или уникальными эпизодами, они повторялись, они стали частью нашей жизни. Мы живем уже в другом мире, в том, который прекрасно описал между двумя войнами Моран в своей книге «Всего лишь земля»: «Мальчик спросил у мамы: «Можно мне съездить в Индию?» И мама ответила: «Только захвати с собой полдник».
Весь знакомый Париж гудел, обсуждая наши совместные экспедиции. Были разные пересуды, недоумение, издевки. А потом все прекратилось. Все окружающие поняли, что мы просто открываем для себя наш прекрасный широкий мир, и оставили нас в покое.
Всем заправлял Ромен. Насколько я помню (впрочем, не исключено, что память может меня подвести, причем намеренно), между нами никогда не возникало никаких драматических конфликтов, или даже просто открытых столкновений. Другое дело — что происходило в наших сердцах. Между счастьем и несчастьем, смирением и бунтом, между восторженными воспоминаниями и необходимым забвением — между всем этим установилось в конце концов некое подобие равновесия. В одном потрясающем рассказе Борхеса есть персонаж по имени Фюнес, который никогда ничего не забывает. Он помнит все в мельчайших деталях: дерево, на котором он сидел однажды летним утром; каждую веточку этого дерева; каждый листик на этой ветке; каждую прожилку на этом листике; бог знает что еще в связи с это прожилкой — и кончает тем, что умирает, раздавленный грузом собственной памяти…
Я заставил себя многое забыть. За исключением Ромена (который был всегда доволен своей судьбой, потому что ни за что в жизни не цеплялся), все остальные — Марго, Марина, я сам — старались не думать о том, как по-иному могла бы сложиться наша судьба. И среди стольких воспоминаний, которые сталкивались и боролись одно с другим, только спасительное забвение помогало нам выжить…
Мы мало разговаривали. У нас не было такой необходимости. На палубах наших суденышек в восточном Средиземноморье, проходя вдоль пустынных пляжей, на террасах кафе в маленьких городках Тосканы или Умбрии, среди снегов Тироля или в Доломитах — везде, где мы бывали, Марина казалась совершенно счастливой. Она ожила. Ее смех был моим несчастьем и счастьем одновременно. Мир для меня был одновременно радостным и печальным. Ромен же был со мной таким, как всегда: простым, прямым, бесхитростным. И еще беспощадным и абсолютно честным. С Мариной он обращался как с принцессой, вырванной из заколдованного царства его просвещенными усилиями. С Марго — как с королевой, почтительно и нежно. В определенном смысле она и была королевой. Но властвовал все же Ромен. Над ней. Затем — над всеми нами. Мы все были его подданными…
…У ворот кладбища нас ждал Жерар. Он уже успел, как я полагал, хорошо пообщаться с журналистами «Пари-матч», «Воскресной газеты» и с газетными фотографами. Ромен всегда интересовал прессу и своим отсутствием (он не любил появляться на публике), и легендой, которая постепенно сложилась вокруг него: известного участника войны (при этом сторонившегося всех официальных учреждений, к которым он принадлежал как участник Сопротивления и Герой Советского Союза), авантюриста, соблазнителя, знатока восточного искусства, мецената многих музеев Франции. Ромен умело обходил этот повышенный интерес к своей особе, а Жерар за его спиной вовсю пользовался, к своей выгоде, этой известностью своего друга, ныне покойного…
…— Ну что, — сказал мне однажды Жерар, когда мы вместе выходили из студии Бернара Пиво, — вы так и спите все вместе, вчетвером: мать, дочь, Ромен и ты?
Он явно хотел что-то из меня выудить.
— Ты преувеличиваешь, — ответил я ему. — Как я ни старался, ни Ромен, ни Марго меня не захотели…
Самым интересным и забавным было то, что этот самый Жерар, дававший мне уроки нравственности, через какое-то время войдет в этот наш круг (как причудлива бывает жизнь!), правда, на короткое время: в эпоху прихода к власти Франсуа Миттерана, в течение каких-нибудь двух с половиной лет, он будет официальным мужем Марины и отцом, столь же официальным, ее дочери Изабель…
…Жерар поцеловал Марину. Поцеловал и свою дочь…
Я думаю, он гордился ими, и не напрасно. Возможно, он также гордился — прости, Господи, если я неправ — самой принадлежностью к нашему кругу. Пусть даже на короткое время и, как говорится, по чистой случайности. История Жерара и Марины была связана с историей Ромена и моей и при этом была отдельной историей. В Париже Марина довольно часто виделась с Жераром и в то же время путешествовала с Роменом и мною (а мы постоянно посмеивались над Жераром). Жерар был невыносим, но очень красив… Ромен и я избрали себе его козлом отпущения, потому что он был невыносим. И еще, может быть, потому — Господи, прости еще раз — что он был очень красив. Он раздражал нас, и на то были основания, а иногда и не было. Не исключено, что Марина решилась выйти за него замуж, чтобы отомстить Ромену, а заодно и мне: так, она спала со мной, чтобы отомстить Ромену, и полюбила Ромена, чтобы отомстить своей матери…
— Дорогой, — говорила мне Марина, — не хочешь ли позавтракать или пообедать вместе в один из ближайших дней — только ты, я, Изабель и ее отец: мы могли бы вместе вспомнить Ромена…
Мы вышли с кладбища, где Ромен остался наедине с вечностью, в которую он не верил. Все смешалось у меня в голове. Мгновение я колебался, потом вздохнул:
— Даже не знаю, — ответил я ей. — Прости. Я не уверен. Нужно время, чтобы мы все пришли в себя. Может быть, пока лучше каждому из нас остаться наедине со своими воспоминаниями…
…И снова мы все были в восточном Средиземноморье: в очередной раз мы оказались в этом прекрасном уголке мира, о котором я долго и вспоминал, и мечтал. Мы прибыли из Кековы на разболтанном суденышке, на котором, за что ни возмись, ничего не работало и которое было жалким подобием нашего великолепного «Сванна» прежних времен. Мы провели четыре дня на ликийском побережье, среди выступающих из моря развалин византийского дворца и могил. Немного севернее находится залив Фетхие — этот рай моряков, представляющий собой череду бухточек, одна восхитительнее другой, где лес спускается прямо в море. Мы знали уже все его уголки, все деревья, места, где можно было причалить, все якорные стоянки, где можно было остановиться, чтобы полюбоваться восходом солнца, а затем с наслаждением броситься в прозрачную воду. Кекова более таинственна. Это внутреннее море, усеянное маленькими островками и почти полностью отгороженное длинным островом, тянущимся параллельно берегу, на котором находятся руины дворца. Ночью, при луне, Кекова являет собой картину несравненной красоты и очарования.
…Греки, персы, римляне, византийцы, арабы, оттоманские турки — многие народы сменяли и уничтожали друг друга на этих дивных берегах. Надо признать, что в наших путешествиях явления культуры интересовали нас в последнюю очередь. Среди забытых руин мы отыскивали главным образом уютные бухточки, где можно было искупаться у подножья высоких скал, у олив и сосен, спускавшихся к морю…
Покинув Кекову, мы совершили заход в славный маленький порт Кас. Там мы с Роменом опустошили все местные лавчонки, засыпали мать и дочь недорогой красивой бижутерией. После Каса мы направились к острову Кастеллоризо, силуэт которого четко вырисовывался в море.
Когда корабль заходит на рейд Кастеллоризо, перед вашими глазами словно поднимается театральный занавес. Домики старого порта, зажатые плотной дугой между богатыми каменными домами медового цвета, с одной стороны, и, с другой стороны, часовней и охотничьим королевским домиком, совершенно белыми на фоне ярко-синего моря, напоминают мелкую мозаику, в которой перемешаны все цвета радуги: с переходом от красного к синему через все оттенки зеленого и желтого. В начале прошлого века Кастеллоризо был городком с двадцатью тысячами жителей. Война и нищета вынудили почти все население покинуть остров, многие уехали в Австралию. Мы застали там, под жарким солнцем, среди веселого пейзажа фантастической красоты, только нескольких рыбаков, чинящих свои сети, женщин, стирающих белье, и детей, занятых игрой. Там же, когда мы сидели в беседке из винограда за столом в компании малоопрятного священника и некоей девицы в джинсах, но сногсшибательной красоты, Марина и объявила всем нам, что Жерар попросил ее руки.
Это была полная неожиданность для нас всех. Возможно, и для нее самой. Может быть, и для самого Жерара. Угощаясь густым, смолистым вином и местным «узо», мы вопрошали себя, какая муха могла его укусить. К нашему удивлению примешивалось смутное чувство негодования: как это он осмелился? И наконец, вся эта гамма наших чувств завершилась полным недоумением: Марина, похоже, не собиралась энергично отвергнуть это предложение с той едкой иронией, которой оно заслуживало…
— Но ведь его даже не было на Патмосе, — пробормотал я растерянно.
Это вызвало взрыв смеха. А Ромен добавил к нему несколько слов, которые ему лучше было бы оставить при себе:
— Тебе разве плохо с нами?
Конечно, я любил Ромена, а Марина любила его, бесспорно, гораздо больше — так, как никогда не любил его я. Но она не была счастлива. Во всяком случае, она не была так счастлива, как думали мы или как думала, возможно, она сама. Потому что на фоне пейзажа из чудесных разноцветных домиков, которые делали Кастеллоризо едва ли не самым красивым и странным местечком на всей нашей земле, она вдруг разразилась рыданиями.
— Что с тобой? — удивился Ромен.
Марго обняла дочь за плечи и прижала к себе.
— Я жду ребенка, — пробормотала Марина.
Я в изумлении воззрился на Ромена.
— Это в наше-то время, — шепнул он мне.
…Жерар уезжал. Он приехал на кладбище на мотоцикле, и теперь на нем уезжал…
…В определенном смысле я ему завидовал. Ему довелось все-таки быть мужем женщины, которая — какие мы все странные! — не захотела стать моей женой. Женитьба Жерара и Марины на долгое время стала объектом моих кошмаров. Это сейчас мне нужно сделать усилие, чтобы вспомнить, что же меня так раздражало тогда. Я отлично помню все: Сими, Кекову, Фетхие, Кастеллоризо, таверну Алексиса в Родосе, таверну Леонидаса в афинском пригороде Вильямени, ворота Афин, виноградники Кьянти, наше прибытие в Венецию. А вот мрачные картины той брачной церемонии стерлись из моей памяти: очевидно, отсутствие этих воспоминаний милосердно помогло мне выжить…
Я был свидетелем Марины, Ромен был свидетелем Жерара. Я припоминаю, что она сама сделала именно такой выбор и навязала его своему будущему мужу, мне и даже Ромену с безжалостной безмятежностью. Жерар был без ума от своей жены, это я мог понять. Она делала с ним все что хотела. Она таскала его за собой повсюду, как лакея, прихватывая его заодно с чемоданами, перед самым отъездом. И в один прекрасный день, а он наступил достаточно скоро, она отбыла, не захватив его с собой…
…Он надел шлем и завел мотор. Изабель устроилась позади него. Все же она была его дочь: в то время дети обязательно носили фамилию своего официального отца, вот и она носила фамилию Жерара. Она обернулась ко мне и крикнула:
— До свидания, дядя Жан!
Она называла меня «дядя Жан»…
Я ответил:
— До свидания, Изабель.
Склонясь в мою сторону, она напомнила:
— Так мы поедем с вами в Италию?
Я, смеясь, ответил ей:
— Не торопись. Обдумай все спокойно. Я уверен, что ты найдешь лучшего спутника.
Они уехали вдвоем. Она была в шлеме, который надел ей Жерар, и обхватила отца руками. Мы махали им вслед… Изабель мчалась и улыбалась нам и свежему ветру в лицо…
Появились Казотт и Далла Порта, которые отправились было прогуляться по аллеям кладбища — благо выглянуло солнышко, — как раз вовремя, чтобы попрощаться с уезжавшими Марго и Мариной. Все вместе мы смотрели вслед мотоциклу, умчавшему Изабель…
— Интересно, — пробормотал я про себя, — что с нею будет?
…Что с нею будет? Да все то же. Но и что-то другое, конечно. Мир не стоит на месте. История идет вперед. Будущее вольет в новые мехи, о которых мы не имеем сейчас никакого представления, старое вино извечных чувств, страстей и надежд. Эти «новые мехи» сначала повергнут в ужас нас с нашими-то старыми привычками: ведь каждому поколению кажется, что мир остановился на нем и никуда дальше не двинется. А потом все молодое и новое поставит в тупик перед их будущим наших теперешних потомков и, в свою очередь, состарится…
Казотт и Далла Порта продолжали между тем свою нескончаемую дискуссию о том, что даст нам наука и технология в ближайшие тридцать лет… Они предрекали ослабление интеллекта. И при этом небывалый прогресс, конечно. Катастрофы, без сомнения… Мы ждем наступления этого будущего с болью, восторгом, нетерпением и страхом одновременно. Впрочем, мы боялись всегда, и это не мешало нам быть счастливыми…
Мы так и стояли все вместе, «последняя когорта»: Марго, ее дочь, Бешир, Далла Порта, Казотт, Андре Щвейцер и я. Стояли, не желая расставаться и не зная, что сказать друг другу…
— Пора возвращаться, — сказал Швейцер, обращаясь к Марго.
— Да, — сказала она, — поедем…
…Сколько раз мы говорили себе это «поедем!»…Возможно, перемена мест — это современная форма извечного человеческого беспокойства. Мы уезжали, потому что не могли оставаться наедине с самими собой. Уезжали, потому что боялись. Самих себя, прежде всего. Боялись жизни и мира вокруг нас. И мы бросались в широкий мир как в океан, чтобы не бояться его…
…Андре Швейцер поддерживал под руку Королеву Марго. Казотт и Далла Порта поддерживали Марину. На мгновение я закрыл глаза. У ворот кладбища, где теперь покоился Ромен, времени как бы не существовало. Оно растворялось в датах, запечатленных на кладбищенских плитах и в сердцах живущих, склоняющихся над своим прошлым. Но вот мы вышли за ворота кладбища — и время вернулось в нас.
…Бесполезно жаловаться на смерть, потому что она неизбежна. Скорее можно пожалеть многих живых. Ромен прожил свою жизнь лучше очень многих из них. Он умел вернуть яркие краски жизни, когда ей доводилось блекнуть. Он умел возвращать очарование разочарованному миру. Вот потому-то и было так много нас, пришедших проститься с ним, и потому-то нам было так грустно…
Меня не оставляли мысли о Ромене. Его образы, такие разные, смешались в моем сознании. Я видел его среди снегов и на борту корабля; в автомобиле, который он водил очень быстро и уверенно; на террасе кафе, где он мог крепко выпить и закурить сигару, которую почти тут же бросал; в каком-нибудь незначительном месте, которое он тут же преображал своей энергией и весельем: помню, мы с ним прекрасно провели время в скучнейшем крошечном домике, отрезанном снегами от всего мира; с ним было интересно даже ничего не делать, просто оставаясь в своей комнате; он был гением по части умения пользоваться всеми возможностями, которые предоставляет жизнь…
То, что я видел сам и слышал от него самого, перемешалось с тем, что другие рассказывали мне о нем. Не все было таким уж замечательным и приятным. Многие, бесспорно, имели основания строго судить его. Я сам часто осуждал его и даже ненавидел. Но он сумел придать своей жизни, и нашей тоже, неповторимый вкус…
…Он прекрасно сочетал в себе бесчисленные противоречия. В каждое мгновение своей жизни он был скептиком и энтузиастом одновременно. Он мог не верить ни во что, считать себя евреем и быть христианином. Всякие долгие рассуждения его просто утомляли. Он обожал мир и не был привязан к нему…
… — Он ведь покончил с собой, не так ли? — прошептал мне Андре Швейцер, отведя меня в сторону.
— О, — ответил я, — думаю, что скорее он просто перестал хотеть жить…
Время шло, Ромен становился стариком и, не признавая эвфемизмов, которые так любит наше время, признал этот факт. Это самый банальный и самый удивительный феномен нашей жизни: молодой человек, полный сил, превратился в старика, который извлек из жизни все, что она могла ему дать. Пару раз он говорил мне со смехом:
— Честное слово, это было хорошо…
Употребление им прошедшего времени, совершенно ему несвойственное, прозвучало для меня сигналом тревоги: у него никогда не было привычки заглядывать в прошлое.
Наверное, какие-то мелочи, собравшись вместе, начали удалять его от мира, в котором ему было так хорошо. Так, он признался мне со смущением, почти стыдом, что побывал на приеме у врача и тот порекомендовал ему уже не подниматься три раза в день в горы на высоту от четырехсот до трех тысяч метров, не нырять на спор в море за морскими ежами, кораллами или обломками затонувшего корабля… Были и более серьезные признаки. Он пролистал роман, который произвел много шума, и этот роман ему очень не понравился. Когда я начал убеждать его, что книга не лишена таланта и что в ней хорошо показано, к чему мы все идем, он пробормотал в ответ:
— Ну, значит, я просто старею…
Я горячо возражал. Тогда он пояснил мне:
— Неудачи в политике, искусстве, житейские неурядицы — не в них дело. Вышибает из седла другое: когда ты чувствуешь, что все вокруг тебя начинает складываться как-то по-иному, что все смещается, а ты даже не понимаешь, что происходит… Возникает ощущение, что ты вытолкнут из мира самим ходом истории…
Я засмеялся:
— Такие дни случаются у всех.
— А у некоторых бывают годы.
— Это всего лишь проблемы печени.
— А точнее — веры. Бывают моменты, когда хочется просто предоставить людям и событиям идти своим чередом. Наверное, подобное могли чувствовать византийцы во время падения Константинополя; последние феодалы; последние светские салоны, в которых собирались чудаки, намеренно вырядившиеся, чтобы побеседовать на каком-то малопонятном для других языке; последние любители псовой охоты (я еще застал их с их рожками, веселыми «ритуалами смерти», красными и голубыми костюмами) или последние приверженцы Сталина или Гитлера (хотя об этих я нисколько не сожалею). Я всегда думал, что мир постоянно обновляется. Но не исключено, что время от времени, чтобы иметь возможность обновиться, мир должен заканчиваться.
— А я всегда думал, что ты не склонен принимать в расчет превратности истории.
— Я и не принимаю. Только вот воздух становится каким-то разреженным.
Чтобы Ромену не хватало воздуха, — это было что-то новое. И еще была история со статейкой Жерара. Дело было настолько пустячным, что я уже почти забыл о нем. В каких-то периодических изданиях: «Экспресс» или «Новый обозреватель», точно не помню, — он затеял публикацию целой серии анонимных очерков-портретов современного общества. Здесь были представлены в прозрачной форме различные его типажи: дама от политики (все узнали Мартин Обри), владелец предприятия (Мессье), синдикалистка (Николь Нота), певец, спортсменка, писатель, военный, крупный буржуа, пенсионер… В этом был весь Жерар, блестящий, искусственный, интеллектуальный и бесполезный. Именно то, что презирал Ромен. И вот, под названием «Обольститель», он набросал портрет Ромена, скорее отталкивающий, в виде записного героя-любовника, но уже уставшего…
— Я принес тебе кое-что, чтобы тебя позабавить, — объявил я тогда Ромену, явившись к нему с журналом под мышкой.
Ничуть не бывало. Ромен, хотя это было на него непохоже (и возможно потому, что Жерар раздражал его как своей натурой, так и родом деятельности), воспринял этот выпад всерьез. Тем более всерьез, что в это время в его жизнь вошла некая молодая девушка, которую я никогда не видел и не знал даже ее имени. Вполне возможно, что и она была в толпе на кладбище, но я не располагал никакими данными, чтобы узнать ее в веренице молодых женщин, прошедших перед гробом. Ромен тогда признался мне только, что первый раз в своей жизни привязался к ней (более, чем к Марго, Молли или Тамаре и уж подавно — к Марине, которая была для него, боюсь, чем-то вроде хорошо сделанной вещи, к которой ее создатель в конце концов привязывается) с таким нежным и волнующим чувством, что его собственная жизнь отступила на второй план. Считается, что подобные слова мужчины обычно говорят «просто так» тем женщинам, которые их серьезно занимают. Я думаю, что они говорят их и себе самим. И если они лгут, что вполне возможно, объекту своего желания, то они лгут и себе…
Я ничего не знал об этом. Была ли эта привязанность настоящей любовью, была ли она счастливой или несчастной, длилась ли она дольше, чем несколько вместе проведенных вечеров? И вот единственный вывод, к которому я пришел: если это была любовь счастливая и долгая, то ничто не могло быть серьезнее для Ромена такого, каким я его знал: немедленно уклоняющегося от всего, что его не устраивало или что не бросалось само ему навстречу; возможно жестокий парадокс заключался в том, что эта любовь была первым признаком и первым следствием его возраста…
…— Никто не убивает себя из-за нескольких глупых строчек, — говорил я Андре Швейцеру, — или из-за недовольства ходом истории, который непосредственно тебя не касается. Ни из-за «плюс-минус» еще одной любовной связи после немалого их количества. Особенно если это Ромен, который — мы с вами это хорошо знаем — был воплощением уравновешенности и абсолютного безразличия. И никто не убивает себя от раздражения.
— А от избытка счастья? — спросил Андре.
Мгновение я колебался.
— А-а, — начал я, — вероятно…
Те, кто оставался рядом с Марго и Мариной, уже начинали на нас поглядывать.
— Но что произошло такого, что мог вообще возникнуть подобный вопрос? — спросил я быстро Андре Швейцера.
— Да почти ничего, — шепнул он мне в ответ. — Две таблетки, не принятые вовремя, и три другие, проглоченные намеренно или нечаянно. Возможно, случай. Неосторожность. Досадное совпадение. Вопрос не стоит так серьезно, есть лишь тень сомнения. В сущности, любая смерть — тайна, потому что любая жизнь — тайна…
— Он любил жизнь.
— Он любил ее настолько, что боялся видеть, как она от него уходит. А он начинал стареть, знаете ли. Он привык быть хозяином себе и, соответственно, возвышаться над другими и вообще над всем окружающим миром, пусть даже не с таким блеском и уверенностью. А тут его ожидало присоединение к общей массе, именно этого он всю жизнь избегал. Мы все неравны при рождении. Нас уравнивает только приближение смерти. Должно быть, он начинал чувствовать, как говорится, груз своих лет. Будущее тускнело, а прошлое становилось все более ярким. Он (как и Марго, кстати) был из тех, кто не выносит, когда их тело, да и вся жизнь, не работают в полном режиме… Их заставляет жить…
— Знаю, — перебил я, — только сама любовь к жизни.
И я опять увидел его, торжествующего, на борту корабля; у подножия горы Сервен, стоящим на лыжах, опершись на палки, когда мы перевалили через нее и оглядывались, восхищенные ее красотой; перед восьмигранной глыбой Кастель-дель-Монте; под сенью небоскребов Пятой авеню рядом с красавицей Мэг Эфтимиу… Он был таким живым. И вот умер…
Марго ван Гулип знаками подзывала меня к себе. Какой красивой была она когда-то! Мне вспомнился Патмос, дорога вдоль моря и я, стоящий на коленях у ее ног. Теперь от ее красоты осталась лишь тень воспоминаний. Не сон ли вообще вся эта жизнь? И кто знает, будет ли пробуждение в его конце?
— Мой маленький Жан, вы обязательно должны навестить меня.
— Я обещаю вам, — ответил я ей.
— Нам есть о чем поговорить, — сказала она.
Да, мы еще поговорим. О ее прошлом, о ее любви, о Ромене, о ее жизни. В жизни есть два счастья. Первое — сама жизнь. Второе — менее сильное, но более тонкое — это грустные воспоминания о счастье жить…
Ромен посмеялся бы над этими бесполезными размышлениями. Он был тем, чем был. Он не оставлял в своей жизни ни малейшей лазейки, куда могли бы просочиться сожаления, угрызения, возврат в прошлое. Он всегда совпадал с самим собой. Его несокрушимое здоровье напрочь отвергало все эти рефлексии больного животного, которыми подпитывается метафизика и современная литература. Я и сейчас как будто слышу его:
— Когда вы закончите свои интеллектуальные упражнения и отгоните мух, мы можем пойти искупаться.
Он терпеть не мог всех этих рассуждений о прошлом и будущем, в которых я с наслаждением увязал. Прав он был или нет, но он был твердо убежден, что прошлое уже мертво, что оно ничем нам не поможет и поэтому бесполезно думать о нем, а будущее, оно никогда не оправдывает наших ожиданий.
— Конечно, будет что-то другое. Но мы не знаем что. Наши потомки, лет через тысячу, просто посмеются над нашими предвидениями… Лекарства, большей частью, оказываются хуже, чем сама болезнь. Вечность, с которой только и стоит считаться, это настоящий момент. И что мне в нем больше всего нравится — это что он не длится долго…
Как-то раз меня в очередной раз посетило искушение написать что-нибудь о Ромене. Это было вечером, на террасе за Капитолием, откуда открывался вид на Форум и Курию, где Юлий Цезарь был заколот Брутом и его сообщниками, на колонны разрушенных храмов и триумфальных арок имперского Рима: именно в этом месте вид процессии монахов, движущейся между останками империи, навел Гиббона на мысль о написании его знаменитого «Заката и падения Римской империи». Я сказал Ромену об идее, смутно копошившейся в моей голове. Естественно, мое честолюбие не простиралось так далеко, как у английского историка, и все же оно показалось Ромену чрезмерным. Он окинул меня странным взглядом и, к моему изумлению, продекламировал мне стих, которого я не знал:
Настало время мне развлечься И порезвиться от души… О Боже, разве не смешны Те, что за книгой длят свой век, Забывши истину простую: Для жизни создан человек. Что пользы книгу изучать — Над нею без толку скучать? Найди нам, Коридон, местечко, Где добрым блюдом угостят, Вина бутылку охладят — В беседке с розами потом Забудемся мы сладким сном… Опустим розы мы в вино, Вином же окропим мы розы, И выпьем мы его до дна: Пусть испарятся грусть и слезы С парами доброго вина![18]— Что это? — спросил я его, несколько ошеломленный.
— Ронсар, — ответил он. — Брось ты эти свои глупости. Книг стало так много, что их время подошло к концу. Рембо, Валери, Андре Жид — все они забросили книги, а иногда даже — можешь такое себе представить? — и свои собственные…
— Боже! — воскликнул я. — В какое время мы живем!
— Лейтесь, потоки бессмыслицы!.. Пойдем чего-нибудь выпьем.
Я не переставал удивляться ему. Он — неверующий, насмешливый — знал гораздо больше, чем можно было в нем предположить…
В другой вечер (воспоминания, воспоминания… что вам нужно от меня?) на закате солнца, на борту корабля, на котором мы вчетвером — Марго, Марина, Ромен и я, — проходили через Киклады, я услышал, как он что-то проговаривает про себя. Я спросил, что это.
— Да почти ничего, — отмахнулся он от меня.
— И все же мне кажется, что…
— Да, это песенка, — признался он.
Мы помечтаем, как во снах: Взяв ты — меня, а я — тебя, Ускачем вместе на конях Под пенье соловья. Мой конь пусть будет радость, А твой — любовь сама. Сегодня вечер счастья, Я — твой властитель и слуга… Иди ко мне, я пьян слегка, И будь нежна со мной. На этой просеке лесной Дыханье легкое твое Нежнее мотылька… Так мы помчимся в час заката… В лицо нам будет бить заря, И я — велик, а ты — богата, Коль мы живем любя. Здесь я — твой рыцарь, ты мне — Дама: Открою душу я тебе! И мы расскажем эту сказку Сверкающей ночной звезде.[19]— Эвираднус! — воскликнул я.
— Браво, наконец-то, — поддел он меня. — Можете зайти на следующей неделе.
Вдали уже можно было различить темную громаду Санторина. Жизнь с этим циником и чудовищным эгоистом, презирающим книги, оказывалась, однако, весьма поэтичной…
…Марго ван Гулип поцеловала свою дочь под растроганными взглядами Казотта и Далла Порта.
— Он был далеко не праведником, — сказал Андре Швейцер, словно прочтя мои мысли.
— Нет, конечно, и все же…
— И все же мы его любили…
Я воздел руки к небу:
— Да, — признал я, — несмотря ни на что, мы его любили…
— Непонятно, — продолжал он рассуждать о Ромене, — почему так везет только негодникам?
— «Негодник» — это слишком сильно сказано. Вам не кажется?
— Я хочу сказать: его привлекательность была привлекательностью плохого парня… И потому…
На его глазах показались слезы. Я положил руку ему на плечо.
— …и потому — да упокоит его Господь в мире, по милосердию Своему…
— Аминь, — пробормотал я.
Андре Швейцер был добрым христанином.
— Вы не против, — спросил я его, — если мы поедем вместе?
Он приехал на кладбище с Беширом. С отъездом все получалось иначе: Бешир увозил Марину и Королеву Марго. Я уже предлложил Казотту и Далла Порта подвезти их. Оставалось место и для Андре.
Бешир подошел ко мне:
— Я подвезу мадам Мэг и ее дочь, — сказал он.
— Отлично, — ответил я. — С отъездом все устроилось как нельзя лучше. Мадам Полякова — на своей машине. Цвингли уехали с посланником. «Большое предместье» и Виктор Лацло уместились в микроавтобусе, который ты догадался заказать. Великий канцлер увез парикмахершу в своей машине с кокардой. Изабель приехала с матерью, а уехала с отцом…
— Чтоб ему пусто было, — проворчал Бешир.
— Помилосердствуй, — осадил я его. — Сейчас не время сводить счеты. Жерар — славный парень. А физически он в лучшей форме, чем все мы.
— Да, — заявил Бешир, — я предпочел бы быть на его месте, чем видеть его перед собой.
Я не мог удержаться от смеха.
— Так мог бы выразиться Ромен. Теперь, когда его нет с нами, не возьмешься ли ты нам его заменить?
— О нет, месье, я не осмелился бы.
Я пожал ему руку.
— Он тебя очень любил.
— Да, месье, — ответил Бешир и как-то сразу отвернулся…
Я подвел к машине обеих дам, поддерживавших одна другую. Бешир, как всегда прямой, держал открытой дверцу автомобиля. Марго обняла меня на прощание, бормоча что-то свое, и там проскользнуло слово «Патмос». Я поцеловал Марину.
— До встречи, — сказала мне она.
Я склонил голову. Автомобиль тронулся с места… Все-таки забавно и непредсказуемо устроен наш мир. Машину вел ветеран вермахта и дивизии «Шарлемань», бывший в том последнем кругу ада одним из самых близких к Гитлеру людей; в этой же машине бывшая любовница счастливчика Лючиано, под тогдашним именем Мэг Эфтимиу, вместе со своей дочерью Мариной оплакивали в объятиях друг друга единственного человека, которого по-настоящему любили обе: Героя Советского Союза, «субъекта без чести и совести», «реакционера-обольстителя», который после войны встретился на их пути однажды в Нью-Йорке, у входа в музей «Метрополитен»…
Бесчисленные тени вставали передо мной в обителях мертвых. Вот немецкие танки, палимые солнцем в степях Украины; руины Сталинграда под снегом; всемогущая мафия, простершаяся от холмов Сицилии до небоскребов Нью-Йорка и Чикаго; советский маршал Жуков, чья грудь увешана орденами, по дороге на Бретань… И еще Тамара и Молли, о которых не помнил теперь никто, кроме меня и нескольких стариков, доживавших свой век где-нибудь в английской деревушке и в какой-нибудь русской деревянной «izba,» которые тихо плакали в своем углу…
…Мы несем на своих плечах все прошлое нашего мира. Ромен присоединился к компании гораздо более многочисленной, чем живущие на земле, — к мертвым, ушедшим в вечность. Он нашел там Молли, убитую бомбой среди школьников, жертв Сталинграда, своих товарищей по «Нормандии-Неман» и все восемьдесят миллиардов человеческих существ, прошедших по этой земле. Многие верят, что наша судьба определяется расположением светил при нашем рождении. Гораздо вероятнее другое (Виктор Лацло, конечно, шут гороховый, но в этом он прав): она связана прежде всего с событиями нашей истории. Люди моего поколения были бы совсем другими, не выпади им на долю двойная катастрофа, две мировые войны. Они не были бы такими, не будь в их истории двух «братьев-близнецов»: Гитлера и Сталина… Разве французы стали бы тем, что они есть, без поражения в 40-м, без славы и падения Наполеона, без Великой Революции? Англичане — без своих индийских колоний и своего законодательного акта «habeas corpus»? Немцы — без Гогенштауфенов, Геббельса, но и без Гейне, Гегеля, Лютера? Африканцы — без работорговли и вывоза их в Новый Свет? Иудеи — без Вавилона, Титуса, разрушения иерусалимского храма, инквизиции и холокоста? Американцы — без Христофора Колумба и войны за независимость?
Ромен был неправ: прошлое значит для нас не меньше, чем настоящее. Мы вышли из своего прошлого. И, может быть, мы отчасти то, чем хотели бы стать в посмертии? Все прошлое и те, кто ушел от нас, влияют на нас не менее, чем та среда, в которой мы живем сейчас. И тот образ будущего, который мы создаем в своем воображении, имеет большее значение для нашего настоящего, чем само настоящее. В сущности, настоящее — это лишь воспоминание и предвидение.
— Вы едете? — спросил меня Андре.
Казотт и Далла Порта тоже ждали.
И мы вчетвером направились к моей машине, ожидавшей в нескольких шагах от ворот. Это был старенький «мерседес»: ему было более двадцати лет, он побывал на всех дорогах Европы и дальше — в Турции, Афганистане, Индии. Ромен раньше часто устраивался на его сидениях; сейчас они стали уже совсем потертыми. Мы, все четверо, шли медленно, с каким-то смутным чувством неловкости и вины, вероятно, за то, что вот он умер, а мы живы… И целый рой воспоминаний тянулся за нами шлейфом…
Наш прекрасный мир — это приключение, в котором абсурдное и возвышенное постоянно спорят друг с другом. Всякий раз, когда мы делаем упор на его абсурдность, он отвечает красотой. И каждый раз, когда мы настаиваем на веселье и радости в нем (как это делал Ромен), — он отвечает страданием и смертью.
— Хотите — я поведу машину? — спросил Андре.
— Да, пожалуйста, — ответил я ему.
Я чувствовал себя уставшим.
Казотт и Далла Порта устроились на задних сидениях. Усевшись рядом с Андре Щвейцером, я вставил кассету в магнитолу. Это была кантата Баха, опус 147 — «Сердце, уста, деяния и жизнь».
— Бог… — начал было Швейцер…
— Да, — прервал я, — мы все знаем: в этом названии баховской кантаты — «перечень долгов Всемогущего художнику»… Ромена это очень забавляло…
Мы ехали в Париж по дороге, идущей через предместье.
— Я спрашиваю себя, — говорил Андре, — видит ли и слышит ли он нас сейчас?
— Вот этот вопрос, — сказал Далла Порта, — он бы никогда не задал.
— Я знаю, — возразил Андре, — но он напрашивается сам собой.
Мы слушали мелодии Баха, такие прекрасные, умиротворяющие, возвышающие душу, похожие одна на другую своей умной простотой — и потому так легко узнаваемые. Я хотел, чтобы они звучали у могилы Ромена… Сейчас, когда я уже не был связан его запретом, я мысленно посвящал ему эту музыку, это разрывающее душу счастье…
Целые комья любви образовывались везде: в горле, в сердце, в воздухе парков, в просветах между домами… И все было покрыто тайной…
— Вы должны, — говорил сзади Казотт, положив мне руку на плечо, — написать что-нибудь о нашем друге…
Минуту я молчал: я вспоминал тот наш с ним разговор в виду Форума и то, что он думал о книгах.
— Я не уверен, — заговорил я, — что это ему бы понравилось. Он не любил книг: он считал, что их развелось слишком много.
— И он не был неправ, — сказал Далла Порта.
— Ле Кименек как-то рассказывал мне, что на его адрес приходит пять-шесть книг каждый день. И чуть ли не по два десятка ежедневно в «горячее время», то есть весной и особенно осенью, когда они валятся на него ворохом, как осенние листья с деревьев. Он провел интересные наблюдения за тем, как они упакованы. Он утверждает, что самые плохие всегда упакованы лучше всех в специальную клеящую бумагу и их труднее всего извлечь из этой упаковки. В конце концов он их возненавидел и стал вывозить целыми тачками. Нужно ли впутывать Ромена в эту круговерть вопреки его желанию?
— Да, — сказал Андре, — он предпочитал молчание.
И мы замолчали все четверо. Это правда: он не любил шума, криков, слов. Он терпеть не мог всяких глоссариев и комментариев, столь характерных для нашего времени. Он чаще молчал.
— Теперь он замолчал навсегда, — сказал Казотт. — Я полагаю, что ангелы не болтливы.
— Менее, чем мы, — в любом случае.
— Боже мой! Да там царит тишина.
— Возможно, музыка? — сказал Андре. — Музыка ангелов. Музыка сфер. Великий концерт миров. Он любил музыку.
— А не существует ли что-нибудь такое, вроде гула Вселенной? — спросил я.
— Конечно, — ответил Далла Порта, — это изначальный гул, идущий еще со времен «большого взрыва». Вселенная — это звучащее зрелище.
— Вопрос не столько в том, — сказал Андре Швейцер, — чтобы знать точно, бессмертна ли наша душа и продолжает ли она жить после смерти как личность. Что мы живем в посмертии так, как мы жили при жизни, — это маловероятно. Вопрос в другом: существует ли она — эта тайна Вселенной — и не существуем ли мы для того, чтобы ее познать.
— А разве есть какая-то тайна? — спросил я.
— Да, конечно, тайна есть, — ответил Далла Порта. — Есть целый ворох тайн. Наука сплошь состоит из загадок, которые мы бесконечно разгадываем одну за другой.
— Я говорю об одной тайне — единственной, — которая заключает в себе все остальные, — уточнил я.
Далла Порта запнулся в нерешительности.
— Ньютон так считал. И Лаплас. И Эйнштейн. Все гении науки верили, что мир устроен очень просто. Очень сложно и очень просто. Что мир построен очень изящно и являет собой образец гармонии. Что он не развивается неизвестно куда и неизвестно как и что Бог, выражаясь кратко и понятно всем, не играл в «орла и решку», создавая его. Эйнштейн, в конце своей жизни, отчаянно искал эту единственную формулу, которая объединила бы в себе квантовую теорию Планка, Гейзенберга, Бора и его собственную теорию относительности. Объединение всех областей науки стало у него навязчивой идеей.
— Единственную формулу?
— Да, единственную формулу.
— Но в вашем представлении, насколько я понимаю, — сказал Казотт, — раскрытие тайны Вселенной — в противоположность тому, что думает об этом Андре Швейцер, — это дело не мертвых, а живых.
Некоторое время в нашей машине слышалась лишь кантата 147, словно ответ на все наши вопросы, даже еще незаданные.
— Вот в этом-то и суть, — проговорил я. — Кто может разгадать эту тайну, живые или мертвые?
— Это вопрос почти абсурдный, — сказал Далла Порта, — потому что ответ на него слишком очевиден. Живые существуют, мертвые не существуют.
— А вот в этом уверенности нет, — возразил Андре.
…Музыка Баха. Солнце светит вовсю в прояснившемся небе. Мы в потоке машин. Вот и перекресток.
— Здесь мне повернуть направо? — спросил Швейцер.
— Нет, — ответил Казотт, — сначала налево, это короче, а потом — направо.
— Не кажется ли вам, — вернулся к разговору Швейцер, — что Ромен сейчас, так или иначе, знает больше, чем живые?..
— Ромена больше нет, — отрезал Далла Порта.
— Может быть, он просто в другом состоянии?
— В другом состоянии? Да, конечно, он обратился в прах. Кстати, он сам именно так и думал. Вы же знаете: он ни на мгновение не допускал мысли, что от него что-нибудь останется. Он был убежден, что исчезнет полностью и навсегда.
— А живые, — спросил Казотт, — вы верите, что живые когда-нибудь раскроют эту тайну?
— Да, верю, — ответил Далла Порта.
Мы опять замолчали. Наша машина казалась ковчегом, в котором мы спасались от окружавшего нас мира.
— Вполне возможно, — ответил я ему. — И даже желательно. Но мы, люди, такие хитроумные, ученые, уверенные в себе, этакие хозяева жизни, не исчезнем ли мы когда-нибудь все до одного, как в свое время исчезли динозавры?
— Несомненно, — ответил Далла Порта. — Человечество не вечно. Оно исчезнет, как и все остальное. Это, как говорится, написано у него на лбу.
— Но тогда, — спросил я, — что будет со вселенской тайной, если она принадлежит только живым? Когда не будет Солнца, когда Земля умрет, когда исчезнут люди, кто будет знать эту тайну?
Мы въехали в пригород. Поток машин стал еще более плотным. Повсюду было много людей, общественного транспорта; вот и рекламные щиты на перекрестках, афиши на стенах — карусель современной жизни.
— Может быть, компьютер? — предположил Казотт.
— Никогда не поверю, — сказал Андре Швейцер, — что ключ к тайне Вселенной может принадлежать компьютеру.
— Ба! — возразил Далла Порта. — Ключи иногда теряются. И тайны тоже исчезают. Мы узнаем все о Вселенной и пойдем на дно вместе с ней.
Здесь я не удержался и процитировал:
В порту мы, от бурь и штормов отдыхая, О море житейских тревог рассуждаем…— Чьи это стихи? — спросил у меня Казотт.
— Не знаю, — ответил я. — Это Ромен мне их читал:
…Оливки — в давильне, а в бочке — вино, Ребенок, смеясь, нам вино наливает — Вербеной и мятой пропахло оно, Судьбы милосердием нас омывает. В порту мы, от бурь и штормов отдыхая, О море житейских тревог рассуждаем…[20]— А когда вся Вселенная исчезнет и станет только воспоминанием, кто будет вспоминать о Вселенной?
— Конец Вселенной — это отдаленная гипотеза, — сказал Далла Порта.
— Гипотеза? — переспросил я.
— Уверенность, если вам угодно, — но далекая. Очень далекая.
— Но бесконечное расширение и охлаждение «Большого взрыва» или, наоборот, его обратное движение и завершение огненным «Большим крахом» — это все-таки когда-то произойдет?
— Похоже, что да, — ответил Далла Порта.
— И вы думаете, что все, абсолютно все: Земля, люди, наш мир с его историей, мысль, сама Вселенная — все это исчезнет без следа, как сон, который никому уже не может сниться?
— Понятия об этом не имею, — ответил Далла Порта.
— Ага! Вы, знающий почти все, на самом деле знаете не так уж много.
— Когда-нибудь мы будем знать все.
— Мы никогда не будем знать всего, — возразил Казотт. — Люди никогда не узнают тайну Вселенной. Они будут лишь все больше узнавать о ее «механизмах».
Они узнают «Как?», но не узнают «Зачем?» Цивилизации сменяли одна другую; каждая из них мнила, что знает больше предыдущей и что приблизилась наконец к последней истине… И все они…
— И все они были правы, — отрезал Далла Порта. — Они были этапами на этом пути к истине, через прогресс и все его превратности. Человек непрестанно расширяет свои познания, и настанет день, когда мы будем знать все обо всем.
— Я верю в науку так же, как вы, — сказал Андре Швейцер, — но она ставит гораздо больше вопросов, чем может дать ответов. И никогда наука не исчерпает Вселенной, которая гораздо больше, чем она, и тайна которой находится вне ее.
— Вне ее? — переспросил Далла Порта.
— Да, вне ее.
— Нет никакого «вне». Есть человеческое знание. Наука пока не знает всего, но она может знать все.
— Есть нечто иное, кроме нашей жизни, кроме нашего мира. Есть Разум над человеческой мыслью. Мы ничего не знаем о Нем, мы не можем говорить о Нем, но мы чувствуем, что есть Что-то над нами…
— Если о чем-то нельзя говорить, то лучше об этом помолчать, — сказал Далла Порта.
— Есть иная реальность. Ромен уже вошел туда, и мы все войдем.
— Нет иной реальности, и мы никуда не войдем.
— Ладно вам, — примиряюще сказал я, — нам остается лишь немного подождать.
И мы расхохотались, все четверо, в этой машине, увозившей нас от кладбища с могилой Ромена, усыпанной розами.
…Мы ехали. И всю дорогу Ромен незримо присутствовал рядом с нами. Он сидел то рядом со мной, то сзади, между Казоттом и Далла Порта. Я поворачивался, чтобы ему ответить. Я его видел, слышал. Его голос. Его смех. Ощущал его властное присутствие, его силу убеждения. Все, что так много значило для нас. Может быть, это его душа была рядом с нами?..
Я воскрешал в памяти мимолетные мгновения и обреченные на исчезновение, но такие прекрасные места, которые мы с ним особенно любили. Это было как молитва, обращенная к нему в его отсутствие, теперь вечное…
Конечно, мы с ним не исчерпали мир! Может быть… может быть… лучше было бы и не начинать его исследовать? Другие делали историю, развивали бурную деятельность, сражались в Бангладеш или в Афганистане, получали Нобелевские и Пулитцеровские премии, писали гениальные книги, снимали фильмы, поднимали за собой целые толпы, становились министрами чего-нибудь, будучи избранными где-то… А мы довольствовались тем, что просто были счастливы…
Ромен сумел передать мне свой жадный вкус к жизни — это редкость в наше время, измученное разного рода катастрофами. Меланхолия, тоска, да и посредственность, тоже заразны, как болотная лихорадка. И было что-то очень заразительное в той радости жизни, которую исповедовал Ромен вопреки моде своего века. Его тупому бычьему упрямству Ромен умел противопоставить радость жизни и защищал эту радость, как осажденную крепость… он научил меня быть счастливым…
Мне выпал счастливый шанс жить. С ним. Или без него. Прогуляться по Понте-Веккио и у подножья Сан-Миниато… Любоваться озером Палас с балкона огромной комнаты отеля в Удайпуре… Ходить по песку, скользить по снегу… Слушать кантаты и народные песни. Увидеть, как Артур Рубинштейн подражает Чарли Чаплину. Просто сидеть рядом с Роменом и вместе молчать… Жизнь стоит того, чтобы потом умереть. Она — вечное сокровище…
… — О чем ты думаешь? — спросил меня Андре.
О чем я мог думать в такой день? Конечно, о Ромене. О мире, который он любил. О долгой истории своей жизни, центром которой он был, о своей вечной разбитой и вечно возрождавшейся мечте… Об Ахмеде (он навсегда занял свое место в жизни Андре, который сейчас вел машину, время от времени поглядывая на меня сбоку) и его животе, набитом камнями… Об Айше, которую я никогда не знал… О больших кораблях, за неделю пересекавших Атлантику от Гавра до Нью-Йорка… О Сталинграде, Алжире, Берлине в мае сорок пятого… О Маранцано, убитом еврейскими гангстерами в день, который не был субботой… О святом Симеоне-Столпнике, который наставлял императора и папу с высоты своей колонны… О двух Еленах, забытых всеми и вами, читатель, в том числе: жене префекта полиции Марселя, которая так хотела удержать возле себя Ромена, и Элен Тенье, на которой женился один из клана Швейцеров в Алжире… О генерале Де Голле и маршале Жукове, с которыми связал свою жизнь юный удачливый авиатор…
Бесчисленные нити связывают нас со всем на свете. В пространстве и во времени. Я воевал в «Нормандии-Неман», проникал в среду докеров с сицилийской мафией, пересекал Атлантику в платьях от Шанель на пакеботе «Иль-де-Франс»… Все, что произошло с Роменом, Марго, Мариной, со всеми другими — произошло со мной… Мир и я были едины. В малом пространстве этой машины, в которой я ехал вместе со Швейцером, Казоттом и Далла Порта, мне показалось вдруг, что я разрастаюсь до размеров всего мира, который принадлежит мне так же, как я принадлежу ему. Я был всеми, я был даже последним нищим, спящим в метро… Я был целым миром, потому что я мог думать о нем…
— А теперь куда? — спросил Швейцер.
— Все время прямо, — ответил Казотт.
…Все проходит, но и все остается. Ведь все, что было (и в этих нескольких словах содержится вся Вселенная), не может перестать быть. Миллиарды человеческих жизней, исчезнувшие цивилизации, умершие дети и ушедшие весны — вся некогда бурлившая жизнь, а ныне как бы исчезнувшая, останется навсегда, потому что это было. То, что только притворяется существующим, обязательно уйдет. Но то, что было по-настоящему, не может быть уничтожено. Все, что мы сделали достойного или постыдного, записано в прошлом. А рай и ад, может быть, не что иное, как воспоминание о том, что сделано нами…
— Мы прибыли, — сказал Андре Швейцер.
…Мы всегда куда-то прибываем. Вопрос только — куда? Страданий и смертей всегда хватало с избытком, куда же больше? И все же мир прекрасен, и в нем живут молодые люди, которые ждут от будущего всего. Наша история всегда была скверной до безобразия. И все же в ней были-таки чудесные мгновения, если мы продолжаем любить эту жизнь, жестокую и полную разочарований… Если бы мы рассказали ее разумным существам, пришедшим из других миров, которые ничего не знают о нашем реальном мире, то изумление и ужас отразились бы у них на том, что должно быть лицом…
Существует что-то иное, кроме этой нашей реальности, которая, может быть, всего лишь сон. Существует что-то иное, кроме этой жизни и этого земного счастья, которые проходят. И это — не небытие. Это — противоположность небытию. Оно прячется за обманчивыми земными формами, оно творит время, держит этот мир, дает способность Ромену смеяться, и оно длится вечно…
— Смотри-ка, — выругался Казотт, — еще одна сумасшедшая!
Нам под колеса чуть не попала высокая девица в плаще, с рыжими, очень коротко стриженными волосами, в наушниках, настолько погруженная в какие-то свои мечты, что, не видя ничего вокруг, переходила дорогу прямо наперерез мчащимся автомобилям. Она шла и улыбалась солнцу…
Перевод с французского Елены ЧИЖЕВСКОЙ.Примечания
1
Один из тропов (лексических средств выразительности), который заключается в соединении противоположных понятий. (прим. перев.)
(обратно)2
Алжирец, но европейского происхождения. (прим. перев.)
(обратно)3
L’oiseau (франц.) — птица. (прим. перев.)
(обратно)4
Имеется в виду вытянутый жребий. (прим. перев.)
(обратно)5
Экзамен на степень бакалавра (прим. перев.)
(обратно)6
Сколько стоят? (англ).
(обратно)7
А сколько надо? (англ.)
(обратно)8
Все! (англ.)
(обратно)9
Старинное наименование Северной Африки (прим. перев.).
(обратно)10
Внутренний дворик (прим. перев.).
(обратно)11
Испанское блюдо из мяса, рыбы, риса и овощей (прим. перев.).
(обратно)12
Арабское блюдо из зажаренной на костре баранины (прим. перев.).
(обратно)13
Сорт мандаринов (прим. перев.).
(обратно)14
Один из знаменитых франц. драматургов Новой волны 1960-х годов.
(обратно)15
Военнослужащий французской армии в Северной Африке (прим. перев.).
(обратно)16
Речь идет о Французской Академии. (прим. перев.)
(обратно)17
Крылатое выражение из пьесы Мольера. (прим. перев.)
(обратно)18
Перевод Е. Чижевской.
(обратно)19
Перевод Е. Чижевской.
(обратно)20
Перевод Е. Чижевской.
(обратно) Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg




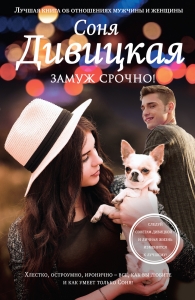





Комментарии к книге «Бал на похоронах», Жан д'Ормессон
Всего 0 комментариев