Михаил Жаров Капитал (сборник)
В книге полностью сохранен авторский стиль.
Охраняется Законом РФ «Об авторском праве и смежных правах». Воспроизведение книги любым способом, в целом или частично, без разрешения правообладателей будет преследоваться в судебном порядке.
Капитал
Часть первая. Новый Ерусалимск
1. Автобус
Мы, пятнадцать молодых лбов, видели друг друга впервые, и поэтому ни один из нас не выказывал тревоги перед тряской, грохотом и опасностью того, что ледяное утро может прекратиться вдруг и навсегда. Каждый изображал зевотное спокойствие, показывал, что он пожил, повидал, не ему бояться. Разве что рыжий парень, обутый не по сезону в кеды, нет-нет да восклицал:
– Ух ты! Сейчас чуть-чуть не столкнулись с другим автобусом.
Водила-то наш бешеный… Всю дорогу по встречке несётся.
Парни искоса поглядывали на рыжего, видимо, желая поддакнуть, но не решались. Боялись сойти в первый день за паникёров.
Автобус вёз нас в автошколу Нового Ерусалимска, и мы про себя решили, что наша рисковая дорога – это начало водительского братства. Мы должны негласно одобрять темперамент человека, который сидел за рулём. Молодец мужик, понимаем, не дети.
И ещё имелась причина, по которой все вели себя тихо. Серьёзная. Такая, что не смотрели друг другу в глаза, не то чтобы шуметь. Мы не имели статуса, числились безработными и учиться на права ехали по направлению Центра занятости. Гордость свою и гонор мы стыдливо сдерживали, как позывы в туалет.
Насквозь худой автобус не грелся от нашего дыхания, а печь не работала. Я и летом мёрзну грею руки над конфорками, сплю в жару под пуховым одеялом и пью горячий чай. Сразу после августа для меня наступает зима. Так что, если встретите ранней осенью чудо в шарфе и перчатках, знайте – это не аристократ и не гомосексуалист, это я, мне холодно. И, вообще, для изнеженного денди у меня слишком русское лицо-ватрушка, большие кулаки и плохие манеры. Например, я ссу в цветочные горшки.
До Нового Ерусалимска почти час езды и, разумеется, тряска вкупе с холодом сделали своё дело. Мой антирусский организм, чтобы не оледенеть, решил избавиться от излишков жидкости.
Я редкий водохлёб, а началось с того, что в четыре года от роду расхотел есть, и детский врач для поднятия моего аппетита прописал мне пиво.
Оно сработало на ура. С полстакана меня пробивали приступы свиного жора, однако появилась угроза того, что «первый раз в первый класс» придёт убеждённый синяк, и родители стали наливать мне только по выходным и праздникам. Так был бы пьян, сыт и доволен, но вместо этого к десяти годам я проникся отвращением к еде и на трезвую голову заключил, что есть вредно.
Другое дело питьё. Напиткам я отдал предпочтение, благо, родительский надзор за моим рационом в школьную пору ослаб, и от пищи я почти отказался. Лишь раз в день или реже сгрызал какой-нибудь овощ, не понимая, как раньше не давился голубцами, пельменями, котлетами… Однажды, лет в восемь, я даже упал в обморок, когда, кривясь от омерзения, жевал пельмень.
Вода, чай, компоты, молоко, они питали меня. Я забыл, что такое тошнота, хотя раньше она была для меня обычным состоянием, и я думал, что всех людей тошнит после еды. В двенадцать лет меню моих напитков пополнил кофе. На примере его я узнал, что жидкостью можно менять мир вокруг, ускорять, делать громче, ярче. Еда на такое была неспособна. От неё пустела голова, хотелось спать. По сей день я благоговею перед кофе, пью его, как дышу. Мало ли мы однажды встретимся, не соглашайтесь, когда я предложу посидеть со мной, взбодриться. Бывает, что люди не успевают убрать голову и проливают на стол или в недопитую чашку кровь из носа.
В четырнадцать лет мне окончательно удалось убедиться, что мой выбор в пользу питья верен и умён. За компанию с большими пацанами я отведал самогон. Он был в пивной бутылке, а закусывали снегом. Пацаны хотели посмеяться, подливали мне, пропуская сами, ждали от меня клоунаду. Я принимал рюмку за рюмкой, пил, не спеша, смакуя, хотя от одного запаха слезились глаза и текло из носа. Крепкий, суровый напиток приживался во мне, роднился со мной, как в двигателе бензин, как масло в огне. Пацаны долили бутылку, я торжественно допил и признался, что хочу женщину.
Легко и просто мне пришлось в армии. Поначалу проснулся голод, о котором я раньше не подозревал. Голод злой, унизительный. Хотелось выть и не жить. В борьбе с ним помогло самовнушение. Стоило мне вспомнить мамины блюда – картошку в горшочках, плов и окрошку, – как голод прекращал грызть позвоночник, прятался в гулких закоулках кишок и там поскуливал, умоляя: не вспоминай!
В столовой я успевал съесть лишь половину скудных блюд. Шумно дышал, обжигался. Раскалённый суп с расплавленным в нём животным жиром шёл через нос, я чихал и сам себе был мерзок. Оказалось, что совсем не умею есть, особенно горячее.
Да, армейский режим всё же заставил питаться, иначе было нельзя. Или смерть. Организм стал получать пищу регулярно и переустроился. Видимо, раньше он думал, что я лесной зверь, и пища для меня – редкая удача. Теперь же он взялся навёрстывать, увеличивать мою мускулатуру, надеясь, что, будучи сильнее, я стану убивать и есть больше. Обнаружил это чудо я в бытовке, когда пропаривал бельевых вшей. Мимолётно посмотрел в зеркало, чтобы убедиться всели рёбра на месте, а с той стороны глупо усмехнулся другой человек. Раньше я его, здоровяка, не встречал.
За месяц перед домом я взялся за штангу и поплатился своей кожей. Мышцы росли едва не на глазах, не по дням, а по часам, так быстро, что с шеи до пят кожа расползлась на тысячи растяжек, какие бывают на животах у беременных. Задайся я в то время целью сотворить из себя чемпиона мира по бодибилдингу, думаю, мне хватило бы полгода. Правда, кожа порвалась бы в клочья.
Специально я не проверял, сколько смогу без еды, чтобы совсем не вспоминать о ней. Возможно, неделю. Возможно, две. В милиции бегал по три дня сытый лишь от воды и кофе. Удобно.
В любом месте, в котором требовалось пробыть хотя бы час, я в первую очередь выяснял, есть ли там туалет и где попить. Наличие и того и другого означало, что здесь возможно плодотворно работать, учиться, строить счастье, словом – жить. Особо меня радовали конторы, в которых имелся кулер. На каждый такой аппарат я смотрел с восторгом древнего иудея, наблюдавшего за тем, как Моисей высекает из скалы воду. За один присест я пил, пока не начинала кружиться голова.
Другое дело конторы и офисы, где туалеты исключительно служебные и те под замком. Ау, чиновники и менеджеры! Если у вас завяли в горшках цветы, знайте, что приходил я, и не нашёл себе места.
Или санитарные зоны в поездах… Или междугородние автобусы… Мне пришлось много поездить, и к своим тридцати я невзлюбил русскую природу всем своим сердцем и мочевым пузырём.
То же самое сейчас. Сидя в новоерусалимском автобусе, я зря пытался увидеть за окном что-нибудь удивительное, яркое, что отвлекло бы меня от несносной рези под ремнём штанов. Мимо тянулись солдатскими строями сосны, количество которых измерялось часами и днями езды, годами и столетиями, человеческими поколениями и вечностью. Ох, тоска!
– Тупизм! – распалялся рыжий. – Почему учёба должна быть в Ерусалимске, когда у нас есть своё РОСТО? Почему биржа посылает нас за пятьдесят километров от родного города? И ведь только вчера объявили об этом.
Рыжий наливался кровью, и его цитрусовое, веснушчатое лицо золотилось и по-летнему отливало солнцем.
– Я не хочу каждый день ездить в Ерусалимск! – ругался он сам с собой. – Да ещё на таком автобусе и с таким водителем. У нас у всех через неделю будет воспаление лёгких или разобьёмся.
Его трезвон я слушал через силу. Излишек невылитых кислот и солей просачивались в мою кровь, отчего в голове дурело и слезились глаза. В подобные минуты я обычно вспоминал прочитанное о писателе Булгакове. Он умирал от цирроза почек, хотел сходить в туалет, но не получалось. Моча гуляла по его крови, отравляла организм и расщепляла мозг. Вот он-то мучился, успокаивал я себя.
Когда же приедем? Ну! Тряска взбалтывала то, что и без неё грозилось выплеснуться наружу. Всё-таки счастливое животное – медведь. Во время спячки его моча перегоняется в аминокислоты, в чистейший питательный материал. Мне бы так, я бы…
Не, не доеду! Надо просить остановиться.
– Эй, ты, чёрт ерусалимский! – опередил меня рыжий. – Тише там! Я сейчас чуть башкой окно не вышиб!
Водитель, не снижая скорости, выставил в салон ястребиный профиль.
– Слушаем все, – произнёс он спокойно, как умеют люди сильные и злые. – Вы, щенки, будете сидеть у меня тихо, как неживые, а кто станет повизгивать, или даже просить посикать, тот пойдёт на прогулку в лес лично со мной. Ясно?
Ничего себе! Щенки?
Ия?
В автобусе стало, действительно, тихо, но не от страха. Мы удивились.
– Автобус сжечь! – запыхтел себе под нос рыжий. – Водилу сжечь! Ерусалимск выжечь напалмом, огородить и отстреливать выживших.
Я прошёл к задней двери, крепко взялся одной рукой за поручень, а другой рукой расстегнул ширинку.
Рыжий захохотал.
2. Город
От людей, кто хоть раз посещал Новый Ерусалимск, всегда слышишь слова «напалм», «выжечь», «огородить». Либо не менее категоричные вариации, вроде «сбросить ядерную бомбу». Мне, когда-то проработавшему в Новом Ерусалимске три месяца, ветхозаветная жестокость таких слов не кажется странной. Грустно, конечно, это, не по-русски.
Сам я дал себе зарок больше никогда не приезжать в Новый Ерусалимск. Никогда! До этого воевал с ним в одиночку, без ядерного оружия и пресловутого напалма. Расскажу.
При всей схожести наших городов Новый Ерусалимск бесподобен. Вроде бы те же люди, русские и не очень, то же небо над головой, дома из обычного кирпича, а побываешь, и больше не захочется. Будешь нести околесицу про то, чтобы сжечь и огородить.
Хотя бы вот. С лета 2004 года в Новом Ерусалимске не отмечают День города. Запрет наложило местное правительство. В 2004 году после праздничного салюта жители Ерусалимска разделись и учинили массовую оргию. В скверах, во дворах, на городской площади.
Началось с отдельных очагов, когда люди придумали грешить в пределах своих компаний, которыми гуляли в тот вечер. От одних к другим, от кучки к кучке – азарт распространялся быстро, и спустя полчаса единый патриотический порыв за любимый город смёл предрассудки и условности. Компании смешались, свальный грех объединил тысячи. Никто не спрашивал ерунду вроде: «Мы знакомы?» – без слов сближались по двое, по трое, а в городском парке, на траве, происходило движение и вой сотен тел, и было тесно.
Несогласных валили на землю, – женщин ли, мужчин ли, – насиловали и передавали другим. Изнасилованные заражались психозом и не успокаивались, пока тоже не находили себе жертв. Они до утра бродили по уставшему городу, забыв стыд и человеческую речь. Женщины, привлекая к себе внимание, царапались и кусались, а жертвами мужчин стали дворники, которые ночь отсыпались дома, чтобы выйти на утреннюю работу.
Милиция металась недолго. Бессильные призвать граждан к порядку, сотрудники по-бабьи всплёскивали руками, и вскоре кто-то из них разделся сам, кто-то был раздет, а оставшаяся горстка укрылась в отделе за железными дверями и ставнями.
Редкие всплески противостояния массовому психозу подавлялись моментально. Особо ретивых кастрировали. Случаев кастрации произошло около двадцати.
Единственно благоразумными показали себя родители маленьких детей. И то. Отведя домой и заперев крох, супруги возвращались на улицы догуливать. Впрочем, имелись случаи, когда отвести детей домой не успевали, встретив на пути буйных и страстных. Пятеро молодых отцов погибли от побоев с железными прутьями внутри.
Спустя пять лет, в 2009 году, я разговаривал со многими ерусалимцами о памятном для них Дне города и те рассказывали, закатывая глаза, и заканчивали словами: «Ещё бы разок так погулять. Не понять тебе».
Напалмом-де выжечь…
Или смотрящий города, авторитет Зурбаган! Попробуй, скажи пятикласснику: «Не обижай кошку. Зачем привязываешь её к рельсе?» – и он пригласит тебя на разговор к Зурбагану. Так же отвечают ученики учителям, а учителя родителям учеников, когда возникают спорные оценки за четверть.
Конечно, Зурбаган не был всемогущ и не мог ежедневно решать тьму вопросов образования, культуры, экономики. У него имелся обширный штат помощников, который постоянно рос, как в своё время партия большевиков. А то бывало достаточно произнести: «Я хожу под Зурбаганом», – чтобы сиюминутно стать глашатаем правды и справедливости. Придерживаться при этом каких-то принципов, правил или понятий совсем не считалось нужным, потому что их не существовало. Успех в споре зависел от того, кто более убедительно представит себя духовным сыном Зурбагана. Аргументы и доводы в свою пользу каждый выбирал для себя сам, будь то зычный голос, словарный запас, физическая сила или оружие. Поэтому всея авторитет вполне имел право перефразировать Людовига XIV и сказать: «Ерусалимск – это я».
Возможно, последний из романтиков девяностых, Зурбаган обрёл мифическую славу, и уже трудно было сказать, не выдуман ли он безумным народом Ерусалимска. Почти в любом дворе города можно было встретить его сводного брата. Немного реже – единокровного. Получалось, что мать будущего авторитета рожала сыновей с проворством кошки, по четыре-пять два раза в год. Со времени первой менструации и до почтенных седин.
Тем не менее, да. Зурбаган существовал и имел влияние на Владимирскую, Костромскую, Ивановскую и Ярославскую области. Жил он в кремле, представлявшем из себя комплекс величественных деревянных теремов, увенчанных традиционными русскими маковками. Окружали кремль стены, воздвигнутые из исполинских острых кольев. Это был второй по счёту кремль, а первый, как полагается нашим кремлям, сгорел ярким пламенем, о чём расскажу немного позднее.
Стоит ли удивляться, что большая часть мужчин Ерусалимска люди сижавые, а остальные, так им выпало, являлись сотрудниками тех или иных органов правопорядка, и несли службу в духе городских нравов. Помню, сколько ни приходилось мне встречаться по рабочим вопросам с начальником ерусалимского наркоконтроля, каждый раз я заставал его, начальника, под кайфом. Сказать ему спасибо, вёл он себя адекватно. Красный, с выпученными, остекленевшими глазами, начальник умел внимательно слушать, но обычно палился на том, что ежеминутно забывал, кто я и зачем пришёл.
Смешила и грешила прокуратура. Помню своё знакомство с ней. Явился я к самому прокурору по вопросу спорного материала, предварительно согласовав время встречи по телефону. Что у меня не отнимешь, это пунктуальность. Потому мои часы идут на десять минут вперёд, чтобы всегда и везде быть чуть раньше, чем надо. Плюс – успеваешь покурить.
Точный и амбициозный, я выбил о дверь короткую дробь и немедленно вошёл в кабинет прокурора, состроив сложную гримасу: где мог, сморщился, где не мог, там попытался – чтобы в ходе беседы моментально менять выражение лица от суровости к умилению, от благоразумия к «морде кирпичом». Увидев же человека, про кого местные говорили: «Хороший мужик, строгий, но можно договориться», – я опешил. Мои мимические мышцы обессилели, челюсть отвисла.
Посреди кабинета стоял рослый, представительный господин. Обширное лицо окаймляла элегантная бородка и свято сияла идеальная лысина. Одет он был в короткое, выше колен, платье, расписанное алыми тюльпанами. В руках он держал кожаную плётку.
Несколько томительных секунд мы предвзято рассматривали друг друга, а в окна светило наивное солнце, хотя от стыда за род людской ему было самое время навсегда погаснуть.
– Вы кто? – первым заговорил господин, деликатно постукав плёткой по крупной ладони.
– Начальник линейного пункта милиции на станции Новый Ерусалимск. Прикомандированный от Ярославского управления. Столбов моя фамилия. Я договаривался с вашим секретарём на это время, – выдал я, как на духу, правду о себе; скрываться было неуместно, домашняя обстановка располагала.
– Столбов… – господин нахмурился, будто не он, а я предстал в платье. – Вы, значит, не из ерусалимского отдела милиции? Хм… Значит, секретарь перепутала, ввела меня в заблуждение. Я-то думал, что придёт наш участковый, тоже Столбов. За ним постоянно какие-нибудь провинности.
– Нет-нет, я не здешний, – поспешил подчеркнуть я свою индивидуальность. – Мой отдел далеко, а в Ерусалимске только ЛПМ.
– Да понятно, понятно, – устало махнул плетью господин. – Ко мне какие вопросы? Быстро!
– В моём производстве находится материал проверки по факту обнаружения неопознанного трупа со следами насильственной смерти, – бодро погнал я, чувствуя, как мои мимические мышцы вошли в тонус и озорно заиграли. – Обнаружение произошло в полуметре от границы обслуживаемой мною территории. Во избежание проволочек считаю целесообразным передать данный материал проверки по подследственности напрямую вам.
– Труп?.. Неопознанный?.. – господин неуютно поводил массивными плечами, на которых красовались бретельки, завязанные в симпатичные бантики. – Передавайте, раз хотите.
– Благодарю вас! Разрешите идти? – отчеканил я, давая понять, что обращаюсь к человеку в погонах, уважаю его и знаю своё маленькое место.
– Идите, товарищ Столбов. Успехов! – приободрился прокурор и одёрнул подол платья.
Во время, пока я оформлял в секретариате передачу материала, на столе у девушки-секретаря, кстати, очень привлекательной, зазвонил телефон.
– Прокуратура, Петрова, слушаю! – ответила она. – А, Павел Андреич! Так, ага, поняла. Известить участкового Столбова, чтобы он немедленно прибыл к вам. Сделаю!
Позднее я узнал, что секретарь Петрова была в ерусалимской прокуратуре единственным человеком, кто обладал первичными женскими половыми признаками. Остальные сотрудники имели в паспорте отметку «муж.», но в разрез с ней предпочитали наряжаться в дам.
Корпоративы прокуратура отмечала в дьявольски богатом баре «Небеса», куда традиционно в качестве избранного гостя приглашался Зурбаган. Властные мужчины ели, пили и танцевали совершенно голышом.
В милиции Ерусалимска мужское единство и гармония попирались. Грубые, разношёрстные сотрудники милиции напоминали скорее народное ополчение, нежели государственную структуру. Тот же печально известный участковый Столбов, мой однофамилец, ходил в рваных ботинках, носил грязную форму и редко мыл лицо и руки. Странно, что прокурор испытывал страсть к такой замарашке.
Иное впечатление производил коллега Столбова Гришин. На службу он являлся в парадном кителе, спортивном трико и белых кроссовках.
Участковый Боровиков, в миру Боров, считался зурбагановским человеком. Хитрый и жестокий, он держал в страхе как обычных граждан, так и сослуживцев. Его боялся сам начальник Ерусалимского отдела милиции Морозов. Мне однажды повезло оказаться свидетелем их случайной встречи.
– Товарищ… ээ, постойте! – негромко позвал Боров начальника, когда последний выходил из туалета и не успел заскочить обратно. – Всё ли у вас хорошо?
Морозов вытянул руки по швам, подался прямым телом вперёд, как это делал в своих клипах Майкл Джексон, и ласково доложил:
– Вашими молитвами, Александр Сергеевич! Работаем помаленьку.
– Это хорошо, – строго сказал Боров, – но надо лучше. Я прав?
– Так точно, Александр Сергеевич! – решительно кивнул Морозов.
– Что я ещё могу сказать… – Боров недолго помолчал и вдруг взбесился: – Кто из нас двоих руководитель отдела? Я или вы, ёптвуй-мать?! А? Вы за что зарплату получаете? За то, что по туалетам прячетесь? В отделе бардак! В городе бардак! Бандит на бандите!
С моей стороны было неэтично задерживаться возле них, я всего лишь пробегал мимо по коридору (уже не помню, зачем наведывался в отдел), но спустя полчаса снова пришлось миновать то же место. Бледный начальник бормотал: «Виноват, Александр Сергеевич… Исправлюсь…» – а Боров крыл его нещадным матом и дёргал за галстук.
Вообще, треть сотрудников предпочитали начало Зурбагана, нежели Морозова. Горожане знали их как бандитов и спорили, если ты упоминал их милицейские звания.
Встречались, конечно, и идейные сотрудники. Наверное, про них меня спрашивали жулики, которых я задерживал:
– Вы не ерусалимский? Честно?
– Да нет же! – отвечал я. – Каждому надо повторять. Я из другого города. Работаю в транспортной милиции и обслуживаю только вашу железнодорожную станцию.
– Не ерусалимский? – боялись поверить они. – Правда?
Беспокойство жуликов я понял немного погодя, увидев ролики допросов. Да, в глазах жуликов я выглядел истинным христианином.
Ерусалимцы поголовно поклонялись злу. Активно и пассивно.
Образец пассивности – стрелочница Наталья Робертовна. Вестница бед и жрица печали. На пороге моего кабинета она появлялась с единственной целью: поведать о том, что только-только обнаружила битые светофоры, разобранные железнодорожные пути или полчеловека. Глаза Натальи Робертовны сияли, она трепетно, будто замёрзла, улыбалась и всем своим одухотворённым видом сообщала: как хорошо жить, когда вот так!
Наталья Робертовна ярко запомнилась мне в тот день, когда несчастье случилось с её сыном. Десятиклассник, он ухаживал за девушкой, но на горизонте появился соперник. В другом городе худшее, что могло случиться, парни бы подрались, и дело с концом. Сына же Натальи Робертовны посадили на кол. Выжить он выжил, но всё равно история жуткая. Рассказывая, Наталья Робертовна, ерусалимская женщина и мать, расточалась в гордости за сына, что это её сын, а не чей-то. Глаза горели, щёки румянились, она молодела на глазах.
Другое. Завёлся на станции самоубийца. До того невезучий, что прыгал дважды с пятого этажа и отбил пятки. Потеряв веру в закон Ньютона, он пришёл бросаться под поезд. В первый раз неудачник отлетел от локомотива, как мячик, получив не смертельный синяк под глазом. В другой раз он схлопотал сотрясение мозга. Потом Наталья Робертовна взяла самоубийцу за руку, отвела за старое депо и уговорила повеситься. Тот послушно взял из её рук верёвку и сделал, как пожелала добрая железнодорожница.
Начальник станции Татьяна Леонидовна, женщина солидная, заядлая автомобилистка, жаловалась мне, что нынче дорого хоронить. Дорогие фейерверки. Заметив, что я долго думаю, она спросила:
– Что? У вас в городе хоронят без салютов? – и поглядела на меня, как на дикаря.3. Завод
Единственный в городе завод был закрыт для ерусалимцев. Его проходная находилась на противоположной стороне путей, и я не видел, чтобы через неё ходили бы люди. При этом раз в несколько дней невесть откуда прилетал и садился за высоким забором вертолёт. Труба заводской котельной жизнелюбиво дымила, и приблизительно трижды в месяц в ворота въезжали огромные фуры.
– А кто на заводе работает? – как-то спросил я Наталью Робертовну. – Приезжие?
– Да хер тебе! – задорно ответила она.
У неё надулась шея, покраснели глаза и ржаво заскрипели зубы. Мне стало интересно.
Неделю спустя я наврал ей:
– Ищу свидетеля поездной кражи, а застать его дома не получается. Со слов родных, он работает на заводе токарем. Надо бы мне его подловить у проходной. Не знаете, в какое время там заканчивается смена?
Наталья Робертовна подняла с земли тяжёлый «башмак», который подкладывают под колёса стоячих вагонов, чуть присела и отвела руку, готовясь сокрушить меня. Я попятился и пробормотал:
– На что вы обижаетесь?
Она брезгливо ухмыльнулась, швырнула «башмак» в бурьян и пошагала прочь.
Ради опыта я задал тот же вопрос Татьяне Леонидовне. Она вытянула шею, словно была далеко, и ответила:
– Не знаю, не знаю. Какую-то чепуху вы спрашиваете.
В тот же день Татьяна Леонидовна перепутала газ с тормозом и едва не сбила меня на своей «Ниве».
Прежде чем рассказать о заводе другие важные вещи, поясню, что представлял из себя я, как начальник ЛПМ. Начать и закончить можно тем, что подчинённых у меня не было ни души. По штату в помощь полагались четыре сержанта, но в связи с дефицитом людей в милиции я самовластно начальствовал сам над собой. К тому же ранее зарекомендовал себя адски трудолюбивым, и в управлении оценили это по-своему: справится, нечего его баловать.
В Ерусалимск я приезжал на утреннем поезде, а уезжал на вечернем, но не всегда в тот же день. Заваленный материалами, оставался ночевать в кабинете. Ужинал кефиром, выпивал водки и – на топчан.
Кабинет мой располагался внутри вокзала по соседству с билетными кассами. Единственное его окно выходило на перрон. Хороший кабинет, просторный. В нём даже имелся водопровод.
По ночам я стал замечать на той стороне путей народные гуляния. Ерусалимцы бродили вдоль бетонных стен заводского забора, задирали головы и мерзко матерились. Сбегать к ним и расспросить, отчего им не спится и чем их манит завод, я не спешил. На память приходила Наталья Робертовна и грозный «башмак» в её руке.
Любопытство восторжествовало, когда я вышел на перрон в полнолуние и увидел, что около завода собрались сотни, включая матерей с детскими колясками и полуживых стариков с клюками.
В чём был, в шортах и мятой футболке, я слетал в круглосуточный ларёк за пивом и, рассчитывая казаться обычным бездельником, пошагал к заводу.
Вблизи лунатики произвели на меня тягостное впечатление. Я ожидал, что увижу глупые лица, пустые глаза и забавные, обезьяньи выходки, но встретил перекошенные злобой физиономии и уверенную поступь. Мало того. Ночные гуляки ходили не с пустыми руками. Большинство из них держали кухонные ножи, а некоторые – молотки и мясные топорики. Один дядёк волочил по асфальту цепь, на конце которой гремел огромный навесной замок.
Они бормотали себе под нос тошную ругань, но друг с другом не ссорились. Ощущение складывалось такое, что всё необходимое ими уже было переговорено, и теперь каждый по отдельности пребывал в нудном ожидании чего-то важного для них всех.
Опустив голову, я посеменил обратно к вокзалу и в спешке боднул крепкого парня, державшего серьёзный охотничий нож. Парень взял у меня бутылку, отхлебнул и уставился на мои трясущиеся руки. Чёрт! Я скорее сжал кулаки, оскалился и выпалил трескучую очередь мата, каким грешил разве что в армии. Парень поглядел на меня с братским сочувствием и вернул бутылку.
Ходу!
Живой и невредимый, я уже резво перескакивал через рельсы, когда встретил юнца лет тринадцати, который сидел на корточках между путями и ковырял в гравии длинной отвёрткой.
– Одинокая душа, что грустишь? – спросил я. – Что плохого сделал вам завод, расскажи.
Юнец вскочил и со всей прыти побежал к остальным.
Дурак я, дурак! Даже если сейчас убегу от них, то они легко меня вычислят. Начальник ЛПМ – наверное, единственный иногородний в Ерусалимске.
Спустя минуту я сидел в тёмном кабинете, а перрон был запружен ерусалимцами. Время от времени кто-нибудь подходил к моему окну вплотную и приставлял к стеклу сложенные биноклем руки, пытаясь высмотреть меня. Несколько раз они вежливо стучали по стеклу рукоятками ножей.
Сердце моё поминутно дряхлело, старилось, а кровь кисла и разносила по телу болезненную слабость. Я сидел под столом и сжимал в руках изъятый год назад зоновский нож. По его тяжёлому лезвию бежала гравировка в виде ленинского лозунга «Грабь награбленое!», с одной «н». Пистолет вчера получить я не успел, опаздывал вчера на утренний поезд.
Захотел в туалет. Обычное для меня состояние – как для остальных большую часть времени не хотеть. Добраться до раковины и в неё? Они только и ждут разглядеть мой силуэт или услышать шорох. Поводил в темноте рукой и к своей радости нашёл на полу полторашку из-под минералки. Дальше было дело техники.
Захотелось пить. Жажда – второе моё обычное состояние, и не утолить её вовремя, значит, обречь себя на тупоумие. У меня быстро, в течение часа, трескаются губы и сохнет в голове, отчего любая мыслишка лезет на ум с таким скрипучим трением, что закладывает в ушах.
Я шуршал языком по горячему рту, глотал воздух и соображал, как жить дальше. О том, чтобы доложить о лунатиках своему руководству, не могло быть и речи. Не поверят, не помогут. Уволиться? Дело не скорое. К тому же, нынешняя ментовка пропиталась гнилой, уголовной моралью, которая заменила понятие «уволиться» синонимом «кинуть». Месяц, не меньше, будут проводить проверки и осыпать выговорами. Так Егор в шукшинской «Калине красной» не мог отвязаться от воров. Похоже.
Утром ерусалимцы выбили мне стёкла и организованно нагадили под дверью.
Три дня подряд я вызывал стекольщиков, потому что погромы превратились в народную забаву.
На четвёртый день плюнул, вставил в окно фанерные листы.
У двери завёл совковую лопату.
Ночевать на станции старался как можно реже, но и по прибытию на утреннем поезде мне приходилось начинать рабочий день с лопаты.
Положение моё усугубилось в августовское полнолуние. Не замечая за фанерным окном смену дня и ночи, я спохватился, когда вечерний поезд давно ушёл. Что ж поделать – накинул на топчан простынку, выключил свет и лёг, утвердив под головой свёрнутый бушлат. Знал, что разбудят меня ровно в пять камнями по окну. Для них уже не было разницы, разобьётся или нет. Главное, традиция.
Вскочил я под утро от треска пальбы. Глянул в узкий просвет между фанеринами – перрон был пуст. Видимо, мои часовые убежали к заводу. Пальба доносилась оттуда.
Я до слёз навострил глаза и увидел эпохальную картину. Ерусалимцы штурмовали завод! Одни метали за забор бутылки с подожжённой ветошью, и после каждого броска на той стороне ярко вспыхивало и начинало дышать огнём. Другие приставляли к забору лестницы и лезли, вооружённые блестящими металлическими прутьями. Или мечами, чёрт их знает. С высоты забора на ерусалимцев летели кирпичи, а в двух местах невидимые мне автоматчики посылали короткие, прицельные очереди.
Я схватил телефон и набрал 02.
– Слышьте, мужики! – убедительно сказал я в трубку. – Это вам Столбов звонит, начальник ЛПМ на станции. Тут у вас бойня творится около завода. Я один туда не сунусь. Буду вас ждать.
– Хуль ты вообще суёшься? – тоже убедительно ответил дежурный. – Сиди на жопе ровно, – и повесил трубку.
Пальба и вопли продолжались ещё около получаса, а потом ко мне пришли гости.
– Свои! Открывай! – стучали они в дверь. – Милиция!
Я натянул джинсы и туго застегнул ремень. Обулся и крепко завязал шнурки. Надел на плечи ремни «оперативки», убрал в кобуру пистолет и скрыл эту конструкцию под кожаным пиджаком. Тогда уже отворил дверь.
Вошли два сержанта патрульно-постовой службы. Без спроса, оставляя на полу следы от растоптанных куч, они прошагали в кабинет и уселись на топчан, застеленный простынёй. Я встал перед ними, решив молчать. Впервые в жизни получалось, что любое слово могло принести мне беду.
Сержанты были молодые парни, лет по двадцать пять. Один с бакенбардами, как у Тимати, другой без бакенбард, бритый наголо. С виду простые, улыбчивые. Несмотря на то что в пяти минутах ходьбы отсюда только что закончилось дикое средневековое побоище, они вели себя спокойно и позевывали.
– Чаю? – спросил я.
– С дуба рухнул? – сержант с бакенбардами скривился от внезапного, как любовь с первого взгляда, отвращения ко мне. – Водки бы предложил, хозяин, ёпты!
– Нету, – максимально кратко ответил я.
Хорош! Слова больше не скажу. Наглецы какие. Перед их глазами висит китель с капитанскими погонами…
– Наливай чаю, уболтал!
Целый час они пили чай, потом кофе и снова чай. Молчали. Я обслуживал их и в соответствии с гениальным армейским правилом – не вникал.
Затем они достали сотовые телефоны и принялись показывать друг другу видеоролики.
– Во! – сказал тот, что без бакенбард. – Смотри, жена мне минет делает.
В телефоне кто-то чавкал.
– Старается, – похвалил с бакенбардами. – Молодец она у тебя.
Я косился на них из-за стола, ожидая, когда же они рассмеются и скажут, что глупо разыграли меня. Вместо этого муж старательной жены включил следующий ролик.
– Вот оно, вот, – сказал он. – Это я у Петрухи скачал, у гаишника.
– Какого Петрухи?
– Ну, гаишник. Маленький, толстый. Ладно, наплевать. Смотри, это он свою мелкую жарит.
По кабинету разнёсся детский плач.
Я, как старик, схватился за сердце, и рука легла на кобуру.
– Гляди, Петруха шурует, – улыбался обладатель ролика.
– Скинь мне тоже, – попросил с бакенбардами. – Дома покажу.
Увлечённые, они забыли про меня, а я уже держал под столом пистолет.
– Парни, мне спать пора, – выдавил я.
Они недовольно покряхтели, но встали и пошли:
– Успехов в службе, олень, – бросили на прощание.
Я запер дверь, выключил свет и, не понимая себя, заревел. С женским надрывом, задыхаясь, и не мог остановиться до рассвета. Вроде бы, заканчивал, но будто назло себе опять вспоминал голосок из телефона и давился новым, свежим плачем.
Отныне ерусалимские менты, сменяя друг друга, повадились приходить ко мне каждую ночь. Пили чай, кидали на пол окурки, называли меня оленем и смотрели в телефонах ролики. Особенной популярностью у них пользовались записи с допросами задержанных. Я слышал, как жужжит о зубы напильник, как хрустят кости, как шипит кипятильник в анусе…
Окончательно перебить друг друга ерусалимцев удерживала общая ненависть к заводу. Женились, рожали, худо-бедно работали, словом создавали видимость обычной жизни они с целью дождаться дня, когда падёт завод.
Я не на шутку вдохновился разузнать их родословную.
4. Бывший
Перво-наперво я обошёл ерусалимские библиотеки в расчёте набрать книг по местному краеведению. Наивный, захватил с собой крепкий пакет, чтобы унести много, но не нашёл ни одной книжки. Чудно дело! Последние пять лет в поисках поездных воров-гастролёров я только тем и занимался, что гонял по расейским городам, взяв за правило покупать в каждом из них на память краеведческую литературу. В поездах читал и приходил в восторг от того, сколько у нас колыбелей пушкинского гения и усыпальниц пушкинской родни. Почему-то Ерусалимск стыдливо молчал о себе, а значит, клал и на Пушкина.
Решил затем пойти в какую-нибудь школу и поговорить с учителем истории, но почему-то легко представил свой глаз, а в нём указку.
И озарило! Следовало встретиться с тем, кто работал начальником ЛПМ до меня. Раньше я его не встречал, но от других слышал, что таковой жив и здоров. Слышал, что на ЛПМ он отслужил пятнадцать лет, ни разу не являлся ни на одно совещание, не раскрыл ни одного преступления и имел говорящую фамилию Хренов.
Я поспешил в отдел кадров узнать его адрес и, как всегда бывает, когда спешишь, попал к обеденному времени. Известно, что работники кадров, штаба и тыла обедают во славу Родины, не щадя живота своего. Пришлось сидеть, ждать в пропахшем щами коридоре.
Перед моими глазами висел цветной плакат, на котором перечислялись именинники текущего месяца. Ишь ты, что я увидел: скоро день рождения нашего руководителя. Новый типок, полгода, как прислали из Питера и с первых же дней негодяй, каких много. Вокруг его имени теснились цветочки и порхали пёстрые бабочки. Кадров работа.
Рядом висела речь министра МВД. Без бабочек.
Я зевнул и перевёл глаза на стенд, озаглавленный: «Сотрудники нашего отдела, погибшие при исполнении служебного долга. Вечная память!» Раньше я проходил мимо него, вероятно, стесняясь читать, а тут уставился, как Валтасар на огненные письмена.
Из пятидесяти двух фамилий девятнадцать имели строчку «начальник ЛПМ на ст. Н.Ерусалимск». Даты смерти начинались с 1953 года и заканчивались 1993 годом. Выходило, что Хренов – самый живучий из всех предшественников. Он пережил в Ерусалимске девяностые годы, хотя рядом с фамилиями сотрудников, погибших на других станциях, стояли даты: 1994, 1995, 1996 и так до двухтысячных. Обязательно его найти!Хренов жил по редкому и трудному адресу: Ярославская область, 386-й километр. Ни города, ни улицы, ни дома. Я посмотрел по карте – да, есть такой километр на железнодорожной линии, и шагать к нему надо от Ерусалимска.
Обулся в берцы, натёрся кремом от комаров и тронулся в путь. С собой взял литровую бутылку водки и пять полторашек минералки.
Одинаковый лес и шпалы под ногами спустя час пути усыпили меня. Я брёл счастливый, забыв, куда и зачем иду.
Указатель «386» отрезвил подобно будильнику. Вспомнилась работа, люди с ножами и необходимость быть здесь. Однако вокруг теснились всё те же сосны и кусты орешника. Если бы… Если бы не провода, которые тянулись от железнодорожной ЛЭП в сторону просеки. Ага! Вижу и тропинку.
Дом прятался за деревьями и представлял собой низкий деревянный барак, а точнее, его руины. Вероятно, построенный в позапрошлом веке для первых железнодорожников, с тех пор он терпел медленное крушение. Там-то лишился крыши, там-то стены, а в одном месте под открытым небом ржавели две железные кровати, и непонятно какими усилиями держался на трёх ножках чёрный гнилой стол.
Подступал к бараку я тихо, стеснительно, будто попал на погост. Не верилось, что среди царящего окоченения и тлена может встретиться живой человек. Обойдя же руины кругом, я обнаружил место, в котором стены не имели прорех, окна стояли пластиковые, а довершала это абсурдное благополучие металлическая дверь.
Я постучал и, не дожидаясь шагов за дверью, стал громко рассказывать о себе. Кто знает, как изменилась психика Хренова за пятнадцать лет службы на ЛПМ? Может быть, сейчас он сидит в кустах и целится во всякую живую тварь из двустволки.
Открыл сухой лысый коротышка. Серое лицо в чёрствых морщинах, и никакой мимики, как у тех, кто попал в гроб. Живые у него были только глаза, настороженные, круглые, точь-в-точь собачьи.
– Быстро сюда! – шепнул он и втащил меня за руку в прихожую. – Орёт тут, идиот. Ты бы на берёзу залез.
Внутри пахло прелой человеческой старостью. По голому линолеуму и дощатым стенам звенело эхо.
Прошли на кухню. Я выгрузил на стол водку, минералку и спохватился о закуске:
– Блин! Не подумал, сам-то я не закусываю.
Хозяин со своей стороны поставил стакан. Один стакан, второго не нашлось.
– Вы – Александр Николаевич Хренов, правильно? – спросил я, наливая водку. – Бывший элпээмовец?
– Было дело, – угрюмо ответил хозяин. – А тебя как угораздило попасть на ЛПМ? После меня должность начальника собирались упразднять. Почему не упразднили?
Ему хотелось было выпить первому, но он держал стакан и ждал, пока я не отвечу.
– Бог знает, – пожал я плечами. – Может быть, упразднять хотело старое руководство. Сейчас отделом заправляет новый человек…
– А, ясно! – скривился Хренов от выпитой водки. – Мудаки! Тебя как звать-то?
– Иван, – ответил я и налил себе.
– Хуян! – сверкнул собачьими глазами Хренов. – Хуйпампендрян! Ты зачем согласился? А?! Много пожил?
– Во-первых, никто меня не спрашивал, – тугим, напряжённым голосом ответил я. – Во-вторых, откуда было знать?..
– А теперь знаешь? Хав-хав-хав! – Хренов засмеялся, как залаял. – Ладно, не злись. Но ты попал туда, куда врагу не пожелаешь.
– Понял уже, – сказал я и без желания налил снова.
– Надеюсь, заводом не интересовался?
– В том-то и дело, – протянул ему стакан. – Даже ходил ночью.
– Муд-дак! – Хренов грохнул по столу кулаком. – Осссёл!
– Хвать орать, – на всякий случай я привстал со стула. – Откуда мне было знать? Я и сейчас ни в зуб ногой. Поэтому и пришёл.
Хренов сел, выпил, успокоился.
– Чёрт его знает. Может быть, простят. Посмотрят, что больше не суёшься, и простят. Им ведь тоже неудобно резать иногородних. Для них начальник ЛПМ, как бельмо на глазу. Чёрт знает… Или пропади! Покупай больничный, ложись в госпиталь, и в это время увольняйся. Хотя…
– А вы как проработали там пятнадцать лет?
– Как? Тише мыши. Пил вино, смотрел телевизор. Никогда носом не рыл.
– И не увольняли?
– Ваня ты, Ваня! Послушай, если пришёл, – он протянул через стол руку и похлопал меня по плечу. – Издавна было заведено, что начальника ЛПМ никто не напрягает, показатели с него не требуют, лишь бы кто-нибудь занимал должность. Поэтому и ставили таких, как я, чтобы только числились. Ты, чую, тоже бездарь?
– Почему? – возмутился я. – Пятьдесят уголовных дел в год. Лучший опер по итогам две тысячи восьмого года. Девяносто шесть процентов раскрываемости.
– Да ладно! – махнул рукой Хренов. – Засунь свои проценты… Вижу, тебя, коммуниста, послали наводить в Ерусалимске порядок.
– Почему коммуниста?
– Сиди! – снова махнул он рукой. – Ты видел стенд с погибшими? Видел, как там мало из Ерусалимска?
– Мало?!
– Ну, конечно. Поначалу, в пятидесятых, в Ерусалимске было целое отделение транспортной милиции. Местные вырезали его, и после этого руководство оставило одну должность начальника и несколько формальных, на бумаге, сержантских должностей.
– Что же это за город? Вы что-нибудь знаете про него?
Хренов интимно наклонился ко мне и прошептал:
– О городе я слышал урывками. Может быть, и враньё всё…
5. История
В двадцати километрах от Нового Ерусалимска издревле живёт городок Иерусалимец. Достопримечательностями не богат, разве что, как говорят старожилы, в нём родился певец Валерий Леонтьев. Не ровня Пушкину, но всё равно приятный факт.
Другое, чем замечателен Иерусалимец, это то, что в его честь, немного осовременив имя, назвали город, строительство которого началось посреди чистого поля в 1946 году.
Начало строительства могли оценить лишь птицы и лётчики. Со своей высоты они получили радость видеть грандиозную пятиконечную звезду. То был бетонный забор, огородивший территорию, которой хватило бы для воинской дивизии.
Затем внутри трёх звёздных лучей возникли приземистые кирпичные здания с крохотными келейными окошками – психиатрические диспансеры. Оставшиеся два луча заняли казарма, котельная, клуб, сосновая роща, а также памятники волку, мишке и Иосифу Сталину. В центре звезды выросла угрюмая громада завода.
Комплекс диспансеров был задуман для непростых больных. Сюда свозились люди, в ком Великая Война разбудила тяжелейшие психические недуги, и что важно, свозились не только советские граждане, но и пленные немцы, венгры, итальянцы, румыны и прочие европеоиды, сведённые Войной с ума. Кроме лечения, для них предполагалась работа на заводе. Охрану порядка внутри звезды обеспечивала рота Внутренних войск.
По большому замыслу внутри звезды должны были жить и трудиться одно за другим поколения умалишённых, и сменяться они могли лишь новенькими извне. Однако после смерти Вождя порядки в корпусах смягчились, и половина контингента получила статус свободной рабсилы.
Поначалу ударились в бега. Соблазнённые шумом поездов, больные спешили прямиком на станцию, где их шашками наголо встречала транспортная милиция. В то время сотрудники вместо резиновых палок носили шашки, а на головах их красовались каракулевые папахи. Недавние фронтовики, рубаки-парни, красота. Беглецы люто ненавидели их, и если не получалось убить, то старались хотя бы вырвать им пальцами глаза. Так зародилась традиция вражды с «мусорами-железяками».
С горя, что не убежать, аборигены занялись созданием счастья внутри звезды, и вскоре дали бурное потомство. Пришлось дополнительно строить детский сад, школу, библиотеку и загодя ПТУ.
Далее показали себя диссиденты. В отличие от своих вольных коллег ерусалимские Галичи и Солженицыны действовали как словом, так и делом. Одно время по заводу ходили самиздатовские книги стихов, страницы которых были изготовлены из кожи солдат и санитаров. Карались местные пииты жестоко, не в пример официальным – утоплением в выгребных ямах.
Однако жертвы их не стали напрасны. Заводчане получили очередные поблажки, а именно возможность тишайшим из них выходить и жить за стенами звезды. Ими-то и был основан ныне известный Новый Ерусалимск.
Тишайшие показали себя чертями из омута. Они шустро организовали ерусалимский ГОРКОМ КПСС, ГОРСОВЕТ, выбили из Москвы средства на строительство домов, школ и клубов.
Возвращаться работать на завод свободные ерусалимцы не пожелали. Они, сродни черкесам, предпочли вылазки в соседние города и на большие дороги, разбойничать и грабить. Верховный Совет СССР поднимал вопрос о вводе в Новый Ерусалимск войск, а также о поголовном переселении жителей в степной Казахстан, но вместо этого 28 августа 1964 года Президиум Верховного Совета отменил все ограничительные акты в отношении депортированных народов. Крутые меры вышли из обихода.
В свете горбачёвской перестройки и гласности свободные ерусалимцы возопили о заводе как об уменьшенной копии «тюрьмы народов». Перед проходной начались манифестации, самосожжения, а 9 ноября 1989 года, когда по телевидению проскочили кадры сноса Берлинской стены, к заводскому забору поползли бульдозеры и повалил мятежный народ. Впереди уверенно и враскачку, как пьяный задира, катился ЗИЛ-130. Из установленного на нём громкоговорителя трескуче пел Цой, «В наших глазах». Город восстал.
Открыли с вышек огонь часовые. Ерусалимцы сгрудились за бульдозерами, попадали в холодную грязь, удивились. Минута им потребовалась для того, чтобы выругаться и вновь поверить в свои силы, но подлетевший БТР-80 ударил из двух пулемётов. Цой смолк.
Следом поднялось восстание внутри звезды. Действовали внуки первых заводчан, безумные и сильные настолько, что мышцы их и связки во время напряжения трещали, как корабельные канаты.
Страшной неожиданностью для роты охраны стало вооружение мятежников, под которое они приспособили заводское оборудование. Паровые котлы и канализационные люки послужили в качестве доспехов и щитов, выдерживавших прямые попадания из автомата Калашникова. Дрались мятежники карданными валами, связками шестерёнок, кувалдами, железными пиками.
Рота солдат полегла в течение часа.
Заводчане вышли из ворот торжественными колоннами. В руках они держали шесты с головами солдат и санитаров. Городские встретили их цветами и хлебом-солью.
И снова Москва умыла руки. Кто-то невидимый, с чьей руки полетела в пропасть советская страна, остался доволен городом – новым героем. Прибывшие в Ерусалимск несколько взводов спецназа Внутренних войск были отозваны, и никто не помешал ерусалимцам праздновать свой первый День города. На улицах стоял непроглядный смог от жаровен. Триумфаторы пили и закусывали подозрительными шашлыками здесь же, на улицах, одной семьёй.
Завод жгли и громили, громили и жгли, пока он не превратился в руины. В соседних городах даже днём было видно зарево пожаров.
В девяностые годы голод погнал ерусалимцев в Москву. Разбои в обнищавших соседних городах прокормить не могли, а зарабатывать честно у себя было никак и негде. Правда, и в Москве, по вине буйного нрава, ерусалимцы постоянно попадали в передряги. Домой они возвращались либо без денег, либо спустя годы сидки, либо не возвращались вовсе. Тогда наиболее смышлёные решили объединяться и сообща отвечать столичному злу насилием. Самым смышлёным оказался, конечно, Зурбаган. Обладая нечеловеческим везением, только он и его орден дожили до наших дней. Остальные погибли в перестрелках с московскими бандитами, которые быстро поняли, что на ерусалимцев переговоры и дипломатия не действуют.
Со временем брать Москву силой стало себе дороже. Зурбаган вцепился в провинцию, а прочий люд продолжил ездить в столицу за трудовой копейкой, нагоняя жуть на пассажиров поездов и проводниц. «Лучше вся Северокавказская железная дорога, – говорили проводницы, – чем одна новоерусалимская станция».
Рано или поздно город ждала гражданская война, всех против всех. Дурная наследственность зудила в людях, бродила и пенилась, а выплёскивать брожево оставалось друг на друга. Преступность в городе день за днём подходила к тому пределу, за которым начиналась норма. Норма же насилия – война.
Спас Ерусалимск некто Уралов. Он навлёк на себя всеобщую ненависть.
Тёплым майским днём 2000 года напротив городской администрации остановился «Хаммер» с московскими номерами. И без того нервное население, конечно же, обратило своё внимание на грозную машину. Самые нервные встали вокруг неё, рассуждая: «Хули у нас понадобилось? Москвичи страх потеряли?»
Открылась задняя дверь, и вылез сказочный персонаж. Худой, сутулый, и в разные стороны борода. На ногах валенки, в руке банка пива. Он улыбнулся, поставил банку на крышу «Хаммера» и обратился к собравшимся:
– Приехал я! Завод отстраивать! Дурак, да?
Его вспомнили. Ерусалимский сирота, в начале девяностых он уехал в Москву, там разбогател до беспамятства, забыл свою родину напрочь, и на тебе – вернулся.
В город потянулись километровые вереницы строительной техники, а за ними КамАЗы, гружённые стройматериалами и автобусы, из окон которых улыбались гагаринскими улыбками таджики. Замыкали автопоезд загадочные фуры. Изнутри их нёсся несусветный лай. Не иначе, – подумали ерусалимцы, – Уралов скупил московские питомники, чтобы кормить рабочих.
Строительство началось немедленно. Рёв и грохот стройки не умолкал ни на минуту круглые сутки. К забору потянулись любопытные, полезли смотреть, но потом никто из них не мог вспомнить, что видел. Слишком быстро и сильно любопытных били по голове.
С целью проведения проверки по факту травм стройку поочерёдно посетили несколько сотрудников милиции. «Подхожу к воротам, стучусь, – рассказывали они с больничных коек. – Выскакивает ротвейлер…»
Милиция и городская администрация провели совместное совещание и постановили: Уралова выкинуть, а руины завода сравнять с землёй.
Сотрудников выдернули с выходных, отпусков и больничных. К стройке стянулись практически все силы местного ОВД. Создавалось впечатление, что в Ерусалимске ожидается матч «ЦСКА – Зенит».
По громкоговорителю выступил лично Морозов: «Уважаемые руководители строительного объекта! Обращаюсь к вам с убедительной просьбой не препятствовать законным действиям сотрудников милиции и организовать безопасный доступ сотрудников на территорию вашего объекта с целью выяснения некоторых, интересующих нас, обстоятельств!» Вслед за его обращением ворота отворились, и Морозов, не успев выключить громкоговоритель, произнёс: «Йобаноой!»
Подобного в природе, наверное, ещё не происходило – чтобы в одно время и в одном месте оказалось столько собак! Разве что в том же количестве собираются пингвины и морские котики. Из ворот вырвались полчища обозлённых на людей, специально изморенных голодом зубастых тварей. Ротвейлеры, доберманы, овчарки…
Если на ту минуту в небе парили птицы, то они, услышав снизу вопли, рёв и лай, должны были упасть с высоты замертво. Одинаково страшно рычали сильные звери, и вопили слабые люди.
Стрельба загремела, когда уже творилась свалка, трещала одежда и кожа, когда стало поздно успевать думать и целиться. Люди попадали друг другу по ногам, валились на землю и снова стреляли, очищая пространство рядом с собой от собак и от тех, с кем только что курили и смеялись.
Наиболее опасными показали себя автоматчики. Очередями выстрелов они чертили вокруг себя колдовские круги, вступив за которые падали и зверь, и человек.
Бойня ослепла и потеряла смысл после применения КС-23, карабинов специальных. Вооружённые ими сотрудники влупили по четвероногим врагам газовыми снарядами.
Грохот стрельбы распугал собак. Битва закончилась так же внезапно, как и началась. Морозов вылез из УАЗика белый, взъерошенный. Его подчинённые ползали по земле в жгучем дыму, обливаясь слезами, соплями и кровью. Городской отдел милиции пал меньше чем за полминуты.
Через пару дней на стройку прибыли новые лающие фуры. С час они кружили по городу, издевательски сигналя постам ГАИ и охотно не замечая знаки «проезд грузовым автомобилям запрещён». Уралов знал своих земляков и действовал по принципу: пугать, так до смертельного страха.
После сокрушительного поражения милиции показать, кто в городе хозяин, мог и был обязан лишь один человек. Зурбаган.
Его безотказный план предполагал три этапа. Ворота стройки таранит бензовоз – взрыв, пожар. Вокруг забора выставляются меткие стрелки – бежать напрасно. Силы стягиваются на пепелище – противник деморализован и обречён.
Блицкриг был назначен на символические 4 часа утра 22 июня. Разбойничье время, когда добрые люди спят самым глубоким сном, и время нечистой силы, когда ведьмы и черти учиняют друг над другом кровавые ласки, танцуют под популярные шлягеры и, целуясь, грызутся.
Зурбаган лично благословил рискового водителя, обнял его и украдкой поцеловал в губы. Переживал за человека, с которым начинал в девяностых, любил его. Нет никого и ничего ценнее, чем люди, верные делу.
Другие надёжные бойцы заняли позиции для стрельбы ещё с полночи. Четыре прохладных часа они нежно грели в себе желание доказать свою преданность человеку, который умеет любить и убивать так, как дано великим.
Зурбаган хотел видеть пламя победы с высоты. Он расположился на крыше городской телефонной станции и сам держал по рации связь с водителем бензовоза.
– Ахиллес Трояну! Как оно? – спрашивал Зурбаган, блуждая любящими глазами по туманному городу. – Я тебя не вижу, сильный туман. Приём!
– Еду! – лаконично отвечал бензовоз.
– Без одной минуты четыре. Успеваешь?
– Успеваю!Город сотрясся от взрыва ровно в четыре. Зурбаган закатил глаза и простонал. Женщины, вино, наркотики, да и мужчины, не шли в сравнение с властью над жизнями. Она – вино из яблок бессмертия.
Зурбаган всмотрелся в сторону, откуда поднималось вулканическое пламя, и тихо произнёс: «А почему это?» Горел его кремль.
Уралов показал, что умеет вербовать людей и слышать в любом конце города мышиный пук. Среди ерусалимцев появилась злая присказка: Что смотришь (слушаешь, ходишь)? Не ураловский ли ты?
В октябре того же 2000 года стройка завершилась. Из ворот выехали автобусы с рабочими, труба заводской котельной бойко задымила, вслед за чем очередная неожиданность взбаламутила город. Стали пропадать ерусалимцы. К Новому году население не досчиталось трёхсот человек. Как правило, исчезали врачи, медсёстры и учителя. Обязательно с детьми.
За ними приезжали по ночам чёрные джипы, и люди, счастливо смеясь, сами выбегали из домов. Скрытое наблюдение милиции установило, что джипы заводские.
Ситуацию прояснил хлипкий старичок. Он приковылял в милицию и обратился к постовому, сидевшему на входе:
– Щегол, найди-ка мне Борова. Минуты хватит?
Постовой усмехнулся на хамоватого старичка, но просьбу выполнил. Пусть дольше, чем через минуту, где-то через час, Боров подошёл к центральному входу. Старичок дремал на лавочке, возле его ног стоял старый пластмассовый дипломат.
– Ты, что ли, Боров? – очнулся старичок от шагов. – Дрищеват.
Боров недоумённо поводил бровями.
– Слышал я, что ты шустрый, – продолжил старичок. – И нашим, и вашим…
– Старый! – перебил его Боров. – Тебя в этот саквояж упаковать? – пнул он по дипломату.
– Собери-ка мне народ, – улыбнулся тот. – Депутатов, начальников, всю пиздобратию. И Зурбагана не забудь. А мне охрану дай, человек пять.
Пока Боров хохотал и вытирал слёзы, старичок достал из дипломата массивную папку, на жёлтой картонной обложке которой значилось: Совершенно секретно. Литерное дело № 0001 «Завод». Заведено – 1945. Окончено – …
– Это я тогда прихватил, – сказал старичок.
Боров поперхнулся своим смехом и задышал с натугой, будто получил удар в живот.
Общее совещание состоялось в тот же час и длилось до следующего дня. Участники единогласно проголосовали: завод погубить, любой ценой.
6. Наследственность
– Вас тоже приглашали на совещание? – спросил я Хренова.
– Бог с тобой! – передёрнуло его. – Может быть, и не было никакого совещания, и ничего не было. Может быть, всё, что я рассказал – враньё и байки.
– А если правда, – пробормотал я, – то теперь мне понятно, почему ерусалимцы валят к заводу толпами в полнолуние и почему весной и осенью они выдают вдвойне больше преступлений. Наследственность, обострения. И Ленин в центре города пьяный, идёт вприсядку и нараспашку. Кстати! Сейчас вспомнил. Листал как-то телефонный справочник, и глаза разбегались от немецких фамилий. Альферы, Мюнцеры, Шликкеркампы, Шатцы… А что на заводе производится? Кто работает?
– Не знаю, – скучно вздохнул Хренов.
– А раньше что на нём производилось?
– Ума не приложу. Ни разу не встречал изделий, чтобы на них стояло «Новый Ерусалимск».
– А что было в деле, которое принёс старичок?
– Говорю же, не знаю! – Хренов снова сверкнул собачьими глазами.
– Как же мне теперь? Попробовать затихариться?
– Попробуй. Но запомни правила: не женись, детей не заводи, ни с кем про Ерусалимск не разговаривай. Родители живы?
– Мать, а что?
– Поругайся. Не понарошку, а вдрызг, чтобы прокляла и за сына не считала. Будет жива.
– И зачем такая жизнь?
– Смотри сам. Досадишь им, они не только по тебе пройдутся.
– Ну а вы как? Неужели всегда один?
Хренов повёл рукой, указывая на своё унылое жильё, в котором супружничали пустота и эхо.
– Работать учись по-новому, – продолжил он. – Вернее, на работу забей. Не будь коммунистом. Приехал, заперся в кабинете и занимаешься своими делами. Решай кроссворды, дрочи, пей водку. Отдыхай!
– Вы так пятнадцать лет работали? – спросил я и налил Хренову больше полстакана, чтобы прикончить бутылку.
– Вообще не работал! – рассмеялся он. – Регистрацию происшествий не вёл, будто ничего не происходило, а когда случалось что-нибудь громкое, – например, грузовой состав под откос или пьяный пастух, помню, вёл по путям коровье стадо, и за пять секунд пять тонн свежего мяса, – тогда я от первой до последней строчки все материалы фальсифицировал. У меня ни на единой странице не было живых подписей.
Я курил и смотрел в пол, презирая Хренова. Думал, докурю и пойду.
– А ты хотел! – ему, очевидно, нравилось, что я удручён. – Ушёл бы я, пришёл бы на моё место другой, идейный. Труба! Убили бы его, как тебя.
– Меня пока не убили, – вырвалась из моего горла крепкая, как спирт, злость. – Вот ещё, казнить себя до времени. Да я сам нагоню на Ерусалимск и его выродков такого страха, что заревут!
Хренов карикатурно вытянул лицо. Издевался.
– Что смотрите? – несло меня. – Чего ради хоронить себя заживо? У меня в яйцах дети пищат и вся жизнь впереди. Думаете, послушаюсь и буду гнить в кабинете? Дрочить и одновременно молиться, чтобы не пришли убивать? Обломись ты, начальник Хренов! Есть у них всякие Зурбаганы, Боровы и Ураловы, появится и Столбов.
– Уже есть, – гаденько усмехнулся Хренов. – Прокурора любимчик.
– Знаю! Хватит меня пугать, – встал я из-за стола. – Ерусалимск затрещит. Обещаю!
Смесь из злости и отчаяния после моего ухода от Хренова забродила, вспенилась, стала бить пузырьками в нос, и хотелось смеяться, скаля зубы. Ерусалимцы – психи? Дети и внуки психов? Добро! Моя наследственность тоже с червоточиной. Поглядим, кто больше псих.
До сих пор в посёлке, где мы жили, люди боятся вспоминать моего отца, хотя умер он, когда я ходил в младшую группу садика. Его забили до смерти в милиции, и я, его сын, милиционер, служу и не каюсь. Отец достал всех. Рассказывают, что когда он выходил на улицу, люди прятались по домам и не смотрели в окна, чтобы, упаси бог, не пошевелить занавески. Одно время спускали собак, но собаки стали стремительно кончаться. Отец хватал их и душил. Или садился на псину сверху, если она была большой и сильной, и проворачивал ей вокруг оси голову. Думаю, он славно показал бы себя в ерусалимской битве с собаками.
Мать укладывала меня спать в старинном кованом сундуке и вставляла под крышку клинышек, чтобы шёл воздух. Она и теперь хвалит меня за то, какой я был тихий в детстве, не досаждал отцу ни гвалтом, ни плачем, играл безмолвно, будто совсем не умел говорить. В молчании переставлял солдатиков и танки, проигрывая канонаду выстрелов и взрывов про себя. Золото, а не ребёнок.
Сам я не помню отца плохим. Может, был слишком увлечён своими глухонемыми играми и пропускал отцовы выходки мимо глаз и ушей. Или же он вёл себя плохо, когда я спал в сундуке.
Страшно мне было только в сороковой день после его похорон. Вечером мать неожиданно уставилась на меня сердитыми глазами, погрозила пальцем и наказала: «Сегодня он придёт! Не лезь к двери и окнам! Запомнил?»
Ночью дверь шаталась под ударами и окна дребезжали от чьего-то неугомонного стука. Мать и я сидели посреди большой комнаты на полу и не спали до утра. Мать тискала меня, зажимала мне уши и раскачивалась, надеясь, что я усну.
Сейчас не знаю, что и думать. Вполне возможно, что стучали соседи. Хотели напугать в отместку за отца.
Дурную наследственность во мне открыли медики. Я устраивался в милицию, проходил военно-врачебную комиссию, и первой насторожилась женщина-окулист.
– Что-то у тебя с сетчаткой, милый, – ласково пропела она. – Тяжёлые травмы головы были? На-ка тебе направление в поликлинику МВД, сделаешь энцефалографию и с результатом назад. Ко мне не спеши, сразу шагай к невропатологу.
Сходил. Меня торжественно усадили в кресло, опутали мою, унаследованную от отца, головушку проводами, и я струсил. Ожидал, что подадут зубодробильный разряд, и вместо милиции пойду домой безмолвно играть в танки. К счастью, сеанс прошёл в исключительном комфорте, и даже мужчина-лаборант остался доволен.
– В милицию, значит, устраиваешься? – спросил он. – Возьми, хороший мой, – протянул мне листок с алхимическими знаками и цифрами. – Всех благ!
Прежде чем вернуться на комиссию, я показал загадочный листок соседу, неврологу по специальности.
– Что тут не так?
– Всё!
– А напишите, как должно быть у людей.
Пять минут дел.
Упорствовал я попасть в милицию, потому что с начальных классов школы снискал себе славутошного служителя добра и справедливости.
Прилежный октябрёнок на уроках, перемены я посвящал кровопролитию: бежал попить водички, а затем летал по этажам следить за порядком и спасать наш хрупкий мир. При виде сцены насилия над малышами или обморочными Пьеро, которым на роду было написано страдать, меня начинало трясти. Природный мент шептал изнутри: «Смелее, дружок!» Ни возраст, ни рост, ни правота обидчиков не могли меня остановить.
Синяки и ссадины заменяли мне погоны и звёзды. Благодаря им в школе говорили: «Тихо! Этот идёт!» Однако не могу вспомнить случая, когда я постоял бы сам за себя. Обидные выпады в мой адрес не вызывали во мне ни малейшего протеста. Хуже того, если дело доходило до драки, то я не дрался. Стоял в полный рост, не уклоняясь от ударов, и улыбался. Сердце стучало ровно, в нём не вскипала ярость к врагу, не булькала жалость к себе, хотя холодным умом я понимал, что вот сейчас смогу точно попасть гаду в нос, он растеряется, а дальше ногами в живот. Как правило, моими обидчиками овладевало недоумение, и они прекращали бить, не дожидаясь пока я упаду. У них пропадал интерес ко мне.
В армии получилась та же канитель. С первых дней службы я испытал восторг от обилия несправедливости вокруг и бросился бить-спасать.
Сложилась идеальная схема. Сначала я заступаюсь за свой молодой призыв, безумно вращаю глазами и применяю физическую силу к старшему призыву, а затем последние пытают меня почти до смерти, но унижения и боль я принимаю спокойно, хоть бери и пиши с меня картину святого или большевика.
Любопытно, что не успел закончиться курс молодого бойца, как мои инквизиторы стали здороваться со мной за руку и за глаза прозвали «справедливый чувачелло». А спустя два месяца службы «деды» уже приглашали меня на ночные попойки и задавали Чернышевские вопросы: кто же виноват, раз такая армия, и что же делать, если не бить молодых?
Мудрено ли, что сразу после армии я рванул в милицию. Ей-богу, я желал людям добра, но ерусалимцы разбудили в моей голове импульсы, которые десять лет назад увидел энцелограф.
7. Контратака
Действовать я начал немедленно после встречи с Хреновым. В первую очередь, посвятил три дня хождению по пунктам приёма металла, где со щепетильностью Акакия Акакиевича выписал из бухгалтерских журналов данные о том, кто, когда и в каком количестве сдавал железнодорожные детали. Результат получился превосходным. В моих руках оказалась информация на всех без исключения работников станции Новый Ерусалимск. За той же Татьяной Леонидовной, начальником станции, числились десять грузовых вагонов-хапров и больше двух десятков нефтеналивных цистерн, не считая сотен тонн стыковочных накладок.
Затем я пригласил к себе хозяина самой близкой к вокзалу приёмки, Шатца Николая Николаевича. С его приходом сложилось ощущение, что интерьер моего кабинета пополнился большим и громким музыкальным инструментом.
– Какие жэдэ изделия? Что мне запрещено? Ты кто, пацан? – грянул он, как токката и фуга ре минор Баха.
Листочки с выписками из бухгалтерских журналов подрагивали, и мне приходилось прижимать их к столу рукой.
– Николай Николаевич! Лицензию на предпринимательскую деятельность вы получали в областном центре, правильно? Там же её вас и лишат, обещаю. Родной город не поможет.
– Чего мне бояться? Тебя, считай, уже нет. Пока, мил человек.
Николай Николаевич шагнул к двери.
– Стойте! Материал собран и направлен в другой город на возбуждение, – врал я. – Поздно со мной расправляться.
Николай Николаевич замер, постоял, а когда повернулся, то показал фокус. В руках он держал бутылку виски.
– Где бы ещё встретить хорошего человека! – просиял Николай Николаевич, словно от хороших новостей. – Разрешите к вам?
И спустя минуту:
– Ванюш, ты скажи мне, как другу, чем помочь тебе? Как другу! Друзья мы или нет?
– Резчики, сварщики работают у вас?
– У меня? Да у меня лучшие сварщики! И кузница есть. Хочешь крыльцо, хочешь лестницу витую, говори! А ограды какие мы делаем! А кресты! Для тебя-то!
– Железные ставни с бойницами на окна и железную дверь, чтобы выдержала таран, сможете?
– И всё? – улыбнулся Николай Николаевич. – Обижаешь, будто на пиво попросил.
– Кое-что ещё! – осёк я его, лишь бы он не улыбался.
– Говори, друг, что?
– Гильотину, – выдал я наугад.
Вслед за Шатцем я пригласил Татьяну Леонидовну. Она залпом разрыдалась, и в её дряблой гримасе отобразилось сожаление о молодости, о том, что на красивое имя Татьяна давно наслоилось, подобно чаге, отчество Леонидовна.
– У меня сын… – пуская изо рта пузыри, простонала она. – Школу в следующем году заканчивает.
– Авось закончит, – нагнетал я.
– Он у меня симпатичный, как девочка. Хотите?
– Что ты, мать моя! – привскочил я и швырнул ей чистый лист. – Пишите! Я, фамилия, имя, отчество… написали?.. даю согласие на конфиденциальное сотрудничество… кон-фи-ден-ци-аль-ное… на добровольных началах. Обязуюсь предоставлять… Вытрите слёзы, а то капают, и буквы расплываются! Обязуюсь предоставлять интересующую информацию…
С Натальей Робертовной получился разговор короче. Зная, что у неё тоже есть сын, я сразу принялся диктовать.
Ставни и дверь появились на следующий день, а с гильотиной Николай Николаевич попросил чуток подождать.
Броня воодушевила меня дать бой уличным часовым. Я запасся водкой и, упиваясь ею и злостью, сел ждать ночи.Заслышав за дверью возню и характерное кряхтенье, я взял телескопическую ПР-89, палку резиновую, изготовленную специально для транспортной милиции, чтобы орудовать ей в тесных поездах.
– Еле дотерпел, весь день хожу, как оловянный, – доносилось из гулкого коридора.
– Помолчи! Сбиваешь меня.
Дверь я распахнул, толкнув её всем телом. Диверсантов оказалось двое. Один, сидевший у самого порога, от удара вылетел из штанов и растянулся по полу в одних ботинках. Второго дверь не задела. Он пребывал в пике биологического процесса и смотрел на моё чудесное появление с той тоской в глазах, с которой смотрят согбенные собаки. С ним я допустил скверную оплошность. Вместо того чтобы развеять его тоску взмахом дубинки, пнул вредителя по выпяченному заду. Творчество, которое утром я бы сгрёб с лица земли лопатой, брызнуло на стены и на мои штаны. Тоскливец же пустился вприсядку, приговаривая: «Чего это он?! Чего это?!»
Обида за штаны, правый ботинок и обгаженный в моём лице Закон переполнила меня. В каждый удар я вкладывал душу, бил с придыханием, метясь исключительно по ляжкам, тем самым отучая диверсантов от позы Роденовского «Мыслителя». Было грустно, что один из них оказался станционным электромонтёром, который накануне подписал расписку о сотрудничестве.
Против часовых на перроне следовало применить верный способ усмирения толпы. Предельно жестоко громить вожака и терпеть, пока тебя бьют остальные.
На перрон я выскочил бодрый, неожиданный. Потоптался, поморгал и бросил ПР на землю. Человек двадцать ерусалимцев гуляли врозь, будто поссорились, и не отличались друг от друга, как лесные тени. Вожаком их была луна.
Оставалось идти ва-банк. Схватить пистолет и стрелять в воздух. Почти что в Луну.
– Лечь на землю! – скомандовал им.
По перрону прокатился мягкий шум упавших тел и лязг оружия.
– Встать!
Озадаченные ерусалимцы снова поднялись на ноги.
– Лечь! Плохо. Очень медленно, бойцы. Встать!
Армейский ген, единственный ген, который приобретается, а не передаётся по наследству, управлял мной, обдавал электрическими импульсами гортань, диктовал слова.
– Упор лёжа принять! Отжимаемся. Рраз! Двва! Трри!..
Среди брошенных ножей, топоров и молотков я углядел обрез двустволки, поднял его и стал вдвойне эффектен.
– Двадцать два! Двадцать три! Закончили. Встать! Приседаем. Рраз! Двва!..
Кто проходил через армейский кач, тот знает, что человека возможно довести до сумрака в глазах, до рвоты и поноса за несколько минут. За несколько минут. Мои бойцы обладали мягко-мебельными фигурами, а призывной возраст перешагнули ещё в XX веке. Поэтому кач на них подействовал как нельзя благотворно. «Пожалей! – надрывались они. – Прости!»
– Сорок три, сорок четыре… Закончили приседать. Вдоль предупредительной полосы в одну шеренгу становись! – показал я на край перрона. – Не толкаться! Отставить драки! Так, теперь сели, и по кругу гусиным шагом – марш!
На первом круге упали без памяти двое. Для того чтобы поднять дух остальных, я громыхнул из обреза.
Со стороны завода подоспели ещё шестеро лунатиков. Они встали кучкой, наблюдая за странным поведением своих земляков.
– Мужики, вы чего съели? – спросил бородач, державший на плече цельнометаллическую кувалду, вылитый Тор.
Мои бойцы покосились на него с ненавистью.
– Не ждём, граждане, не ждём! – обратился я к новеньким, наставляя на них пистолет и обрез. – Присоединяемся! Считаю до трёх. Рраз!..
Пятнадцать минут и никто уже не мог стоять на ногах. Последним упражнением стало передвижение по-пластунски. В свете фонарей асфальт заблестел от пота. Бойцы, словно гигантские улитки, оставляли после себя влажные полосы.
– Благодарю за службу! В следующий раз будем бегать с двенадцатиметровым рельсом в руках. Отбой!
Я повернулся идти в кабинет и вдруг почему-то сел на корточки и выронил оружие. Из носа хлынула, как из перевёрнутой бутылки, кровь. Надо мной стояли двое в форме, с бакенбардами и без.
Тот, что без, держал на вытянутой руке сотовый телефон и снимал видео. С бакенбардами бил меня моей же дубинкой.
– Прикольно, конечно, придумал, – приговаривал он. – Но надо скромнее быть.
Хлоп! – дубинка угодила по темечку, и я, неприятно опьянев, слёг на асфальт.
– Не-не!Ты не укладывайся. Пойдём к тебе в кабинет, будем снимать ахтунговое порно.
Я поднялся и волнообразно пошёл к вокзалу. Сзади меня шутили:
– Завтра станет самым популярным милиционером в интернете.
– Ага, я спецом запись не останавливаю, чтобы всё по-чесноку. Как начал и как кончил.
Хлоп! – для острастки зарядили дубинкой по спине. Ну и боль, спятить можно.
– Погоди стонать. Сейчас мы тебя этой же палкой да посуху. Перед тем как войти в кабинет, они настучали мне по плечам, чтобы не мог сопротивляться. Руки мои повисли плетьми, мышцы в них спутались.
Однако у меня хватило проворства дёрнуть засов и отворить дверь каморки, где находился умывальник и ждал своего выхода Буян.
Забыл сказать. Я на денёк позаимствовал из отчего дома Буяна, чёрного волкодава, глупого, как курица и свирепого, как смерч.
Без бакенбард успел выскочить, бросив свой всевидящий телефон, а с бакенбардами попал под натиск Буяна, и для него на какие-то мгновения наступил легендарный двухтысячный год. Я не позволил случиться худому, отогнал пса почти сразу.
– Успехов по службе, олень, – пожелал своему коллеге.
Он, сжавшись на полу, неуёмно визжал и сучил ногами.
В благодарность за доблесть Буян получил два свиных копыта. Потом ещё два, так как глотал их целиком, не разгрызая.
Пинками прогнав коллегу, я заперся, сел и подумал: «Остаётся отметиться перед бандитами, но куда мне с ватными руками и сотрясённым мозгом?»
Взял телефон и набрал Николая Николаевича. Хотя часы показывали половину третьего ночи, ответивший мне голос был бодр.
– Не спите, Николай Николаич?
– Да нет! Решил, знаете, прогуляться. Кстати недалеко от вас, мне зайти?
– Нет, гуляйте. Я звоню только по поводу…
– Гильотины? Завтра… вернее, уже сегодня утром будет готова. В восемь часов привезу!
– Николай Николаич! Мне привозить не нужно. Будьте добры, доставьте её господину Зурбагану. Скажите, что от меня. Хорошо?
– Мм…
– Сделайте, как для друга.
На том конце вздохнули.
– Николай Николаевич?
– Что ж, если, как для друга… – вяло ответил он.
Боль задремала, обняла меня тяжёлыми лапами, убрав когти, чуткая к малейшему шороху. Нужно было идти умываться, будить её, зверюгу, и я, чтобы встать со стула, решил сосчитать до десяти.
… девять, десять! Нет. Лучше заново и до двадцати.
… восемнадцать, девятнадцать… в дверь бойко постучали.
– Кто там? – глухо спросил я, и боль выпустила когти.
– Вань! – позвала Ксюха, моё ерусалимское счастье.
Боль, не успев зацепиться, свалилась с меня, настолько резво я бросился загонять в каморку Буяна и открывать дверь.
Ксюха вошла строгая, глазки злые, губы трубочкой.
– Что ты тут без меня устраивал? Почему меня не позвал? Почему я ничего не знала? Кто тебя бил? Где они? Откуда псиной пахнет? – расстреляла она меня вопросами. – Целовать тебя не буду. Иди умойся, свин!
– Ты почему ночами ходишь? – ответил я контратакой. – Тебе уши надрать, пиздушка глупая?
Ксюха, будто я назвал её мадонной, гордо задрала подбородок и указала пальцем в сторону умывальника. Палец нереально сверкал фальшивым перстнем.
Минут десять я плескался в раковине и отпихивал от себя пса. Он поднимался на задние лапы, падал на меня, хохоча гулкой пастью, а мне не хватало сил побороть его. Итого: сдвинутая раковина, разбитое зеркало и колено в челюсть.
Вышел я мокрый до носков и застал Ксюху за её любимым делом. Она наводила порядок на моём столе, раскладывала по стопкам бумаги. Исписанные листы укладывала в одну стопку, начатые или с коротким текстом – в другую, а чистые Ксюха презирала и прятала их с глаз долой.
– Ксюха! – всерьёз рассердился я. – У меня здесь пять материалов! Ты опять их смешала!
– Чего ты кричишь-то? – надулась она. – Я наоборот помогаю. У тебя бардак везде. Пистолеты с ружьями валяются…
– Куда ты дела пистолет и обрез? – спохватился я.
– В холодильник убрала, – пожала она плечами, удивляясь моей недогадливости. – Он всё равно зря занимает место. Один кефир внутри.
Зелёные глаза её косили, и вразнобой торчали уши, левое больше правого. На лбу, подбородке и щеках пестрели давнишние, подростковые шрамы. Нелепая и смешная, Ксюха, казалось, не имела права быть красивой, но как бы не так! Бог-геном специально напортачил с ушами и глазами, чтобы они отводили внимание людей от её опасной красоты.
Золотая, будто освещённая изнутри, кожа. Острые, как сколы камня, линии носа и подбородка. Пикирующие брови. При виде Ксюхи одолевало зло, что она иная, отдельная. Становилось обидно за других женщин, за красоту земную вообще. Прекрасное меркло рядом с Ксюхой и в отдалении от неё.
Потому и покрывали её лицо шрамы. Девчонки и мальчишки били Ксюху, чтобы она не отвлекала их друг от друга, чужеродная бестия. Завидовали.
Я не исключение, тоже боролся с чёрным желанием ударить Ксюху, очеловечить её кровью и синяками. Язык мой не поворачивался говорить ей приятные слова, ела сердце гордость. Как молящийся Богу сознавал своё ничтожество, если произносил хвальбу её красоте. Оставалось понарошку грубить ей, обзываться, и она, умница, понимала, что только так с ней и можно, нарочно задирала и провоцировала. В любви, в той, которая голышом и без стыда, я играл в насилие, брал Ксюху против её воли, и она от души подыгрывала. Насколько хорошо удавался из меня актёр, судить не возьмусь, потому что не всегда помнил, что играю, забывался.
– Знаешь, что я с собой взяла в дорогу? Глянь! – Ксюха победно подняла над головой длинное, как указка, шило.
– Удивляюсь, что ты не пришла с ним в заднице, – пробурчал я.
– Хха! – вскрикнула она и вонзила шило в стопку протоколов.
Провокация…
Зная, что Ксюха сильна и проворна, как Буян, я использовал запрещённый приём, туго намотал её пшеничные волосы себе на кулак. Она протяжно втянула в себя воздух: «Уффф!» – и поддалась, легла грудью на стол. Я не отпустил, задрал ей голову, и она, трагическая актриса, капая слезами на испорченную папку протоколов, поспешила сама засучить ситцевую юбку и приспустить трусики.
Нервная ночь напитала меня грешной силой. Ксюха стонала навзрыд. Она прильнула к столу щекой, яростно кусала губы и косилась своим огромным глазом, в котором сквозь слёзы горел восторг. Я любовался ею сверху, и сердце моё сердито барабанило, будто в дверь, торопило меня зайти за грань, нарушить правила игры.
Я вышел и вошёл ступенькой выше. Ксюха ахнула и покраснела, как от мороза. Мы замерли, оба в страхе перед новым пространством.
Она закрыла глаза и приподняла брови. С таким лицом дегустируют ценное вино или слушают живую скрипку.
– Мерзавец… – шепнула Ксюха.
Утром нас разбудил Николай Николаевич. Он передал от Зурбагана спасибо и бутылку португальского абсента.8. Знакомство
В серой моей казённой биографии Ксюха отметилась цветными карандашами.
Как-то в окошке товарной конторы увидел новую работницу – её. Дочь Венеры Милосской и Чебурашки. Ошеломлённый, поспешил к себе.
Закрыл жалюзи (окна тогда ещё были целы), вымыл руки и торопливо успокоился.
В душе настал наплевательский покой, сердце почерствело, кровь остыла, и я пошёл знакомиться.
– Кх! Добрый день! – сказал я, покашливая в грешную руку. – Хожу, смотрю… кх!.. Недавно устроились?
Она подняла глаза, пронзив воздух длинными, как ёлочные иголки, ресницами.
– Я тоже смотрю, что кто-то ходит и замечать меня не хочет. Сразу видно, важный тип. Плевать, думаю, на него тыщу лет, на поросёнка.
Отпрянув от окошка, я выдал дурным басом:
– Дык, у меня дела! Я ведь… – и представился ей, назвав должность, звание и имя-фамилию.
– Дерьма-то, – нахально зевнула она. – Идите, не стойте. Работайте. Если что, меня Ксюха зовут.
Я вернулся в кабинет и залпом выпил литр воды. Отдышался и пошёл мыть руки.
Ночью снился воробей, у которого вместо крыльев были человеческие уши, и он шустро порхал ими.
Проснулся впопыхах. Сердце стучит, в трусах взведённый спусковой механизм. Воин!
Брился и чистил зубы, как в последний раз. Пришёл к ней с кровавой улыбкой и посечённым вдоль и поперёк лицом.
– Привет! – просунул в окошко шоколадку. – А что с ушами? Одно туда, другое сюда.
– Чтобы везде слышать, – прищурилась Ксюха, нацелив на меня игольчатые ресницы. – Я любопытная.
– Поэтому и шрамы?
– Я боевая, – она принялась грызть, не запивая, шоколадку. – Никого не боюсь.
– И меня?
Ксюха набила полный рот и, задрав подбородок, прочавкала:
– Фуеват будеф! Тебе у мейя еффё поуфица, мальфифка.
Ушёл от неё глупый, с пережёванной шоколадкой вместо мозгов.
Только помыл руки, только сел за стол воображать счастье, как дверь распахнулась, и шпингалет, на который она запиралась днём, упал посреди кабинета.
– Ха-ха! – возникла Ксюха. – Я не знала, что заперто! Чего делаешь?
Не успев застегнуться, я положил на колени журнал регистраций.
– Работаю, видишь!
– Ууу, бумажная душа. Обед же, – Ксюха плюхнулась на стул. – Корми меня.
Незаметным, как мог, движением, я застегнул под журналом молнию (гостья одной бровью проследила за моей рукой) и прошёл к холодильнику.
– Кефир есть, – надул я щёки.
– А чего фырчишь? Не нравится, что я пришла? Нужен мне твой кефир! – она поднялась и шагнула к двери.
– Стой! Сиди!
Оставив её в кабинете, я помчался в магазин. По дороге бубнил: «Видела. Видела же! Поняла… И зачем её одну в кабинете оставил? В сейфе ключи торчат, там ! "секретка". А если именно сейчас приедет проверка? Сидит такая сопля, немного не школьница».
В магазине растерялся, вспоминая, что едят люди. Купил, лишь бы купить: йогуртов, солёных огурцов, дыню и пиво.
Вернулся и впервые застал то, от чего мне предстояло впредь страдать каждый день. Ксюха убралась на столе.
– Где материал по украденным шпалам? Где по снятым противоугонам? – взбесился я, думая, что всё похерено. – Где свинченные накладки и разобранная стрелка?
Ксюха моргала, выставив вперёд одно ухо.
– Какие шпалы? – тихо произнесла она. – Какая стрелка? Да на тебе! – над моей головой пролетел тюбик с клеем ПВА.
Я схватил журнал, которым полчаса назад прикрывал лучшее мнение о Ксюхе, и ударил им сверху по её красивой голове. Получилось громко и оскорбительно.
– Думаешь, не кину? – спросила она, благодарно улыбаясь, и сжимая увесистый степлер.
– Девушка, успокойтесь. Вы находитесь в служебном помеще… – степлер врезался мне в грудь, и больно.
В следующую секунду я отбил журналом связку ключей, увернулся от железной зажигалки «Zippo», но алюминиевая пепельница метко рассадила мне переносицу.
Вовремя пригнув голову, чтобы не встретиться с большекрылым сборником кодексов, я ринулся вперёд и повалил Ксюху на пол. Вопрос о том, что делать дальше, встал во всю величину, и тонкие штаны не могли его скрыть.
– Защекочу до смерти! – стал считать ей рёбра. – Ненавижу посикуху!
У меня до рези звенело в ушах от её визга. Она извивалась, пыталась плеваться, но плевки вылетали пустые, одним воздухом.
– Всё! Пощади! Есть хочу! – кричала Ксюха.
Обедали молча. Глядели друг на друга исподлобья. Она съела йогурты и двухкилограммовую дыню, а я угрюмо выпил полтора литра пива.
– Огурец в жопе не жилец, – вздохнула она и подвинула к себе банку огурцов.
– Приходи ужинать, – предложил я, блуждая глазами по разгромленному кабинету.
– Хочу селёдки, копчёной курицы, салат из помидоров, – живо откликнулась Ксюха, – оливок, груш, птичьего молока…
Аппетит Ксюхи пугал. Насколько обильно я вливал в себя разные жидкости, настолько Ксюха была обжора. После еды живот её становился шариком, она смеялась и стремительно глупела. Сидит совершенно окосевшая в своей слабоумной эйфории, болтает ерунду, как пятилетняя, а через два часа начинают трястись руки – первый признак, что опять голодная.
Худышка, уши да кости, потому и было загадкой, куда у неё уходят калории. Как говорится, не в коня корм. Разве что много энергии забирал смех. Ксюха заливалась с тем воодушевлением, с каким без умолку поют птицы. Отгадать загадку её зверского обжорства мне предстояло лишь зимой.
Ужин в день нашего знакомства не состоялся, хотя я из кожи лез, чтобы приготовить его. Не имея сноровки резать овощи, изрезал себе пальцы. Полагая, что селёдкой унизительно зовут любую тощую рыбу, купил копчёной мойвы. Зато угадал с курицей. Нашёл самую настоящую, бесспорную курицу, но сырую. Шутка ли, что я никчёмный кулинар, если даже не знаю, с какого бока разбить яйцо.
Приготовленный потом и кровью ужин сорвался в самом начале. Ксюха тянула к мойве голодную в мурашках руку, когда по рабочему телефону мне сообщили, что прибывает московский поезд, в шестом вагоне которого пьяный ерусалимец стращает пассажиров ножиком.
– Я с тобой! – вскочила Ксюха.
– Сиди и не смей носа показывать! – приказал ей.
– Интересно же! – она потрясла кулаками. – Пойду!
– Не дай бог, помешаешь, – вывернул ей ухо.
Признаюсь, скот я. Как опасная работа, готов был сожрать всех и вся, лишь бы никто не лез под руку.
После Ксюха рассказывала: «Ты, когда ждал на перроне поезд, был страшнее тучи. Глаза чёрные, без белка. Лицо худое, узкое. Уши заострились, и волосы на голове волнами, я сама видела. Ты был другой. Тогда я тебя и полюбила».
Тревожный поезд верещал тормозами, и через измазанные кровью окна люди смотрели круглыми глазами, будто аквариумные рыбы. Там, в глубине вагонов прятался хищник, и хуже всего было не знать его размеры и повадки.
По ходу торможения я шагал вровень с шестым вагоном, а Ксюха семенила поодаль. Лязгнула тамбурная дверь, за ней – вторая, третья, и пассажиры посыпались на перрон, не дожидаясь остановки. Паника. Сейчас переломают ноги, потопчут друг друга, а главное, что потеряется он.
– Здесь он! В поезде! В сторону пятого побежал! – крикнула мне проводница шестого вагона с красными, блестящими руками. – Тёмная одежда! Огромный, два метра!
Люди мешали мне. Я натыкался на них, они – на меня, пьяные от кислорода и безопасности.
– Где он? – спрашивал их, но они молчали и смотрели пластмассовыми глазами.
Сзади за плечо меня схватила сильная рука. Оглянулся – Ксюха.
– Диктуй свой номер! – она держала наготове телефон. – Побегу на ту сторону, вдруг он там выскочит.
Пассажиры бестолково запрудили перрон, а я метался среди них, тянул шею и подпрыгивал, как пёс в густых камышах. «Быдло! – думал. – Точно быдло, а не народ. Пятьсот перепугались одного. Молодец ерусалимец! Найти б тебя ещё».
Зря я, конечно, ругался. Потом узнал, что смелые всё же нашлись.
Чинить безобразия он начал за полчаса до прибытия поезда в Новый Ерусалимск. Предложил соседям по купе померяться с ним силой. Взял пустую полторашку и порвал её пальцами, будто бумажную. Аплодисменты не последовали, и никто не стал кричать: «Дай, я! Дай, я!» Подавленный своим превосходством, одинокий и непонятый ерусалимец отправился вдоль вагонов выбивать кулаками окна. Изранился до костей, и от вида собственной крови потерял последний ум.
«Вот вы как!» – сказал он пассажирам, вынимая из кармана складной китайский нож. Дрянь, ширпотреб, если говорить о таком ноже, когда он лежит задёшево в привокзальном киоске, а не сжат в пьяной руке.
Тесно, полки, суета. Ерусалимец резал вскользь, но многих. Как поршень, пёр по вагонам, а впереди бежали проводницы, красочно рекламируя его.
Лезвие ножа рассыпалось, как вафля, о пузатый титан. Безоружного ерусалимца попытались скрутить двое, русский дембель и дагестанский рукопашник. Первый страдал мало, потеряв сознание от бодания с упомянутым титаном.
Рукопашник продержался против своей воли до конца схватки. Ерусалимец взял его сверху одной рукой за голову, и взял надёжно. Пальцами другой руки он, не суетясь, по одному, выдернул рукопашнику зубы. Оставил только коренные.
– Да! – ответил я на незнакомый номер. – Мне некогда!
– Это я! Ксюха! – ужалил меня тонкий голосок. – Он с другой стороны! Иду за ним.
– Не кричи. Тихо! Почему думаешь, что он?
– Огромный! – звенела она. – И в крови.
– Где? Куда идёт?
– В сторону минимаркета «Боярин». Я его заболтаю, чтобы не сбежал.
– Не смей! – завопил я. – Жди меня!
Где ещё этот «Боярин»?.. Первый раз слышу.
На ту сторону я пробежал под вагонами, скользнув по дну позвоночником и рёбрами. Огляделся – людей никого, и Ксюхи тоже. По правую руку возвышался завод, а по левую, вдалеке, метрах в трёхстах, ютились двухэтажки.
Набрал на телефоне её номер. Гудки… гудки… не отвечает. Побежал к домам, проклиная женский род.
Ворвался, чавкая по радищевским лужам, во дворы. Попались глухая бабка и остроухая дворняга. Ни та, ни та объяснить, где «Боярин», не смогли, а дворняга наговорила мне столько лишнего, что литературным языком не передашь.
Обежав несколько домов, я приметил на торце одного из них фонарь с поблекшим логотипом «Coca-Cola» и фанерную вывеску с тремя буквами «…рин». Начало слова облупилось, и я подумал: «Вряд ли, татарин».
Внутри минимаркета стояли две холодильные камеры, запах сырой рыбы и широкая женщина.
– Высокий и маленькая! – прокричал я женщине. – Видели их?
Она приподняла плечами щёки и ответила:
– Ушли.
Я выскочил из магазина и снова набрал номер Ксюхи. Гудки. Убрал телефон от уха и вслушался в улицу. За гаражами, в метрах тридцати от меня, слабо пел Бон Джови «Its My Life».
…Он держал её сверху за голову и нажимал, повелевая встать на колени. Ксюха вяло болтала в воздухе руками и медленно оседала на землю.
– Зубы вырву, – говорил он.
– Молодой человек! – позвал я. – Здравствуйте!
Ерусалимец отпустил Ксюху, и она, отпружинив, повалилась на спину. До чего же он был огромен! Как он убирался в поезде? Второй Николай Николаевич, ерусалимская порода, Голиаф. Впрочем, вру. Николая Николаевича я тогда ещё не знал и потому не мог с ним сравнивать.
– Подраться хочешь? – спросил он, шагая ко мне с невыносимой добротой на лице.
– Зачем? Давай лучше познакомимся, – я протянул ему руку, рассчитывая на маленький шанс скрутить его захватом спереди, хотя вероятность успеха исчислялась цифрами, которыми оперирует наука, но не жизнь.
Он механически подал мне свою изрезанную с торчащими осколками стекла пятерню, а я цепко схватил её и заодно провёл расслабляющий удар ботинком по его сухой кости. Осталось надавить на локоть, вывернуть руку, и да здравствует победа!
Заминка вышла с расслабляющим ударом, от которого ерусалимец не расслабился. Потому мне и не удалось закончить захват. Я тщетно давил ему на локоть, и мы кружились в томительном вальсе, глядя друг другу в глаза. Я снизу – скорбно, а он сверху – вопросительно. Трогательные мгновения для двух смущённых мужчин.
Мне бы встретить смерть смиренно, как должно христианину, а я, суетный человече, ударил ерусалимца кулаком в челюсть. Повторю ли я когда-нибудь этот удар, не обещаю, но вещать о нём как о библейском чуде обязан взрослым и детям. Ерусалимец рухнул, не сгибая ног, словно из-под него выдернули половик.
Подошла Ксюха, пнула его по рёбрам, но он уже спал в сладком нокауте. Одно ухо Ксюхи горело, напоминая включённый поворотник.
– Подумай! Вошла за ним в «Боярин», – она обежала и пнула с другой стороны, – он увидел меня, взял за ухо и повёл сюда. Я от боли слова не могла сказать.
– Так тебе и надо, – прохрипел я. – За мини-маркет.
С той поры, что бы ни случилось, Ксюха следовала за мной или впереди меня, знаменуя в одном лице собаку-ищейку и ангела-хранителя. Слов не понимала, ни добрых, ни злых. Обижалась, если я гнал её, и плакала, но не отходила ни на шаг.
Она с головой и с ушами бросалась в приключения и люто ненавидела родной город. Будь в Ерусалимске террористическая организация, думал я, Ксюха числилась бы активисткой.
А на следующий день после гигантского ерусалимца она пришла ко мне задумчивая. Без слов навела на столе субъективный порядок, пороняв на пол карандаши и скрепки. Взяла степлер, повертела его, будто вспоминая, для чего он нужен, и, не припомнив даже того, что им можно больно кинуть, положила на место. Ухо её посинело, и она прятала его под волосами, но время от времени забывалась и заправляла волосы назад.
– Пообедаем? – спросил я. – Пойду, куплю что-нибудь.
– А? – Ксюха рассеянно похлопала глазами. – Не уходи. Запри дверь.
Она перешла из-за стола на топчан – смирная, робкая, с виду студентка, и сейчас ей отвечать по билетам.
В первые минуты я действительно чувствовал себя экзаменатором. Целовал её, тискал, а она лишь закатывала глаза, будто забыла конспект.
Очнулась Ксюха, получив укус в плечо. Я сам не ожидал от себя. Взбесился на вопиющую красоту.
В глазах её мигнул разряд, как при неисправной электропроводке. Дыхание стало шипящим, лицо горячим, и вскоре я целовал включённый утюг с функцией отпаривания.
Мы бились на топчане, забыв, кто мы, какие у нас дела и график работы. Обеденное время вышло на середине схватки, а мы хрипели и не сдавались друг другу. Передышку сделали, когда Ксюха сказала:
– Голова кружится и ноги трясутся.
Я закурил сигарету, и предметы стронулись со своих мест. Стул встал на две ножки и пошёл, как на цыпочках. Наклонился двустворчатый сейф-великан. Один из его отсеков был навечно заперт, а ключ по описи я не получал. Окно скользнуло по стене вверх и обратно. Жалюзи его были плотно закрыты, но одна панель перекрутилась, и в просвете торчало внимательное лицо Татьяны Леонидовны.
– Сука! – бросился я к окну и поправил подлую панель.
– Ты чего? – спросила Ксюха.
Она лежала на топчане кверху задом, раздвинув ноги и прохлаждая себя.
– Осу убил, – свято соврал я.
С этого дня Татьяна Леонидовна взялась отмечать по минутам рабочее время Ксюхи и организовала за нами обоими бесстыжий дозор.
Ксюха ступала ко мне за порог, а за окном уже маетно ходила взад-вперёд бдительная тень. Мы садились за стол, и прибегала Наталья Робертовна сообщить о несчастье, которое случилось ещё утром или вчера, а обнаружено только что. Иногда врывалась и сама Татьяна Леонидовна.
– У меня мысль! – сходу овладевала она нашим вниманием, скользя по нам маслеными глазами. – Что будет, если намазать рельсы солидолом? Вдруг кто-нибудь, кроме меня, догадается об этом? Поезда не смогут тормозить! Предлагаю сейчас же провести совместный обход путей.
Однажды, когда она вбежала вперёд своих мыслей и встала посреди кабинета, выдумывая повод для визита, моё сердце подпрыгнуло до горла и заколотилось под самым языком. Слова полетели вперемешку со слюной. Я орал, взмахивал руками и для чего-то притопывал ногой. Со стороны, наверное, казалось, что пьяный тамада сыплет матерными частушками, приглашая женщину поддержать веселье. Татьяна Леонидовна выбежала, сдвинув по пути сейф, и после обеда у Ксюхи пропала отчётная документация.
Две недели ушло на её восстановление. Мы виделись по несколько минут в день, быстро-быстро ругались и, не тратя времени на драки, шли к столу, но не садились. Ксюха наспех ела, а я напирал на неё сзади, торопил. Один раз пытались совместить, но Ксюха подавилась.
Убегая затем к себе, она косолапила и ворчала, что ей мокро.
Через две недели, когда Ксюха восстановила «пропавшие грамоты», мы смогли вволю ругаться, есть сидя, а влюбляться лёжа.
Иногда, шутки ради, мы кружили, опустив головы, по станционным закоулкам. Обходили депо, на крыше которого росла берёзовая роща, плутали между складами, хранившими прошлогодние сквозняки, и всюду замечали за собой слежку.
Скрытое наблюдение вели Татьяна Леонидовна и Наталья Робертовна. Первая одевалась в тёмное, передвигалась вдоль стен и в тени деревьев. Рассекретить её, поймать за руку у нас не получалось. То ли солидная женщина успевала вовремя скрыться под вагонами, то ли у неё хватало здоровья убегать.
Наталья Робертовна преследовала нас верхом на велосипеде. Мы замирали в приятном испуге, когда за нашими спинами вылетала из чипыжей суровая, как Чапаев, наездница в оранжевой жилетке. Никакой конспирации. Всё серьёзно. Благодаря многолетнему маневрированию между постами Наталья Робертовна привыкла гонять со скоростью локомотива и только прямо. На наших глазах она взрывала головой гранитную насыпь, билась о перрон, и ничего.
Мы смеялись над железнодорожными женщинами. Считали, что они скучают в жизни и завидуют нам. Смеялись, пока не стало угнетать.
А там одно к одному: мой интерес к заводу и «башмак» в руке Натальи Робертовны, ночные моционы ерусалимцев и битые окна, срач под дверью и Хренов. Наконец, моя войнушка, буян, гильотина, абсент… За какие-то пару летних месяцев.
Впереди ждала ерусалимская осень. Она сморкалась в дряблую руку и этой же рукой манила: «Иди ко мне, смелый незнайка. Я тебя научу, откуда у твоей Ксюхи уши растут».
9. Вентиляторы
Вербовка потрясла железнодорожных женщин. Полсентября я не знал с ними хлопот, не видел их и не слышал. Лишь поутру они являлись ко мне с агентурными донесениями, а затем до вечера хоронились и от меня, и от моей Ксюхи.
В свой срок настало бабье лето, и солнце исправно включило резервное питание. Ерусалимск наполнился обманчивым теплом, а поезда – простудами. Я же завёл себе масляный обогреватель, привёз из дома хлопчатую пижаму и шерстяной халат.
И сижу я утром в халате, просыпаюсь, наместник добра на ерусалимской земле. В дверь медленно стучат. Подхожу, берусь за ручку и чую носом, кто за дверью. Из замочной скважины резко сквозит корвалолом.
Стоит Татьяна Леонидовна. Открывает-закрывает глаза и плавно покачивается, точно парит над землёй.
– Опять целый пузырёк выпили? – говорю я, сердитый, в халате. – Вы так сердце посадите.
Слушая меня, она держит глаза открытыми, а потом закрывает. Молчит.
– Ну! Говорите! – повышаю голос, чтобы она не заснула.
Татьяна Леонидовна сводит брови. Что-то понимает.
– Есть информация?
Закрывает глаза.
– Татьяна Леонидовна! – хлопаю перед её лицом в ладоши.
– Здравствуйте, – запашисто шепчет она.
С грохотом захлопываю дверь, но знаю, что агент не уйдёт и через минут пять постучит снова.
С улицы доносится шипение шин об асфальт.
Наталья Робертовна, второй секретный агент, бьёт по двери кулаками. Дверь гудит. Открываю.
– Чего я знаю! – протискивается она в кабинет, стараясь говорить в себя.
– Тише, – ругаюсь. – Одна лекарства пьёт, другая – вино.
Наталья Робертовна задерживает дыхание. На шее у неё выступают жилы.
– Да ладно уж, – отмахиваюсь рукой.
– Чего я знаю! – выдыхает она, и едкий выхлоп сбивает мне чёлку. – Сегодня ночью три угона, четыре квартирных кражи и пять грабежей! О!
Она хохочет и перечисляет адреса жертв и фамилии злодеев. Называет места, где спрятано краденое. Адский талант. Дать ей задание собрать компромат на родных отца и мать, она сию минуту взлетит на седло велосипеда и помчится исполнять.
– Мне не нужна информация по городу, – перебиваю её. – Только по жэдэ.
– Сейчас будет и по жэдэ! – Наталья Робертовна выпячивает грудь и звонко, будто поздравляет меня с днём рождения, провозглашает: – Вам конец!
Я как раз пил воду, и она хлынула у меня через нос.
– Слушайте дальше, – продолжила Наталья Робертовна. – Новый электромонтёр срезал сегодня на складе замок и унёс два немецких рельсореза. На триста сороковом километре двое сняли…
– Не частите! – попросил я, отряхивая грудь. – Кому конец-то?
– Вам. Подробности я оставила напоследок. На триста сороковом…
– Плевать на триста сороковой! Чай, кофе? Абсент?
Наталья Робертовна зарумянилась.
– Что там у вас последнее? – проговорила она. – Крепкое?
Я подло налил в глубокие рюмки.
– Наши переговорили насчёт вас… – Наталья Робертовна по-мужски махнула семьдесят пять градусов, и утёрла кулаком губы.
– Кто наши?
– Да все, – она приподняла одно плечо. – Милиция, бандиты, бизнесмены… все!
– И?
– Решили сжить вас со свету, что же ещё? – Наталья Робертовна подалась ко мне румяным лицом. – Жалко вас. Молодой ведь. Я даже влюбилась в вас. Так и знайте.
– Ну-ну-ну! – я поспешил налить по второй. – Скажите лучше, чего мне ждать.
– Убить вас не убьют, – Наталья Робертовна стукнула ребром ладони по столу. – Не хотят поднимать шум из-за иногороднего. Но, клянусь, посадят. Помяните моё слово.
– Как у вас получилось добыть такую информацию?
– Уметь надо, – подмигнула она.
– Согласен. Лишнее спрашиваю. Что-нибудь ещё скажете?
– Сейчас вас прослушивают. Кабинет, телефоны, рабочий и сотовый…
– Тише! – приказал я, поверив ей на слово.
– Ждите, они будут пытаться убрать вас руками ваших начальников, – шепнула она.
– Как именно?
– Спросите тоже! Это ваша кухня, вам лучше знать.
– Да, верно, … – я поднял свою рюмку. – Вам цены нет. Ваше здоровье!
Выпили. Тяжело замолчали.
Я теребил полу глупого халата и отчаянно вспоминал какой-нибудь анекдот. Голова опустела до звона в ушах.
– Раз мы подружились, так и быть, спрошу, – придумал я, как отвлечься. – Что же всё-таки происходит на заводе? За что вы все на него ополчились?
Наталья Робертовна рванула из-за стола к выходу, бросив на ходу:
– Надо сказать, чтоб тебя, говно, убили.
Она от души хлопнула дверью, а я остался сидеть ошарашенный, в халате, один. Где Ксюха? To здесь она, то чёрт знает где!
Первым пострадал стол. Сложился в стопку, как туристический.
Серьёзные переломы получили стулья.
Упал, пошатнув вокзал, холодильник «Полюс». Яростно взвизгивая, я попрыгал на нём и промял ему бока.
Остался сейф и портрет Феликса Дзержинского. Первый из них видел, что произошло с «Полюсом», но весил триста килограммов и вёл себя спокойно, а Феликс благоразумно отвёл глаза, будто думает.
Стены – кирпичные. Зато умывальник сложен из ДВП.
Взялся бить кулаками. Рассадил.
Дался головой. Больно.
Разбежался и налетел всем весом. По полу покатились патроны. Много, сотни. Пистолетные и автоматные. Поломав стенку умывальника, я нарушил тайник, который находился в полости между дэвэпэшными листами.
– Что ни делается, всё к лучшему, – сказал я себе, утирая окровавленной рукой окровавленный лоб.
Если верить Наталье Робертовне, то сегодня-завтра мне следовало ждать проверяющих, вплоть до отдела собственной безопасности, а эти найдут травинку в стоге иголок, не то чтобы боеприпасы в стенной нише.
Среди золотого сияния патронов чернел большой, с мизинец, ключ. Уверенный, что он от сейфа, а в сейфе пистолет и укороченный вариант Калашникова, я сначала сгрёб патроны. Набралось полкоробки из-под электрочайника, и пришлось проклеить её скотчем, чтобы не вывалилось дно. Затем уже проверил ключ.
Три скрипучих, ржавых оборота, и наготове дорожная сумка, чтобы сразу забросить в неё оружие. Дверь гулко рыгает на меня затхлым духом позапрошлых лет, но не оружие там, а два вентилятора. Под каждым из них подложены худосочные брошюры, «Свет-1» и «Ночь-1».
Я взял тот вентилятор, который «Свет», и впервые за утро улыбнулся. Вещь мне понравилась. Возможно, в моих руках оказался дебютный образец советской роскоши: гиревой вес, воронёный металлический корпус, чугунная подставка, стальные хромированные лопасти. Грозный дизайн для грозных времён и людей.
Сзади на подставке имелась жестяная бирка, и на ней значился номер ГОСТа, год выпуска – 1955, а также город-изготовитель. Новый Ерусалимск.
После битвы с мебелью пот лился по мне, как дождевая вода, и я решительно водрузил вентилятор на подоконник, включил его, а сам за неимением стульев сел на пол и закурил.
Кабинет задрожал от самолётного гула. В воздух поднялись бланки протоколов, сотворив переполох, как будто в голубятню пробралась кошка. «Свет» резво поехал по подоконнику и остановился лишь, когда упёрся в оконную раму. Будь у него крылья, он взлетел бы и устроил на вокзале авиакатастрофу.
Я запрокинул голову, прикрыл глаза и в голове мгновенно включился яркий полусон.
Передо мной встали двое детей одной алкоголички, которая недавно подозревалась в мелкой кражонке. Я тогда полтора часа плутал по ерусалимскому посёлку Мартовка, искал её дом, и не единожды проходил мимо него, считая нежилым. Спросил, наконец, у местных.
– Вон тот, без окон, – показали они.
Вошёл, не постучав, потому что вместо двери висела опалённая по краям занавеска. Разгребая ногами тройной слой пустых бутылок, обследовал дом и никого не встретил. Наврали местные, чтобы загнать меня на свалку. Посмеялись.
Так бы и ушёл, если бы не наступил на бутылочное донышко и не проколол сквозь подошву ногу. На мой жизнеутверждающий вопль нервно всхрапнула в углу комнаты куча тряпья.
– Здравствуйте, хозяйка! – покачал я раненой ногой кучу.
Храп сменился мерным, глубоким сопением, и мне не хватило мужской смелости представить себя принцем, а её – красавицей, чтобы лезть будить губами. Грубые способы, включая контакт здоровой ногой, не действовали.
Вышел я на крыльцо, жадно вдохнул от самого неба и краем глаза уловил движение. Кто-то маленький юркнул за дом.
Похромал я вслед, приготовив на случай собак обломок кирпича.
Возле поленницы, богато поросшей грибами, стояли бок о бок двое детей. Мальчик лет восьми и девочка, года на два младше.
– Привет, детвора! Играете? – расплылся я в улыбке, как квашня, и выбросил кирпич.
Они молчали, рассматривая меня без детского страха в глазах. Мальчик держал в руке старый железный утюг, а девочка что-то прятала за спиной.
– Классная у тебя игрушка, – кивнул я на утюг. – Или ты им с хулиганами дерёшься?
Мальчик оскалился мне в ответ. Он не понимал меня.
– А ты что прячешь? – спросил я девочку, заглядывая ей за спину.
Она сжимала погрызенную лягушку, которая дёргала одной оставшейся лапой.Вентилятор обдувал меня. Пот испарился, становилось зябко, но я терпел и выедал себя изнутри, вспоминая, что потом больше ни разу не ходил в тот дом и не носил детям еду, хотя собирался. Зато смотрел «Пираты Карибского моря – 2» и смеялся, когда Джек Воробей убегал от людоедов. Купил вэб-камеру и не доставал её из коробки, потому что она мне не нужна.
По вине «Пиратов» вслед за детьми на память пришёл другой Воробей, вокзальный бомж Женя Воробьёв. Он сел в тюрьму за хранение гранаты.
Это считается добрым делом, милосердием. Мол, бомжи мрут изо дня вдень, а ты выставляешь их беспощадными врагами человечества, тем самым даруя приют и трезвую жизнь.
Воробей пропил ум и никак не мог запомнить, что говорить на суде. Я вылавливал его около вокзальных ларьков и учил:
– Нашёл гранату на земле. Взял её с целью однажды использовать в рыбной ловле.
Он дрожал от напряжения, остервенело чесался и пытался повторить:
– Шёл на рыбалку… шёл… шёл…
Глаза его выражали мольбу ко мне, чтобы я подсказал.
– …Шёл… шёл… Забыл. Попроще бы!
Накануне суда Воробей пропал. Я ручался за него перед следствием, и потому под стражу он заключён не был. Глубоко сомневаясь, что у такого хватило ума и отваги сбежать, я навёл справки в больницах и морге, навестил пьяные притоны, пункты приёма посуды, рынки, подворотни, а нашёл у бывшей жены.
Он прощался с единственным на земле человеком, кто помнил его прошлое воплощение, когда он, Воробьёв Евгений Павлович, заведовал художественным отделом в местной газете, и вино требовалось ему для того, чтобы выводить из памяти чужие стихи, как рентгенлаборанты выводят радиацию.
К утру судного дня Воробей спятил: туго перетянул пальцы на левой руке проволокой и выждал, пока они отомрут.
Я услышал со стороны ларьков женский визг, побежал туда и застал Воробья, когда он сидел на лавочке торжественный, в чистой рубахе, и отламывал себе указательный палец.
– Это чтобы первый год прошёл счастливо, – пояснял Воробей собравшимся людям.
Я бросился к нему, но при виде меня он так дико взвизгнул, что я похолодел и замер.
– А это чтобы счастливо прожить второй год, – вывернул он средний палец.
Видимо, проволока была затянута плохо, и нервы отмерли не полностью. Вслед за хрустом глаза Воробья навострились, и он, оставив повисший средний палец, легко отломил безымянный.
Я обхватил его за плечи, стиснул что было силы, но он, завизжав, успел одним рывком выдернуть из сустава мизинец.
Однажды я навещал его в психушке и познакомился там с медиком Ольгой. Она крала психотропные препараты, а я стал покупать их, фиксируя наши встречи на скрытую видеокамеру. Хлопотное занятие, некрасивое, как с её стороны, так и с моей.
Мы играли друг перед другом, изображали из себя тех, кем не были. Она заклеивала пачки таблеток в почтовые конверты и пискляво материлась, что, по её мнению, соответствовало повадкам наркодиллера, а я в ответ таскал на шее красный галстук, читал стихи, называл себя непонятым художником, и в итоге Ольга влюбилась. «Впервые в жизни люблю и счастлива!» – клялась она.
После задержания, узнав, кто я, Ольга умерла. У неё встало совершенно здоровое сердце.Уфф! Обжёг пальцы! Сигарета дотлела, я забыл про неё. Было ощущение, что прошло несколько часов.
Выключил вентилятор и понял, что это он – из-за него я трясусь и хочу ломать себя, как Воробей. Бежать на перрон и слёзно молить людей, чтобы они не делали никому зла. Упасть хочу на колени и ползти сто километров к могиле Ольги. Забрать потом себе тех детей, кормить их и учить говорить.
Но сначала бросился к сейфу и схватил брошюру «Свет-1». Прочитал:...
ИНСТРУКЦИЯ
по применению вентилятора
СВЕТ-1
Свойства
Возбуждение умственной и нервной деятельности, связанное с самооценкой личности.
Усиление таких моральных качеств, как чувство долга перед обществом, честность, уважение к людям, раскаяния в отрицательных поступках и др.Дозировка
Первый месяц 2 – 3 сеанса в день по 5 – 10 секунд.
Далее повышать дозировку на 3 – 5 секунд в неделю.
(Максимальная доза с учётом постепенного повышения не ограничена.Побочные действия
При передозировке возможна тяга к самобичеваниям и самоубийству При обычном применении вероятно расстройство сна, сердцебиение, нервное переутомление, галлюцинации.
В случае наступления побочных действий немедленно принять любое успокаивающее средство либо алкоголь. Обратиться к специалистуПротивопоказания
Активное нежелание пациента.
Необратимые нарушения мозговой деятельности.
Врождённые и приобретённые психические расстройства.Внимание! Не применять без контроля специалиста!
– Мне долго стучаться?! Ты откроешь? – послышался Ксюхин голос из-за двери.
Я пихнул вентилятор обратно в сейф, запер дверцу и убрал ключ в карман штанов. Едва Ксюха переступила через порог, я упал перед ней на колени и обнял её за ноги.
– Не ходи ко мне! Прокляни меня и не ходи! – проговорил я.
– Что, били?! – вскрикнула она. – Кто? Почему погром?
– Слушай, – поднялся я. – Сейчас ты забудешь, что знала меня, такую сволочь. На полгода или год. Пока я не закончу здесь, пока не уеду. Потом дам тебе знать, заберу тебя отсюда, но сначала спрячусь, чтобы ерусалимцы забыли меня. Поняла?
– Нет, – усмехнулась Ксюха.
– Не важно. Прощаемся! – я толкнул её к выходу. – Опасно!
– Что у тебя с глазами? – спросила она, сопротивляясь уходить. – Мне видно, как лопаются капилляры. Ты сейчас кровью заплачешь.
Я отвернулся от неё и упёрся лбом в стену.
– В монастырь надо, – шепнул. – Или умереть, но чтобы с пользой. Прихватить с собой десяток подонков. Чтобы в мире стало лучше. Да! – стукнулся я головой.
– Вань! – позвала Ксюха. – На!
Она протягивала стакан и недопитую бутылку абсента.
Я вылил всё. Получилось до краёв.
– Неужели разом выпьешь? – спросила она.
Я зажмурился и поднёс стакан к губам. В нос ударил ядовитый травный запах. Ведь не выпью!
Открыл глаза – слепит утро. Лежу раздетый на топчане, покрыт простынёй. В кабинете порядок. Мебель целая, а на столе записка: «Ну, ты спать! В обед зайду».
Встал, прошёлся. В одном стуле насчитал четырнадцать гвоздей. Стол был усыпан шляпками, как стразами.
Главное же, что не хотелось быть ни монахом, ни шахидом. Хотелось жить и в туалет.
Кофе заваривал уже второпях. Не терпелось испытать «Ночь».
...
ИНСТРУКЦИЯ
по применению вентилятора
НОЧЬ-1
Свойства
Возбуждение умственной и нервной деятельности, связанное с критическим отношением к окружающей действительности.
Повышение уровня самооценки.
Усиление таких моральных качеств, как чувство собственного достоинства, гордость, агрессия, ощущение превосходства себя над остальными членами общества.Дозировка Применять разово, от 0, 5 до 1 минуты
Побочные действия
При передозировке возможна неконтролируемая агрессия, тяга к самоубийству.
При обычном применении возможно расстройство сна, головокружение, галлюцинации.
В случае наступления побочных действий немедленно принять любое успокаивающее средство либо алкоголь. Обратиться к специалисту.Противопоказания
Активное нежелание пациента.
Необратимые нарушения мозговой деятельности.
Врождённые и приобретённые психические расстройства.Внимание! Не применять без контроля специалиста!
Вентилятор стоял передо мной, и я боялся включать его. «Воткну и тут же выдерну, – думал. – Он даже не успеет набрать скорость. Надо спешить, чтобы эффект прошёл до обеда. Стоп! Водки нет».
Бегом, туда – обратно, я сгонял в магазин, и поставил рядом с вентилятором бутылку и стакан. Чтобы было наготове.
– С богом, что ли… – пробормотал я и воткнул вилку в розетку.
Меня обдало оглушительным ветром, я прислушался к себе: ничего.
Выключил, прошёлся по кабинету и заглянул в зеркало. «Давно побриться надо, – сделал вывод. – И как до сих пор не прирастаю к подушке? Во! Мысли о том, чтобы побриться. Агрессия по нулям».
Сел за стол и снова включил «Ночь». Попытался разозлить себя: «Так! Начнут они травлю, а я возьму, в самом деле, соберу качественные материалы. Ерусалимск затрещит! Нет, не получается злиться… Ещё что? Прослушка. Да и чёрт с ней. Я умею разговаривать по телефону, не называя вещи своими именами. Проверки? Не боюсь. Сегодня же сяду за документацию, вылижу её до блеска. Ох, ты, блин! Я же не избавился от обреза и патронов! Это огромный промах. Дурень! Хотя… Хрен ли я ляжки обоссываю, как баба? На войне как на войне. Драться надо. Всерьёз драться. Пока же буду собирать материалы, пока следствие передаст их в суд, пройдёт полгода. Одним днём надо делать дело. Сегодня поеду, получу в отделе автомат и устрою здесь Сталинград. Патронов хватит на всех. На Зурбагана, Борова, прокурора, на любителей домашнего видео, на себя… Решено».
Моя жизнь и мир вокруг вдруг упростились, и меня пробрал смех, настолько полегчало на душе. О, как раз пригородный поезд идёт. Пойду-ка сяду на него, съезжу за автоматом.
Я запер вентилятор в сейф, а ключ сунул в щель под плинтус. Всё-таки хорошая вещь, лучше «Света»!
В коридоре налетел грудью на Татьяну Леонидовну.
– Как жизнь? – выпалил я дрянным голосом.
Она ахнула мне в лицо корвалолом и зажмурилась.
– Слушай, ерусалимская женщина! Передай всем… Слышишь? Без шуток… Слушай, говорю! На полном серьёзе… – язык скакал у меня во рту, и слова слетали с него, не успевая строиться в предложения. – Тьфу на тебя!
Плюнув Татьяне Леонидовне в лицо, я оставил её думать над сказанным.
Поезд уже затормозил. Из него высыпали самые жадные до покурить.
«И с чего это вчера терзался? Воробья жалел, апостол! – размышлял я, встав посреди перрона и приглядываясь к пассажирам. – А кто бомжей подкармливал? Кто лекарства им, больным, покупал? Бывало, что ползарплаты тратил на вокзальных беспризорников, не думая, зачем мне это надо. А скольких я людей из-под поезда вытащил? Обычное дело, и не считал никогда».
– Молодой человек! – загородила мне поезд пышная женщина. – Простите, здесь на вокзале есть буфет?
– Стоянка десять минут. Вон обратно в вагон! – рявкнул я. – Почему толстые ждут до последнего и потом запрыгивают на ходу? Неужели считают себя пушинками?
– Ты что раскричался? – женщина зарумянилась и похорошела.
– Железной дороге почти двести лет, а бабьё так и не научилось ездить на поездах! – не унимался я. – Буфет… Зачем столько жрать? Женская красота и без того недолгая. Одни монстры кругом, в автобусах не убираются. Красоты из-за вас не остаётся. Ни себе ни людям… На улицах страшно бывать, ходят бабы-великаны. А красоты нет – и счастья нет. Потому и злые все. Возьми мужика, у которого жена сто пятьдесят килограммов, и на работе динозавры, левака бедняге не устроить. Как тут не взбеситься и тем, и тем?
Я не заметил, что остался один, и никто-то меня не слушает. Стало вдруг стыдно, что зря обижены две женщины, и я внимательно посмотрел на куривших мужчин: э, кто здесь намного хуже меня, и кому умно рассказать об этом?
От хвоста поезда в мою сторону семенила на тонких ножках милицейская фуражка. Я радостно пискнул: подобные поганки растут только в управлении. Ближе иди! Охуеешь, если не с добром.
Рома Серов… Точно он! Тряпочный человек, трус и ябеда. Тот особенный случай, когда высоко взлетают благодаря низшим качествам. Идеальный истребитель своих коллег, для чего и держат.
– То-то, смотрю, знакомый идёт! – захохотал я.
– Ванюша, здравствуй, – улыбнулся он под фуражкой. – Я к тебе. С проверочкой.
– Милости прошу! Но с чего вдруг? Вроде бы, Ерусалимск никогда не трогали.
– Самому страшно, Ванечка, – Серов блеснул из-под козырька чёрными глазками. – Почему-то управление обозлилось на тебя. Езжай, говорят, и без результата не возвращайся, – он тронул меня кончиками пальцев за плечо. – Не переживай. Я по ерунде придираться не буду.
– Звёздочки у вас, Роман Олегович, красивые, – сказал я, разглядывая погоны гостя.
– Золотые, Ванюша, золотые. По случаю майора подарили. Ну! Сначала в ресторан? Веди, я в твоём распоряжении.
– На вокзале продаются беляши, – процедил я, воображая, как далеко полетит его фуражка, если рискнуть повторить свой лучший удар. – Лет десять назад их делали из детей, которых воровали в пионерлагере, но сейчас перестали. Покупай, ешь.
– Охо-хо, Иван Сергеевич, грубиян вы! – вздохнул Серов. – Этикетом пренебрегаете. Что ж, хозяин – барин. Придётся проверять вас на голодный желудок.
В кабинете он, не снимая фуражку, уселся за стол и открыл журнал проверяющих.
– Смотри-ка, правда. Ни одной записи, начиная с семьдесят седьмого года. Да вы, Иван Сергеевич, как у Христа за пазухой. Никто вас не тревожит. Водку, смотрю, с утра пьёте, – Серов щёлкнул пальцем по неубранной бутылке. – Самому себя лень проверить и записать о результатах?
– Самому себя?
– А то! Следует быть самокритичным. Или вы святее Папы Римского? Где у вас журнал по физической подготовке личного состава?
– У меня нет личного состава.
– Но журнал-то должен быть. Или будете спорить? Теперь предоставьте мне документацию по дежурной части и график несения службы дежурными нарядами.
– Нет здесь нарядов, нет дежурной части, нет никого, кроме меня, – начал я оправдываться, ошалев от напористой глупости гостя.
– Безобразно… – покачал головой Серов. – Значит, правда, что вы единственно чем занимаетесь, это веселитесь с блядями. Не стыдно за погоны?
Он уже что-то строчил в журнале, выложив перед собой шпаргалку – лист, испещренный пронумерованными строчками, которые начинались словами «небрежно», «недолжно», «недопустимо», «халатно». Браво, Наталья Робертовна!
У меня кружилась голова, на память накатывали чёрные волны, и я заметил, что во время просветлений всякий раз нахожусь в новом месте. То запираю дверь и убираю ключ в карман. То зашториваю окно. То бренчу в ящике с инструментами. Наконец кладу на стол пред лицом Серова молоток и гвоздик.
– Хм… – покосился он на меня. – В общем всё готово. Мне пора.
Я взял из-под его носа журнал.
– Да ты шар, Серов!
Под замечаниями стояли два числа. Одно – десятидневной давности с указанием устранить нарушения в течение десяти дней, а второе число – сегодняшнее, с пометкой, что нарушения не устранены.
– Знаешь про Влада третьего Цепеша? Он же граф Дракула, – спросил я второпях, пока не накрыла чёрная волна. – Как он приказал прибить гвоздями чалмы к головам турецких послов? Они тоже не хотели снимать головные уборы.
– Ванюш… Иван Сергеевич… – Серов тронул фуражку, будто боялся, что больно будет ей, а не ему. – У меня работа такая! Я поливаю в управлении цветы и провожу на местах проверки. В этом работа моя, не сердись.
Темнота…
В следующий просвет вижу стакан в своей руке и чувствую огонь в пищеводе. Вероятно, сработал автоматизм: выпить перед трудным делом.
– Ванюша, сердце моё… брось! – крестился справа-налево и слева-направо Серов. – Не марайся! Ладно бы об кого, а то об меня!
– Ты вот что, Ромик, – я бросил на стол ключ. – Беги, пока меня опять не накрыло.
Темнота…
В глазах слабо светает. Вижу приоткрытую входную дверь, вмятину на ней и молоток у порога. Серова нет.
Взял бутылку, перевернул её в себя, но поперхнулся, вдохнул, и водка влетела в бронхи.
10. Крах
– С ума сходишь? А ну, поднимайся с пола! – взвизгивала Ксюха.
Она находилась в ином времени – там, где слова произносятся легко и быстро, где люди бегают и прыгают. Внутри же меня время текло вязко, липло в горле, обволакивало, как хурма.
Стоило вечных мук, чтобы просто сесть и открыть глаза. Ксюха резво топала передо мной ногами, обутыми в босоножки, и это мне нравилось. Красивые ноги с сильными икрами, и на ногтях чёрный лак.
– Обалдеть! И дверь открыта, и… и… – задыхалась она в своём демоническом танце.
Однако я уже отвлёкся от неё и изучал кабинет. Из него пропал большой и нужный предмет.
– А где сейф? – выдавил я.
– Не знаю, – закончила топотать Ксюха. – Хи! Точно сейфа нет. А я смотрю, вроде, как пусто стало…
Я вскочил румяный и трезвый. Секунду подумав, объявил:
– Триста килограммов белым днём тихо не унесёшь. Найду!
На перрон я выскочил, перегнав свои ноги и совершив кувырок через голову. Всё-таки трезвость была мной надумана.
А на перроне никого. Ни людей, ни машин.
– Наталья Робертовна видела или знает! – вслух подсказал я сам себе.
Бежал к ней на пост, теряя время лишь на кувырки.
– Конечно, видела, – апатично ответила она, словно я спрашивал про вчерашнюю серию каких-нибудь «Сердечных тайн». – Приехали, погрузили и уехали.
– Кто?!
– Ваши. Милиция. Я и подходить не стала.
– С ерусалимского отдела?
– Нет, незнакомые лица.
Вернулся в кабинет. Ксюха сидела калачиком на топчане. Выпятила губы и перебирала ремешки на босоножках.
– Нашёл? – спросила она, утерев с губ задумчивые слюни.
– Да ну! – отмахнулся я, падая на стул.
– А что хранилось в нём?
– В одном отсеке дрянь, какие-то непонятные вентиляторы, будь они прокляты, – без желания ответил ей; мне надоело говорить, ходить и беспокоиться. – В другом отсеке – «секретка». Достаточно потерять один лист, чтобы огрести по башке. А у меня там пятнадцать томов. Тюрьма… Сам виноват.
Ксюха спрыгнула с топчана и прошлась от стены к стене. Босоножки хлопали по пяткам.
– Пойду тоже искать! – сказала она, бледная, похудевшая, и уши её, казалось, тоже побледнели.
– Не пытайся. Это…
Ксюха убежала, не дослушав.
В окно буднично светило солнце, сквознячок трогал жалюзи, и те мягко постукивали друг о друга. Мир не изменился. Солнце оставалось солнцем, ветер – ветром, звуки – звуками, но я стал посторонним среди них, неправильным. Вроде бы, и живой, а погиб. Умри я сейчас, была бы пусть печальная, но гармония. Солнце светит, покойник лежит. Естественное событие.
«Не кипешись, – пробубнил внутри меня мудрый глас. – Руки, ноги есть, жизнь прекрасна, и тюрьма не самое худшее, что случается».
Понятно, что и как произошло. Серов нажаловался на меня, и с управления приехал микроавтобус, набитый проверяющими. Зашли в отворённую дверь, увидели меня на полу, посмеялись, как над последним синяком, и решили проучить, унести самое ценное. Молодцы, одним днём прихлопнули, вместо того, чтобы морочиться с проверками.
Я взял мобильник, нашёл «Серов-мелочь» и нажал вызов. Потянулись электронные стоны, означающие страх Серова брать трубку.
– Милиция, Серов, слушаю!
– Олух ты, а не Серов, – рассмеялся я. – Какая милиция? Тебе же на сотовый звонят, балда!
– Ой, Вань… Сергей Иваныч… – захихикал тот.
– Перемудрил ты, Рома, – давил я. – Перестарался.
– Да запарился совсем! Телефоны наперебой звонят, не знаю, за какой хвататься. И городской, и внутренний, и сотовый…
– Я не про то, Ром. Ты понимаешь, про что я?
– Не понимаю, дорогой.
– Зачем сейф взяли? Вам скучно жить? Крови человеческой захотели, упыри?
– Иван, какой сейф?
– С «секреткой», дурачок. Вы ополоумели там?
– У вас сейф пропал, Иван Сергеевич? – голос Серова окреп. – И не кричите на меня, соблюдайте субординацию. Вы сказали «секретка»?
Я нажал вспотевшим, скользким пальцем красную трубку.
Серов не при чём. Был не при чём. Сейчас он бежит докладывать, и приблизительно через час надо ждать гостей. И телефон слушается! А я открытым текстом…
Мне стало смешно на себя. Вместо того, чтобы вылезать из трясины, я грёб изо всех сил в глубь. Денёк…
Но кто же взял сейф?
– Ты чего смеёшься? – возникла на пороге Ксюха. – Нашёл?
– Сядь, – я поставил для неё посреди кабинета стул.
Прежде чем сесть, она сделала «ласточку». Перевернулась вниз головой через спинку стула, вытянула строго вверх ноги с носочками вместе, и сразу после этого, опираясь руками о сидение и изобразив в воздухе шпагат, спикировала вниз, усевшись, как нормальный человек. На лице её среди шрамов играло ожидание хорошей вести.
– У меня ничего не получилось, а у тебя? – она похлопала ладошами по коленям.
– Громко не радуйся, не перебивай меня, – начал я. – Потом у меня не получится сказать, так что скажу сейчас. Я полюбил тебя, вот…
Ксюха напоминала ребёнка, который впервые попал в цирк и видит настоящего клоуна. Округлила глаза и не моргала.
– Через час за мной приедут, и больше мы не увидимся. Разве что через несколько лет, но ты понимаешь, там будет уже другая жизнь и другие мы.
Она приоткрыла рот.
– Не подумай, я не жалуюсь. Сам виноват. Просто знай, что люблю тебя и благодарен Ерусалимску за…
Телефонная трель прервала мою заупокойную речь.
– Ага, звонят предупредить, чтобы никуда не уходил, – сказал я, снимая трубку. – Да, слушаю!
– Товарищ Столбов? – сурово спросил мужской голос.
– Да, правильно. С кем имею честь?
– Представляться мне нет необходимости.
– Понимаю. Как вам угодно, – усмехнулся я.
– Понимаете? – на том конце тоже усмехнулись. – Вряд ли. Тем не менее, Иван Сергеевич, я желаю попросить у вас прощения от лица всей нашей…хм… организации. Сегодня мы кое-что взяли без спроса из вашего кабинета.
– Ну что вы! – перебил я. – Чепуха.
– Успокойтесь, не ёрничайте. Сейф мы, разумеется, не вернём, он повреждён. Ещё раз просим прощения. Однако мы купили вам новый сейф. Он крепится к стене или к полу, вы уж сами его привернёте, дело не хитрое.
Я тупо уставился на Ксюху.
– Чужого нам не надо, мы взяли только своё. Я имею в виду вентиляторы. А ваши бумаги мы положили в новый сейф. Вы слушаете? Он стоит под вашим окном. Идите уже заберите. Удачи вам!
Я не помню, как выбежал на перрон. Помню, что по пути опрокинул вместе со стулом Ксюху.
Блестящий хромированный сейф с ключом в замке стоял на заплёванном семечками асфальте. Не думая, что мне могли приготовить бомбу, я отпер и заглянул… Внутри лежали пятнадцать папок.
Патроны и обрез я утопил в старом подземном резервуаре, куда раньше сливался мазут. Для этого пришлось забраться за депо в тропические заросли репейника.
Мы сидели с Ксюхой на корточках перед узким люком, бросали горсти патронов и слушали густые глубинные всплески. Ксюха ответственно сопела и следила, чтобы я не брал больше, чем она. Я же косился на её чёрный педикюр. Плюс пять градусов Цельсия не мешали ей одеваться по-летнему, чем она здорово отличалась от меня, мёрзлика.
Возвращались мы на вокзал облепленные репейником. У Ксюхи он торчал даже в волосах, но я не говорил.
– Тебе полезно иногда побыть на нервах, да? – благодарила она меня. – У меня аж горит.
– Пора начинать жить, – улыбался я устало. – Ни дня больше не хочу быть ментом. Уволюсь.
На перроне стояли две легковушки с гражданскими номерами и одна милицейская «буханка». Вокруг них слонялись мрачные мужи, напомнившие мне ночных ерусалимцев. Та же волчья тоска на лицах и те же огоньки в глазах, будто в них тлел могильный фосфор.
– Иди к себе, – сказал я Ксюхе. – Вечером увидимся.
Мужи шагнули ко мне навстречу, замерли, синхронно достали из карманов сигареты и убрали назад. Среди них находился первый заместитель генерала, красный и круглый, как планета Марс, но, похоже, он не осознавал, где находится, и повторял за всеми.
– Здравия желаю! – отчеканил я на ходу. – Добро пожаловать!
– Не скальтесь, товарищ Столбов, – определился вожак, смертельно худой начальник оперативно-розыскной части Волков. – Ваша участь незавидна.
В кабинет набилось столько людей, что я среди них потерялся.
– Где этот-то? – спохватились они.
– Сбежал!
– Догнать!
– Да здесь он.
– Товарищ Столбов, – обратился Волков. – Предоставьте нам для ознакомления дела оперативного учёта, а в случае их отсутствия, объясните, где они.
Я выложил на стол стопку папок.
– Серов сука… – буркнул Волков.
Шесть часов он чахнул над моими делами, искал лишь бы что найти. Под конец взял линейку и отмерял в документах отступы от полей, межстрочные интервалы и размер шрифта. Трое человек исследовали кабинет. Прощупали обивку стульев и топчана, перевернули корзину с мусором, заглянули за батарею, вскрыли перегородку умывальника. Перекурив, разобрали системный блок компьютера и изъяли жесткий диск.
Меня, как назло, разбирала зевота. Я устал за эти дни. Глаза смыкались, и, кажется, один съехал ниже другого. При долгожданном расставании я вручил Волкову лист бумаги.
– На имя генерала. Будьте добры передать.
– Угу… прошу уволить по собственному… И зачем мы с тобой время тратили?
Вечером я целовал Ксюху в уши, она млела, и мы не хотели большего.
11. Отъезд
Утром абы как подшил последние материалы и поездом сплавил их в отдел. Едритесь, как хотите! Работник милиции вчера уснул и не проснулся.
Пришли Татьяна Леонидовна и Наталья Робертовна. Обеих обнял и попросил прощения. Первая не поняла меня, а вторая с воем заплакала.
Пора было навестить свою ушастую невесту, сказать, чтобы тоже писала заявление об уходе. Я поспешил на второй этаж вокзала в товарную контору, а в голове чирикали мысли: «Неужели человеком стану? Неужели будет по барабану годовая статистика преступлений? Благодать божья! Они думали, что я вцеплюсь в работу зубами, глупые нелюди. Будь проклята милиция. Будь проклята».
За несколько шагов до заветного окошка я присел и поковылял гуськом. Решил внезапно вскочить и напугать.
– Рапорт вчера написал, да, ага, – разговаривала Ксюха по телефону. – Сам догадался. Опередил все ожидания.
Я присел ниже.
– Не, вообще не карьерист. Слабачком оказался мой ментёныш, – Ксюха хихикнула. – Не современный он, угу.
Я перебирал шнурки на ботинках и находил, что в шнурках есть смысл, ими можно завязывать обувь. Они лучше меня и Ксюхи.
– Пора стрелять, ага, я давно говорила. Жалко? Это моё дело.
Зачем я развязал шнурки? Теперь завязывать. Узел ещё.
– Чего-чего? Материал на него собрали? Ну, пусть в жопу себе засунут. Теперь он наш. Стреляйте, не думайте. Сашку посылайте, разумеется. Он не промахивается.
Ноги затекли, и я уполз на четвереньках. Позорно, но вовремя, потому что заиграл мобильник.
– Иван Сергеевич, здравствуйте! – пропел девичий голосок. – Я звонила вам на городской телефон, но, видимо, вас нет на месте, поэтому беспокою по сотовому.
– Не узнаю. Кто?
– Простите, не представилась. Прокуратура, делопроизводитель Петрова.
– Надоели вы мне все.
– Что?
– Надоели, говорю.
– Ах, так… Ну, слушайте. Вам надлежит прибыть сейчас к нам. В случае неявки будете доставлены принудительно. Как поняли, Столбов?
– В чём хоть дело-то?
– Узнаете на месте. Выдвигайтесь сейчас же.
Петрова повесила трубку.
У меня не осталось зла, чтобы сопротивляться Ерусалимску. Если предала сама Ксюха, то что толку воевать с остальными? Весь мир стал для меня Ерусалимском.
Брёл и не смотрел на людей. Подбирал название чувству, которое своим огромным размером выдавило из меня и зло, и любовь, и страхи. Название крутилось на языке, я проговаривал его гортанью, упруго мычал, но звуки не клеились в слово. Мучился, как поэт над рифмой.
Дорога проскользнула под ногами незаметно, и я опомнился, когда уже стоял перед Петровой.
– Почему секретари упорно величают себя делопроизводителями? – спросил я, забыв поздороваться.
– В приличных организациях работают делопроизводители, – Петрова поскребла ногтями по столу.
– О как… А я, кстати, с первых дней заметил, что в Ерусалимске красивых женщин больше, чем в других городах. Правда, правда. Ерусалимская генетика особенная.
– Вы пришли меня развлекать? Вас ждёт прокурор!
– Мне кажется, что природа даёт ерусалимцам много красоты, чтобы одёрнуть мужчин, сказать им: эй, чумоходы, нате вам. Хватит друг дружку…
– Вы пьяный?! – Петрова привскочила с места. – Вы на кого намекаете? Кто здесь чумоход?
Прокурор сидел за столом, одетый в угловатый, как гроб, чёрный пиджак. Без плётки.
– Долго вас ждать? Проходите! – пробасил он. – Ближе, товарищ Столбов, ближе садитесь. Не съем. Совершать преступления у вас смелости хватает…
– Прошу, не давите голосом, – тихо сказал я, присаживаясь на ближайший к нему стул.
Говорить громко я боялся, чтобы не спугнуть из горла название чувства. Ещё чуть-чуть и вспомню, как оно звучит.
– Прекрасно! Вижу перед собой адекватного человека, – прокурор хлопнул в ладоши. – Значит, беседа пройдёт во взаимопонимании. Вы, я слышал, покидаете наш город? Увольняетесь из милиции? Мм? Напроказили и убегаете?
– Не понимаю вас, – поморщился я от хлопка.
– А я подскажу, не переживайте. Вы, похоже, натворили много дел, раз начали путаться в них. Я говорю о Николае Николаевиче, которого вы обобрали до нитки. Вообще-то, я был о вас лучшего мнения, когда вы приехали в Ерусалимск. Не думал я тогда, что передо мной вымогатель. Расстроили вы меня, Столбов, расстроили!
– Не кричите, бога ради. Просто скажите, что у вас имеется, и от этого будем плясать. Похуй лирику.
Лицо прокурора раздвоилось. Одна половина нахмурилась, а вторая выразила любовный восторг.
– Вы мне нравитесь, – произнёс он, повернув ко мне вторую половину. – Я согласен быть с вами откровенным. Смотрите!
Прокурор щёлкнул компьютерной мышью и повернул ко мне жэка-монитор.
Я, наверное, побледнел, потому что от наставшего холода свело коренные зубы. На экране дрожала чёрно-белая картинка, пересыпаемая кубиками пикселей. В кадре я узнал свой кабинет и себя.
– Плохая запись, – комментировал прокурор. – В спешке зарядили первой, какая попалась под руку, аппаратурой.
За кадром утробно звучал мой голос. Там я пугал Николая Николаевича, что лишу его лицензии на предпринимательскую деятельность. Картинка перемещалась, и это означало, что видеоглазок крепился на одежде Николая Николаевича. Вспомнились слова Ксюхи о том, что на меня собран материал. Надоело! Скучно.
Наконец-то я угадал название. Скучно. Да так, что пропала охота думать, спорить, защищаться. Мертвецки скучно, замогильно.
– Стобов… Столбо-ов! Вы не слышите? – прокурор потряс меня за плечо. – Производит впечатление?
– Забудьте вы про меня, – проговорил я, отворачиваясь от монитора. – Всё, уезжаю, отвяжитесь.
– Иван Сергеевич, милый, – прокурор приложил к груди руку. – Я знаю, что вы уезжаете, знаю.
«Ксюха докладывала?» – хотел я спросить, но поленился.
– Иван! Ничего, что я буду называть по имени?.. – прокурор облизнулся. – Иван, поверь, я не фанатик правосудия, и возбуждать уголовное дело совсем не желаю. Мне просто жаль трудов, потраченных на сбор доказательств. Понимаешь? Мне себя жаль. Пожалей и ты меня. Понимаешь, о чём я?
Он схватил мою руку и усиленно, будто хотел проглотить, всосал мои пальцы.
Я вскрикнул, выдернул у него изо рта руку, замахал ей, и если бы она не была правой, то уже достал бы пистолет. Побрезговал пачкать рукоять.
– Скучно мне! Скучно! – прошипел я. – А то бы убил.
Прокурор съехал под стол и выглядывал одной лысиной.
На перроне ждала Ксюха. Увидела меня, пошла навстречу.
Или нервозность, или много сегодня курил, но увидев её, ушастую иуду, я согнулся, ожидая, что вырвет. Заговорить сейчас с ней, означало то же, что вернуться в прокуратуру и отдать всего себя сосать.
– Чего там, на земле, нашёл? – спросила она.
Я выпрямился, увидел её вблизи и побежал прочь.
«Ксюш, Ксюш, Ксюша, юбочка из плюша…» – заголосила в кармане Апина.
– Ууу, гадость! – я достал на бегу телефон и разбил его об асфальт.
Без отдыха, давясь воздухом и обжигаясь собственным потом, пересёк город и выбежал на трассу, где меня подобрал междугородний автобус.
Я уселся в конце, забился в угол и закрыл глаза. Ломило в горле, и стариковские морщины больно резали лицо. Это был сухой плач. Влага вышла из тела, её не осталось на слёзы.
Но меня пугало сердце. Оно тянуло кровь маленькими глоточками, осторожничая, как бы ни подавиться. В груди появился присвист, словно я прохудился.
Скука сменилась жалостью, и я сначала не понимал, кого жалко. Себя – нет, Ксюху – нет… Не прокурора же! Отдышался и спокойно осмыслил, что жалко любовь. Она мне представилась зверьком, который прячется в том однообразном лесу, что за окном автобуса. Когда-то зверёк жил среди людей, а потом одичал, но не совсем. Иногда, от голода и глупости, зверёк выходит к людям. Накормив его, дав поспать, люди начинают подумывать, зачем он нужен. Кто-то без устали ласкает его, покупает сухие корма и стерилизует, чтобы зверёк не мучился весной. Кто-то дрессирует, учит командам «сидеть», «лежать», «место», водит на цепи и в наморднике. А другие – пинка под хвост и за дверь, чтобы не мешалась, тварь скулящая, под ногами. А Ксюха убила его.12. Межсезонье
Уволили меня быстро. Как и не работал.
Оставалось восхищаться ерусалимцами, насколько они ловко обработали генерала. Одновременно с моим увольнением он издал приказ по упразднению ерусалимского ЛПМ, а по мне объявил карантин. Пообещал карать всякого, кто хотя бы заговорит со мной.
Забавно было видеть своих братьёв-оперов, с которыми я прошёл огонь и водку, когда они подмигивали мне: отойди, а то подумают, что мы вместе. Настоящие бойцы, люди с повреждённой психикой, а испугались генеральского гнева. Жёстко по ним прошлись.
Всё же ещё раз я ездил в Новый Ерусалимск. Забрать дела.
Подходил к вокзалу и шептал: «Лишь бы не встретиться! Лишь бы не встретиться!» Ждал, что вот сейчас она выйдет из-за угла, и «улыбка без сомненья вдруг коснётся наших глаз…» Знал, что не совладаю с лицом, оно улыбнётся без моего согласия. Заюлю, начну мычать, крутить головой. Не смогу рассердиться.
В кабинет юркнул, как мышь. Дверь прикрыл за собой мягко, чтобы лязг не долетел до товарной конторы. Папки забросал в дорожную сумку. Готово, можно уходить.
На глаза попался стол, усыпанный шляпками гвоздей… На нём лежали аккуратные стопки бланков. Ксюхиных рук дело. Внезапно для себя самого я шепнул: «Люблю!»
– Вань, ты здесь? – спросила Ксюха.
Я присел и схватился за сердце. Оно у меня повредилось во время бегства. Я даже стал меньше пить кофе.
Ксюха стояла за дверью, тихонько постукивала и звала:
– Мне послышалось или нет? Есть кто внутри? Вань, ты? Отзовись!
Я не дышал.
– Вань, нуты что, а? Приезжай, ищи меня. Возвращайся, – говорила она, будто на кладбище. – Я сегодня ещё приду к тебе. Пока.
При увольнении мне выдали выходное пособие, и его хватило на две недели вина и кефира.
Странные они получились, эти две недели. Обильное питьё, спонтанный сон и головоломка про лопоухие уши. Я ходил по своей малосемейке между столом с водкой и окном с ночью, чесал небритый подбородок и соображал, как так: отдать десять лучших молодых лет уголовному кодексу, чужим бедам и чужим жёнам, а под конец, в последние три месяца, влюбиться в свою собственную смерть! Стреляйте, говорит, его. Ну и Ксюша. Ну и…
Люблю.
Никого до неё не любил. Три проводницы были у меня. У четырёх был я. Потом дежурная по вокзалу Светлана, высокая, модельная красавица. Маниакально боялась морщин и не смеялась.
Буфетчица Аня. Коренастая и очень сильная. Буфетчица Марина. Выше ростом и сильнее. У обеих усы.
Надежда из привокзального ларька. Всем хороша, не придраться. Однако блядь.
Ольга из психушки. Уже говорил про неё.
Днём и ночью звонили в дверь. И стучали, и пинали. Я надевал наушники и включал бесовствующих «Butterfly Temple». От такой музыки через десять минут начинала болеть голова, зато стук и звон до меня не долетали.
Ксюха ли барабанила в дверь, я не знаю. Возможно она. Приехала в город, подошла к первому вокзальному менту, похлопала глазами, и тот без запинки сказал, как пройти. Дел-то.
Каждый день, каждый час я прощал её совершенно. Потрясал себя всепрощающей рукой, и, со стоном простив, снова ненавидел.
Открыть дверь и посмотреть, не она ли это, я не мог. Тогда под окошком товарной конторы во мне лопнула та струнка, на которой подыгрывают себе поэты, когда сочиняют стихи о вечном счастье.
Я бы, конечно, впустил её. Сходу рассказал бы о том, что всё знаю о ней, а затем безо всяких театральных пауз сказал бы, что прощаю. Более того, я бы сказал Ксюхе спасибо за то, что она помогла мне снять погоны. А потом…
Сердце моё прохудилось. Оно уже не будет гонять кровь и страсть с прежним напором. Я старик.
О других людях Ерусалимска я не думал. Завод и вооружённые лунатики стали казаться сценой из фильма, который не понравился и незачем его вспоминать. Насчёт вентиляторов я принудил себя к мысли, что психовал сам. Остальные загадки растворились в вине. Стало наплевать.
Две пьяные недели тянулись, как год, а закончились вдруг. Настала пора бриться и идти работать. Куда? – эрегировал однажды утром вопрос. Я умею собирать компромат, проводить скрытое наблюдение, вести оперативную документацию, выуживать показания, колоть жуликов. Достойный багаж, чтобы привязать к нему груз и утопить в Лете.
Плюс надо как-то приспособить свой детский каприз помогать тем, кто в беде. Думай, думай, Ваня, новый человек. Думай, кому ты нужен, капризный.
Пожарка! Воистину пожарка! Отпился чаем, побрился, глянул в зеркало и увидел себя юного, жаркого, кто горы свернёт, только дай.
Разговор в пожарной службе состоялся коротким. Спросили, где работал раньше. Я ответил. «Годишься! Приходи завтра, начнём оформление».
Пришёл завтра. Улыбаются, в глаза не глядят. Всего доброго, Иван Сергеевич.
Они связались с управлением, чтобы в двух словах получить характеристику. Трус, паникёр и ещё раз трус.
Что я и говорил. «Калина красная», Шукшин. Безнаказанно не пожить.
Я вздохнул, усмехнулся и решил поменять шило на мыло. Устроиться в наркоконтроль. «Годишься!» И чуть погодя: слив конфиденциальной информации, двурушник.
Чувствуя безысходность, подался в инкассацию. Долги, игромания, тяга к быстрой наживе.
… охранником в гипермаркет… Клептомания.
… сторожем в школу… За руку не пойман, но замечался. Да, да, есть в нём это, нездоровое.
… грузчиком на рынок… Получилось.
Работа пришлась мне по душе. Главное, что её было настолько много, что мой благородный каприз стыдливо помалкивал и боялся меня отвлекать. После работы – пожалуйста! Он имел право нудить, что я пал, что мой социальный статус ниже некуда, что отныне я зря живу и не реализую себя, не принесу никому пользы… и далее такая же муть.
Каприз нудил, а я торопился мыться и беспокоился, чтобы не уснуть в налитой ванной.
«Здравствуйте, Иван… Это вы?» – непрестанно слышал я, продвигаясь с тележками сквозь толпы покупателей. Меня узнавали едва ли не каждую минуту, начиная с бывших «терпил» и заканчивая судьями. Я и не думал раньше о своей значимости в городе, раньше она мне не резала глаз и ухо.
Одно дело шагать по улицам в начищенных ботинках и держать в руке портфель, полный судеб, а другое – тяжело ступать грязными говнодавами, толкая перед собой полтонны груза. Во втором случае всякое приветствие подчёркнуто жирным карандашом и насыщено знаками вопроса. Хочешь не хочешь, отмечай свою популярность, счастливчик.
Бедные люди. Они терялись, как будто я был голый или они застигли меня на унитазе. Суетились, соображая, подо что приспособить правую руку, лишь бы не жать мою потную пятерню. Чаще всего хватали телефон и бездумно жали кнопки. Извини, Вань, надо срочно позвонить. Другие торопились закурить и торопились, пока не проходили мимо. Андрюха Громов, адвокат, в спешке сунул руку в карман, где не было ни телефона, ни сигарет, но был носовой платок. Я испугался за Андрюху, настолько свирепо он стал сморкаться сухим носом. Побагровел, выкатил глаза, и в результате платок окрасился кровью. Покидал меня приятель, отчаянно запрокинув голову.
Местный депутат Скороходов переложил из левой руки в правую – газету. Его как-то ограбили в поезде, выбили ему десять зубов, и я всего за три часа… Впрочем, чего теперь хвастаться.
Бедные, глупые люди, они не догадывались, что я только начинаю жить и мне хорошо. Я даже не стирался, чтобы скорее отречься от себя прежнего, когда ещё числился статистической единицей МВД. Мне открылось, что проще осознавать себя человеком в грязной спецодежде, нежели в отглаженной форме.
Кто меня и понимал, так это шалуны, получавшие в своё время с моей тяжёлой руки тюремные сроки. Они не здоровались, но за спиной говорили золотые слова:
– Смотри, он… Точно он. На человека стал похож.
В конце второй рабочей недели внезапно настала снежная зима, и кто-то из шалунов отважился стрелять.
Уходил я вечером с рынка. Брёл между безлюдных лотков и стонал от холода. Ещё утром ноги вязли в грязи, и тут на тебе, завернуло. Зима. До дома, до горячей ванны идти полчаса холодной вечности.
Выстрел хлопнул над самым ухом. Я ощутил удар по шее, и ошарашенный повалился на пустой прилавок.
По тому, как дёрнулась моя голова, они, наверное, подумали, что попали в цель, и убежали.
По моим животу и спине щекотливо текли тонкие струйки. В померкшем сознании мешались холодный ветер и потные пары из-под воротника, эхом отдавались матерщина испуганных ворон и барабанный бой сердца. Я жил.
Попробовал сглотнуть, покашлять, сказал, как на концерте: «Раз, два, раз, два», – и выяснил, что гортань цела. Повертел головой – получилось, хотя от наступившей боли заложило уши, и перед глазами пролетела тень.
До дома шёл, склонив голову набок. Боль тянула, висла на шее, как вольный борец, не позволяла прибавить шагу. Я боялся встретить пьяных драчунов. Не подраться мне, не убежать, кривошеему.
Дома оглядел себя в зеркале. Два отверстия зияли спереди и сзади шеи. Кровь из них струилась неохотно, лениво. Пуля пробила затылок в миллиметре от позвоночника и вышла рядом с трахеей, любезно не тронув артерию. Смерть дружески потрепала меня по загривку и отпустила до будущих встреч.
Отверстия были величиной с кнопку телевизионного пульта, их могла сделать лишь мелкокалиберная пуля. Вряд ли стреляли из самоделки, потому что последний дурак не стал бы целиться из неё в голову. Пальнули бы сначала в туловище.
Скорее всего, был пистолет Марголина, идеальное оружие для уличного убийства. Меткое.
Особого лечения не требовалось. Я только обработал вокруг ран водкой и забинтовался. Худшее, что меня ждало в будущем, это ломота перед непогодой.
Спокойной ночи, заново рождённый Ваня. Завтра не на работу. Опять не на работу. Спи, изгой.
День-другой трезвого, кромешного безделья, и мозги начало коротить. Телевизора у меня не имелось и в помине. Интернета тоже. Включал музыку, но она играла мимо. Когда ничего не делаешь, музыка всё равно, что вода без жажды.
Повадился по-стариковски стоять у окна. Бродил глазами по двору среди серых тополей и радовался, если гуляли дети. Вот кто вечно при делах и без забот.
Трезвые мысли скандалили в моей голове чуть не до драки. Истеричные узники из подвалов памяти, не звал я их, но слушать больше было некого.
«Иди, воруй, – истерила худая, бледная мысль. – Ты знаешь, как можно, чтобы не поймали. Иди!»
«Пусть ищет себе подобных, – добавляла масла в огонь другая нервозная мысль. – Сейчас много бывших, которым некуда деваться. Пусть ворует в паре с кем-нибудь, или втроём».
«Он не сможет, – шипела третья. – Его стыд заест. Он стыдливый, как монашка. Пусть учится на рабочую специальность. На сварщика, например. На электрика. Мало ли».
«Куда он пойдёт учиться? – галдели мысли хором. – В ПТУ? Вместе со школьниками?»
«Ему сейчас надо на что-то жить, – пищала из-за спин остальных стеснительная мысль. – Ему бы на биржу встать и бесплатно отучиться на водительские права. Потом, глядишь, в таксисты подастся. И пособие будет, на сигареты и кефир».
«Тихо вы! – орал я про себя. – За окном опять эти жаркие трутся».
Два человека каждый день мыкались по морозному двору. Пили пиво. Ночью их сменяли двое других, тоже с пивом. На мои окна они старались не смотреть.
И тех и тех привозила-увозила жёлтая облезлая «копейка».
Неужели прокурор дал ход делу? То, что пивоманы родом из Ерусалимска, я не сомневался. Очень они напоминали Ксюху, которая не мёрзнет в холод. Одна порода.
Менты или бандиты – мне было неважно, кто следит. Главное, что вернулся Ерусалимск. В любом случае ждать беды.
На пятый день после ранения собрался я в Центр занятости. Заклеил шею бактерицидными пластырями и сунул в карман кастет. Его мне сделали на зоне верные мои агенты. Вещь. В кулаке как влитой. По кольцам идёт богохульная гравировка «Спаси и сохрани».
Семь остановок в автобусе, пятнадцать минут пешком. Потом три часа колобродил по городу за справками. Всё это время чуял, что меня «ведут». Чутьё у опера – то же самое, что хорошее зрение у ювелира. В древние времена опера работали колдунами, видели сквозь стены и слышали сквозь горизонт.
Пригляделся, и, правда. Шёл ли я ногами, ехал ли автобусом, всюду следовала внимательная «копейка» или попадались зимние любители пива. Стоит такой пьянчужка с мокрым, как у собаки, носом, грудь и подбородок у него в шелухе от семечек, держит в красных руках жестяную банку и хочет быть незаметным.
Весь день я грел в кармане кастет, ждал момента, чтобы проучить хотя бы одного из них. Случай выпал около ларька. Я покупал сигареты, а рядом остановилась облезлая «копейка». Вышел высокий, остроносый водитель в старинном свитере «Boss», встал позади меня и шепнул:
– Мне тоже сигарет надо. Ты подожди меня, не убегай. Поговорим.
В машине оставались ещё двое. Приоткрытые двери выдавали их готовность выскочить на помощь «боссу». Я отоварился, встал в трёх шагах от ларька, и остроносый, казалось, забыл обо мне. Минут пять он шутил с продавщицей, обещал бывать у неё, купил ей шоколадку. Я ждал его, как виноватый в чём-то. Как младший брат старшего.
Кастет в кармане вспотел. Участь моя заключалась в том, чтобы начать бить первым, а они специально медлили. Заранее ставили мне в вину ещё не начатое сопротивление.
Остроносый отвернулся от окошка и стал закуривать. Уронил зажигалку в снег. Поднял, но она намокла.
Стоит, подлец, чиркает, косится. Видит, что у меня рука в кармане. Ну же, педаль ты, ерусалимская! Я всё равно не смогу больше двух раз ударить. У меня шея.
На барабанные перепонки давил «heavy metal» собственного сердца. Я глох. Земля под ногами тряслась.
– Не нервничай, – процедил остроносый, не выпуская изо рта сигарету. – Сейчас поедем. В дороге наговоримся.
Сердце поперхнулось, закашляло, и что я успел сделать перед обмороком, это запрыгнуть в первый остановившийся автобус. Помню, что снег вокруг вдруг почернел, перестал вдыхаться воздух, день погас, настала ночь.
Очнулся через две остановки.
– Смотри, какой страшный, – сказала маме лопоухая девочка. – Зилёооный!
Лопоухая… После обморока кровь ополоснула голову, и пришло озарение. Брать сучку несчастную Ксюху в охапку и увозить из Ерусалимска! Далеко увозить. Просить прощения за то, что долго не прощал. Нет ей там жизни. Сегодня с ними, завтра – порвут её. Если уже… Бля, да на той же станции, те же Наталья Робертовна и Татьяна Леонидовна, наверное, зажрали её!
Завтра же ехать. Сегодня поздно, и сердце вышло из строя.
Старикашка.Возвращаться домой я боялся. Ездил из конца в конец города на автобусах, кружил ногами по закоулкам, и на автомате вышел к Центру занятости.
Необходимость иметь с ним дела отпала, но за пазухой у меня мялись собранные справки. Решил отнести, избавиться от них. Заодно погреться.
Моя вина, что не посмотрел на часы. Не знал, что рабочий день закончился. Потому нашёл одну-единственную работницу, сдобную червовую даму.
– Столбов? – в лоб спросила она. – Я вас жду, не ухожу.
Я опешил. Какую холестериновую бляшку прорвало в чиновничьем сердце?
– Есть проблема, – сказала дама, смущённо трогая себя за причёску. – Вы ведь хотели учиться на водительские права? Дело в том, что получился переизбыток желающих, и наше РОСТО отказалось от пятнадцати человек…
– Не беспокойтесь, я перехотел.
– Дослушайте, пожалуйста, – женщина обаятельно улыбнулась и почесала пальцем в ухе. – Мы договорились с другой автошколой, в другом городе. Завтра уже начнётся учёба…
– Я отказываюсь.
– Да? – женщина сочно шмыгнула носом. – А у нас один человек заболел, и вы могли бы его заменить.
Она всерьёз беспокоилась. Раздувалась, как дирижабль, и хватала себя руками за живот, чтобы не взлететь.
– Соглашайтесь, прошу. Мне надо, чтобы вы завтра поехали. Где я ещё успею найти человека? Учёба уже оплачена… Ну!
– Нет.
– Ездить на специальном автобусе. Утром в шесть утра туда, после учёбы – обратно.
– Нет-нет, простите.
– Очень жаль, – из женщины вышел нервозный пар, и она уменьшилась почти вдвое. – А то подумайте. Меньше часа езды. Новый Ерусалимск.
– Согласен.Часть вторая. Старый Ерусалимск
1. Еду
С чего и начал свой рассказ. Сижу в пляшущем автобусе, еду снова в Ерусалимск. Рыжий утирает после смеха слёзы. Водитель зловеще молчит.
Учёба меня, конечно, не интересовала, когда я давал согласие червовой даме. Стимулом был бесплатный транспорт. Не получится найти Ксюху сегодня, поеду завтра.
За окном сквозь пепельное утро показался город, среди домов которого продолжали спать ночные тени.
Узнал я водителя, когда он выставлял свой ястребиный профиль и лаял на рыжего правдолюбца. Как не узнать. Вчерашний остроносый.
Я не испугался. Нас пятнадцать неудачников. Ерусалимцы не станут при стольких иногородцах открыто расправляться со мной. Выкручусь.
Мимо потянулись железнодорожные составы, показался вокзал. Сюда-то мне и надо, только… РОСТО находится в центре города. Мы мчались параллельно станции в сторону завода.
– Слышь, мне кажется, нас везут не в РОСТО, – сказал я рыжему.
Он пристально смотрел в окно и не слышал меня. Лицо его сделалось серым, как утро, губы тряслись. В руках он держал пистолет Марголина.
«Неужели?» – подумал я, и шея вопросительно отозвалась болью.
По салону автобуса пронёсся перезвон оружейных затворов. У одних безработных появились в руках пистолеты Макарова, у других ТТ, а трое достали из-под сидений автоматы Калашникова. У меня в кармане стыл кастет. Если больше нечем, им можно открывать пиво.
– Чай, не дурак, сообразишь пригнуть голову, когда нарвёмся на засаду? – повернулся ко мне рыжий. – Не ссы.
В это время окно, рядом с которым я сидел, усеяла паутина трещин. Что-то звучно стукнулось о потолок, а затем в проход между сидениями упала ляпушка тусклого металла. Свинцовый сердечник пули.
– Откуда? Откуда? – оживились парни.
– Из-под снегочиста! Пиздец, мудаки. Со ста метров из какой-то пукалки.
Все заржали и заржал водитель.
– А я говорил Абрамычу, что незачем целый взвод посылать, – протявкал он. – Доносила же разведка, что они на ночь мутят нападение. Сегодня отсыпаются, бляди.
– Массовка, Дим, – возразил водителю рыжий. – Клиент-то у нас мнительный.
– Да ну перестань! – огрызнулся остроносый. – Давно бы взяли этого обоссыху в охапку и привезли. Маскарад ещё устраивать, деньгами сорить. Сколько вчера заплатили биржевой бабе-то?
– Не получилось бы с биржей, повезли б силком. Чего болтать! Впереди отворились заводские ворота.
– Вот ты и дома! – подмигнул мне рыжий. – Кстати, куда я тебе попал? В шею, что ли?
Я едва не выбил зубы о поручень, настолько резко затормозил автобус, въехав за ворота.
– Димон, ты достал лихачить! – загалдели парни.
– Когда-нибудь точно поубиваешь нас.
– Выпендрёжник.
Рыжий убрал пистолет за пазуху и протянул мне руку:
– Будем знакомы. Я Сашка. Вылазь, не съедим.
– Чёрт вас знает, – буркнул я, пожимая маленькую руку.
Автобус стоял посреди вертолётной площадки. Об этом я догадался, потому что на вычищенном от снега асфальте желтела круглая маркировка с большой буквой «Н» в центре. Видел раньше такие в кино.
– Эй, на КПП! – крикнул рыжий Сашка в сторону двухэтажного здания, примыкавшего к воротам. – Где Абрамыч?
Из дверей вышел седой мужичок в военной форме. Он сначала минуту зевал, разрывая воздух львиным рёвом, а потом ответил:
– Наверное, где-нибудь.
– Так свяжись, доложи, что мы вернулись. Фиг ли он нас не встречает! – выругался Сашка. – Мы под пулями рисковали. Этого, наконец-то, привезли… А Ксюха где?
Я вздрогнул.
– Наверное, тоже где-нибудь, – предположил мужичок.
– Надо же, какая змея, хуже Абрамыча, – покачал головой Сашка. – Мы под пулями…
– Приехали! – раздался писклявый голос Ксюхи.
Я остекленел. Ударь меня кто-либо в этот момент – и я покрылся бы трещинами, как пробитое пулей окно.
Неузнаваемая Ксюха бежала со стороны мрачного железного ангара. На ней была чёрная униформа и грозные армейские ботинки. На бедре висела пистолетная кобура.
– Приветище! – взвизгнула она, подбежав ко мне, косая от радости.
– Доброе утро, – гулко, будто в трёхлитровую банку, пробубнил я.
– Ты их стесняешься, что ли? – показала Ксюха рукой на парней. – Они все дураки, не стесняйся.
– Сама-то… – процедил Сашка.
– Что? – Ксюха презрительно сморщилась. – У меня теперь есть Ваня. Будете обижать меня, он вам головы оторвёт. Да, Вань?
Я опустил глаза и скрипнул зубами.
– Кстати, бойцы, – Ксюха притопнула ногой, – вы сегодня завтракали?
– Когда бы нам? Мы полпятого уехал и, – проворчал Сашка.
– Шагом марш в столовую! – скомандовала она. – Автобус, Дим, можешь потом в ангар загнать. Иди, ешь. Все молодцы!
– Натыкать бы тебя носом, – бросил мне Дима.
Через минуту площадка опустела.
– Давай, рассказывай теперь ты, – грозно уставилась на меня Ксюха. – Почему сбежал тогда? Почему спрятался? Тебе жэдэшники наболтали про меня? Я ничего не понимаю.
– Ксюш, это не тебе, а мне непонятно, – возразил я, разглядывая золотую бляху на её портупее. – Кто ты? Кто они? Что вы творите?
– Фу, долго рассказывать! – Ксюха неожиданно обежала меня и запрыгнула ко мне на спину. – Но, лошадка! Вон туда! – и показала рукой, куда ехать.
Я бесцеремонно стряхнул её с себя, рявкнув:
– Хватит надо мной издеваться, мерзавка!
– Оёёй! – передразнила Ксюха и двинула меня коленкой под зад. – Ладно, пойдём в столовую, там поговорим. Ах, да! – она хлопнула себя ладонью по лбу. – Забыла спросить. Мобильник есть с собой?
– Нету, – процедил я, красный от стыда.
– Вот и прекрасно, а то у нас телефоны запрещены. Используем только при выездах.
По пути к столовой она пыталась подлизаться ко мне, развеселить. Ставила подножки, била локтем и присматривалась, смеюсь ли. Из-за неё у меня не получалось сосредоточиться, чтобы запомнить дорогу. Я сжимал зубы и глядел под ноги, отмечая, что снег был вычищен с армейским тщанием.
– Курить-то хоть у вас здесь можно? – спросил я.
– Только в отведённых местах, – Ксюха толкнула меня плечом. – Абрамыч заклюёт, если увидит.
– Абрамыч какой-то… Хорошие-то люди у вас вообще есть?
Ксюха задумалась, перестала дурачиться и смущённо ответила:
– Я хорошая.
Столовая имела минимум армейских благ: хлорированный простор, ряды столов, окно раздачи и окно мойки. Ксюха взяла меня за руку и отвела в дальний угол, подальше от компании недавних безработных, которые расположились рядом с раздачей.
– Раздевайся, мёрзлик. Ишь, навьючился, – бурчала Ксюха, стаскивая с меня пуховик. – Кидай всё на лавочку, у нас нет раздевалки. Тебе чего принести? Кефир?
– Кофе. Но не такой крепкий, как раньше.
– Кури, – она поставила передо мной солонку, предварительно высыпав соль на пол. – Абрамыч облезет.
Один, и закурив, я рассматривал то, что сначала не увидел. Одна из стен была покрыта старой советской живописью, изображавшей молотобойца, который выбивал кувалдой фонтаны искр из пустой наковальни. Лицо его было адски красным, глаза – разбойничьи, а челюсть своими размерами превосходила наковальню. Над головой молотобойца сиял алыми буквами забавный лозунг: «Каред хо ашляй – не размышляй!» Стена местами имела сколы и темные подпалины – свидетельство погрома двадцатилетней давности.
– Хватит картинки смотреть. Помоги, – Ксюха несла гружённый тарелками поднос.
– На каком это языке написано? – спросил я, помогая. – На цыганском?
– Хе! На ангельском, – хмыкнула она. – Идиотский язык. Триста букв, из них возможно выговорить пятьдесят. Остальные произносятся дыханием, паузами, стоном… Не спрашивай ерунду! Давай есть.
– Шутишь?
– Почему? Я этот язык с десяти лет учу. После первых уроков блевала и кровью харкала. У людей гортань под него не приспособлена.
Себе Ксюха поставила жареную картошку, стейк, винегрет, креветки, сочни, чай. Мне – кофе. Всё в солдатской пластмассовой посуде, и креветки тоже.
– Многовато для завтрака, – заметил я.
– Завтрак был два часа назад, – оправдалась она, нападая на картошку.
В другом конце столовой хохотали над поездкой и над слепой пулей, которая, вообще-то, могла пробить мне висок.
– И что означает «каред хо…», как там дальше? – я постарался добавить в голос ехидства. – Продолжай врать. У тебя интересно получается.
– Почему врать? – Ксюха хватала шипящий стейк пальцами, обжигалась и яростно дула. – Этот язык на другие языки не переводится… ффуу, ффуу!.. На нём говорят о вещах, которые не для человеческого ума… ффуу!.. В лозунге достаточно усвоить слова «не размышляй». Долби по наковальне, и будешь молодец… ффуу!.. Спросил бы лучше меня о том, как ты, мол, Ксюш, без меня, не страдала ли.
– Ты зачем меня дуришь? Откуда ты набралась всякой чепухи? У меня ум за разум заходит.
– Ну ладно, негодник, – гнула Ксюха своё. – Не хочешь знать, как я мучилась, тогда я опять спрошу: почему убежал и бросил меня? – она вцепилась зубами в мясо и зафырчала.
– Потому что слышал, как ты докладывала обо мне по телефону. Довольна?
– Глюпый! Глюпый! Гоячо! – она, наконец, откусила от стейка и теперь перекатывала во рту раскалённый кусок. – Я зе сюдя, в Стаый Еюсялийск докьядыала.
– Старый Ерусалимск – это завод?
– Ага.
– Значит, будь добра, объясни, чем Старый лучше Нового?
– Ысем!
– Чем же?
– Тям щейти, а у няс айгелы.
– Черти? Ангелы?
Я провёл рукавом по лбу. Догадался, что попал в сердце огромной секты, и Ксюха одна из жертв.
– Ксюш, если хочешь знать, я ехал сегодня, чтобы найти и забрать тебя из Ерусалимска. Собирайся, а? По пути расскажешь мне о чертях и об ангелах. Считай, что я делаю тебе предложение. Согласна быть моей женой?
– Ня, – она вынула из нарукавного кармана устройство, похожее на офтальмологические очки.
Я взял, повертел. Да, очки. Но громоздкие, как бинокль. Их оправа и заушники были металлические, и в каждом окуляре содержалось по нескольку круглых линз. Справа, рядом с душкой, торчал симпатичный рычажок.
– Наж… нажми, – с трудом выговорила Ксюха, проглотив мясо непрожёванным.
Я надавил на рычажок, и линзы веером выскочили из окуляров. По пять штук с каждой стороны.
– Поставь на третье поколение.
– Мм?
– Заправь, говорю, третьи по счёту линзы, а остальные пусть торчат.
– Понимаю, что какая-то шутка, но раз просишь… – вздохнул я.
– Защёлкнул? Надави до щелчка. Так. Надевай, но смотри, не разбей. Они одни.
– И ты будешь смеяться, да?
– Не буду, честно.
– Эх…
На лице Ксюхи росла короткая серая шерсть… Из-под носа свисали усы в виде тонких крысиных хвостов. Подбородок отсутствовал, и на его месте беспокойно двигался синий язык, усеянный тысячью мелких зубов.
Я спиной вперёд выпрыгнул из-за стола и врезался в стену. Очки слетели с меня и едва не разбились об пол, но я машинально поймал их.
– Аккуратно! – взвизгнула Ксюха.
Она сидела обычная. Красивая и с торчащими ушами.
– Вы что там, подрались? – крикнул рыжий Сашка.
– Нет, он в очки посмотрел, – откликнулась Ксюха.
В столовой грянул хохот.
– Ты себя голодную показала?
– Что я, зверюга? Я картошки сначала съела, а то бы он поседел. И не смейтесь. Ты, Дим, тоже смеёшься? Забыл, как от меня под столами прятался?
Ксюха подошла ко мне, улыбнулась, протянула руку.
– Вернись, сядь, – сказала нежно. – Не бойся.
Я жался мокрой спиной к стене и высматривал короткий путь к выходу.
– Не бежать ли надумал? Прямо, как маленький, – она тронула меня за локоть. – Пойдём, я покажу тебе совсем другое.
Мы снова сели.
– Электроники в них нет, одна механика, – пробормотал я, поворачивая очки в трясущихся руках. – Три-дэ никак не может быть спрятано. Что за фокус?
– Не мешай мне пока, – попросила Ксюха, принимаясь черпать из тарелок ложкой.
– Мой Буян так ест, – робко заметил я.
У неё не убиралось, падало изо рта на стол, и она, чтобы помочь себе, по-революционному била себя кулаком в грудь.
Остались креветки. Ксюха устало посмотрела на них, поводила над ними пальцами и, сказав:
– Вот ещё чистить, – стала забрасывать их в рот и жевать вместе с панцирями и щупальцами.
Хруст стоял отвратительный.
– Тьфу, гадость! – сплёвывала она на пол. – Готовься смотреть ещё раз. И сиди на попе ровно.
Озноб лизнул меня вдоль спины холодным, скользким языком. Не выпуская из пальцев заушники, я снова водрузил очки на нос.
В столовой наступила черным-чёрная ночь, и в воздухе повисли созвездия. Ксюха исчезла.
Я поднял руку, чтобы потрогать Большую Медведицу, которая висела в метре от меня, и в это время кто-то маленький и живой пролетел перед моим лицом.
Шустрый воробей с человеческими ушами вместо крыльев – тот, которого я видел во сне после первой встречи с Ксюхой, – гонялся за звездами, как за мошкарой. Из-за него созвездия рассыпались, и звёзды, каждая сама за себя, трусливо петляли, спасаясь от прожорливого клюва.
– Ксюха, признайся, что в моей чашке были галлюциногены, – произнёс я в темноту.
Воробей испугался моего голоса, замер на одном месте, подобно колибри, а затем вдруг спикировал вниз и с громким стуком разбился о стол.
Я прищурился, чтобы разглядеть жалкое тельце и увидел свой железный танк из далёкого, немого детства. Взял его. На ощупь он оказался мягким, тёплым и не по размерам большим. Снял очки – держу Ксюхину руку.
– Ну? – улыбнулась Ксюха. – Что видел?
– Звёзды, воробья с ушами и танк, – ответил я, сожмурив глаза, обожжённые светом.
Ксюха захохотала.
– Ой, до чего испорченный! Ты должен был увидеть ангела! – она глубоко вздохнула и благодаря этому избавилась от смеха. – Говорится же: каждый видит в меру своей испорченности. Так и ты. Ничего лучше детских картинок не померещилось. Ой, негоден ты пока. Но не переживай, я тебя исправлю.2. Правда
Она принесла ещё кофе. Я просил водки, но получил в ответ, что до вечера обойдусь. Вечером по случаю моего прибытия состоится огонёк.
– Понял, что-нибудь, куда ты попал?
– Нисколько. Скорее с ума сойду, если уже не сошёл.
– Поймёшь, привыкнешь, – Ксюха поставила на стол локти и подпёрла кулаками щёки. – Ни от кого не слышал, что раньше здесь держали больных людей?
– Что-то слышал.
– На самом деле два корпуса были отведены чертям и ангелам. Сделай попроще лицо, я не шучу. В войну на стороне Советского Союза воевали ангелы, а на стороне Германии – черти. Вернее, сначала пришли на землю в облике людей черти, и уже потом небо выставило против них ангелов, тоже очеловеченных. И тех и тех было по две тысячи. Они воевали друг с другом и с людьми. К концу войны чертей осталось семьдесят семь, и все самцы, а ангелов – тридцать. Половина из них девушки. Все сошли с ума, не перенесли войну.
– Не идёт тебе умничать, Ксюх. Или прикрой руками глупые уши, или заканчивай. Уже перегиб.
– Если я начну умничать, то чертям тошно станет, – подмигнула она. – Короче, двумя этими корпусами заведовал отец нашего Уралова, Константин Уралов. Он подчинялся напрямую Сталину, и когда Сталин умер, Уралова обосрали и в пятьдесят восьмом году совсем сняли с должности. Кое-как он уговорил, чтобы его оставили при заводе кочегаром, но всё равно уследить за порядком среди чертей он не смог. Они, хитрые, стали угождать администрации, лебезить перед охраной, а сами насиловали больных женщин и девушек-ангелов.
– Из твоей небылицы выходит, что первое поколение ерусалимцев – это дети чертей?
– Точно. Женщины рожали тройни каждые полгода, как кошки. Слышал, наверное, сколько братьев у Зурбагана?
– Подожди, я догадаюсь. Сейчас ты расскажешь, что все ерусалимцы пошли от чертей, а вы, заводские, от ангелов. Угадал?
– Почти. Наши бабушки были ангелами. С дедушками повезло меньше.
– Здорово! Умеет же кто-то сочинять, чтобы собрать народ. Интересно, а чистокровные ангелы рождались?
– Угу, – Ксюха закусила губу. – Но мало. Черти почти сразу оскопили ангелов-мужчин. Ловили по одному в цехах… А родившихся детей выкрали и съели. Выжил только один мальчик, хотя не чистокровный. Отцом у него был человек.
– Уралов? Сын кочегара?
– Ага. Он считался сиротой, потому и выжил. Отец очень осторожно учил его, кто он есть.
– Ксюш, бог с ними! Пусть! Дураку понятно, что психи устроили на заводе секту, которая потом разделилась на две ветви. Одни живут внутри заводских стен, другие – снаружи. У психов фантазия бьёт фонтаном. Разве что я пока не знаю, как работают эти очки, но мне также неизвестно, как делают свои фокусы Амаяк Акопян и Копперфильд. Ты, например, не знаешь устройство пистолета Макарова…
– Знаю, не хуже тебя, поверь. По огневой подготовке у меня стоит отлично.
– Да, глупость я сказал. Вы террористы ещё те. Ксюш! Повторяю, я за тобой ехал. То, что сам угодил в ловушку – не важно. Я ради тебя в Ерусалимске. Не нужно мне ничего и никого, кроме тебя. Не морочь мне и себе голову фантастикой. Поехали отсюда, прошу.
– Я не досказала, – Ксюха с грустью заглянула в пустые тарелки. – Взять те же очки. Почему, когда я была голодной, ты увидел в них чудище? Потому что чертовка во мне преобладает. Её надо много кормить, чтобы она успокоилась. Зато потом показывает себя ангельская суть. Правда ненадолго. Ты замечал, что голодная я дерусь?
– Всегда дерёшься.
– Чего ты врёшь-то?.. Хотя тебе не с чем сравнивать. Ты просто не видел меня по-настоящему голодной. Блин, сбил меня! Я не о том хотела тебе сказать. Я про тебя хотела. Тебе передалось больше ангельских качеств…
– Я-то причём?
– Ты ерусалимец.
– Ксюха, брось! Ты заговорилась. В этом году я впервые приехал в ваш город.
– Ты наш, Вань. Наш по отцу. Твой отец из Ерусалимска. В семьдесят пятом его подростком с какого-то перепугу выписали, и он уехал в другой город. Думаешь почему он был бешеный? Он же был бешеный!
– Откуда ты знаешь?
– Мы о тебе знаем больше, чем ты сам. Почему ты мёрзнешь даже летом? Почему не переносишь еду? Это ангельская природа. Чёртовы гены в тебе мало активны. Хотя вспомни вентилятор «Ночь», насколько он тебя изменил. Я уверена, что ты сидел перед ним не дольше минуты. Будь передозировка, ты бы поубивал полвокзала. Ой, как смотришь, боюсь! Про вентиляторы мы в курсе. Я с первого взгляда тогда поняла, что с тобой происходит. Потому и сейф выкрали. Сам виноват, ключ куда-то спрятал. Парням пришлось в ментов переодеваться.
Я поёрзал на лавочке и никак не возразил. Слушал.
– Сначала ты держал ключ в штанах. Помнишь стакан абсента? Мне бы, дуре, забрать вентиляторы сразу. Здорово тогда я огребла от Абрамыча.
– Вентиляторы помню, да. Они тоже магические?
– Тьфу, типун тебе на язык! Никакой магии на заводе нет и не было, запомни. И слов таких не упоминай. Вентиляторы – серьёзные изделия, в которые был вложен труд. Их изготовили шесть штук, и одна пара пропала в пятьдесят восьмом, с ней сбежал чёрт. Видать, его поймала милиция и тогдашний начальник взял их себе и не сказал.
– Вообще-то, у меня от них сдвиг непонятный был, – проговорился я. – Хотя я находился на измене, и, может быть, случайно совпало.
– Не случайно. Ты читал инструкции? В них правда.
– И где собирались применять эти вентиляторы?
– Где только ни собирались. «Ночь» – в спорте как допинг. И в армии. «Свет» – на международных переговорах, чтобы враги добрели. И «Ночь», и «Свет» – в допросах, исходя из личности. Потом хотели проводить профилактику разным руководителям. Нерешительных делать пробивными. Буйных – усмирять.
– И какой в их устройстве секрет? Что за волшебные детали?
– Вань! – Ксюха стукнула по столу кулачками. – Не бывает волшебства! Посмотри ещё раз на стену, на молотобойца. Вот так здесь работали, на износ. Например, для того, чтобы изготовить один экземпляр «Ночи», черти горбатились полтора года. Какая-нибудь деталька запаивалась в тяжёлый контейнер, и чёрт таскал его на себе по двенадцать часов, а потом передавал следующему чёрту. То же и ангелы. Слышал про намоленные, чудодейственные иконы? Люди веками бормочут перед ними о своей любви, и иконы вбирают её. Что-то подобное было в производстве вентиляторов. Правда, много силы забирал контейнер, поэтому КПД страдало. Но ведь и не люди работали.
– А чем занимались простые больные?
– При Уралове ничем. Лечились. Завод задумывался не для них. Психодиспансеры с людьми служили прикрытием от шпионов.
– А после Уралова?
– Беда. Пришли новые руководители, увидели, что на заводе как такового производства нет, что цеха пустые, без станков, и озверели. Детали для вентиляторов, я не сказала, привозились готовые с других заводов. Короче, к шестидесятому году наладили гвоздевое производство. Каждый пятый гвоздь в Советском Союзе производился в Ерусалимске. Представь, что за гвозди.
– Угу, сделанные руками чертей и их отпрысками. Проклятые, да?
– Правильно, не улыбайся. Пусть не качеством, но количеством, гвозди рассеяли несчастье по всей стране.
– Ты их наколотила в мои стол и стулья?
– Обидеть хочешь. Тебе я вбила те, что прошли через ангельские руки. Выпросила из неприкосновенных запасов, которые лежали с тех пор в тайнике под землёй.
– Не шибко помогло.
– А подумай-ка. Ни тебя, ни меня бесноватые не рассекретили. Подумай, на что я шла, когда устраивалась на вокзал. Они бы разорвали меня, если бы узнали. То же самое с тобой. Хорошо, что у них нет списков пациентов. Хотя, помнишь начальницу вокзала и стрелочницу? Они чуяли.
– Гладко излагаешь.
– Потому что правда. Радуйся. По тебе легко могли отследить родословную, тем более в Ерусалимске у тебя двоюродный брат…
– Погоди, что за брат?
– Участковый Столбов. Слышал, может быть.
– Час от часу не легче, – понурился я. – Ксюш… Переходи к главному. Довольно мистики… Прости, забыл, что передо мной ангел-материалист. Довольно о непонятном…
– Спрашивай.
– Зачем вам понадобился я? Не тебе, а вам. Ты, как мне видится, всего-навсего исполняла роль агента с задачей изучить меня. Ненарочно переиграла себе на беду, но не важно. Зачем я вам?
– Опять обижаешь… – на её длинных ресницах моментально повисли слёзы, будто бы вышло лекарство из медицинских игл. – Перестань обижать.
– Не буду, – опустил я глаза. – Объясни мне, зачем вы разыграли вокруг меня свой триллер. Зачем, в конце концов, убивал меня рыжий?
– Сашка стрелял, чтобы провести по тебе последнюю, главную проверку. Мы не были полностью уверены, что в тебе приоритет ангельской крови.
– И в чём заключалась проверка?
– Умрёшь – не умрёшь. Сашка лучший стрелок. Он целился в голову и, будь уверен, попал бы. Ангельская кровь охраняет. Тебе повезло, что твой отец забрал себе бо́льшую часть чёртовых качеств.
Я выбрался из-за стола и заходил вперёд-назад, держась за голову.
– Вы нездоровые. Хуже тех, что снаружи забора. У них страх есть, их можно подчинить, как зверьков. Вы же фанатики, ей-богу. Ты-то, надеюсь, возражала против этой проверки?
– Я настаивала на ней, Вань, – Ксюха призывно хихикнула, вероятно, ожидая, что её честность рассмешит и меня. – Ангельская любовь выше смерти. Ты потом научишься так любить. Я тебя научу. А нужен ты здесь, чтобы пополнить капитал.
– Теперь какой-то капитал. Ладно, на неделю останусь. Объясни мою задачу. Окажу услугу, чёрт с вами.
– Не на наделю, Вань. Навсегда, – Ксюха притворилась испуганной; втянула в плечи голову и часто заморгала. – Не бей засранку! Тебе понравится, обещаю.
У меня кончились слова. Высыпались из головы, как сахар из дырявого пакета.
– Ксюха, обжора мелкая! Когда ты наешься? – прогремел незнакомый голос.
3. Абрамыч
В столовую вбежал лысый тип в хромовых сапогах и галифе, ростом чуть выше Ксюхи, шумный, как толпа. Он устремился в нашу сторону, расталкивая перед собой воздух и перепрыгивая через невидимые препятствия. Жуткий человек. Нос горбом, глаза навыкат, лицо красное от бессмысленных усилий.
– Это Абрамыч, – шепнула Ксюха. – Он добрый.
– Приветствую! – воскликнул тип. – Будем знакомы! Аркадий Абрамыч, командир роты.
Он молниеносно схватил мою руку и потряс её так, что у меня зажужжали связки.
– Иван, – назвался я, отступая назад; чего доброго наскочит на меня со словами «Но, лошадка!»
– Она ввела тебя в курс дела? – Абрамыч показал пальцем на Ксюху и два раза подпрыгнул.
– Вкратце – да. Мне пока мало понятно, – ответил я, разглядывая на его кителе крупный серебристый значок: винт с пятью лопастями на фоне распростёртых птичьих крыльев, и по кругу надпись «Отличник Капитала. Амра!»
– Поймёшь, какие твои годы, – он стукнул меня кулаком в грудь. – Сейчас ты шагай со мной, покажу тебе наше житьё-бытьё. А Ксюха никогда не наестся, – стукнул её по спине. – Никудышная жена, ест и ест.
– Пожалуйста, могу голодать, – пробубнила Ксюха. – Хоть до завтра.
– Ей было лет десять, – Абрамыч таинственно понизил голос, – чем-то отравилась и два дня не ела. Так мы бегали от неё. Рычала страшно и кусалась.
– Весёлые, смотрю, вы все, – вздохнул я.
– Что ты, цирк! Один я здесь нормальный человек. Ну, пошли! – командир решительно подпрыгнул. – За мной!
– Абрамыч, дай полчасика, – плаксиво простонала Ксюха. – Хочу, чтобы он посмотрел на себя в зеркало через очки. И про капитал я не успела рассказать.
– Потом, потом, потом! – Абрамыч потряс руками, и сапоги его заскрипели от нетерпения бегать и скакать.
В первую очередь мы наведались в казарму.
– Будешь жить пока здесь, чтобы привыкнуть к коллективу, – инструктировал Абрамыч. – Потом женишься на Ксюхе, и я поселю вас вместе.
– Без меня меня женили, – обронил я.
– Что тебе не нравится, боец? Не слушай, что я ругаю её. Хорошая она девчонка. Моя дочь.
– Как? – глянул я на будущего тестя сверху вниз.
– Просто! – подпрыгнул он.
Казарма мне понравилась.
Стандартная армейская казарма, она совершенно ничем не удивляла, была местом понятным, без подвоха. Я сразу проникся к ней родственным чувством.
Двухъярусные кровати, шерстяные одеяла с отбитым квадратным кантиком, шкафы для одежды. Непоколебимый, как математика, уют.
Единственное, что меня озадачило, это художественный вкус дневального, который сидел на табурете и листал «Cosmopolitan». Парень моего возраста, крепко сбитый – с чего бы? И не поднялся при нашем появлении. Глянул искоса, и дальше сидеть.
– У нас нет устава, – Абрамыч заметил недоумение на моём лице. – Службу все несут в лучшем виде. На постах не спят, чистоту и порядок соблюдают. Зачем кого-то дрочить? Пусть себе отдыхают, если есть время.
Я получил верхний ярус в самом углу располаги рядом со шкафом для одежды. На сердце снова потеплело. Оказаться на унизительных правах «молодого» означало жить без чудес, без чертей и ангелов.
Абрамыч открыл тумбочку рядом с кроватью и продемонстрировал мне мыло, пену для бритья и набор одноразовых станков.
– Твоё! – торжественно произнёс он, словно дарил полцарства. – Прятать не нужно. У нас не крысят. Пистолет тоже можешь убирать сюда. Оружие у нас всегда с собой.
– Пистолет?
– Да, сегодня получишь. Тебе, наверное, привычнее Макаров? Пойдём, кстати, в каптёрку, выдам тебе форму.
Двадцать минут, и меня не узнать, я солдат. На мне две пары кальсон, две белуги, штаны, китель, берцы, бушлат, шапка зимняя. Как десять лет назад.
– Кроме дневального в казарме никого нет. Где все? – спросил я Абрамыча.
– Кто в карауле, кто в нарядах, а остальные на заводе. О! – прыжок на месте. – За мной на завод! Там, наверное, уже Ксюха в поте лица.
По дороге к заводской громаде я волновался. Обещалось зрелище.
Абрамыч скакал впереди и бросал через плечо ёмкие реплики:
– Бесноватые планируют что-то серьёзное. Вроде, как сегодня начнут.
Прыг-скок, взмах руками.
– В школах ввели факультативы по военной подготовке даже для первоклашек.
Прыг. Поскользнулся, упал, вскочил. Галифе в снегу.
– Зурбаган завозит в город стволы. Много. По нам палить.
Хромовые сапоги весело скрипят, довольные, как резвые собаки на выгуле.
– Если ночью будет тревога, держись Ксюхи и смотри по обстановке. На прошлой неделе мы двоих похоронили. Уралов нам за тебя головы поснимает. Сначала капитал пополни, а потом умирай, сколько хочешь.
Из одного сапога торчит край портянки. Выбилась.
– Уралов сегодня прилететь не сможет, но очень хочет познакомиться с тобой. Всё-таки с его младшей тебе капитал делать.
– О чём вы? – насторожился я.
– Ах, да. Ксюха не успела, придётся мне. Сказать?
– Сделайте одолжение.
– Дитё тебе завтра зачинать с Ольгой, младшей дочкой Уралова.
– С кем кого зачинать?
– Дитё, дитё! С Ольгой, младшей дочкой Уралова! Трудный ты. Так бы сегодня, но бог с тобой, отдыхай с дороги.
– Объясните толком.
– Ох, труден ты, труден. У нас четыре малыша чистого ангельского капитала от четырёх дочерей Уралова. А есть ещё пятая дочь, младшая. Понятно объясняю? Завтра ты с ней займёшься святым делом. Если в отношении тебя информация верна, что твоя порода ангельская, то в итоге родится чистый капитал. Ангельская кровь возьмёт своё.
Прыг-скок…
– Потом бери себе в жёны Ксюху и живите счастливо. Благословлю. Мы пришли!
Тяжело прорычала металлическая дверь высотой с КамАЗ, за ней – другая, поменьше, ахнула голосом Жанны Агузаровой, а третья дверь, тоненько взвизгнув, открыла нашим взорам глубокий, как тоннель метро, коридор. Я вляпался лицом в плотный, пропитанный потом, воздух. Насильно втянул его в лёгкие.
В стенах коридора зияли мрачные арочные проёмы. Из них появлялись и в них исчезали адские рабочие. Дядёк в мокрой робе, усеянной рваной бахромой, катил перед собой кривобокий вагон, под весом которого вздрагивал бетонный пол. Женщина несла на плечах стальное коромысло с двумя флягами, которые висели, не качались. Её лицо облепили чёрные с проседью волосы, и сквозь них просвечивала самозабвенная улыбка.
Паренёк лет пятнадцати держал под мышками электродвигатели. Своей походкой и натуженным лицом он напоминал мультик, где хомяк несёт гороховые стручки и говорит лягушкам: «Не смешите меня».
Прижимаясь к влажным, покрытым конденсатом пота, стенам, мы ныряли из арки в арку, шли по одинаковым коридорам, поднимались и спускались по лестницам, пока не попали в цех необозримых размеров.
Вокруг цеха крепился на мощных швеллерах цепной конвейер. Рыжий Сашка, мой нерадивый палач, тянул по нему автоцистерну «Молоко». Та мерно покачивалась на скрипучих цепях и утробно мычала. Наверное, думала: «А ну-ка упаду. Хлебнёте горюшка».
Опутанный текстропными ремнями Сашка задыхался, хватал оскаленным ртом грязный воздух, но не молчал. Его дюже злили трое пыльных мужичков, которые кувыркали посреди цеха другую цистерну. Нефтеналивную, овальную.
– Хуль вы ломиками тычете? – вопил он, выгадывая время, когда смолкал оглушительный гром. – Поддели и понесли, бездельники! У вас КПД процентов десять. Вы половину времени отдыхаете.
Мужички хватали с разбитого пола горсти щебня и азартно швыряли в хама.
– Санёк! – крикнул Абрамыч. – Где Ксюха?
– Где угодно, – повернул он искажённое лицо. – А почему этот не работает? Он что думает, в санаторий попал, жук навозный?
К своему стыду я покраснел. Во рту скопилась пенная слюна, а взять и ответить человеку, который тянет за спиной цистерну, не повернулся язык.
– Ты работаешь, Саш, вот и работай, – вступился за меня Абрамыч. – Ване надо силы беречь к завтра.
Мы отправились искать Ксюху, и по пути я спросил:
– Целыми днями таскать по кругу цистерну, свихнёшься, поди?
– Почему? – удивился он. – Надоело таскать, тащи в обратную сторону. И ты не серчай на Сашку. Он твой будущий шурин. Ксюшкин брат, мой сын.
Из меня залпом шампанского брызнули смех и слёзы.
– Осталось познакомиться с мамой, – выговорил я.
– Маму съели, – сказал Абрамыч. – В восемьдесят девятом. Она врачом работала.
На лестнице между третьим и четвёртым этажами нам встретился низкорослый паренёк с объёмным термосом за спиной. Чёрная бандана на голове, худой, дыра на дыре камуфляж. Пружинными рывками паренёк взбирался вверх по ступенькам, оставляя позади себя взвесь потных паров. Абрамыч шлёпнул его по затылку ладонью и спросил:
– Не проголодалась?
– Оставь! – огрызнулся паренёк голосом Ксюхи. – Ага, и Ванька с тобой.
Она дышала с присвистом, закусив зубами кончик языка. Щёки горели, глаза смотрели мутно.
– Брат цистерны ворочает, а ты с пустыми руками гуляешь, – попытался я пошутить.
Ксюха поддернула широкие кожаные ремни, на которых висел термос, и, не ответив мне, двинулась по лестнице дальше.
– В термосе ртуть, пятьдесят килограммов, – шепнул Абрамыч. – Не шути сейчас, а то набросится и не вспомнит потом. Голодная.
– Она час назад ела.
– Час. Не в коня корм.
– Я слышу! – донеслось от Ксюхи.
– Пойдём, покажу клуб, – Абрамыч дёрнул меня за рукав и попрыгал вниз.
На улице лежал тихий, светлый снег – полная противоположность заводскому грохоту и мраку. Морозный воздух больно продрал мне носоглотку, замыленную чужим потом, освежил голову, и я честно сказал Абрамычу:
– Не хочу я так работать. Лучше опять на рынок.
– Неволить грех, – просто ответил он.
– У вас хоть платят?
– У нас коммунизм.
Я сокрушённо покачал головой.
– Ксюха рассказывала, что раньше производились чудодейственные вентиляторы, а сейчас что?
– Тоже вентиляторы. Только для компьютеров.
– А толк от них какой?
– Пока никакого, но скоро будет. На изготовление было решено потратить десять лет, хотя, может быть, уже всё готово. Добиваем для верности.
– Неужели ждать суперкомпьютеров?
– Уу, не то слово. За тебя будут думать, только задачи нарезай.
Я отвернулся, чтобы Абрамыч не заметил мою ухмылку.
– Смеёшься, Вань?
– Нет, конечно, – я не удержался и хрюкнул. – Представляю, картину будущего мира, когда у вас появится искусственный интеллект. Вернее, не представляю.
– Не смейся. Я б тебя убедил, но незнаком с терминами. Не разбираюсь я в компьютерах. У нас они запрещены, как и телефоны.
– Чтобы нельзя было связаться через Интернет с ерусалимцами? Возможен сговор?
– Называй их бесноватыми, – поправил меня Абрамыч. – А сговор… сговор не исключён. Вполне. В нас каждом сидит чёрт, кроме дочерей Уралова и капитала. Кстати, чтобы ты не смеялся, чтобы до конца понимал, скажу. Не мы станем пользоваться компьютерами, а капитал. Ангелы.Клуб поражал. На его четырёх колоннах могло бы держаться небо. За каждой возможно было спрятать трактор «Беларусь», и не сразу найти. Под конусом крыши красовались серп и молот, а над ними вместо звезды – винт с пятью лопастями.
На входе широко простирался вестибюль. Вдоль его стен стояли стеклянные стенды.
– Смелей! – позвал Абрамыч, подпуская меня к ближайшему стенду. – Сначала грустные страницы.
За стеклом, в красной подсветке, громоздились доспехи, о которых рассказывал Хренов. Два котла, большой и малый, оснащённые манометрами. На большом имелись отверстия для рук и головы, дно у него было срезано. Малый котёл злобно щурился отверстиями для глаз.
Следующий стенд демонстрировал щиты. Канализационный люк и двенадцатимиллиметровый лист железа с приваренными скобами.
– Значит, правда, что говорил Хренов, – пробормотал я, разглядывая ребристые выбоины на поверхности металла.
– Кто? – не расслышал Абрамыч.
– Хренов. Старый начальник ЛПМ на станции.
– Помню его. Бездарь, трус и пьяница.
Далее шло оружие. Связка шестерёнок, подвешенная на цепь. Сплющенные с одного конца прутья арматуры – копья. Половинки циркулярной пилы с проёмами для рук. И карданный вал с усиленной шлицевой частью – палица.
– Иди, Вань, глянь, – Абрамыч потянул меня за рукав к стенду с зелёной подсветкой. – Пора рассеять твои сомнения.
… В стеклянной колбе была заспиртована «неведомая зверушка». Издалека – человеческий младенец. Голова, руки, ноги, туловище. Но вблизи я различил тонкий крысиный хвостик, два бугорка на голове и серый пушок по всему тельцу.
– Один из бесовских приплодов первого поколения, – несколько смущённо пояснил мой экскурсовод. – Редко, но рождались и такие. Потом человеческая природа скрыла суть. Смотри-смотри, уникальный экспонат. Врачи относили хвостатых Уралову-старшему в котельную, он и сохранил одного.
У меня рвотно перехватило горло, сердце колотилось, будто в спешке, но я не мог отвести взгляд от бесёнка.
– Иди теперь сюда, увидишь ангельскую частицу. Уралов в пятьдесят пятом отобрал у чертей. Не успели съесть.
Уже медленно, уже боязливо я подступил к голубоватому стенду. Внутри, на алой подушечке лежало, белёсое, величиной с ладонь, крыло. Оно слабо вздрагивало, точно стряхивало с себя пыль.
– Не умирает и не портится, – тихо произнёс Абрамыч. – И через тысячу лет не умрёт.
Остальная экспозиция посвящалась исключительно Уралову-старшему. В золотистом свете покоился военный китель с полковничьими погонами. Его отягощали десяток медалей, два ордена Красной Звезды, орден Отечественной войны I степени и орден Александра Невского.
– Была «Золотая Звезда», но не сохранилась, – полушёпотом сказал Абрамыч.
Отдельно представлялись грязные голицы, в которых Уралов кидал уголь, и тусклая коричневая фотография. На ней стоял в полный рост широкогрудый военный. Пятки вместе, носки врозь. Лицо выцвело, сохранился лишь контур с широкой донельзя челюстью. Мне стало ясно, кто вдохновлял художника.
За стеклом последнего стенда стояла серебристая шкатулка. На её крышке был отчеканен брутальный Карлсон… Человек по стойке «Смирно!», и за спиной у него, как крылья, огромный пропеллер.
– Рака, – едва слышно проговорил Абрамыч. – Внутри челюсть Уралова. С восемьдесят девятого её передавали из семьи в семью, так и сохранили.
– Вы же организовались в двухтысячном году.
– Мы, в отличие от бесноватых, всегда знали, кто нас родил. Уралов тайно наставлял нас.
– Разве родители не воспитывали своих детей?
– К шестьдесят пятому чертей и ангелов выкосила какая-то зараза. Или бич Божий, или новые руководители извели и тех и тех. Поняли, что пациенты их не простые, а поверить в ураловскую правду не позволяла партийная совесть. Ну и решили вопрос дедовским, большевистским способом.
– Хренов рассказывал, что у ерусалимцев…
– У бесноватых.
– Да, у бесноватых ерусалимцев с двухтысячного года находится секретное дело, из которого они много почерпнули.
– Правильно, есть. Литерное дело, накопительное. Оно дало им общее представление о происхождении, но там нет списка ангелов. Уралов предвидел худшее, и на свой страх и риск убрал страницы с именами. А то бы тебя в первый же день кастрировали, и ты бы не знал, за что.
– Пиздец, – вырвалось у меня.
– Не ругайся у раки! – Абрамыч ткнул мне в лоб указательным пальцем. – Сейчас я быстро проведу тебя по остальным местам и вернёмся в роту. Отобьёшься вместе с караул-нарядом, поспишь пару часов, чтобы голова остыла.
Вышли из клуба.
– В нём больше ничего интересного нет? – спросил я.
– Главное – вестибюль. Потом можешь сам сходить, глянуть библиотеку, тренажёрку, актовые залы. В большом зале у нас проходят собрания. В малом смотрим фильмы.
– Какие?
– Те же, что и ты, для нас нет запретного кино. Мы все регулярно проходим профилактику «Светом». Блюдём свой моральный облик, не переживай об этом. Да, вот, хочу спросить тебя. Ксюха говорит, что ты испытывал на себе вентиляторы. Мол, чуть бед не натворил. Испытывал?
В ответ я посопел носом, размышляя над тем, какие подробности содержались в Ксюхиных отчётах. Представил себе рапорт, написанный её рукой на имя Уралова: «Докладываю Вам, что вкус спермы гражданина Столбова И.С. 13.01.1981 г.р. можно с уверенностью назвать ангельским…»
– С непривычки запросто ополоумеешь, – говорил Абрамыч. – Зато после пятого-шестого сеанса, когда раскаешься и проревёшься, наступает радость. Сможешь смеяться, как ребёнок, и любить, как Бог. Правда не каждому удаётся дожить до радости. Половина вешаются.
Сходили в парк, выкурили по сигарете около безглавого памятника Иосифа Сталина.
– Любил он покурить, – заметил Абрамыч, будто говорил о свояке.
– Любил, – тоже по-свойски согласился я.
– Бесноватые, суки, искалечили, – Абрамыч погладил разбитый постамент суетливой еврейской рукой.
Пришли к котельной, постояли под мемориальной доской «Здесь жил, работал и погиб святой полковник КГБ…» Абрамыч плакал.
Напоследок побывали у Дома Детства. Два этажа, оранжевые стены, бумажные снежинки на окнах. Во дворе песочница, качели, полоса препятствий, турник и брусья.
– Внутрь не пойдём, скоро тихий час, – сказал Абрамыч, такой серьёзный, что на его лысине выперли мышцы. – Здесь наш капитал!
– И что, настоящие ангелы? – спросил я. – С крыльями?
– Без крыльев, – Абрамыч развёл руками и цыкнул языком. – Ждём, что вырастут, но пока обычные дети. Не знаем, чего не хватает. Видимо, время не пришло или условия не те. Думаем.
– Абрааамыч! – донёсся с неба женский писк. – Мы тууут!
За Домом Детства возвышался бетонный параллелепипед пожарной вышки. С её балкона, примерно, с двадцатиэтажной высоты, махал рукой человечек.
– Ты опять с Никиткой?! – проорал Абрамыч.
– Дааа!
– А ну слезь! Простудитесь!
– Но он сам проситсяааа!
– Слезь, сказал! Отцу скажу!
– Щаас! Ещё пять минууут!
– Глупая несусветно, – виновато улыбнулся Абрамыч. – Надя Уралова. Таскает на верхотуру Никиту, самого маленького из капитала. Ему полтора года отроду. Дура-мать.
– Может быть, хочет, чтобы он летать захотел? Чтобы крылья выросли?
– А хуй ё знает, – мотнул головой Абрамыч. – Мальчишка и без того каждый месяц болеет. Завтра Уралов прилетит, доложу ему. Ты, к слову сказать, смотри, запоминай местность. Ту же вышку у нас в случае нападения занимают два снайпера. С неё можно вести прострел по всей территории звезды и, главное, защищать Дом Детства. Теперь погляди туда, – Абрамыч показал на курган в метрах тридцати от Дома. – Бомбоубежище, куда в случае вторжения неприятеля эвакуируется капитал. Сюда же из роты немедленно выдвигается специальная группа отражения нападения и, вообще, большинство народа, включая женщин. Поэтому знай, случись, не дай бог, что серьёзное, ты тоже должен быть здесь. Ясно?
– Да, но разве здесь нет круглосуточного поста?
– Обязательно, Вань! Обязательно. В Доме Детства всегда пост из двух человек. Плюс Колёк, наш проверенный боец, который трудится по хозяйству. У него ноги болят, на завод ему нельзя.
Пока возвращались в роту, сделали зигзаг, чтобы пройти мимо жилых корпусов, бани, водонапорной вышки и продуктового склада.
– Провианта у нас достаточно, чтобы выдержать годовую блокаду, – учил Абрамыч. – Воду очищаем сами, чтобы из города не пустили яд.
В роте я не стал с ним спорить. Разделся, разобрал свой второй ярус и запрыгнул, радостно посучив в воздухе голыми ногами. Простынь была холодная, одеяло – колючее, кровать качалась и истерично скрипела. Словом, наличествовали все условия для крепкого солдатского сна. Бессонница в подобных условиях невозможна, сон наступает рефлекторно, как слюноотделение при виде поедаемого лимона.
Сквозь сон я слышал бесцеремонный топот и вялый мат парней, вернувшихся с завода. Они не тихарились ради меня, нового человека, и это означало, что я уже свой, нечего из-за меня соблюдать хорошие манеры.4. Приём
Проснулся, как родился. Голова пустая, лежу, не помню, где я. Орут: «Караул-наряд, подъём! Подъём, суки рваные!» Вокруг скрип железа, вздохи, кряхтенье. Открыл глаза и вспомнил. Автобус, Сашка-рыжий, Абрамыч, клуб, чертёнок… Зажмурился, думая: «Уходите на фиг, и я встану».
– Гляди-ка, молодой-то щемит, – бросил кто-то в меня словесные камни. – Расслабленный боец.
– Оставь, пусть спит, – ответили ему. – Успеет охуеть от нас.
«Уматывайте, говорю!» – послал я из-под сомкнутых губ заклятие.
Снова сон.
Разбудила Ксюха. Пнула по кровати.
– Вставай, девица красная! Второе пришествие проспишь, – заголосила она, стаскивая с меня одеяло. – Ужинать пора.
Я сел на кровати и сгорбился, скрывая незваную эрекцию. Жалкий, в белом наряде Пьеро.
В окно пусто смотрела синяя, зимняя темень.
– Отойди! – пробубнил я. – Не мешай, оденусь.
– Больно нужен ты мне, тьфу на тебя! – Ксюха встала ко мне спиной, осанистая, с кобурой на круглом бедре.
Пока ходил умываться, встречал бойцов и ждал, что сейчас остановят и спросят: «Ты что за чмо? Сигареты есть? Упал, отжался». Однако они улыбались и тянулись здороваться.
К моему возвращению Ксюха уже заправила кровать и набила на одеяле квадратный кантик.
– Ладно тебе, я бы сам, – сказал ей, чувствуя, что начинаю стесняться её, человека здешнего, опытного – не то, что я, прирученный против воли.
– Тебе понравилось у нас? Только честно!
– Не знаю, – потупился я. – Коллектив, вроде, неплохой…
– Ну и слава богу!
Между казармой и столовой было метров двести. Я вмиг замёрз, влез в бушлат по глаза, а Ксюха вышагивала в кителе с расхристанным воротом.
– Тебе не холодно? – спросил её. – Минус двадцать, наверное.
Она запустила мне за ворот ладонь, горячую, как свежеиспеченный пирог.
– Я же не мёрзлик в отличие от тебя. Я наоборот. Чертовка.
Из столовой били музыкальные басы.
– Что это? У вас праздник сегодня? – сбавил я шаг.
– Ты ещё не проснулся, Вань? Я же тебе говорила, что вечером устраивается огонёк. И у нас, а не у вас.
– Может быть мне не ходить? Неудобно…
– Возьму сейчас за яйца и поведу, – пригрозила она ледяным голосом.
Столовая преобразилась. По углам гремели высокие дискотечные колонки. Пел «Ляпис Трубецкой» – «Капитал».
В левой руке «Сникерс»,
В правой руке «Марс».
Мой пиар-менеджер – Карл Маркс.
Капитал!.. Каапитал!…
Расставленные вдоль стен столы беспросветно изобиловали закусками, от разноцветья которых у меня зарябило в глазах и захотелось два пальца в рот.
За столами сидело человек сто.
– Рановато мы! – проорала Ксюха громче «Ляписа». – Половины людей нет.
Мы уселись, как молодожёны, на центральных местах, и Ксюха, отставив от себя чистую тарелку, придвинула блюдо, на котором возвышалась гора куриных ножек.
– Не могу ждать! – брызнула она мне в щёку слюнями. – Ем!
Передо мной стояла трёхлитровая банка томатного сока, коробка кефира и коробка топлёного молока.
– Гу-гу-гу! – полным ртом пробубнила Ксюха, показав обглоданной ножкой на банку и коробки.
– Понял, что для меня! – крикнул я, искоса любуясь другими ёмкостями, бутылками с водкой.
Люди прибывали. Мужчины и женщины, молодые и всякие. Кроме, разумеется, стариков. Все в военной форме и у всех дыбом – после бани – волосы.
Спустя две песни свободные места закончились.
Прибежал вприпрыжку Абрамыч с тощим вещмешком на плече. Встал посреди зала.
Музыка стихла.
– Дорогие мои! – подпрыгнул он. – Сегодня у нас необычный ужин. Сегодня мы отмечаем удачное окончание сложного мероприятия. Попрошу всех встать!
Грянуло «Прощание славянки». Люди единым движением поднялись на ноги. Я тоже встал и, чтобы не засмеяться на Ксюху прикусил губу.
Ксюха выпятила грудь, задрала подбородок и устремила в потолок страстный взор. Идеальный воин, если бы не набитые щёки и не масляный рот.
Музыка, победно ударив барабанами, смолкла.
– Прошу садиться! – объявил Абрамыч. – Итак, с огромной радостью сообщаю. В нашем полку прибыло! Возможно, последний ангельский потомок вернулся в родные Палестины. Потомок с приоритетом ангельской крови! – Абрамыч значительно поднял палец. – Главная заслуга в этом Ксении Аркадьевны Цап. Встань, Ксюш, позволь, дочь моя, полюбоваться тобой.
– Поесть не дадут! – пропыхтела Ксюха.
Она поднялась на полусогнутые ноги, помахала отцу куриной костью и снова плюхнулась на стул.
– Ксения, рискуя жизнью, провела блестящее внедрение за стенами Старого Ерусалимска и собрала массу важной информации касательно кровных качеств объекта. По итогам задания Цап Ксения Аркадьевна награждается почётным серебряным знаком «Отличник капитала».
Воздух колыхнулся от шумных, как стая голубей, аплодисментов.
– Амра! – закричали люди.
– Амраааа!
– Ксюш, подойди ко мне для вручения, – попросил Абрамыч, дождавшись тишины. – Подойди, красавица.
– На фиг мне твой значок! Не пойду! – взвизгнула Ксюха. – Вот моя награда, – она демонстративно ударила меня локтем. – И давайте уже есть.
– Совсем распустилась, – Абрамыч покачал головой. – Младший лейтенант ангельской гвардии Цап! Ко мне!
– Говорю, не пойду, – надулась Ксюха.
По столам пронеслись смешки.
– Иди, – шепнул я. – Из-за меня стесняешься?
– Ты-то молчи, – огрызнулась она, и с её носа посыпались слезинки.
Абрамыч крякнул, потоптался с ноги на ногу и сам подошёл к нашему столу.
– Спасибо, дочь. Ты молодец, – он достал из вещмешка и положил на стол красную пластмассовую коробочку. – А к дисциплине я тебя приучу, дрянь.
– Бе-бе, – буркнула она. – Клоун.
– Эх, Вань, держись, – сказал мне Абрамыч. – Дашь слабину, она тебя живьём съест. Кстати, встань-ка.
Он вывел меня в центр зала. Я сцепил за спиной руки и упёр в грудь подбородок. Решил отличаться от Ксюхи, выглядеть серьёзным.
– Мне нет надобности представлять Ивана, – начал Абрамыч. – Мы ежедневно обсуждали его личность на совещаниях. Все знаем, кто он, чей сын. Знаем, какую он имеет ценность для капитала. Помним, как узнав о том, что в Ерусалимск приехал новый человек по фамилии Столбов, мы задумались: а не наш ли он? Помним первые донесения от Ксении, когда стали подтверждаться наши догадки. Какую испытали радость! И вот он с нами. Амра!
– Амра! – отозвались люди.
Секундой позже они скандировали в один голос.
– Ам-ра! Ам-ра! Ам-ра!
– Ксюхе амра! – перекрыл общий хор остроносый Дима.
– Амра Ксюха! – подхватил рыжий Сашка.
– Ам-ра! Ам-ра!
– Это надолго, – наклонился ко мне Абрамыч. – Держи, – вынул он из вещмешка объёмную кобуру.
– Слишком просто у вас, – сказал я, отстраняя оружие. – Хоть бы присягу от меня приняли. А допустим, я ненормальный и начну сейчас палить? Да ещё водки выпью.
– Бери, блядь! – Абрамыч ткнул меня подарком в рёбра. – Вторая Ксюша, блядь. Пошёл вон, блядь, на место, сука!
– Служу отечеству! – выпалил я, хватая кобуру.
Путь к столу не запомнил.
Люди, наконец, угомонились, и с обеих от нас сторон послышался перезвон стопок.
– Мне тоже наливай, – угрюмо произнесла Ксюха. – Полную.
Время полетело скачками. Я приосанился и наблюдал за своей большой роднёй открыто, без утайки.
Пили вероломно. Ни за чтобы не сказал, что ангелы. Хохотали, без устали орали свою амру, а потом ринулись танцевать. При этом я не слышал среди них пьяной ругани, и никто не падал ниц.
– Вон, твоя Оля, с которой тебе завтра… – указала Ксюха взглядом. – С челюстью, как у Собчак.
Через стол от нас сидела девушка лет семнадцати, одетая в старую посеревшую форму. Лицо, глаза и волосы девушки были такими же беспросветно серыми, отчего возникало желание отряхнуть её от пыли. Как невидимы ночью чёрные кошки, так и она могла сливаться с вечерними сумерками.
Челюсть же у неё, действительно, преобладала над прочей внешностью. Казалось, что девушка, шутки ради, спрятала в рот шарик для игры в пинг-понг.
– Я ещё не давал согласия.
– Не убудет с тебя, – напряжённо усмехнулась Ксюха. – Наконец-то, медляк заиграл. Пойдём танцевать!
– А пойдём. Может быть, повеселеешь, – я закрепил на портупее кобуру и поднялся.
Яркий свет и люди с большими тараканами в головах смущали меня. Я уткнулся носом в Ксюхину шею и закрыл глаза. Пел неизменный «Ляпис»
Когда эта девочка рядом со мной,
Мне нет под солнцем страха и нет под луной.
Когда эта девочка мне смотрит в глаза,
Я не чувствую боли, не чувствую зла
– Смотри-смотри, уралиха, – прошипела Ксюха. – Знай свой шесток.
Открыв глаза, я обнаружил, что мы кружимся напротив серой девушки. Она держала во рту уже теннисный мячик. Мне стало жалко её.
– Скажи, что лучше – быть ушастой, чем челюстястой, да? – уставилась на меня Ксюха.
– Вас, ерусалимцев, не поймёшь, – отклонился я, чтобы в моё лицо не вонзились ресницы. – То будь быком-осеменителем, то получи ревность.
– Давай за мной! – Ксюха потянула меня к расписной стене. – Пусть видит и завидует. Я бы с такой челюстью бороду Деда Мороза носила.
Под молотобойцем пряталась низкая дверца, которую я не заметил утром. В неё-то мы и забежали.
– Это обеденный кабинет Уралова, – пояснила Ксюха. – Сюда кроме него никто не входит. Будь спокоен.
– И ты у всех на глазах затащила меня, чужака?
– Пусть только кто слово скажет – я устрою.
В крохотном помещении умещались стол, покрытый пошлой клеёнкой с котятами, корявый стул, достойный того, чтобы вворачивать с него лампочки, не снимая обувь, и квадратный буфет, красное место которому в гараже под инструменты. Иное впечатление производила хранившаяся в буфете армада коньячных бутылок.
– Он коньяк любит, – Ксюха достала бутылку армянского «Nairi», – а мы, будто нелюди, водку пьём.
– Зря ты жалуешься, Ксюш, – возразил я. – По-моему, вы живёте, как у Христа за пазухой. При этом, если не ошибаюсь, Уралов в одиночку содержит вас.
– Не обращай внимания, я просто сильно злая, – Ксюха выудила из буфета два круглых, как дураки, бокала. – Даже сытость не помогает. Это, кстати, странно…
– Из-за чего злая?
– Да так, – она шмыгнула носом.
– Говори, про какую пакость я ещё не знаю.
Ксюха через края разлила коньяк и замарала клеёнку.
– Отвечай.
– Сначала выпьем. За встречу!
Мы осторожно, будто нас могли услышать за бушующей музыкой, чокнулись и сделали по быстрому глотку.
– Только Абрамычу не говори, – Ксюхины глаза нехорошо блеснули. – Он подстраховщик и ссыкун, а фиг ли скрывать!
– Ну?
– Ты правильно назвал себя осеменителем. Завтра тебе идти к Ольге, а потом к десяти другим. Или двадцати. И к здоровым тёткам в том числе.
Я упал на единственный стул.
– Кроме чистого, золотого капитала мы плодим капитал серебряный, – говорила Ксюха. – Старые осеменители, – у нас их четверо, – сделали своё дело. Дети ж должны быть от разных отцов, и не только Ураловские. Другим женщинам тоже надо оздоровлять потомство.
Она замолчала. В дверь билась музыка. Коньяк в моей руке чувствовал мой пульс и вздрагивал мелкой рябью.
– Отныне ты знаешь все свои обязанности, – Ксюха кисло улыбнулась. – Могу я, по-твоему, чуток приревновать? Имею право?
– Чуток? Пожалуй, ты имеешь право пристрелить меня.
– Думала. Но получится, что ни себе ни людям.
– Догадываюсь, что со взрослыми дамами придётся не по разу, – я махнул в себя весь бокал. – Хух! Всё-таки возраст.
– Может быть, год будешь трудиться или дольше.
– С другой стороны, – я потянулся до хруста в спине и стуле, – работа интересная…
– Свинья! – Ксюха жарко покраснела.
– И от вашего завода смогу отлынивать. Скажу, устал, силы нужны. Никто не поспорит. Да я здесь устроюсь, как граф! Довольно патриотизма, пора жить в своё удовольствие.
– Свинья! – Ксюха подпрыгнула, выказав родство с командиром роты ангельского легиона. – Ты мне первой сделаешь ребёнка! Прямо сейчас!
– Мы же раньше…
– Я предохранялась. Ты тогда ещё не прошёл проверку на живучесть.
– Сразу бы и проверили. Чего тянули?
– До тебя Сашка семерых проверял, и всякий раз точно в голову. С тобой решили не спешить.
– Неужто я бессмертный?
– Захотел! Со второго-третьего выстрела тебя можно убить. И не заговаривай меня! Я хочу раньше уралихи…
Ксюха легла грудью на стол, выпятила зад, и в это время оборвалась музыка.
– Не мешаем друг другу! Строимся по взводам! – заполонил столовую голос Абрамыча. – Первый взвод, шагом марш на выход! Второй взвод…
– Нападение, – сказала Ксюха, выпрямляясь. – Что-то они рано сегодня. До полуночи ещё час. Не к добру.
Мы вышли.
Абрамыч, размахивая рацией, строил женщин:
– Курицы, бля! Завтра строевую подготовку вам устрою. Уралова, ты-то! Ты-то! Вставай в конец, если не помнишь своего места. На выход, пизды!
– Абрамыч! – позвала Ксюха.
– Вы здесь? – он подпрыгнул выше обычного. – Я ёбну вас обоих, ей-богу! Ксюша, блудня, бери Ваньку и бегом на седьмой участок!
– Штурмуют ворота, – шипела в его руке рация, – как большевики Зимний.
5. Боевое крещение
Седьмой участок тянулся вдоль парка.
– Абрамыч специально послал нас сюда, – тихо, одним паром изо рта, говорила Ксюха. – Никогда здесь не назначалось усиление.
Ворота теперь находились в километре от нас, в противоположном конце звезды. Там мягко ухала стрельба, и, казалось, что наступил Новый год, народ радуется, пускает салюты, а мы, двое, никем не позваны.
По одну сторону от нас спал парк. Сосны сквозь сон скрипуче всхлипывали и качали заиндевевшими шевелюрами. Черный мороз кусал их.
По другую сторону возвышалась безразличная к холоду бетонная стена.
– За ней чистое поле, – поучала Ксюха. – Оно хорошо просматривается часовым. Никто не полезет, а если и полезет, то зря.
Мы шли друг за дружкой по узкой тропинке, Ксюха впереди. Во мне не осталось ни косточки, которая бы не промёрзла до хрустального звона.
Раза три мы проходили мимо вышки, и Ксюха приветственно взмахивала рукой часовому. Тот не отвечал ей, молодец. Нёс службу согласно уставу, «ни на что не отвлекаясь».
– Нет, не представляю жизни у вас, – бубнил я в поднятый ворот. – Шутки шутками, но не представляю. Странные вы.
– Привыкнешь, понравится, – густо парила Ксюха. – У нас весело. Много праздников, много вольностей. Много любви. Больше, чем в обычной жизни.
– За любовь отвечают осеменители?
– При чём тут они? У нас мальчики с мальчиками, девочки с девочками.
Моя нога соскользнула с тропинки, и я рухнул лицом в сугроб. Руки остались в карманах.
– Повтори, – сплюнув снег, прохрипел я.
– Вставай, чучело! – Ксюха переломилась от смеха. – Что повторить-то? Про любовь? Привыкай, у нас это нормально. Даже рекомендуется. Даже обязательно.
Я выкарабкался из снега, набрав его за воротник.
– Скажи, что врёшь, – шагнул я к ней, не отряхаясь, – или побью.
– Ничего не шучу, – она заблаговременно сжала кулаки. – Не паникуй ты. Тебя никто неволить не станет. И вообще, мог бы сам догадаться. Во-первых, того требует чёртова кровь, а во-вторых, нельзя нам плодить себе подобных. Наша цель – ангельский капитал.
– Хочешь сказать, все мужчины, которых я сегодня видел…
– Кроме осеменителей, – Ксюха виновато улыбнулась. – Надо будет вам познакомиться.
– Ну а брат твой, Сашка?
– Сашка мой порядочный! Ты про него гадостей не думай, – ответила она басовито. – Он не блядун, как многие здесь, он однолюб. У него уже три года парень из второго взвода. На них приятно посмотреть. Увидишь, согласишься.
– А Абрамыч, отец ваш?
– Ооо, вот это блядун так блядун! Но только, когда выпьет, а пьёт он раз в полгода. За ним надо день и ночь смотреть, чтобы в Новый Ерусалимск не сбежал.
– Зачем в Новый Ерусалимск?
– Мужиков снимать, зачем ещё ходят.
– Тьфу! – я сорвал с себя шапку и бросил её под ноги. – Угораздило меня попасть к вам. Ты-то у меня хоть без этого?
– Без! – Ксюха самодовольно задрала подбородок. – До тебя я жила с женщиной старше меня на десять лет, но мне было скучно. Моё – чтобы с мужчиной.
– Чем же вы лучше их? – я вскинул руку, показывая за стену забора.
– Ванька! – Ксюха щёлкнула зубами. – Начинай сам понимать. Мы пытаемся исправиться и народить новое поколение, которое будет не такое, как мы. Капитал!
У неё затряслись губы. Голос сорвался на хрип. Она царапала перед моим лицом ногтями воздух, и пар из её рта вырывался горячий.
– Извращения – цветочки, Вань. Ты не знаешь, как это, когда в тебе просыпается живая чертовщина. Да ты и ангела-то пока не ощутил в себе.
– Ксюш, остынь, – попросил я. – Вроде бы, сытая…
– Хочешь, расскажу, как оно? – она рванула ворот своего кителя, и мне в щёку попала пуговица. – Ходишь, особенно, если натощак, улыбаешься и мечтаешь: вот бы украсть ребёночка годков трёх, связать его…
– Замолчи! – у меня свело челюсть, и голос мой изменился, завибрировал.
– Ты спрашиваешь, я отвечаю, – Ксюха отвернулась от меня и пошла дальше по тропе. – Пойми, нам не спастись ни при жизни, ни на том свете. Что делать? В церковь идти? Попам руки целовать?
– Ангельские гены разве не помогают?
– Неа. Мало. Они слабые, – Ксюха вздохнула, и пар вышел из неё прозрачный, медленный. – Вентиляторы, да, помогают на время, очищают. Тихо!
Она остановилась и задержала дыхание. Пар исчез.
От забора в сторону парка бежали по снегу следы двух человек, а наверху самого забора торчали, как чертополох, обрывки колючей проволоки.
– Я рацию не взяла… – шепнула Ксюха. – Ты дорогу помнишь? Беги, сообщи!
– И тебя оставить? – моё сердце переключилось на высокую передачу и погнало кровь вдвое быстрее. – Их двое, нас полтора. Справимся.
Я вынул из кобуры пистолет, снял его с предохранителя. Пальцы потно скользили, в них появился электрический зуд.
– Полтора? – прошипела Ксюха, направив в сторону парка тульский Токарев.
На миг я вспомнил другую Ксюху. С которой учился в школе милиции. Единственная девчонка в группе, она стреляла из ТТ лучше пацанов. Укладывала тяжёлые, как мысли об убийстве, пули в центр мишени, одну на другую.
В парк мы тронулись плечом к плечу. Немые, чуткие.
– Что надо делать, когда найдём их? Задерживать? – не утерпел я, спросил.
– Стреляй на поражение. Не думай ни секунды, – получил чёткий инструктаж.
Слова мы произносили без дыхания, отчего со стороны могло показаться, что нам хочется пить и слиплось в горле.
Снег лежал недавний, проминался тихо, как вата, хотя и слабый хруст портил нам радиофон, создавал помехи, за которыми легко было пропустить жизненно важный FM-сигнал. Звуки дальних выстрелов, долетавшие до нас на длинных АМ-волнах, мы игнорировали, не слышали их.
Тьма в парке царила чернее ночи. Деревья приходилось определять как на глаз, таки на ощупь.
– Если часовой не заметил их, значит они в маскировке, одеты в белое, – проговорил я в самое Ксюхино ухо. – Сейчас, в темноте, мы увидим их раньше, чем они нас.
Ксюха судорожно вздохнула.
Мы замирали после каждого шага, и тишина, будто пёрышко, щекотала барабанные перепонки.
Следы тянулись прямо, уверенно, а если и меняли направление, то под строгими углами, словно диверсанты бежали днём и с компасом.
Страх мой забился в кишки, урчал там, намекая: «Ты не забывай про меня, я с тобой».
Иная погода стояла в груди. Беззвучно хохотали лёгкие. Сердце раскалилось до того, что при ударах обжигало рёбра. Я испытывал боевой азарт, который подобен оргазму. Его можно ощущать, но потом нельзя ощутимо вспомнить.
Сосны впереди осветились. Парк заканчивался.
– Понятно! – шепнула Ксюха. – Они у продовольственного склада. Быстрее!
Мы остановились на грани фонарного света и парковой тьмы. В метрах двадцати от нас под дверью длинного одноэтажного здания сидели на корточках и отрывисто лаялись два человека.
– Ебучая зажигалка! Пьезовая, хули. Снег попал, когда ползли по полю.
– У меня обычная и тоже хуй зажжёшь! Промокла.
Перед ними стояла вереница бутылок с торчащей из горлышек ветошью.
– Ты стреляешь в левого, я – в правого, – невыносимо спокойно произнесла Ксюха. – В бутылки, смотри, не попади.
Страх поднялся из кишок к груди и повис на сердце, вцепившись в него когтистыми лапками. У меня перехватило дыхание, но бояться было уже поздно.
Ксюха передёрнула затвор своего ТТ. Господи, благослови!
… Мой опрокинулся навзничь, будто раньше репетировал, а Ксюхин стоял растерянный, опустив руки. Я переключился на него и уронил двумя выстрелами.
Позже выяснилось, что Ксюха прошила его тремя пулями. Впервые я увидел своими глазами волшебное действие ТТ, когда расстрелянный человек не знает, что он расстрелян.
– Врод-де, поп-пали, – заикаясь, произнесла Ксюха.
Я упорно вставлял в пистолет новый магазин, но он, к моему стыду, цеплялся и не лез в рукоять. Пока я не перевернул его.
– Пошли, пос-смотрим на них.
Ксюхин лежал без движения. Руки по швам, ноги вместе. Длинный. Или вытянулся, умирая.
Мой закатил глаза и шаркал по снегу пятками. Казалось, что он спит, и ему снится погоня.
Оба были одеты в чёрное. Насчёт маскировки я ошибся.
Ксюха вдруг закричала:
– Это мы! Амра! Не стреляйте!
К нам подбежали несколько человек и с ними Абрамыч.
– Хуйя! – воскликнул он в прыжке. – Продовольственный склад хотели сжечь. Айда, выдумщики! Такого ещё не было.
Он схватил меня за руку и ожесточённо потряс.
– С боевым крещением тебя, родной! Молодец!
Ксюху он пожал за ухо.
– Умница, горжусь! Рассказывай, откуда они взялись.
– Через забор на седьмом участке, – кратко отрапортовала она.
– А часовой? – глаза Абрамыча жгуче сверкнули.
Ксюха неуверенно повела плечами.
– Ты! – Абрамыч повернулся к одному из своих бойцов. – Бегом в караул. Хватай за жабры начальника или разводящего, и срочно снимайте с поста часового. Заберите у него оружие и не спускайте глаз. Бегом!
– То-то я смотрю, у ворот какой-то спектакль, – продолжил Абрамыч, спровадив бойца. – Прыгают, как обезьяны, дразнят. Старый я мудак. Надо было догадаться, что отвлекают внимание от других участков.
Он поднёс к губам рацию и нажал на гашетку.
– «Бережок» «Перелеску»!
– На приёме «Бережок», – шипуче ответила рация.
– У ворот оставь десять человек. Остальных – на усиление постов по всему периметру. Как понял? Приём!
– Понял хорошо. Приём!
– Конец связи…
Мой перестал елозить ногами и протяжно выдохнул. Я отошёл, закурил. Не верилось, насколько обычно смотрятся снег, звезды, сигаретный дым, фонарные столбы, деревья, когда умирает враг, убитый тобой. Мир не меняется.
Ксюха расхаживала взад-вперёд, скрестив на груди руки. Думала она не о мертвецах, иначе бы не запнулась за голову одного из них.
Из-за парка, поверх сосенных макушек, прилетел звук выстрела.
– «Перелесок» «Поляне»! – шикнула рация в руке Абрамыча.
– На приёме «Перелесок».
– Застрелился, не успели. Как понял?
– Понял тебя.
Минуту в морозном воздухе висело знойное безмолвие.
– Что ж, – подал голос Абрамыч. – Поздравляю всех с первым предателем…
– Труба, – отозвались бойцы.
– Приехали.
– Пиздец Старому Ерусалимску.
– Пап! – подбежала к Абрамычу Ксюха. – Без меня ничего не делай! Слышишь?
Он пусто глядел на неё, курил. Его непокрытая лысина блестела от пота.
– Понял? Ничего без меня не делай.
– Тебе и Ване отбой на сегодня, – произнёс Абрамыч.
– Отбой?! – ахнула Ксюха. – Никакого отбоя! Я буду сидеть в столовой и ждать, когда вы начнёте. Ты пришлёшь за мной человека. Слышишь, пап?
– Хорошо, пришлю…
Абрамыч взял её за голову и поцеловал в макушку.
6. Менструация
В столовой нудно гудели лампы дневного света.
Я спешил пить водку. Хотел блокировать память, пока на первой её странице не прописался «мой» ерусалимец.
Ксюха ела. Нависла головой над столом и совала в рот, не разбирая что.
– О чём ты просила Абрамыча? – отвлёк я её.
– Еда плохая, – проговорила она. – Ем, и не лучше.
– Я не про еду, Ксюш. О чём ты просила Абрамыча?
– Когда?
– Полчаса назад.
– Тебе интересно?
– Разумеется. Поскольку я с вами, мне теперь всё интересно.
– Я просила, чтобы он не допрашивал и не пытал без меня Сашку, – Ксюха взяла мою рюмку и, не дрогнув, медленно выпила её.
– Сашку? Рыжего? За что его пытать?
– Я тебе рассказывала сегодня про его жену…
– Нет, про жену не рассказывала.
– Ну. Парень из второго взвода. Забыл?
– Господи, так бы и говорила.
– Это часовой.
– Кто часовой?
– Сашкин парень – сегодняшний часовой. Дойдёт ли до тебя?!
– Думаешь, они…
– Чего тут думать! – Ксюхино лицо перекосилось. – Педерасты и не заодно?!
– Какие пытки его ждут?
– «Ночь».
Ксюха вышла из-за стола и принялась пинать по залу пластиковую пробку.
– А куда денут двоих убитых? – спросил я, чтобы переменить тему.
Увы, ерусалимские темы в своём выборе были очень схожи между собой.
– За забор. Бесноватые уберут.
– У тебя сколько на счету?
– Не считала.
– Приятный разговор… – я налил и выпил. – Ксюх, а у бесноватых есть капитал?
– Им не надо. Они уже готовые.
– То есть они в чистом виде черти?
– Нет, не черти, хотя почти. Чистый капитал у них никогда не появится, потому что человек, как говорится, сотворён «по образу и подобию». – Ксюха повеселела и погналась за скачущей пробкой. – Ни один человек никогда не станет настоящим чёртом.
– Наверное, у них всё равно что-нибудь проступает внешне? Да-нет?
– Проступает, ещё как, – она поставила на пол две пустые бутылки – ворота. – Иди играть!
– Что у них, рога лезут? – остался я на месте.
– Во-первых, у бесноватых нарушен обмен веществ. Блин, промахнулась!.. Из-за этого неправильно работают железы. Когда бесноватые потеют, то от них пахнет трупами. Попала! Видел?.. Во-вторых, изменено строение половых органов. У мужчин гнутые-перегнутые. Бывают кольцами, бывают свёрлами… Мимо!.. а у женщин клиторы-переростки. Вылезают из пёзд, как писюны у кобелей. Опять мимо, что ты будешь делать!.. Помнишь стрелочницу Наталью Робертовну? Она имеет всю станцию. И работников, и работниц. Может часами без передышки. До бешенства, потому что не получается кончить. Рычит и кусается. Гол!.. И тебя она хотела…
В столовую вбежал остроносый Дима.
– Абрамыч зовёт! В клуб!
Посреди вестибюля сидел в кресле зарёванный Сашка. Руки его были примотаны скотчем к подлокотникам. Перед ним на низком шахматном столике стоял, но пока не работал, вентилятор. По полу тянулся провод переноски.
Вокруг собрались пятеро мужчин, из которых я знал только Диму да Абрамыча, и одна женщина, которая держала на весу планшет с чистым листом. Стенографистка.
Абрамыч сидел на корточках сбоку от кресла и ласково, словно на исповеди, спрашивал Сашку:
– Ты хотя бы догадывался? Скажи без «Ночи». У него ведь и телефон был с номером Зурбагана.
– Пап… Абрамыч… – лепетал Сашка. – Оставьте вы меня сейчас, а? Потом издевайтесь, но не сейчас. Я больше вас убит. Пап…
– В парке флажки были выставлены, ориентиры. Бесноватые их по ходу в снег прятали. Дело-то хуже некуда. Измена. Скажи, кто ещё замешан. Что нам ждать и когда. Даю слово офицера, что спокойно уйдёшь за забор. Живи среди бесноватых, если они тебя примут.
– Абрамыч, я не верю про него! – взвыл Сашка.
Ксюха нарезала по вестибюлю круги, заглядывала в стенды, трогала стёкла. На Сашку не оборачивалась.
Включили вентилятор. Абрамычу пришлось придерживать его, чтобы не уехал и не упал со стола.
Сашка отворачивался, задерживал дыхание и через минуту простонал, кусая губы:
– Хватит уже. Или хотите, чтобы у меня сердце лопнуло от злости?
Через пять минут у него текла по подбородку кровь, а глаза стали красными и юркими, как у крысы.
– Ты знал о диверсии? – спросил Абрамыч, выключив вентилятор.
Сашка плюнул в него, но слюна была разжижена кровью, и вместо плевка получился фонтанчик брызг.
– Старый Ерусалимск загнётся в муках сегодня же и навсегда, – проговорил он, чавкая искусанным языком. – Никакие Ураловы его больше не поднимут, потому что не останется никого. Всем конец, всем.
– Кто и когда вас завербовал, обработал? – спокойно спрашивал Абрамыч.
– Эх ты! Старый педик! – рассмеялся Сашка, показывая рубиновые зубы. – Никто нас не обрабатывал. Сами дошли, что так жить нельзя. Что у нас есть? Казарма, одинаковая одежда, тюремные стены и басня о капитале, который нам не всрался.
– Кому «нам»?
– Нам, молодым. Тебе-то уже ничего не надо, а мы жить хотим. Что нам дал Уралов? Только жрачку. Остальное – тюремщина.
– И сколько вас?
Сашка склонил голову и стал быстро-быстро водить челюстью, что-то перетирая во рту.
– Сколько вас? Назови число. Имена я не спрашиваю.
– Он язык откусывает! – вскрикнула Ксюха.
Она подскочила к Сашке, вцепилась пальцами в его щёки и – опоздала. Он приоткрыл рот и выронил себе на грудь красный шмоток.
Ксюха врезала ему оглушительную оплеуху.
– Позор! – взвизгнула она, принимаясь бить ещё и ещё. – Всех опозорил! Отца, меня…
Никто не вмешивался. Смотрели. Поэтому оттащил Ксюху я. Прижал её к стене между стендами, обнял за голову.
– Санёк, Санёк, – подал голос Дима. – Глупый ты. Нет бы высказался на собрании. Придумали бы, как сделать жизнь лучше. Хрен его знает: заключили бы с бесноватыми договор, отдали б часть капитала, и вот тебе свободный выход, гуляй на здоровье. Глупый ты, Сань.
Ксюха замерла в моих руках.
– Прав. Как ни крути, прав Сашка, – сказал незнакомый мне мужичок с лицом, пронизанным печальными морщинами. – Нет здесь жизни. Тюрьма.
– Что?! – Ксюха вытянула шею и посмотрела на мужичка круглыми глазами.
– То есть я хотел сказать… – в изобилии морщин потерялись глаза, нос и рот. – …Я хотел сказать, что молодым скучно здесь. Им бы развеяться, в отпуска поездить.
Ксюха оттолкнула меня и вынула из нарукавного кармана железные очки.
– Э, ребята! А что это из вас черти-то лезут?! – воскликнула она, нацепив очки. – Ну-ка стойте, не шевелитесь. Тааак… – она прошлась по вестибюлю. – С Людмилой, со мной и с Ваней всё в порядке, а другие в шерсти и с рогами. Абрамыч! – встала перед отцом. – Разве не чувствуешь? У тебя тоже свиное рыло.
– Ты не слишком много берёшь на себя, родная? – проворчал Абрамыч.
– Я не шучу. Тебе срочно нужен сеанс «Света». Или снимай с себя полномочия.
– Ах ты стерва! – Абрамыч сорвал с её лица очки и швырнул их об пол.
Осколки линз разбежались по самым дальним углам вестибюля.
– У меня тоже вот, где всё! – Абрамыч шаркнул ребром ладони себе по горлу. – Я бы своими руками Уралова придушил. Устроил, сука, цирк. Породу улучшать придумал, фашист.
– Абрамыч, остынь! – прикрикнула на него Ксюха. – Вы почему-то в бесноватых превратились. Прикажи людям сдать оружие и сдай сам.
– Не смей орать, выдра, – подступил к ней, сжимая кулаки, Дима.
– Отрезать ей язык! Пусть пострадает, как брат, – взорвался морщинистый. – Абрамыч, дай приказ!
Двое крутолобых без слов взяли Ксюху под руки.
– Вы с ума сошли! – зычно проголосила женщина с планшетом. – Абрамыч, угомони людей!
– Ещё одна, – оскалился морщинистый, расстёгивая кобуру.
Я достал свой пистолет первым.
– На пол черти! – проорал им и выстрелил в стенд с доспехами.
Высокий потолок и широкий простор вестибюля в разы усилили грохот выстрела. На пол упали все, и Ксюха с ними. Она зажала руками уши.
Я бросился разоружать мужчин, изрыгая неслышную ни для кого брань. Ксюха, молодец, быстро опомнилась, вскочила помогать мне, по ходу дела раздавая бесноватым пинки, а то и прыгая на них обеими ногами. Абрамыч попытался удержать свой Стечкин, за что получил люлей от нас обоих.
Связывали бесноватых мы уже втроём, с Людмилой.
– Из-за чего они помешались? – спросил я Ксюху. – стягивая портупею на руках последнего бесноватого. – Такое часто среди вас?
– Никогда не было, – хныкнула она.
– Что же мы про нашего ангелоподобного Ванюшу забыли? – прохрипел Дима. – Надо было его сразу прибить. Абрамыч, мать ети, ты почему сплоховал, командир хренов?
– Замолчи, Дим, – отозвался тот. – Ты не понял, что мы помешались? Меня сейчас, кажется, отпустило, но, того гляди, опять накроет. Беда, мужики…
– Беда, Абрамыч! – ворвалась с улицы Ольга Уралова. – Еле нашла вас!
На её плечах поверх ночной сорочки висел распахнутый китель. Ноги её были босые, на пальцах таял снег.
– Где Абрамыч? – промолвила она, разглядывая поле брани.
– Я за него, – выступила навстречу ей Ксюха. – Что за беда?
Ольга села от страха на пол.
– Вань, сделай доброе дело, – повернулась ко мне Ксюха. – Возьми из стенда арматуру, продень её в дверные ручки. Похоже, везде началось.
– Не убивай, Ксюш, – прошептала Ольга.
– Да сдалась ты мне! Что за беда, спрашиваю?
– Осеменителей зарезали.– Мужчины очумели, – рассказывала Ольга. – Не спят, валят на улицу. С завода ночная смена вышла. Ругаются. Меня хватали…
– И зачем тебе понадобился Абрамыч? – перебила её Ксюха. – Почему не побежала сразу в Дом Детства проводить эвакуацию?
– Не подумала… Прости, Ксюш…
– Кто осеменителей зарезал?
– Не знаю. Я уже спать легла, слышу, в соседней келье поросята хрюкают. Пошла посмотреть, а там двери нараспашку, и у парней шеи перерезаны. – Ольга понизила голос. – Я не знала, что люди хрюкают, когда их режут.
– Кого-нибудь встретила рядом? – спросил я.
– Только в спину видела. Троих. Если не обозналась, то это наши повара.
Ксюха подошла к привязанному Сашке. Он улыбался липкими от крови губами и часто сглатывал.
– Повара? – спросила она. – Это они заговорщики?
Сашка согласно моргнул.
– Это они отравили мужчин? Чем?
Он собрал пальцы правой руки в щепоть и показал, будто пишет.
– Поняла тебя! Сейчас!
Ксюха отыскала на полу брошенный планшет и поднесла его брату. Вставила ему в пальцы ручку.
Двигая одной кистью, Сашка коряво написал: «Менструация».
– Они подмешали в еду менструальную кровь чертовок?
Сашка моргнул.
– Капитал, – надломленным голосом проговорила Ксюха. – Капитал надо спасать, если он ещё жив.
Двери дрогнули, кто-то толкнул их снаружи.
– Абрамыч, ты здесь! – донеслось с улицы.
Мы переглянулись жалостливыми глазами, а Ольга встала в изготовку, будто собралась прыгать в длину.
– Тсс! Тихо лежим! – шикнул я на пленных.
– Здесь он! – крикнула Ксюха. – Совещание идёт. Что хотим?
– Заканчивайте, – отозвались снаружи. – Общий сбор в столовой. Будем решать судьбу капитала. Явка стопроцентная!
– Чья инициатива? – Ксюха добавила в свой голос железного лязга.
– Народная.
– Подождите, спрошу.
Ксюха сделала рисковую театральную паузу, а я лишний раз напомнил пленным о тишине.
– Руководство – говно! – ругались за дверями несколько голосов.
– Боятся они.
– А если они за Уралова и за капитал?
– Может, двери выбьем?
– Через пятнадцать минут придём! – перебила Ксюха зловещий разговор.
Настала новая пауза. Теперь снаружи.
Я глубоко вздохнул, и горло моё нечаянно издало писк, на который покосилась даже Ольга.
– Этот, как его… Иван с вами? – спросили из-за дверей.
Ксюха ответила не сразу, но ответила:
– С нами.
– Пусть тоже приходит!
Разразился хохот…
– Не опаздывайте!
Хохот стал удаляться.
– Думаем! – грудным басом заговорила Ксюха. – Что нам известно? Первое: капитал пока живой. Он им нужен, чтобы торговаться с Новым Ерусалимском. Второе: у нас есть время добраться до капитала, пока они будут решать, в каком виде его отдавать, живым или мёртвым. Третье: отрава начинает опьянять после устной обработки. Я думаю, что заговорщики уже провели полномасштабную пропаганду, и на эту минуту нам не найти союзников среди мужчин. Осеменители вырезаны. Третье: они ещё не поняли, что отрава не подействовала на женщин, иначе не стали бы разговаривать со мной. Сейчас женщины, как овцы, пойдут в столовую и запросто разоблачат себя. Их не пощадят. Фиг ли ты стоишь?! – Ксюха внезапно переключилась на Ольгу. – Ты пойдёшь босая? Снимая с кого-нибудь штаны и ботинки!
– Я не пойду с вами. Я не смогу, – пробормотала та. – Я не смогу, клянусь! Я здесь останусь. Я буду связанных охранять.
– Твоё право, – на удивление спокойно согласилась Ксюха. – А вы, Людмила, – перевела она взгляд на женщину, – вы с нами?
Я впервые за прошедший час присмотрелся к Людмиле. Она была широкая в плечах, мужиковатая. Из той породы баб, которые, волокут на себе, как тягловые лошади, нашу страну с её элитой, криминалом и пьяными мужьями.
– Конечно с вами, Ксюш. Что ты спрашиваешь! – ответила Людмила.
– Стрелять умеете?
– Скажешь тоже. Ни разу не попадала в мишень.
– Людмила, вот что! – Ксюха погладила её по крепкому плечу. – Идите в столовую. Может быть, у вас получится оповестить других женщин. Попробуйте общими силами задержать бесноватых.
– На смерть посылаешь Ксюш, – Людмила мягко улыбнулась. – Хотя не спорю. Вы тоже не за грибами собрались.
Ксюха перевела глаза на меня и уставилась с таким изумлением, словно я стоял в рыжем парике и с круглым носом на жгутике.
– Куда же я тебя втянула, бедный, – сказала она.
– Не сносить тебе ушей, – постарался говорить я игриво.
Перегружать себя трофеями не стали. В довесок к своим пистолетам взяли, чтобы не путаться, по одному аналогичному: я – Макарова, Ксюха – ТТ. Да запаслись магазинами. Плюс я разжился длинным, по колено, австрийским штыком времён Первой Империалистической.
Перед выходом Ксюха включила вентилятор и, подняв его на вытянутой руке, приблизила в упор к моему лицу.
– Немножко даже полезно, – сказала она. – Дыши глубже. Представь, что собираешься нырять.
Дрогни её рука, и стальные лопасти отсекли бы мне нос. Я в страхе зажмурился. «Возможно, сегодня меня убьют, – навеял ветер замечательную мысль, – а я даже не верю, что это творится наяву. Черти, капитал… Ещё вчера их не было. Да долбаный же ты Ерусалимск! И Старый, и Новый. Кончать надо с тобой. Крови твоей хочу!»
– Трогаемся! – сказал я, открыв глаза.
– Лопаются, то что надо! – заглянула в них Ксюха. – Ольга, запрись за нами! Людмила, выходим!
– Ксюш, как думаешь, – окликнула Ольга, – сколько будет действовать отрава?
– Откуда мне знать? Абрамыч сказал, что уже отпускает. Эй, Абрамыч, ты как?
– Сдохни! – прохрипел он.
– Сама видишь, – Ксюха выдернула прут из ручек. – Будем ждать, что к утру оклемаются.
За дверями она обняла Людмилу.
– Постарайся организовать женщин, не допускай истерик, командуй ими, бей. Действуйте вместе, жёстко, пробивайтесь к Дому Детства. Если у нас не получится, спасайте капитал вы. Уводите в бомбоубежище и сидите в нём, пока не прилетит Уралов.
Я пихал в рот снег, глотал его, обжигая холодом глотку. Давно не пил.
7. Бой
Нам требовалось обойти завод, миновать казарму, котельную, водонапорную вышку и углубиться в жилой район. Минут десять спешной ходьбы.
Благодаря фонарям и снегу мы смотрелись отчётливо, как жирные буквы на белой бумаге. Поэтому шли напропалую. Увидят, значит увидят.
– Думаешь, они выставили патрули? – просипел я промёрзшим от снега горлом.
– Не каркай, – одёрнула Ксюха.
Тишина стояла ледяная. Ни звука, ни эха, только наши скрипучие шаги и наше прерывистое дыхание.
– Будто просто гуляем по городу, – сказал я. – Люди спят, а мы с тобой возвращаемся из гостей. Сколько нужно Людмиле времени, чтобы добраться до столовой?
Ксюха не успела ответить. Где-то застрекотали фантастические сверчки.
– Это в столовой! Началось! – вскрикнула Ксюха. – Давай, со всех ног!
Она стартовала с собачьей скоростью. Унеслась вмиг.
Я рванул за ней, и спустя полминуты моё сердце подавилось кровью.
Вместо того чтобы набирать темп, оно от такта к такту деревенело, превращаясь в нечто инородное, что хотелось вынуть и выбросить.
Ксюха удалялась и не видела, что меня заносит то влево, то вправо, будто я и впрямь возвращался из гостей.
– Бейся! – приказывал я вслух. – Умри, но потом!
Земля внезапно встала передо мной вертикально, и я врезался в неё.
«Не сейчас, не так», – сонно молил я, вслушиваясь в затихающий стук.
Стук… Ст… ст… ст…
Время разделилось надвое. Моё и общее. Моё длилось минуту, общее – час. Также думаешь утром: ага, встаю, а на самом деле спишь безмерно.
Меня спас пещерный страх. Совсем рядом, над самой головой, громыхнул выстрел, и сердце – трусливая, мерзкая мышца! – вздрогнуло и ожило.
Мимо ковылял мужичок. В штанах и в одном ботинке. На спине, груди и животе широко улыбались чёрные раны. Он держал револьвер и после каждых двух-трёх шагов оборачивался назад и целился.
– Стой, чёрт проклятый! – кричала ему вслед женщина.
Она ползла на четвереньках.
– Бабьё… Бабьё… – пыхтел мужичок.
Я убил его с одного выстрела. В упор, в удивлённое лицо.
После обморока знобило. Ноги тряслись, и бежать я боялся. Пошёл быстрым шагом, ориентируясь на пожарную вышку.
Стрельба со стороны столовой стихла. Однако приближались одиночные выстрелы. Чуть-чуть и грянут в затылок.
Вышел на длинную аллею. Вдоль её росли рахитные скелеты тополей. Пожарная вышка торчала строго впереди.
В голове кружила паника мыслей о том, сколько я провалялся. Минут десять, не меньше.
Сзади послышались голоса и шаги.
Свернуть некуда.
– Живучие, как кошки! – взахлёб делился кто-то с кем-то.
– Да, бабы озверели, – через вздох соглашались с ним. – Минут пять с ними возились.
«Пять минут», – повторил я про себя, пригибая голову.
Меня обогнали двое парней.
– Что не торопишься, боец?
– В штаны насрал?
– Постойте! – позвал я, вскинув пистолет.От Дома Детства в мою сторону бежал мальчик. Бежал, как бегают те, кто недавно научился ходить. Косолапил и сумбурно взмахивал руками. Кроме майки никакой другой одёжки на нём не было. Рот его был заклеен скотчем. Плакал он совсем неслышно, в себя.
За ним, в точности такой же походкой, следовал толстяк с воронёным ножом в руке. Ветеран – догадался я. У которого больные ноги.
– Держи его, – проворчал толстяк. – До чего ж шустрый. Упрел я с ним.
Мальчик, увидев меня, затопал босыми ножками, не догадываясь, куда ещё можно бежать.
– По рации передали, что вы там с девками дерётесь, да? – пыхтел толстяк. – А меня, хули, молодые за этим послали, хромого. Сами Ксюху дерут, а мне говорят: иди, догоняй. А у меня грыжа в позвоночнике…
Я убрал пистолет в карман бушлата и подхватил мальчика на руки. Он стал вырываться. Пришлось закинуть его на плечо и сильно прижать.
– Неси ко мне, – сказал толстяк. – Он последний.
Я вынул из железных ножен штык.
– Сам? – толстяк посмотрел на меня с уважением. – Охота тебе мараться. Давай, говорю. У меня уже вся одежда испачкана.
Сначала я выбил у него нож, отрубив ему большой палец. Затем заколол его.
– Ты кто? – не понимал он, оседая своим огромным весом на землю. – Всерьёз ведь колешь. Брось!
Дом Детства светился окнами обоих этажей. Плохой был свет. Злой.
Ступив за порог, я запнулся за тяжёлый, плотный мячик. Посмотрел, что это, и сердце вновь одеревенело. На спину мне лёг дверной косяк, придавив грузом всего здания. Минуту не получалось свалить с себя эту губительную ношу.
Ксюху я нашёл в игровой комнате. На полу среди разбросанных игрушек она торчала кверху задом с поджатыми под живот ногами. Один сидел коленями на её голове, а второй как раз изрыгал финальный рык.
Мальчик на моём плече вздрагивал и извивался, когда я стрелял…
Ксюха вскочила с багровым, надутым лицом. Сдёрнула с шеи ремень, обнажив странгуляционную борозду, и выдавила:
– Он живой?
– Живой, – ответил я, опуская мальчика на пол.
Мы завернули его в мой бушлат и перетянули портупеей.
– Никита, самый маленький, – клокотала повреждённым горлом Ксюха, пытаясь подцепить на мягкой, мокрой щёчке край скотча. – Я думала, что уже никого нет.
– Потом отлепишь, – сказал я.
На крыльце мы столкнулись с чумазым Сашкой.
Я держал живой куль, а Ксюха, так получилось, на секунду опоздала и выстрелила после того, как в меня ударила автоматная очередь.
Он не мог промахнуться. Я ощутил, как сквозь меня прошёл сокрушительный звук, но пули – даже не коснулись.
Я осмотрел, ощупал куль. То же самое.
– Ангелы! Точно ангелы! – простонала Ксюха, проливая по багровым щекам слёзы.
К Дому Детства приближались хрипы, мат и топот.
– Бомбоубежище там, – показала Ксюха в их сторону.
– Куда же теперь? Думай скорее! У меня сердце встаёт.
Она подняла Сашкин автомат, оглянулась и решила:
– На вышку!Вышка закрывалась на железную дверь с пудовым оледеневшим засовом. Электричества не было.
Мы поднимались, освещая бесконечные ступени зажигалкой. Я механически переставлял ноги и не верил, что дойду до верха. Мои лёгкие отказались от самостоятельной работы. Приходилось насильно закачивать в них воздух.
Дошёл я, опираясь о стену. Боялся, что качнёт в другую сторону, а перил нет, и между лестничными пролётами расстояние.
Наверху имелся круговой балкон с низкими, по пояс, ограждениями. В центре стояла бетонная коробка с окнами на все четыре стороны и деревянной дверью.
Я присел на корточки. Свирепый ветер легко мог сбросить меня. Присел и опять стал есть снег. Жажда жгла по самые ноздри.
С высоты просматривались оба Ерусалимска, Старый и Новый. Средневековое зрелище открылось нам. Вокруг забора горели сотни костров. Новый Ерусалимск ждал, когда в Старом закончится грызня, чтобы ворваться добивать.
– Конец, – сказала Ксюха, давясь дыханием. – Только Уралов спасёт нас, заберёт отсюда. На учениях у нас была такая вводная – эвакуировать вертолётом с пожарной вышки.
Внутри бетонной коробки стояла печка-буржуйка и непроходимо возвышались груды рваной формы. В обнимку с кулем я повалился на рвань, а Ксюха взялась растапливать печь.
– Не горит! – процедила она. – Бумага нужна. У тебя есть?
Я подал её паспорт и трудовую книжку.
– Больше не пригодится, – сказал и отключился.8. Завтра
Холод. Никогда не было так холодно. И напор горячего воздуха в лёгких.
Открываю глаза. Боль, будто вижу свет впервые. Надо мной лицо Ксюхи.
Нахожу себя на бетонном полу. Горит печь. В углу сидит, играет автоматом и пистолетами Никита. Гляжу на него, он одет. И курточка, и штанишки, и чепец. На ногах чуни. Всё из обрезков.
– Добрый день! – улыбается Ксюха. – Не переживай, патронов в оружии нет. Я расстреляла.
Её лицо покрывают бульдожьи морщины. Жутко смотреть.
Она отворачивается, встаёт у окна и трясётся, как от сильного смеха.
Мне трудно дышать. Лёгкие шелестят, как полиэтиленовые пакеты. Сажусь и слышу хруст в кишках. В них лёд.
– Что-то у меня ничего не шевелится, – говорю. – Я долго спал?
– Трое суток.
– Народ угомонился?
– Встань, посмотри.
Поднимаюсь. Мышцы скованы, ломота до слёз. Гляжу в окно.
Чёрные развалины и слабый, стылый дым над ними. Завод рухнул. На месте клуба четыре закопченные колонны. Стены звезды лежат, образуя исполинскую ромашку. Всюду красный снег и тела.
– А мы? – спрашиваю Ксюху.
– Сначала наши пытались сорвать дверь автобусом, но он не завёлся, замёрз. Потом бесноватые взорвали нас. Выйди на балкон.
Ступая онемелыми ногами, я вышел из коробки и заглянул за ограждения. От вышки осталась одна стена. Три другие стены и с ними лестница обрушились. Висим в воздухе на ущербной конструкции в виде буквы «Г».
Возвращаюсь внутрь.
– Странно, что я не слышал.
– Ты умер.
Ксюха прижимается лбом к стеклу.
– Мертвый лежал, пока бесноватые громили Старый Ерусалимск.
– Неправда, я живой. С тобой разговариваю.
– Сейчас да. Я тебя откачала. Учись оживать без моей помощи. Я долго не протяну.
Ксюха лижет стекло, пускает по нему обильные слюни.
– Ты есть хочешь? – подхожу к ней.
– Наплевать на меня. Учись оживать, а то без тебя я его съем. Сырым. Попробуй, перестань дышать и очнись через пять минут.
Я задержал дыхание и к своему удивлению не ощутил закономерной рези в груди.
– Не дыши, умирай, – требовала Ксюха.
– Разве Уралов не прилетал? – истратил я последний воздух.
– Наши разорвали его. Не болтай.
У меня закружилась голова. Я сел на пол. Лёг.
Снова нестерпимый холод и напор горячего воздуха. Открываю глаза. Темно, ночь.
– Учись сам оживать. Мне надоело с тобой возиться, – рычит Ксюха.
– Сколько я… спал?
– Два дня не могла тебя откачать, – она трогает печь и не убирает руку. – Остыла.
На Ксюхе нет одежды. На мне тоже. Мы голые. Никита спит в углу, свернулся, как кошка, в темноте едва видно.
– Корми его снегом. Больше нечем. Не давай выходить на балкон, чтобы не упал. Он бойкий.
– Так мы одни остались? Где все?
– Ты не понял? Нет никого, кроме нас. Мы и бесноватые. У них не получается уронить вышку. Каждый день взрывают. Она стоит.
У Ксюхи исчезла грудь, и на рёбрах торчат два острых соска.
– Ты хоть спала?
– Какое спать! Я есть хочу! – она села на пол, схватилась за лицо костлявыми руками и заплакала. – Есть хочу.
Я хотел подняться, обнять её, но зад примёрз к бетону.
– Вентиляторы ваши, которые вы делали, погибли?
– Бесноватые забрали их. Бегали с ними вокруг вышки, прыгали. Скоро весь мир станет одним огромным Ерусалимском.
– Да… – нашёлся я что сказать.
– Береги Никиту. Он – капитал.
Ксюха отползла к стене.
В окна бился ветер. Бесился оттого, что мы не падаем. Никита самозабвенно пукал.
– Жаль, что ты не видел себя через очки, – говорила Ксюха. – Красивый. Крылья сине-зелёные, искрятся.
У неё вылетел изо рта рыжий огонёк. Она закашлялась.
– Береги капитал. Иначе всё зря.
– Что с тобой?
Ксюха шумно выдохнула, и рыжие огоньки полыхнули из её ноздрей.
– Ну, пока, Вань. Грейтесь.
Она закрыла глаза и больше не сказала ни слова. До весны она горела, уменьшаясь, как свечка. К маю стала величиной с куклу, а потом растаяла вовсе. И тепло от неё шло такое, что приходилось открывать дверь.
Я умираю постоянно. Дыхание у меня теперь по желанию.
Месяц учился оживать. В конце концов, настроил в себе хронометр, по которому вскакиваю через полчаса после отключки. Не высыпаюсь, зато не успеваю портиться.
В феврале Никита заболел. Он температурил, а потом начались судороги.
Ничем помочь я не мог. Брал на руки – он заходился криком.
Ерусалимцы слышали его. Собирались у вышки, задирали головы. Приходила Наталья Робертовна. Приезжала на «Ниве» Татьяна Леонидовна. Приезжал кортежем из пяти машин несуразный коротышка с животом от подбородка, в штанах до подмышек. Зурбаган.
Я заметил, что Никита лежит или на боку, или на животе и не даёт касаться спины. Снял я с него курточку и увидел, что это режутся крылья. Одно уже высвободилось, а второе ходило под кожей.
Температура спала, когда прорезались оба крыла. Страшные, перепончатые.
К весне они покрылись жёлтым, цыплячьим пушком, а сейчас обрастают ярко-красными перьями. Сейчас август. Год назад я познакомился с Ксюхой.
Ангела в себе я так и не открыл. Похоже, сила моя целиком ушла в воскрешения.
Ерусалимцы ждут, когда я перестану выходить на балкон. Круглые сутки рядом с вышкой дежурит наряд милиции. Уже полиции. Стрелять по мне перестали. Напрасная трата боеприпасов.
Боятся нас.
Никита недавно сказал первое слово. Пыхтел-пыхтел и сказал: «Амра!»
Он любит смотреть в окно. Хочет полететь.
– Завтра, – обещаю. – Завтра.Рассказы
Железнодорожная готика и триста спартачей
1.
В неделе семь дней. У меня восемь.
Магия чисел проста. Раз в восемь дней заступает на смену её бригада, и я жду заветный поезд «Москва – Иваново».
Я топчусь на станции Александров. Ольга заранее известила, что ревизоров и милицейского наряда в поезде не будет. Итого я без билета и в ментовской форме.
Ночью в Александрове одетым по ментовке хлопотно. Пьяная, тревожная станция. Половина граждан шепчет в спину проклятья и заклинает почить, а другие набиваются в приятели, просят сигарету или сотовый, позвонить в Шарью или Ухту.
Александровской милиции не боюсь. Никогда не спросят, откуда, с какого отдела. Чудики они. Вон хотя бы стоят двое. Один кривобокий, другой до того хмурый, что жди, сейчас достанет пистолет и убьёт себя. Правильно, граница с Москвой, а зарплаты российские. Потому и идут служить убогонькие и нищие духом.
– Поезд сообщением «Москва – Иваново» прибывает на первый путь! Просьба встречающим… – несётся с неба благая весть.
Из вагона на перрон сходит Ольга, мой зубастик. Я прохожу мимо неё, лишь приветственно моргнув ей.
В служебном купе столик уже накрыт и налито. Поезд трогается. Мы не чванимся, агрессивно пьём и бросаемся друг на друга, едва не кусаясь, как собаки. Я успеваю спросить:
– Как там народ?
– Засыпает, – шепчет она.
Её поцелуи жестокие, почти кровососущие. Поезд ещё не набрал скорость, а она уже съехала на пол и неосторожно саднит мне зубами.
После первого выплеска я, распаренный, будто бежал за поездом, снова одеваюсь и иду патрулировать.
В двух купе полутрезвое бормотание, но в основном вагон спит. Пока беру то, что лежит само. Один смартфон и один бумажник. Я учитель, учу не бросаться добром. Взрослые мужики, а хуже детей. Зачем тогда месяц в Москве работать, голодать и мастурбировать? Надо их учить.
Возвращаюсь к Ольге. Снова стычка, но более продолжительная. Теперь не столько для меня, сколько для неё.
– Молодец! Я три раза, – ухмыляется она, обнажая клыки.
Ольга говорит, что в школе обморочно стеснялась их, хотя и без того была страшилкой. Вместо смеха она пучила рот, говорила, вытягивая губы. Неожиданно для себя и для всех к выпускному балу она обросла новым телом, особенно окрепли и стали просто фашистскими бёдра, и главное преобразилось лицо. Черты будто готический гений перелепил заново. Явилась красота неестественная, зловещая.
Ольга могла бы пойти в поликлинику и сточить клыки, но поняла, что с ними отныне заставит любого самца любой породы ползти или уползать на брюхе.
– Пойду бригадиру покажусь, а то сам не пришёл бы, – говорит она и улыбается.
Я замечаю, что подростковый комплекс изжит не до конца. Улыбается она сомкнутыми губами, и только острия клыков белеют в уголках рта. Зато смеяться она умеет в полный рот! От её смеха, если его видеть, остываешь, оставляя в трусах короткий сик.
Ольга ушла, заперев меня, а я сразу задремал. В полусне заиграли картинки, на которых ярко-ярко увидел дом, жену и дочь. Там у меня другое счастье, настоящее.
Жене блаженно известно, что раз в восемь дней я езжу в Москву сдавать статьи. На самом деле я только однажды блюл честь корреспондента. Месяц орошал страницы местной газеты экономическими статьями, за что получил 42 (сорок два) рубля. Купил бутылку пива и зажигалку. Редактор перекрестился, что заплатил много.
Оля вернулась недовольная. Сказала:
– Там один пассажир мне прохода не даёт. Успокой его, а то он начнёт сюда ломиться.
– Скоро впрямь буду милиционером себя считать, – буркнул я, запахивая китель.
– Дорогая моя! – сунулась в купе бритая голова. – Ух ты! Мент! Вот как милиция работает! Стол, вино, баба!
Я вывел голову и всё то, на чём она ходила, в рабочий тамбур.
– Молодой человек! – сказал я душевно, разглядывая большого, но плавающего по воздуху парня. – Идите спать!
Он надулся и, качаясь передо мной, как кобра, сказал:
– Соси!
Вздохнув, я скрутил его и застегнул у него за спиной наручники. Началось! То он с индийским мастерством рыдал и называл меня братом, то официально спрашивал:
– Жена, дети есть? Последний день живут!
Надоел он. Скорее бы станция.
По очереди появились двое граждан. Один в меня плюнул, второй, любовно подмигивая мне, стал громить пленника ботинками. Прогнал обоих.
Пока я умиротворял общественность, парень присел на корточки, уткнулся в своих будущих потомков и сказал:
– Мама!
Оказалось, что между ног он просунул телефон.
– Меня милиция забрала, пытают и выкуп требуют!
– Стервы! Казнить их! – откликнулась по громкой связи мама-яблоня.
Поезд дёрнулся, сбавляя ход. В окне блеснули разрозненные огоньки города. Кольчугино. Город тюрем.
Минутной остановки мне хватило, чтобы высадить парня с той нежностью, с какой у него был шанс не разбиться о перрон. Оля принесла его вещи. Одежду, сумку и коробку с телевизором. Их, целые и невредимые, я выбросил уже на ходу поезда.
– Устал! – сказал я, припав к столику. – Видно, правда, становлюсь ментом. Надо было просто в тык ему настучать.
– Не думай, – сказала Оля.
– Плохо! – тяготился я. – Если он заявит, то меня хватятся. Придётся выйти до Иванова.
Она тоже утомилась, и полчаса мы чокались по половинке и вспоминали, как познакомились. Полгода назад я гастролировал в питерском поезде. Ментовку для усыпления жертв ещё не одевал, ездил зайцем, наудачу. В один из рейсов я лоб в лоб столкнулся с парадом ревизоров и милиции, которые делали совместный обход. Имея в карманах шесть телефонов, я поспешил подальше от этого торжества добра и справедливости. В конце поезда я понял, что конец и карьере.
Напоследок я пошёл покурить в рабочий тамбур. Там… при трёх открытых дверях, в том числе и переходной, обдаваемая сногсшибательными весенними сквозняками стояла странная проводница. Красота, тонкая сигарета и клыки.
– Я тоже люблю смотреть вслед, – сказал я, яростно чиркая зажигалкой.
– Наша природа нравится, только если остаётся позади, – ответила она охотно.
«Какая-то дура», – подумал я и искренне попросил:
– Спрячь меня.
То, что она сделала вслед за этим, я считаю непонятным до сих пор. Протянула руку, помяла мой зад и сказала:
– Нормально.
Она спрятала меня в рундуке и сверху накидала железных табличек «Иваново – С. – Петербург», «С. – Петербург – Иваново».
С тех пор, на каком бы направлении Ольга не работала, мы вместе. Забавно, но у неё тоже есть семья. Может быть, и хорошая. Почему бы нет. Она за счастье загрызёт.
– Всё, – тяжело говорю, вставая. – Отработаю поезд и сойду в Тейково.
– До Иваново всё-таки боишься? – с тоской и вызовом спрашивает она.
– Бережёного бог бережёт.
– Ого! Бога помнишь? Забираешь у людей то, на что им жить…
Я уставился на неё глазами младенца.
– Ты взбесилась?
– Иди, божественный.
– Ведьма зубастая! – тихо, но слышно бросил я и проворно задвинул за собой дверь.
Первый раз я так с Ольгой. Зря!
2.
Следующую восьмидневку я, гордый, не звонил ей. Она позвонила сама.
– Не езди, сиди дома, – без приветствия сказала Ольга перчёно.
У меня сбилось дыхание.
– Ты прости… – произнёс я, сглотнув подступившую к горлу гордость.
– Дослушай. Тот, кого ты ссадил, подал заявление. Описал тебя и сказал, что ты забрал у него пятьдесят тысяч.
– Что?
– Девки-проводницы говорят, что менты сейчас ездят в каждый рейс. Переодетые. Тебя вычисляют.
– Точно? – ерунду спросил я.
– Чего не ясно? Пока! – и отключилась.
Хорошо, что я откладывал на чёрный день. Прокормиться хватит.
Но Ольга. Разве можно её оставлять без присмотра! Она быстро проверит кого-нибудь другого на упругость. Тут-то меня затрясло.
Делать было нечего, и я пошло запил. Жена поступила мудро. Не бранила и не подпускала к ребёнку. Из благодарности к ней за это я усердно спал.
Просыпаясь, я готовился звонить, пил для храбрости и опять засыпал. И опять она позвонила сама:
– Меня перевели на «Москву – Ярославль». Завтра в рейс. Поедешь со мной?
– Да, – кратко ответил я, потому что длинно бы не выговорил. Выхаживаться!
Пока я спал, ноябрь прыгнул через голову, поддал холода и намёл снега. В гараже я загрузился в бушлат с лейтенантскими звёздочками, постоял, соображая брать ли гражданку, и не сообразил.
В Александров я приехал на электричке и вздрогнул. Наверное, вся Александровская милиция заполонила перрон. И никто даже не посмотрел на меня.
– Что случилось-то? – спросил я того, кто ближе.
– Ничего пока, – ответил тот. – Чемпионат России. Спартачи едут в Ярославль. Сегодня «Спартак» – «Шинник».
Взрослые перестают удивляться? Значит, мне ещё взрослеть, потому что на прибывающий поезд я смотрел, открыв рот. Проводники ехали снаружи вагонов, держась за железные поручни, а из разбитых окон летели свист и бутылки.
Ольга тоже висела на поручнях. Волосы у неё смёрзлись в сосульки и повисли на одну сторону. Я подхватил её на руки, и она улыбнулась мне посиневшими клыками:
– Я приехала.
К нам подбежал усатый майор и спросил, шмыгая носом:
– Девушка! Заявление подавать будете? Или в Ярославле? Если у нас, то оставайтесь.
– Я дальше поеду, – ответила ему Ольга, а я заметил, что усы у майора намокают кровью.
Без разбора ушибая всех встречных о стенки, я довёл Ольгу до служебного купе.
– Водка есть? – спросил её.
– Я хотела в Александрове купить, – сказала она, стуча зубами.
– Жди! И запрись!
Говорится, мол, чтобы стать философом, надо побывать в шкуре осла. Для нашего климата альтернатива – шкура мента. Ближайший магазин оказался забит бычками в красных шарфах, но отступать было некуда, и я занял очередь. Пока стоял, считал сзади пинки. Ближние били коленом, а дальние доставали пыром, больнее. Кто-то находчивый полил мне за шиворот пива. Что мне было сказать им? Я не мент, просто оделся? Тогда бы и шутки кончились.
Дворами, палисадниками я добежал до вокзала с позорно добытой бутылкой в рукаве. На перроне меня тормознул полковник:
– С какого отдела?
– Лабытнанги, – назвал я станцию, дальше которой только бесконечность.
– Командированный? Марш в поезд, сопровождать до Ярославля.
– Знаю, – сказал ему.
Влезая в поезд, я на секунду замер. Ангел-хранитель повис у меня на плечах и не пускал.
– Куда, дурак?! – крикнул он мне в ухо. – Домой вернуться не хочешь?
– Хлеборезку захлопни! – сказал я вслух.
В купе кроме Ольги сидел молодой худосочный милиционер и скачущей ручкой записывал объяснение.
– Так, они вытолкнули вас из поезда, и вы успели схватиться за поручни…
– Успела, да, – говорила Ольга, повиснув головой, с которой набежала лужица, и мне показалось, что вместе с талой водой в лужицу падают слёзы.
– Ты со мной? – спросил я молодого.
Он посмотрел на меня голубыми глазами, в которых играла трусливая рябь, и ответил:
– Я да, до Ярославля.
– Пить будешь?
– Я спортсмен.
Поезд дёрнулся, и в вагоне грянуло «олэ-олэ-олэ-олэ!».
Напоследок я кувырнул из горла и позвал напарника:
– Пошли к ним.
– Зачем? – пробормотал он, даже не бледнея, а голубея. – Отсидимся!
– Пошли, говорю. А то сами придут.
Ольга посмотрела мне вслед и произнесла:
– Я сама не знала.
В вагоне пахло анашой, бушевали смех и веселье. С нашим появлением их не убавилось. Просто шуметь стали напоказ.
Стихло только тогда, когда к нам подошло мощное, трезвое тело.
– Работаете? – очень дружелюбно спросило оно.
– Работаем, – как мог, без эмоций ответил я.
– А жить-то не хотите?
– Хотим.
– Вот ты странный, а! – крикнуло тело. – Мы вас сейчас выкинем, и ничего вы не сделаете. Это-то ты понимаешь? Ты!
– Чему быть, того не миновать, – ответил я.
Тело тронуло меня за плечо настолько вежливо, насколько вежливо же я должен был подвинуться.
– Дай пройду, мне к проводнице надо, – снова услышал я дружеский тон.
– С места не сойду, – шепнул ему.
Оно уставилось на меня глазами человека, которого предал лучший друг. Вагон молчал.
– Уважаю! – сказало тело и хлопнуло меня по плечу, едва не сломав мне ключицу.
Следующие часы я стоял, облокотившись о дверь, и знал, что гибель позади. Порой наваливалась дремота и чтобы не вырубиться, я начинал думать ненужное. Что смерть так и так для всех живых позади. Будет она всяко, а значит, всё равно, что уже случилась. И прочее.
Напарник мой примёрз глазами к окну, и на его покойницком лице читалось, что в милиции он работать больше не будет.
Как Ной был рад увидеть сушу, так и я – Ярославль. Тело на прощание пожало мне руку и пожелало:
– Уходи с этой работы. Я ушёл и не жалею.
Я добрёл до служебного купе и уснул, не помня как.
Очнулся от холода. Вагон был не топлен. Ольги не было. Вспомнил, что она будила меня и говорила что-то про магазин и продукты. Я позвонил ей, но тарантиновская мелодия заиграла в железнодорожном кителе, которым я был укутан.
Я вышел на улицу и от отстойника направил замерзшие стопы к вокзалу.
Серые тучи милиции заволокли Ярославль-Главный. Я грустно заметил про себя, что в такой день быть незаметным можно только в милицейской форме.
– Ясно! Конец всему! – сказал один мент другому отняв от лица рацию. – «Шинник» на добавленной минуте сравнял счёт. Спартачи озвереют.
Видимо, ярославская милиция ни сном ни духом не болела за родную команду.
Центральный вход вокзала оказался заперт, поэтому войти и выйти можно было лишь через железные ворота сбоку. Возле этих ворот я и встал ждать Ольгу.
За своим плечом я услышал вопящую сквозь эфир рацию:
– Встречайте! Идут со стадиона. Бьют машины, окна и ларьки. Держитесь, парни!
Я напрягся. Где Ольга? Идиотка.
Через полчаса городской пейзаж перед моими глазами изменился так, будто я смотрел телевизор и переключился на другой канал.
Три тысячи беснующихся фанатов ОМОН сумел взять в кольцо на привокзальной площади, но около трёхсот самых ретивых прорвались к вокзалу. К воротам, возле которых стоял я.
Пришлось удивиться мне снова. Держать и не пускать спартачей были поставлены пятнадцать прекрасных принцев. На них вместо формы красовались синенькие камуфляжные жилетки с этикетками «милиция» и то не на всех. Да в руках принцы держали резиновые палки. Краем уха от них же я подслушал, что они студенты учебного центра, вчера принявшие присягу. При них находился капитан, вероятно, преподаватель. На морозе он стоял в красивой фуражке.
Я оглянулся и почему-то меня пробрал смех. Серые тучи, которые полчаса назад клубились на вокзале, как сдуло. Посмеявшись, я остался ждать Ольгу там же, у ворот, вместе с присягнувшими.
Спартачи напирали, но открыто штурмовать пока не решались. Лишь мат и бешеные слюни летели в нас. Да, в нас. Волею пространства и времени я находился плечом к плечу с доблестной.
– Нам бы ещё минут двадцать продержаться, – сказал капитан. – А там посадка начнётся. Сегодня «Спартак» купил для своих фанатов целую электричку. Большинство уберутся.
– Вам же сейчас край наступит, мусора! – звучали самые добрые, если сравнивать, слова. – Прячьтесь на хрен!
Наконец выискались провокаторы. То один, то другой стали толкаться и замахиваться. Из дальних рядов донеслось: «Чего там впереди не начинаем?! Чего ждём?!»
– Я здесь! – крикнула Ольга, и через несколько голов я увидел её руку.
– Делаем проход! Делаем проход! – врубился я в спартачей, раздвигая их.
– Куда? Ты с дуба рухнул? – окликнул меня капитан.
– Человеку надо пройти! – проорал я и ему, и спартачам.
У меня получилось. Я добрался до Ольги, но в это время невидимая искра проскочила по живой массе вокруг нас. Масса моментально стала плотней, и спасительная дорожка, проторённая мной, сомкнулась. Я понял, сейчас будет штурм.
– Здесь мент, – услышал я шёпоток. – У кого нож есть? Быстро-быстро мне!
Мои болевые рецепторы звонко дрогнули и навострились. Печень трусливо съёжилась.
– Дорогу! – зарычал я, прорываясь с Ольгой к «своим».
Лишь мы выбрались, лишь я вздохнул, как штурм начался. Сначала все триста спартачей, как один, грянули песню:
Не слышны в саду даже шорохи!
Всё здесь замерло до утра!
Если б знали вы, как мне дороги!
Ярослааавские му-со-ра!
И спев, двинулись.
Невесть откуда в руках у них появились железные прутья. А в воздух взлетел страшный град из бутылок и кирпичей.
Я толкнул от себя Ольгу и схватил дубинку. С первого же маха я угомонил двоих, скорее всего, сломав им челюсти. Со второго маха я создал перед собой полукруг.
Во мне проснулся истинно былинный воин. Уклоняясь от воздушных снарядов, шаг за шагом я наступал и бил палкой по лицам, пока не оглянулся и не увидел, что воюю один. Присягнувшие спряталась за столбами, а капитан отрешённо качал головой, словно скучающий конь. С головы его падала пивная пена вперемешку с кровью.
Одним прыжком я тоже спрятался за свободным столбом, и штурмующие хлынули в ворота уже беспрепятственно. Забавно выглядело то, как сзади продолжали бросать снаряды, и бегущие впереди неповинно принимали их на свои затылки. На привокзалке ОМОН также разомкнул кольцо, вслед за чем поток спартачей превратился в силу вселенскую.
Я отыскал Ольгу и вместе с ней вжался в самый тёмный угол. Грохот бьющегося стекла, речовки и топот длились ещё минут десять, а потом как-то вдруг оборвалось, будто кончился дурной сон.
Ко мне подполз на четвереньках один из недавних противников и убедительно произнёс:
– Ты больше не работаешь, понял? Ты знаешь, на кого руку поднял? – и он показал мне партбилет «Единой России».
Обратно мы ехали молча. Молча ели и выпивали. О соитии мыслей не было.
– Красиво, – иногда произносил я. – Мне понравилось. Особенно песня.
– Мне нет, – отзывалась Ольга.
– Ты не злись, но я больше не буду ездить. Не хочу. Надо искать работу.
Поезд подходил к Александрову, когда Ольга округлила глаза.
– Ой! – испуганно воскликнула она. – Тебя же сейчас будут встречать!
– Кто? – сонно спросил я.
– Александровские оперативники. Они должны были задержать тебя сразу, но, видно, из-за болельщиков не смогли. Так что, наверное, сейчас ждут.
– Ты откуда знаешь? – протрезвел я.
– Это я, прости, – ответила она, глупо хлопая глазами. – Ты меня в прошлый раз обидел, вот я и… Простишь меня?
Прыгать с поезда, даже если он тормозит, затея неприятная. Слышал я про прыгунов, которые находили пикетные столбики. И всё же пришлось.
На гранитную насыпь я приземлился по касательной, однако на миг вылетела душа и целую минуту лёгкие не качали воздух.
С Ольгой я больше не встречаюсь и не созваниваюсь. На шее ношу память о ней. Клык.
Лазари
1.
Не дай бог моему врагу плакать над яичницей, как час назад плакал я. На хрен таких врагов! Кого жалеешь, те не враги. Получается, я до того пал, что даже не могу быть никому врагом.
Удивись со мной! Я, тот кто ставил людей на колени и держал у их затылков пистолет, плачу над яичницей. Потому что она не моя!
А кстати. Хотите знать, как ведут себя сейчас русские люди на коленях под пистолетом? Думаете, плачут, как час назад я? Визжат, ползают и молят?
Быстро послушайте реальную историю. В прошлом году я, оперуполномоченный уголовного розыска, поймал двоих злодеев. Накануне они постреляли из обрезов в моих товарищей, чтоб те не мешали воровать. Попасть – не попали, но всё равно, зачем стрелять в живых людей? О том и хотел я поучить, поймав их и поставив на колени. Магазин из пистолета я заранее извлёк.
Передёрнул затвор, и звук разнёсся по обширному полю. Где-то за далёким лесом шумела трасса – далеко, почти не слышно. Никто этим двоим не помог бы, если подумать.
И слушайте, они стоят и спокойно ждут, когда убью. Деревенские. Родные братья. Как назло – в валенках. Некрасовские персонажи! Не бандиты, а скорее – разбойники, «мужички», как в своё время те, что стерегли купцов на Галичском тракте.
Стоят, и ни звука от них. Я им заглядываю через плечо в лица и сам не верю! Как говорится, ни одна мышца не дрогнет. Хмурые только, будто вспоминают, что забыли сделать дома. Собаку накормить или снег расчистить у калитки.
Стоят и понимают, что провинились вчера, а раз так да вдобавок попались, значит, некуда деваться, надо терпеть и получать люли.
Какие там японцы! Мои разбойники не учили заповедь «путь самурая – это смерть» (то есть не испугаться, не опозориться, когда пробьёт час), не тренировались, не медитировали. Японцы просто писюли по сравнению с моими разбойничками! Мои, как из советского кино, где партизаны перед расстрелом докуривают папироску, готовые к смерти.
Я тогда растерялся и не знал, что делать. В итоге зарядил пистолет и громыхнул меж их головами. Они вздрогнули, переглянулись, поняли, что живые и – ничего… Я их спросил: «Воровать-то хоть не будете больше?» Один мне дремотно ответил: «Жить-то надо…» Ткнув меня таким образом, как котёнка, в метафизику, в которой не разобрался бы сам Кощей Бессмертный, они без моего разрешения поднялись и пошли.
Согласитесь, мы победим в войне, случись она новая. Именно с такими разбойниками-самураями, хотя они и гепатитные алкоголики. Ещё выйдут из подвалов токсикоманы. Они будут обливаться бензином и пылающие, и безумные побегут на тевтонскую пехоту. Наркоманы, съев по двести штук псилоцибиловых «питерских» грибков, явят себя как древние берсерки, не знавшие боли и страха. Пойдут один против ста. Я, поверьте, не раздражаю в себе патриотизм, а говорю, что случится.
Какой там патриотизм! Меня, недавнего офицера, кормят яичницей, и я рад и несчастлив до слёз. А кормит такой же офицер, только военный, не мент. Он тоже – в запасе и тоже тридцати трёх христовых лет отроду. То я накормлю его, то он меня, то кто-нибудь другой нас обоих или врозь.
Я говорю, что плакал, хотя – без слёз. Удерживал их, часто моргая. Я плакал внутри, в груди, в горле, до ломоты в ушах. И необходимую мне яичницу глотал через силу. Лучше уж плакать натурально, так легче, и так легчает.
Мы с ним отъели и снова выложили посреди комнаты арсенал. Наша устоявшаяся традиция: я прихожу к Серёге, мы едим (если едим), а потом он достаёт из чулана арсенал, и мы раскладываем его посреди комнаты. Смеёмся, как дети, и в который сотый раз обсуждаем тактико-технические характеристики каждой вещи.
Первая вещь: АК-47. Патронов к нему около 500, прямо в «расчёсках». Вторая вещь: КС-23 (карабин специальный), помповая дура, какой позавидовал бы терминатор. К нему 60 патронов со свинцовыми снарядами. Справка: свинцовые снаряды КС-23 предназначены для вышибания дверных замков и самих дверей. По инструкции, разумеется, в человека такими стрелять запрещено. Третья вещь: мелкокалиберная винтовка тульского 1958 года производства. Маленькая, легкая игрушка. Идеальное оружие для стрельбы в условиях города. К ней 5 пачек по 50 патронов. Последние две вещи – пистолеты ТТ и Макарова. Пистолет-легенда и пистолет-навсегда. К ним патронов полный рюкзак, не сосчитаны. Правда, я люблю перебирать патроны к ТТ. Держу в ладонях и питаюсь от их силы, как если бы они были волшебные.
Пока Серёга шумно забавляется с КС-23, я ласкаю, как кошку, винтовку-«мелкашку». Восторгаюсь её простотой и удобством. Автомат и пистолеты лежат без внимания, и это тоже в рамках традиции. Нам не обидно за них, и они, я уверен, не ревнуют к карабину и винтовке. У них слишком серьёзные характеры, чтобы ревновать кого-то к кому-то.
Серёга давно бы подарил мне винтовку, но не дарит, поросёнок. Знает же, что мы влюблены друг в друга! Вместо того, чтобы подарить, отдать её за меня замуж, он произносит одну и ту же несуразицу: «Они все твои. Понадобятся – приходи, бери! Также могут придти Олег и Саня. Оружие не моё. Оно наше!»
Его растлённый коммунизм меня злит до тряски. Винтовка, что, разве шлюха, чтобы её Олег и Саня брали? Эта девочка должна быть с одним. Впрочем, никто из них не приходит и не берёт, я зря бешусь.
Из-за Серёгиной тупой принципиальности я мечтаю сам приобрести что-нибудь, и такое, от чего он изойдёт слюнями. Принесу я, например, итальянскую беретту (уже знаю, у кого взять) и предложу поменяться на винтовку. Куда он денется? Конечно, обмен будет неполноценный. Я видел в справочнике охотника, что винтовка эта в своё время была самым дешёвым оружием – 16 рублей. Что поделаешь, влюблён я. Было же у вас в детстве, что меняли сразу несколько солдатиков плюс хоккейный шлем на один железный пистолет. Только одну вещь я не выменяю на винтовку. Это если окажется у меня гениальный мелкокалиберный пистолет Марголина. Его оставлю себе. Не знаю сам, почему так милы моему сердцу все «мел кашки».
С часик поиграв, мы всё убираем обратно в чулан и идём на балкон курить. Не покурить, а курить. Одну за одной.
Серёга, как вшивый о бане, заводит свою популярную песню: когда и кого убьём? Знает, что не отвечу «того-то и того-то и тогда-то», но всё равно спрашивает, а я волнуюсь. Спросив, он закуривает вторую сигарету. Я вообще ничего не отвечаю ему. Говорит он один. В нём ни капли от провокатора, у него ни разу не получилось вынудить меня ответить ему что-нибудь, пусть даже «нет». Тем не менее он старается и говорит красиво, современно, аргументируя, например, проблемами экологии: «Животных убивать нельзя, а людей надо…»
Серёга и говорит красиво, и человек он красивый. Отличный экземпляр! Выше меня на полторы головы, широкоплечий, широколобый, скуластый. Он из старинного дворянского рода, о котором историки с разных пор пишут монографии. При этом на Серёге род заканчивается. Пока он до 33 лет командовал ротой и охранял радиоактивные могильники, у него что-то остыло в яичках и сперматозоиды перестали преданно вилять хвостами. Он мне сказал об этом месяца два назад, пребывая в той степени опьянения, от которой другой бы человек умер.
Серёга не комментировал свою беду, и я за него ради красного словца додумывать её не буду.
Серёга добрый. Добрее всех, кого я видел и знал в жизни. Его доброта не христианская, а первохристианская, евангельская. Он отдаёт всё (деньги, пищу), что приходит ему в руки. Кроме, конечно, оружия и ещё иконы Богородицы, унаследованной от средневекового родственника.
То, что он замучил спрашивать, кого и когда убивать, не в счёт. А хотя нет. Каждый раз он объявляет войну злу. Недостаток его воинственности лишь в том, что за идеями всегда стоит корысть, извлечение больших денег. Обычные, просто деньги он отдаёт и тратит на других, зато большие деньги нужны ему одному. Чтобы влюбиться. Он уверен, что появятся большие деньги – появится любовь. Без них – никак.
Поэтому, когда мы курим, в городе икается всем богатым жуликам и бандитам.
– Что ты молчишь-то? – грубит он, держа в одной руке зажжённую, а в другой незажженную сигарету. – Это я, как с неба рухнул, пришёл из армии, никого, ничего не знаю, а ты в курсе, кто, на чём разжился. С твоей стороны – информация, знания, как замести следы, а с моей – тактика по нападению и ведению боя.
Я смотрю на него и боюсь. Что произойдёт с его психикой на следующий день, как появится у него женщина? Или на следующий день после того, как она его бросит.
Внезапно он громко выдаёт мне в лицо:
– Мне кажется, я никогда не найду себе жену! Мне проще взять Измаил, чем заговорить с женщиной.
После мгновения слабости Серёга снова возвращается к благородным планам:
– Хочешь, убивать не будем?! Берём богатого жулика, увозим в лес, пытаем часик-два, и он даёт нам деньги. Это стартовый капитал…
Что в Серёге, действительно плохо, это то, что он не балабол. Зовёт куда-то – не спеши соглашаться. Единственная загадка в нём для меня, почему он, зная в себе силу и смелость взяться за оружие, не берётся, а зовёт кого-то с собой? Если б его дуростью обладал я, то никого бы звать не стал.
Ясно, что он не герой-одиночка, но и не подходит ему поговорка: за компанию и жид повесится. Он, дурак (а он дурак), верит в святое братство. Его воспитали школьная пионерия и армейский коллектив.
2.
После Серёги иду к Вадику! Ставлю знак восклицания, дабы больше не отвлекаться на Серёгу. Они слишком разные, хотя если между ними поставить меня, как связующее звено, то цепь идеально замкнётся и две крайности станут равнозначными.
Вадик живёт недалеко от Серёги, поэтому мне удобно и закономерно к нему заходить.
Открывается дверь и с порога меня встречают громадные глаза, громадные уши, нос и чеширский рот. Они висят на огромной высоте. Это Вадик.
Части лица именно висят оттого, что Вадик сутулый. Какого бы он был роста, насколько бы выше был того же Серёги, если б он расправил плечи, представлять нет охоты. Вадик и так ужасен.
Он, как обычно, в трусах и оскорбительно для человеческого достоинства тощ. Он мне очень рад, а я не скрываю, что в свою очередь рад ему. Мне не достаёт опыта угадать, под чем он сегодня, под каким опиатом. Впрочем, без разницы. Он всегда теперь хороший.
Я знаком с Вадиком давно, и намного раньше, чем пошёл служить в милицию, осуществил с его участием оперативное внедрение, когда и знать не знал, что это такое.
Я считал себя фашистом. Из красного оргстекла выпилил лобзиком здоровую, как на Кремль, свастику и повесил её себе вместе с крестиком. К слову, в это же время фашиствующий Баян носил настоящую немецкую медаль. Он отцепил её от планшетки и повесил на ленточку. Издалека Баян, когда ходил с медалью, был похож на призёра спортивных состязаний. В остальном он спортсменом не был, так как имел совершенно неспортивный аппетит.
Уж начал я говорить про нацистскую атрибутику, то доскажу: у Кабана имелась немецкая каска (эко невидаль, но всё же); у Кеда – шинель (правда, на ней долго жила моль с аппетитом Баяна); Зуб счастливо владел бляшкой от ремня; Генрих – губной гармошкой и чайной ложкой; Тол не имел ничего, но говорил, что знает, где взять флаг. Словом, захоти мы собрать кому-то одному, как говорится, с миру по нитке, то получился бы модный жених. И, видите сами, моя стеклянная свастика была самым скромным предметом нацистской бижутерии. Зато я мог показать всем Вадика.
Я его встретил в тренажерном зале. Он силился сделать из своего двухметрового организма что-то более-менее человекоподобное. Заглянув в его выразительное лицо, я сделал скорый вывод о том, что ни одного арийца в его роду не было со времён потопа. Насколько же я был ошеломлён, поговорив с ним и выяснив, что Вадик – истинный славянин да ещё сибиряк! Практически земляк Василия Шукшина, родом из Бийска.
Не успел я пожалеть о том, что белокурые бестии не всегда белокурые, как возликовал. Минуты разговора с Вадиком мне хватило для того, чтобы понять: анекдоты про евреев сочиняются не про евреев, а про Вадика. Его страсть к богатству была больше его ушей, носа и роста вместе взятых.
С того дня я начал его обработку. Он ничего не знал про евреев, а я, как мне казалось, изучил их до печёнок. Услышав от меня, что евреи владеют всеми финансами мира, Вадик, не задумываясь, изъявил готовность стать таким же, то есть не как я, знающим, а – владеющим.
В день по часу, по два, без выходных две недели я преподавал ему древнейшую и новейшую историю народа иудейского. Вадик добросовестно усваивал лекции с точностью до наоборот. Факты, вычитанные мною из фашистских газет, о засилии мирового еврейства, приводили его в щенячий восторг.
В качестве наглядного пособия я использовал Ветхий Завет в детском изложении с картинками. Я с лёгкостью объяснил Вадику десяток причин перехода через Аравийскую пустыню, ни одна из которых неведомы были даже Моисею, а затем прошёлся и по Моисею, раскрыв тайну лучей, исходивших из его головы.
– Не лучи, а рога! – донёс я до Вадика истину, известную только тем, у кого есть губные гармошки и ложки.
Вадик слушал с открытым ртом. Ему нравилось всё: и лучи, и рога. Чему мне было удивляться, примерь те же рога Вадику, ему не прибыло бы, не убыло.
После теории мы решились на практику. Вадик, чистый и поглаженный, отправился в городскую еврейскую общину. К моей гордости его приняли как родного. Через неделю он прибежал ко мне с коробочкой детских сладостей, добытой им по случаю праздника Пейсах. В коробочке находились маца, мёд и финики. Его трясло от нетерпения съесть их, и всё же, словно наученный команде «Фу!», он дожидался, пока не разрешит учитель.
В следующий раз он приволок мне пачку ярких журналов «Лехайм». Я с головой нырнул в них и к своему ужасу не нашёл ни одного призыва к завладению миром.
Вадик стал приносить мне из общины свежие новости, но они были настолько будничные (в основном о кулинарии и пятничных празднованиях шабота), что я снова садился за журналы.
Вскоре я убедился, что от Вадика в деле шпионажа толка мало, как от паршивой овцы молока. И я придумал ему новое применение. Показывать людям.
Доморощенные фашисты замирали от волнения, когда я подводил к ним Вадика, живого врага человечества. Кстати, став евреем, Вадик преобразился. Надел на голову кипу и повадился на моих единомышленников задираться.
– Когда погромы-то начнёте? – спрашивал он их, надвигаясь откуда-то сверху, как из ночного кошмара.
Фашисты же стеснялись его напора, виновато пожимали плечами и извинялись, что пока не могут.
Однажды я сам растерялся, став свидетелем того, как Вадик вдруг устроил кровопролитие. Бульдозер не пожал ему руку и назвал «жидярой»… Сначала краткая справка о Бульдозере!
Его боевой путь был отмечен двумя событиями. Событие первое: пьяный в пьяной компании он дал согласие на то, чтобы ему накололи серию воинственных татуировок. Ночь до утра, даже когда Бульдозер уснул, ему рисовали все, какие кто мог вспомнить свастики, скандинавские руны, а хуже всего – политические и социальные лозунги. Одних зиг-рун утром насчитали восемь или двенадцать (такая спорность имелась по причине того, что несколько рун были выведены неразборчиво). Наиболее сильное впечатление производила грудь Бульдозера. Стены на заднем дворе любого ПТУ выглядят не так похабно, какой стала его грудь. Никто потом не захотел сознаться в авторстве двух-трёх дворовых, совершенно аполитичных выражений. Про «рэп – это кал!» я и не говорю.
Событие второе: уже живописный и традиционно пьяный Бульдозер 22 апреля разогнал от памятника Ленина пионеров.
Так вот он не пожал руку Вадику. Я увидел то, как Вадик может управляться своими длинными верхними и нижними конечностями. Как жираф проламывает льву череп и рёбра, так и Вадик страшно сокрушил Бульдозера, который, кстати, опять был пьяный. Событие третье!
Разбудив в Вадике могучую ветхозаветную силу, я оставил с ним дружбу, а равно и с его тайными почитателями – фашистами. Отслужил я в армии, стал работать в милиции и за это время лишь несколько раз встречал его. То он только что возвратился с семинара из Марьиной рощи, то собирался на учёбу в Израиль, то искал, где купить фальшивую метрику с еврейской родословной, то думал принять гиюр. Потом совсем не видел его полгода, и вдруг появляется другой человек. Первое, что я понял, увидев его вновь, это что зря раньше считал его худым. Худым он стал только теперь.
– Много евреев – просто суки! – шепнул он мне до того вдохновенно, что на нас тогда оглянулись прохожие.
Я смотрел на его сине-зелёную бледность и ждал, что он того гляди повалится в обморок.
– Бог им дал Тору, а они на неё забили болт! А те, кто и учит Тору, живут не по ней!
– Что же делать? – сходу проникся я проблемой, жалея Вадика и Тору, которую не учат.
– Хочешь покурить хорошей анаши? – нежно спросил Вадик. – Пойдём! Я тебе расскажу, что делать.
Как раз на то время я уже стал начальником отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (НОН) и остро нуждался в любой информации, связанной с НОНом. Поэтому я и решил внедриться к Вадику, как когда-то внедрял его в еврейскую общину.
– Послушаю внимательно! – пообещал я, имея лишь служебный интерес.
Тот мой визит к новому Вадику затем досконально повторялся во множестве раз. И сегодня я вижу в точности всё то же самое, что и тогда, и в точности те же на Вадике зелёные и обширные, как Сибирь, трусы. Другой одежды на нём дома не бывает.
Я прохожу к нему на кухню и меня встречает холодильник с распахнутой щедро дверью. Уже полгода я вижу его открытым и пустым и догадываюсь, что Вадик не закрывает его, боясь неизвестности. Чтобы не тянуло открыть – вдруг что есть.
На кухне сидят члены клуба, наркоманы со стажем, за который им уже можно бы было платить пенсию. Они постоянны и неизменны, отчего я за полгода не выучил ни их имена, ни лица. Учитывая их психоневрологическое состояние, я кажусь им, наверное, тоже вечной истиной, которую можно не запоминать.
Мы садимся и молчим, как «на дорожку».
– Одни те, кто занимаются каббалой, могут понимать Тору и жить по ней, – продолжает Вадик начатый полгода назад разговор.
Из антресоли он достаёт цветной лист «Лехайма». На листе кучка зелёной пряности. Под кучкой статья о фашистской угрозе и снимок фотогеничного скинхеда.
Вадик выращивает марихуану сам, разведя обширную плантацию в лесу за городом. Он заказывает сортовые семена с других стран и континентов, а при сушке одному ему ведомым способом смешивает соцветия и листья с разных кустов. В этом году урожай у него удался сверх плана. Вадику пришлось сушить и закатывать на зиму в банки. Всё же он умеет быть хозяйственным и домовитым.
Я чаще отказываюсь, чем курю. Сегодня одобрительно киваю, и Вадик радуется, как дитя, что с ним поиграют.
Начинается ритуал! Строгий, последовательный. С механико-станочной ловкостью Вадик заряжает папиросы зелёной пряностью.
Сосредоточенно курим.
Пока дым не начал химическую реакцию в мозгах, ведётся торопливый диспут о наркотиках. Я в нём не участвую. Так же я молчал бы, если б говорили футбольные маньяки, потому что я равнодушен к футболу, как женщина. Так же молчал бы в кругу профессоров, шоферов, хирургов. Быть бывшим офицером – это вернуться в беспомощное детство, когда ничего не умеешь, не знаешь ни одной науки, а умный разговор можешь поддержать, если только врать.
Мои невольные товарищи сыплют десятками рецептов того, как расщепить на атомы сознание и на время покинуть этот неудобный мир. Один рецепт убийственней другого. Десять капсул трамадола, десять коделака, десять… я замечаю, что число десять здесь имеет магическое значение, и Вадик подтверждает мою догадку, заговорив о десяти сфиротах каббалы:
– Мне проще постигать десять сфирот и приближаться кТворцу, когда я глотаю десять капсул настоящего немецкого трамала и сверху шлифую анашой. После десяти капсул я совершенствуюсь!
Вот сердце заходится в ужасе, не моём – извне. Сейчас я лишусь рассудка. И лишаюсь. Время замедляется в десять раз, и сигарета в пальцах курится со скоростью десяти сигарет.
Мне теперь трудно уследить за тем, что говорит Вадик, я не успеваю слушать и за раз могу усвоить не больше десяти слов.
– … мы наркоманы, потому что вокруг много желаний, которые нам невозможно…
– … число желаний 613… они всех дразнят, но не все…
– … время сейчас такое, что самые тёмные желания атакуют нас…
– … благодаря наркотикам мы уходим из мира малхут навстречу свету хохма…
Следующий этап ритуала – самый торжественный. Просмотр лекций Михаэля Лайтмана. Двигаясь медленнее своих теней, мы переходим в комнату и садимся перед компьютером.
Я умиляюсь на Вадиков компьютер. Роль колонок у него играет радиоприёмник «Маяк». Парадокс эпох: вместо коммуниста Левитана в «Маяке» вещает каббалист Лайтман.
Мне нравится смотреть Лайтмана. Симпатичный старичок и говорит, как твой первый учитель, так ласково, что в животе делается тепло. Хотя каббалу я не понимаю. В этом для меня её и достоинство. Интересно что-то в упор не понимать, иначе жить нельзя и омерзительно.
Те трое, «без имён и лиц», как поёт Кипелов, не понимают даже того, что не понимают. Я это не в упрёк им. Им вообще ничего не в упрёк.
– Кто не каббалист, тот жид! – на свой лад трактует Вадик Лайтмана.
Я не обижаюсь, он не про меня. Для Вадика не евреи, не познавшие каббалу, всё равно что дети. Их нельзя ругать. А вот евреи да не каббалисты – эти хуже грыжи.
– Надо для других жить, другим всё отдавать – тогда, значит, ты сын Израиля. Не копить и богатеть, а отдавать! Моисей им что – хер с горы?
Вадик серьёзно огорчён на евреев. Он-то не богатеет и, действительно, всё, что имеет, раздаёт. Правда, поделиться он может лишь одним, анашой. Сегодня он мне снова сунет в руку свёрток с зелёной пряностью, уверенный, что так угодно Творцу.
Идём пить чай. Его приносит кто-нибудь из нас. Он обязательно должен быть ароматизированный. Пока кипит чайник, все нюхают пакетики. Я тоже напряжённо нюхаю.
– Что-то из детства! – говорит Вадик о чае. – В детстве так же пахло.
– Да, карамелью, – говорит один из трёх.
Я всматриваюсь в него, пытаясь запомнить его лицо, а он вдруг говорит мне:
– Тебя пришибло? Это потому, что ты редко куришь. А нам анаша кайфа уже не даёт. Только голова гудит.
Меня поражает то, что он всё видит, но он неправ. Я тоже не испытываю кайфа. Ни разу не испытывал. Всё, что даёт мне анаша, это уход из жизни, возможность забыть о ней, не о жизни, а о ней. О той, про кого я ещё не рассказывал.
3.
Вышел от Вадика, и начало отпускать, а я, если отпускает, я тогда дрожу, и хлещут мысли. Значит, сейчас буду вспоминать её.
– Стой! – зовут меня сзади и в лопатку мне попадает камень. Неприятно! Я оборачиваюсь. Идёт парень. Смело идёт. Правая рука в кармане куртки.
– Что случилось? – спрашиваю я с любовью, будто привык, что меня окликают только камнями.
Парень теряется, и правая рука у него вздрагивает.
Он встаёт передо мной интимно близко и дышит незакушенной водкой.
– Ты из этого дома? – кивает он на дом Вадика.
– Нет, я вообще со Чкаловского, – как другу, объясняю я.
– Врёшь! – теряется он во второй раз.
Нетрудно догадаться, что парня выставила за дверь подруга или друг подруги, и он придумал прикончить первого, кого встретит из жильцов несправедливого дома.
– Что случилось-то? – спрашиваю я парня. – Чем помочь, может?
– Да ни хера не случилось! – орёт парень и брызжет мне в лицо водочной слюной.
Дальше он орёт, срываясь на утробный хрип, обзывается. В глазах у него скапливаются слёзы. Он не ожидал встретить того, кто вдруг, бац, друг и брат. Сердце его часто-часто отстукивает азбукой Морзе «н-е-у-б-и-й-н-е-у-б-и-й».
Я не расслабляюсь, смотрю ему в глаза и переживаю о том, чтобы его пьяная рука не оказалась быстрей его взгляда. И тут он совершает роковую ошибку. Как говорится, перемудрил. Перед тем как ударить, он, чтобы твёрже встать, переступает ногой.
Я не мудрю и детской подсечкой роняю парня на землю. Падая, он неуклюже вынимает из кармана отвёртку. Ну не свин ли?! Это ж хуже ножа! От неё ж не заживает.
– Смотри сюда! Смотри сюда! – бешено рыдает он, имея в виду своё оружие.
Я аккуратно левой рукой беру его кулак, поворачиваю вопреки анатомии, и отвёртка – моя. Остаётся одно. Бить. Бью. Не отвёрткой, кулаком. По лицу, по вискам, по затылку, по всему, чем он повернётся подо мной. Спешу. У таких железа может быть припасено, как у ниндзя.
Чувствую, кулак развалился надвое. Моя постоянная проблема, повреждённые связки между култышками. Не важно, бью, пока парень не выключается. На всё про всё ушли секунды. Распрямляюсь и подальше выкидываю отвёртку. За парня не беспокоюсь, человек живуч.
Ухожу. Рука наливается тяжёлой килограммовой болью. Да сколько ж можно-то! Я родился добывать себе и другим счастья, а несу один вред. Добрый я!
Придётся экстренно зайти ещё в одно место. К цыганке Любе. Здесь рядом.
– Ай, милый мой! – заливается мне с порога Люба.
Я, как к себе, вхожу к ней в дом и обнимаю её. Люблю я Любу, а она меня ещё больше. Я для неё дороже сыновей, которые бандиты и умалишенные. Вообще у цыган, если не знаете, очень распространены душевные болезни. Не в каждой ли семье.
Прикладываем к кулаку мороженое сало. Потом Люба торопится, ищет бинт.
– Какой ты хороший, что пришёл! Ай, какой хороший!
– Погадай мне, наконец! – прошу её. – Два года тебя прошу.
Она хлопает глазами и неподвижной улыбкой тихо отвечает:
– Нельзя. Грех. Я только на себя гадаю.
Грех! Слышали? В жизни Любы одиннадцать судимостей, в том числе по тяжким статьям. При всяком удобном и неудобном случае она шарит у меня по карманам. Пьёт вино и курит, конечно. Видимо, о грехе она знает что-то, чего не знаю я. Знает какую-то древнюю тайну, которая неведома другим народам. Лишь цыганам.
– Погадай…
– Уговорил! – усмехается она и игриво жмурится, чтобы спрятать в глазах злость.
Чёрными крепкими пальцами она раскладывает на столе целиком всю колоду и читает, как из газеты:
– Женщина чужая о тебе думает…
Я сжимаю ножку стола больной рукой, но думаю, столу больнее.
– Живёт она с одним, спит с другим, а любит тебя… Так?
Я киваю Любе и бурно краснею.
– А как тебе хочется? – спрашивает она и скалит чёрные зубы.
– Ты гадай-гадай, – сержусь я, пряча глаза.
Люба снова смотрит в карты и надолго замолкает.
– Что там?
Она молчит.
– Давай водочки выпьем! – неожиданно предлагает Люба.
– Выпьем, – быстро соглашаюсь я, понимая, что иначе Любу разговорить не получится. – Но у меня денег нет.
– Да ладно! – отмахивается она и убегает в магазин.
Дожил. Я не говорил, Люба мой бывший секретный агент. Сколько мы с ней пересажали цыганья, торгующего наркотой!.. Ведь она ещё и редкий экстремист, цыганка, ненавидящая других цыган. Только не было ещё такого, что б поил её не я, а она меня. Край!
Через час дым коромыслом. Мы уже признались друг другу в материнской – дробь – сыновней любви, она уже несколько раз обляпала слезами мою щёку, а ни один из нас ещё не пьяный. Я слежу за ней, она – за мной. Я жду, когда она расскажет, что выпало на картах, она – ждёт, чтобы я забыл. Наивно льёт через края.
– Ты ведь один… Один мне помогал на зоне! Без тебя бы… Дай бог тебе… – ревёт она в голос, а глаза, ведьма, прячет.
– Люба! Говори, что нагадала! – громко и трезво перебиваю её.
Она выпрямляет осанку, поводит плечами, будто хочет станцевать, и говорит:
– Всё, умрёшь скоро.
4.
Открываю глаза и вижу. Любину квартиру. Утро. Лежу на полу, подо мной расстелено. Спал – не спал, не ясно, но куда-то девалась целая ночь. Надо вспомнить.
Прихожу. Она гадает. Застольничаем. Она говорит, что умру. Застольничаем. Смеюсь над ней. Веду себя беспечно. Утро! Ещё раз: прихожу… беспечно… утро. Больше, значит, ничего особенного.
Люба на диване. Храпит, как будто её три или все пять.
Спешу уйти, чтобы скорее позвонить Серёге и поржать с ним на гадание. Чувствую себя бодро. Неперегоревшей водки во мне ещё по самые уши да допил со стола одонок.
Только взял в руку телефон, как он сам ожил и на экране к радости своей я прочитал: «Серёга-муд».
– Да! – аж крикнул я в трубку. – Вот уже собирался…
– Ванька! – перебивает он меня. – Я самый счастливый человек в мире!
– Чего натворил? – холодею я.
– Вчера свершилось! Я встретил единственную! Ты рад за меня?
– Когда успел-то? – серьёзно удивляюсь. – Я у тебя вчера был…
– Пошёл я, на ночь глядя, в ларёк на остановку за сигаретами, а она там, бедняжка стоит, на последний автобус опоздала…
– А откуда опоздала?
– Мы разговорились с полуслова! – не услышал он моего умного вопроса. – Я впервые в жизни разговаривал с дамой свободно! Предложил ей пойти ко мне, и она пошла!
– Сколько лет?
– Ну, младше меня. Девятнадцать.
– А звать?
– Магическое имя! Как мантра, как заклинание! Смысл всего мироздания в нём! Екатерина!
– Хорошее имя. Так она ночевала у тебя?
– Даа! Дааа! Мы уже делали детей. Решили, что будет два мальчика и две девочки.
– Учится? Работает?
– Учится. Вернее, за неуплату её отчислили.
– А сейчас она где?
– У меня! Мы теперь вместе живём. Я предложение сделал, она согласилась! Она самая красивая! Ты бы видел, какие у неё ногти! С рисунками!
– У меня тоже новость…
– А на ногах! С чёрным лаком! Ах!
– Я у Любы был, помнишь, про цыганку тебе говорил… Сейчас ты посмеёшься…
– Мы вообще ночь не спали!
– Ты послушай…
– У меня даже спина болит! Я самый счастливый!
– Нагадала она мне вот чего…
– Я желаю тебе, чтобы ты тоже испытал такое же счастье!
– Нагадала, говорю, что помру, представь себе…
– О, не сказал тебе ещё: она призналась, что любит меня. Я ей тоже признался.
– Ты где сегодня будешь?
– С ней!
– Понятно. Давай тогда как-нибудь в другой раз увидимся.
– Да-да, давай-давай! Счастливо! Звони!
И кому мне дальше хвастаться? Вадику? Каббалисты спят до трёх. Идти к ней? Вонючий, опухший, полупьяный не пойду. Домой – и как следует спать! И нечем хвастаться. Дрянь всё это! Ещё бы в гороскоп поверил! Стыдно. Спать!
Просыпаюсь второй раз за день и просыпаюсь внезапно, как с пинка. Мне страшно. Бывает же такое! В одно мгновение понял, что если скорая смерть случится, то на сегодня я говно! Если жизнь закончится сейчас, то иначе меня назвать нельзя. Да если и не умирать сейчас, всё равно – оно.
Вскакиваю с кровати и несусь по квартире, не зная, куда и зачем. Наверное, ищу место, где будет лучше думаться, а что толку от места, когда думать приходится впервые? Оказывается, не умею думать по большому. Видите, и выражаюсь я сортирными фразами, «думать по большому».
Хотя, правды ради, скажу: когда мне было думать про себя? Я десять лет не вылезал с работы. Жил там. Дружил там. Полюбил, сука, тоже там! И кого? Чужую.
Правду цыганка прочитала по картам. Жена одного, любовница – другого. Всё у меня не по-людски. О том и речь, что жить – что нет. Я так и так дурак.
Разве увёл бы её из семьи? Нет. Стал бы ломать ей «левак»? Может быть, и стал бы…
И просто проклятый дурак, потому что полюбил взаправду.
Поверьте на слово, эта женщина хороша. Она не просто женщина, она событие, женщина-солнце. Еле придумал! На людей вокруг она действует движением брови. Вокруг неё вращаются тела всех размеров, хотят они этого или нет. Добиться её, это всё равно, что победить в войне или высадиться на другой планете. Стать легендой.
Ой, хорошо меня встряхнуло гадание. Хватит. Пойду-ка завтра с утра в церковь. Ходят же люди.
5.
Проспал! Хотел пойти в церковь в часов пять, а проснулся в девять. Пока чего, вышел после обеда.
В церкви тихо шарахаюсь мимо икон, как начинающий пользователь среди аватаров. В солёной руке жму дешёвые свечи. Всюду кромешная наука, которая мне, вроде, не в диковинку, поди русский, но ощущаю себя чайником среди старушек-профессионалок. Те шустро обгоняют, перестраиваются, сигналят Ему, а я церковные ПДД не учил и на каждом шагу сам себе создаю помехи.
Нахожу уголок с закопченной иконкой, останавливаюсь и первый раз спрашиваю себя: а чего хотел-то? Ждал, наверное, что подойдёт сотрудница с фанерными ликами на груди и на спине и спросит:
– Что Вам подсказать?
– Да вот, гадала мне цыганка…
– Так, и что интересует?
– Должен преставиться, гой-еси…
– Вы у нас первый раз, карточка есть?
– Я раньше всё по каббалистам больше…
– У нас ассортимент отечественный… и т.д.
Денег надо найти! – осеняет меня. Вместо того чтобы спасать, когда зачесалось, свою безликую душонку, надо, раз пошла такая пляска, помочь людям. Реально.
Из церкви выбираюсь с опущенной головой, как тать, и шагаю лишь бы куда. Только б не остыть. Есть у меня тема, есть!
В оперскую бытность подружился я с экс-замминистра-правительства-рф. Началось с того, что он попросил меня показать ему нашу Волгу. Мне не жалко, привёз его на реку, показал, вуаля. Он идёт купаться, а в это время из воды выступает свежая, бодрая, как Афродита, немецкая овчарка. Она рычит и к Вольге-мюттер не подпускает. А рядом стоит улыбчивый хозяин, харизматичный молодой еврей с хасидской бородкой.
Мы ему:
– Нехорошо!
Он же кратко:
– Фас!
Собачка прыгает и аппетитно вгрызается в толстую подмышку экс-зама.
Волги не хлебавши, поехали к эксу в гостиницу и пока ехали, он больше вспоминал не немецкую породу собаки, а ближневосточную – хозяина. Я умильно слушал, пока возьми да не скажи про рога Моисея.
– Друг! – говорит мне экс. – Что тебе хочется? Что угодно проси.
– Пачку бумаги, – отвечаю ему.
– Чего?
– Нам документацию не на чем печатать.
Добираемся до гостиницы и всю ночь дезинфицируем укус. Проституток помню плохо. Помню, что экс постоянно уступал мне, как молодому, дорогу, а я из почёта к старику, не спорил.
Он подарил мне готовый бизнес. Я не брал, объяснял, что не жил хорошо и неча начинать. Он сказал: «Отдай другому, если не надо», – и уехал. Русский барин.
Я передарил. Мне было неинтересно и стыдно владеть дармовщиной. Передарил, не глядя, одному малознакомому русичу, который просто подвернулся под руку.
Знаю точно. Сейчас Женя (тот, кому я) – один из самых богатых людей города и области. Он должен обрадоваться, когда позвоню ему. Я должен быть для него дороже отца родного.
Звоню. Не берёт. Не слышит? Перезваниваю.
– Да.
– Жень, узнал? – спрашиваю лишнее, потому что у него всё равно высветилось.
– Не узнал.
– Ваня.
– Какой?
– Жень! Ваня я! Встретиться надо!
– А! Ваня. Чего ты хотел?
– Увидеться надо.
– Некогда, Вань. Рассказывай сейчас.
– Я говорю, надо встретиться!
Договариваемся на вечер у памятника Ленину. Сделано.
До вечера недолго. Доживу. Пора по-бухгалтерски точно рассчитать, как потом оперативно потратить деньги. Половину сразу Серёге. Чтоб было, на что любить Екатерину, не то эта бродяжка бросит его завтра же. Вадику забью едой холодильник, а налички он от меня не получит. Потом куплю много цветов ей. Столько, чтобы убралось за раз в маленький грузовичок, в ту же ГАЗель. Глупо, но и в оригиналы я не лезу. Хочу глупо.
Остальное принесу родителям. Я ещё никогда не давал им денег. А тут хватит им на машинёшку-иномаринку и пожить, не думая о завтра.
Вечером хлестанул дождь. На, попробуй, спрячься под памятником Ленина. Мог бы уйти в мебельный магазин и смотреть через витраж, но магазин сейчас закроется. Значит, стою. На посмешище Ленину. Да оба стоим на посмешище!
Пять минут, как он должен уже приехать. Звоню. Отключился! Спокойно, у меня ещё два его номера, о чём он не подозревает.
– Алло!
– Жень, это я.
– Не узнал…
– Иван.
– Ай, Иван, перезвони через часик, я пока в другом городе.
Взрываюсь. У меня такое бывает. Редко, раз в год, дай-то бог. Это с детства. Помню, что пятилетним напал на большого хама и стал комкать ему лицо, как газету. Он сначала даже не шевелился и усиленно какал, а потом заревел и убежал.
Я орал на Женю и из-за дождя не видел, что Ленин, при всём моём к нему, возможно, надул в бронзовые штаны.
– Через десять минут приеду, – тихо ответил Женя.
Не успел я выкурить трясущуюся сигарету, как к нашим с Лениным ногам подкатил внедорожник. С сигаретой и не оглянувшись, мало ли Женя приехал с поддержкой, я забрался в машину.
– Здоров! – пожал я ему руку своей сырой рукой.
– Здравствуй, – почти неслышно сказал он.
Мы оба уставились в лобовое стекло и замолчали.
– Ты понимаешь, зачем я тебя вызвонил?.. – начал я.
– Да, Вань.
– Ты помнишь?
– Да. В случае, если тебе понадобится, тридцать процентов от прибыли – твои. Всё помню, Вань.
– Мне понадобилось.
– Вань, денег нет.
Я вытаращился на водительскую панель и внезапно очаровался огоньками.
– Где они?
– Их и не было, – говорит Женя всё тише и тише. – Бизнес оказался убыточным. Я до сих пор не расплатился с долгами, на которые встрял из-за него.
Блуждаю глазами по машине, а он убаюкивает меня, наклоняясь ко мне ближе и ближе, вот-вот поцелует:
– Ну, посмотри на меня. Посмотри мне в глаза. Увидишь, я правду говорю.
Я не смотрю. Я слежу за своим сердцем. Оно постарело лет на сорок и куда-то падает. Уже боюсь, не оставить бы его в машине, когда буду уходить.
– Я бы дал тебе даже из своих денег, но как начался этот кризис…
Шар! Не боится, что у меня с собой может быть оружие. Он знает обо мне больше, чем я о нём. Я – только о его делах и кошельке да о тайной любви к женским платьям, а он – о том, чего я стою, о том, что я неспособен выколачивать деньги. Красавец.
– Вот, на. Чем могу, – он протягивает мне одну купюрину, которой хватит на водку и закуску, подонок.
Я беру. Слышите? Беру и ухожу. Даже спасибо сказал.
Встал перед Лениным, а дождь сильнее, волнами. Сжал купюру, сжал веки и зубы. Лишь бы не выбросить! Теперь и эти позорные деньги нужны мне сегодня.
Звоню позвать Серёгу:
– Серёг, привет…
– Ванька! Ванюшка! Иванко! – заполонил он меня сходу. – Я тебе говорил, что я самый счастливый человек в мире?
– Говорил…
– Что у тебя шумит? Ты под дождём, что ли? А мы сейчас с Екатериной возьмём такси и поедем в ресторан. Будем ужинать в отдельном кабинете при свечах! Ты рад за меня?
– Рад-то рад. А деньги-то?..
– Да провернул тут одно дельце.
– Удивлён, честно…
– Всё, бывай! Как сам-то?
– Помаленьку.
Ай да Серёга. В ресторан. Я сегодня тоже свечи жёг. Неужели он сделал? Экспроприировал?
– Видал? – говорю Ленину вслух. – Не хуже тебя у меня друг.
6.
Вечер удался. Час отогревался в ванной, потом накрыл себе письменный стол водкой, оливками и селёдкой. Включил компьютер. Одно ценно для меня в нём – это её фотографии. Около пятисот.
С любовью наливаю, но стараюсь не частить. Мне хорошо, смотрю на своё-чужое счастье. Не заметил, как забыл про Женю. Один раз вспомнил и улыбнулся: сам дурак, это меня в телефоне надо записывать «Ваня-муд». Может и записывают давно.
После двухсотой фотографии начинаю смеяться и разговаривать. Воображаю, чего нехорошего ей завтра наговорю. Мы больше хохочем друг на друга, чем милуемся. Про нас, наверное, думают, что мы мерзавцы и друг для друга опасны. Так мы шифруемся и так мы счастливы.
Я ведь вживую не видел её месяц. Понимаю почему. Пьянствовал.
Не, все пятьсот не посмотрю. Мозг уже почти обесточен, триста-то еле-еле. Люблю я её, и с ментовки ушёл, чтобы разлюбить.
Вдруг утро. Благополучно настал третий день, как мне нагадано сгинуть со свету. Я свежий, никакого похмелья. Голова ясная, глупая, как у младенца. Не болел бы ещё кулак…
К ней! На остаток денег покупаю шоколадку «Алёнка», прячу за пазуху. Пацан.
Тенью пробегаю по коридорам. Врываюсь к ней в кабинет.
– Здрасьте!
Она оглянулась из-за компьютера и всё, больше ничего. Сидит и дальше печатает. Будто не я вошёл, а дверь открыл сквозняк.
– Здравствуй, говорю! – улыбаясь шире плеч, повторяю.
И на этот раз не оглянулась.
– Что случилось-то? – уже шумлю.
Молчит. Не призраком же я стал, как в мистическом триллере. Она встаёт и идёт к шкафу, рядом с которым я стою. Далее делает так: отодвигает меня рукой, чтобы я подвинулся, но касается тыльной стороной ладони, словно брезгуя. Изумляюсь, но зато хоть не призрак.
Она берёт одну папку с полки и снова возвращается за стол.
– Чёрт побери, что я не так сделал-то?!
Не оглядывается. Опять меня нет.
– Ты скажи! Скажи! Объясни, что ты хочешь? Чтобы я больше не приходил?
Молчит.
– Да в рот тебя! Разве так с людьми делают?
Молчит, и я замолкаю. Смотрю на неё и, наверное, у меня лопаются капилляры в глазах. Ничего, обычная. Может быть, слегка бледная, а вроде, нет.
– Я пойду?
Тихо в ответ.
Ухожу. Топаю.
Мне навстречу Слава. Тот самый, с кем она втайне от мужа и без тайны от меня. Он тоже знает, кто мы друг для дружки. Никогда Слава со мной из-за неё не спорил, ибо – ментовское братство. Баб ради не собачиться.
Слава видный, женская мечта во плоти, но не хочу сейчас о нём.
– Был у неё? – спрашивает он ерунду. – Пойдем, поговорим.
Мне интересно. Али дуэль? Выходим на улицу, он шепчет:
– Ты ещё не слышал? Ты же давно не был.
– Чего?
– Проверка с управления приезжала. Сам Ситников был. Помнишь его, гандона?
– Помню. Гандон.
– Он её прямо в кабинете изнасиловал. Только никому!
Часто говорят, онемел. Я не онемел, я забыл сам способ речи.
– И что она? – произнёс я наугад, как получится.
– Таится, конечно, – выпучивает он красивые глаза. – Где сейчас ещё работу найдёшь?
– А вы?
– Сам подумай! Если мы кто слово скажем, нас проверками задолбят, и та к уж!
Ухожу от него. Быстро иду, ищу дворы. Быстро-быстро. Чувствую, что не успеваю. Сворачиваю за дерево и дышу, как перед рвотой.
Дышу, но спазм не удержать. Меня рвёт слезами. Вырвало, следом – второй раз. Дышу, дышу. Зачем-то произношу вслух её имя, и уже не рвёт, а плещет из меня.
Рядом шаги. Я отрываюсь от дерева и иду. Пытаюсь нахмурить лицо, но оно расползается. Слёзы прямо в открытый рот. Бежать! Взять у Серёги вещь.Серёга встретил меня с родовой иконой в руках. Он блаженно улыбался.
– Ты один? – спрашиваю.
– Один.
Я прошёл к нему в комнату и утвердился в кресле. Он встал напротив, держа икону обеими руками, будто собрался благословлять.
– Она ушла от меня, – произносит он.
Длится пауза, живая, не театральная.
– Ночью все деньги извёл на неё, а утром говорю, что отныне будем жить по любви, без денег. Она и ушла.
Я ищу в уме любое коротенькое слово, чтобы ободрить Серёгу, но искренне удаётся только:
– Да…
Ему этого достаточно.
– Брат! – говорит он. – Ты меня понимаешь!
Он заново пересказывает мне про остановку, ногти и уставшую спину.
– Я думал, что только в кино так, а она сама мне говорит: «Давай туда». Ты пробовал?
Он трясёт над моей головой иконой, а я думаю своё. Вспоминаю, что напротив здания Управления, в метрах ста, строится жилой дом. Пока возводятся этажи. Я без проблем проберусь на стройку и размещусь в одной из комнат. Прицельная дальность винтовки 250 метров. Даже не потребуется оптика. Стреляю я лучше, чем вижу. Дано.
– Она там бреется! И мне сказала бриться, чтобы ей не лезли волосы в рот. Представляешь, какая талантливая?
Засяду вечером. Знаю, что никто из заместителей начальника (а он зам) не уходит с работы, пока у генерала горит в кабинете свет. Где окна генерала, мне известно. То есть: слежу, когда погаснет в окнах свет, и через 10 – 15 минут Ситников перед моими глазами.
– Ты не слушаешь меня? – возмущается Серёга. – Я спрашиваю, сколько, по-твоему, дадут за эту икону в антиквариате?
– Ты вконец ошалел? – скрипучим, ещё непросохшим голосом, говорю ему.
– Деньги нужны, Вань. Катю вернуть.
Я замолкаю на минуту, больше не желая вникать в горе Серёги, и диктую ему:
– Доставай винтовку-мелкашку…
– Думаешь? – перебивает он меня. – Чтобы Катя не досталась никому?
– Доставай винтовку, – повторяю ему, – мне надо, мне. Ничего не спрашивай. Помощь не предлагай. По телефону со мной больше ни о чём не говори, а лучше не звони совсем.
– У тебя-то что? – прозаично интересуется Серёга.
– Я сказал, не спрашивай.
– Вань, ты всё-таки согласись, что Екатерина для меня больше, чем девушка…
– Серёг, ты слышал, о чём я?
Он тискает икону и на вдохе произносит:
– Была и нет её…
– Ты дурак?
– Я про винтовку.
– Шутишь?
– Я же объясняю. Мне были нужны деньги, вот и продал.
– Почему именно её? Про меня забыл?
– Её-то как раз не продавал…
Я уставился на него.
– Винтовку я подарил. В довесок. Спешил что-нибудь продать, а соглашались купить только автомат и пистолеты. И то через неделю. Я пообещал даром КС и мелкашку, лишь бы деньги сразу. И цену до копеек снизил.
Гляжу на него и не вижу. Нет Серёги. Пусто. Жизнь его пустая, как его же яйца.
– Обижаешься? – спрашивает из пустоты голос Серёги.
Я не хочу ему отвечать. Боюсь, что пустота ворвётся мне в горло и с силой вакуума взорвёт меня, расщепит. Я-то теперь имею смысл жить. А винтовка ушла, так и ладно. Всегда найдётся нож.
– Думаешь, не продавать? – из пустоты перед моим носом маячит икона.
Я отворачиваюсь от неё и жмурю глаза. Ножом, вручную, будет хлопотно, и уйти шансов почти не останется.. Стой, Ваня! Ваня стой!
Я замер, стало страшно. Почувствовал, как зудит мозг. Ещё минута или миг и в мозгу случится химический процесс, после которого я просто, пошло сойду с ума.
– Вань, скажи, что у тебя стряслось? Я же друг.
Всё, всё, хватит. Больше не думаю. Сойти с ума – это то же, что смерть. Думать – завтра.
С усилием выискиваю глазами в пустоте силуэт Серёги.
– Собирайся, пошли со мной к Вадику, – говорю силуэту.
– Кто это?
– Тебе какая хер-разница! – стараюсь говорить скорее, не думая.
Мы идём по улице, и я стыжусь Серёги, будто он педераст.
– Может, мне повеситься? – пыхтит Серёга, не успевая за мной.
– Иди на хер! – краток я.
– Вань, будешь грубить, я не пойду с тобой.
– Сука, замолкни! – выпаливаю, после чего он спешит смирно.
А правда, зачем я его тащу? Наверное, всё же жалко. Хочу, чтобы вместе со мной он сегодня отскочил от реальности… Не думать, Ваня! Не думать, гад!
– Шалом! – встречает нас Вадик в зелёных трусах.
Ему ничего не делается. Вечный Жид.
– Это свой, – показываю на Серёгу. – Вадик, есть у тебя?
– Как раз вовремя! Сейчас будем пробовать новый сорт. Мне с Питера прислали одну-единственную семечку, и она взошла. Я увидел и упал. Чёрная конопля! Листья прямо чёоорррные!
На кухне те же неизученные лица. Их три. Сидит и четвёртый. Его лицо мне знакомо свежими шрамами, которые на губах, на лбу, и нос всмятку.
Он, как и все, здоровается со мной и спешит досказать историю:
– Короче, пришёл в «Камелию», а там даги гуляют, пляшут свою лезгинку. Говорю им: езжайте к себе и там пляшите. Ко мне сначала один, я ему хлоп в тык, он – с копыт. Второй тут. С отвёрткой. Я ему хоп подсечку, он тоже с копыт, и я его давай крошить. Там все остальные. Короче, замесили меня.
У битого сквозь синяки выступил румянец. Окончив сагу, он воинственно огляделся и остановился на мне. Узнал. Что-то он увидел в моём лице неотвратимое, отчего румянец с него спал.
– Как их назвать? – неуверенно спросил он лично меня.
– Неруси, – отвечаю, не задумываясь, – прохода нет.
Он кивает и кивком пытается спрятать опозоренное лицо.
– Это Евпатий, – представляет Вадик рассказчика. – Так-то Паша, но погоняло Евпатий. Скинхед. Люблю я, Вань, с тех пор скинхедов!
– Что не любить, – соглашаюсь с Вадиком. – Сам, бывало, за Русь какашку съел бы.
– Проверим! – торопится Вадик и поджигает готовую папиросу.
– Я не буду! – шепчет мне Серёга, но я, пыхнув, передаю ему со словами:
– Тебя спрашивают?
После первого же пыха у меня высыхает рот. Силён сорт.
– Что-то меня прибило! – говорит один из неизученных. – Давно так не было.
Я прикипаю к стулу и в голове моей запускается форматирование, после чего я забываю даже название предметов. Смотрю на стол и, убей, не помню, как сказать. Стена? Команда? Баланс?
Последнее, что удаётся мне более-менее связно сообщить, это:
– Парни! Пора каравай. Будем бульон? Не ленись рано вставать. Я умираю. Золотые слова.
Вижу, Серёга лежит на полу. Синий. По кухне мечутся трое.
– Вадик! – кричит кто-то из них. – Придавило конкретно. Не спалиться бы!
Не обуваясь, они выбегают из квартиры.
– Вдруг мать придёт, хана! – вскрикивает Евпатий и срывается вслед за троими.
Остаёмся я и Вадик.
– Свет уходит, – говорит он дрожащим голосом. – Хорошая анаша.
– Завтра в школу, – вздыхаю последний раз, и сердце моё встаёт.7.
Смотрю на ножку табуретки. Давно, с час, смотрю. Знаю, как называется, а встать не могу. Кстати заметил, что перестал болеть кулак.
С трудом, деревянный, поднимаюсь. Оказывается, лежал на кухне лицом в пол. Далеко ходить не надо, сидит за столом страшный, синий Серёга. За его спиной окно, и там ночь.
– Как дела? – спрашиваю, едва двигая твёрдыми губами и языком.
– Тебя жду, – внятно говорит он.
– Зачем?
– Просто.
– Вадика не видел?
– По квартире ходит. Разминается.
– Тут я, – появляется белый костлявый Вадик. – Отлежал ты рожу, Ванёк, за четыре дня. Поглядись-ка в зеркало.
Иду, роняя мебель. Долго попадаю пальцем в выключатель и вваливаюсь в ванную.
– Вадик! – кричу, разглядывая себя в зеркале. – Мы теперь кто?
– Думаю, зомби, Вань! – отвечает Вадик. – Урод ты, да?
– Сам ты, – тихо ругаюсь, изучая себя.
Обычный зеленоватый покойник. Ко мне и раньше не приставал загар. То, что смята одна щека, будто я прижался к стеклу, пускай, потом расправится.
– Вадик-иуда! Чем ты нас обкурил?
– Не специально же! Не знаю, что за сорт. Хитрый какой-то, наподобие рыбки «фугу». Видать токсин в нём особенный.
– Серёг! Ты не сердишься на меня? – кричу я Серёге.
– Убил бы, – бурчит он.
Позвонили в дверь. Вадик прежде, чем открыть, несколько раз приседает, делает махи руками, как на физзарядке, хлопает ладонями по щекам.
В квартиру входит Евпатий. Он ужасен, в земле, лохмотьях и не то чтобы покрыт шрамами, а шрамы покрывают шрамы.
– Копал-копал, – рассказывает Евпатий, – вылезаю, вокруг темно и кладбище. Сидят на моей могиле дружки мои сатанинствующие, поминки у них по мне. Одни упали, другие убежали, а двое лучших друзей выломали с других могил кресты и, как мечами, рубать меня. Пробовал объяснить, что живой и здоровый, а они – взбесились. Кое-как сбежал.
– Везучий ты, – говорю, – Евпатий.
Под утро прибыли трое. Голые. Они рассказали свой случай.
Подобрали их четыре дня назад на улице бездыханными и отправили в морг. Там – кто такие? Документов ни при ком не было и быть не могло, потому что паспорта они давно заложили за долги. Милиция взялась проводить проверку по установлению их личностей, а смысл, если родные забыли искать и ждать их. Получилось, что троих наших друзей ни для кого не существовало.
Не сказать, что как дома, но в морге к ним отнеслись любезно, не хуже, чем к именитым. Уложили, как людей, провели свои щекотливые манипуляции. Единственно что – не спешили. Обихаживали между делом, а до одного так и не дошли руки, чтобы укомплектовать обратно голову. Вот и лежал он до этой ночи, отдельно мозг и черепная крышка, пока не растолкали его очнувшиеся друзья.
– Вставай, лентяй!
Из коридора донёсся смелый топот, то ли сторожа, то ли кого-то из персонала.
– Быстрей, педаля!
Слез он со стола и растерялся:
– Мозг-то брать?
– Оставь кому-нибудь! Пошли!
Живём мы теперь вместе зомби-коммуной. Из квартиры выходим редко, так как вынуждены перед каждым выходом по-бабски румяниться. Про Евпатия не говорю. Обещаем выпустить его погулять в ночь на Новый год. Купили ему маску хрюши, хотя, боюсь, он опять от кого-нибудь обязательно огребёт.
Неудобно, конечно, что на нас не заживают раны. Следим за собой. С каждой царапиной бежим к зеркалу.
Из дома мы выходим чаще для экспроприациё. Догадайтесь, кого регулярно навещаем? Верно, Женю. Он заколебался нанимать охрану и психиатров, а мы не спешим разорять его до последней копейки, потому что много нам не надо. Заплатить за квартиру да купить новые книги. Иногда берём на подарки родным, но тоже не злоупотребляем. И всего-то два раза я отправил по машине цветов.
Человечиной мы не питаемся. Еда нам вообще не требуется. Нам неведомы голод, телесные боль и удовольствия. Вадик сначала опечалился насчёт наркотиков, а оказалось, что отныне мы можем наслаждаться другим. Да так, что ни с какой наркотой рядом не стояло. Я уже упомянул, это книги.
Кто из нас каждый? Законсервированные чудом мертвяки, в которых чудом же сохранились оголённые души. Мы очень остро теперь всё чувствуем. Пытались сперва смотреть телевизор и орали. Во мне душа рвалась на части. Живой я этого не замечал, а оно, видите, так. Немного погодя мы открыли книги.
Серёга день и ночь читает Серебряный век. Я уверен, Есенина с Блоком он знает наизусть. Всё равно читает. Иногда слышу то, как он сам пытается сочинять. Шепчет рифмы к заветному имени: «перина, витрина, балерина…»
Евпатий, выяснилось, не прост. Он объявил бой тяжеловесной классике. Особенно достаётся Толстому. Бывает, что, дочитав последнюю страницу, он возвращается на первую. Однажды «Войну и мир» Евпатий перечитал без отрыва три раза.
Те трое… Тот, что без мозга, захлёбывается «Мухой-Цокотухой». Мы закрываем его одного в комнате, когда он читает. Потому что надоел, хохочет.
Другие двое не расстаются со сказками Пушкина. Ничего против сказать не смею. Правда иногда, я заметил, они крадут у друга «Муху-Цокотуху» и давятся над ней на балконе.
Вадик превзошёл всех. Он ворочает жития святых. После каждого тома его худосочные мощи начинают мироточить. Где бы он не прошёл, всюду после него на полу масло. Мы не успеваем за ним подтирать, потому что нам нельзя поскальзываться и ушибаться.
Частенько Вадик зачитывает нам Евангелие от Иоанна: «Иисус говорит: отнимите камень. Сестра умершего, Марфа, говорит ему: Господи! Уже смердит; ибо четыре дня, как он во гробе». Больше всего нам нравится, когда Вадик доходит: «…Он воззвал громким голосом: Лазарь! Иди вон. И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лице его обвязано было платком. Иисус говорит им: развяжите его, пусть идёт».
А я экспериментирую. Сижу в Интернете и в нём ищу хорошую литературу. Современную. Хорошей очень мало, скажу. Просто не поверите, как мало. Но нет-нет да найду. Я же самой душой читаю.
Ещё изо дня в день смотрю 500 фотографий. Рядом с компьютером на столе у меня шоколадка «Алёнка» и череп в милицейской фуражке.
Пасха
Кто я после этого? Пригласил Алёну в церковь на пасхальную службу преследуя материалистическую цель – соблазнить. Почему не в пиццерию или не в кино – потому что у Алёны недавно погиб жених, который мешал мне, как плохому танцору. С понтом благих намерений поддержать и успокоить я вымащивал для себя и для неё дорогу в амурный ад.
Вадим был танцор сильный, не в пример мне. Богатый, злой. Я видел его раза два и больше не хотел. Страшный он был, из тех, с кем встречаться неохота, как со сторожевой собакой без привязи. И странный. Думаю, даже Алёна не знала, откуда его богатства и злость. То ли бандит, то ли торгаш, по жизни без друзей. Фантомас!
Смерть он принял по себе, страшную. Влетел на коллекционном Порше в бензовоз и сгорел подчистую, будто и не жил. Ни пепла, ни дна, ни покрышки. Для меня его конец стал началом радостных надежд; из объекта грёз и рукоблудия Алёна преобразилась в живую охотничью цель, в беззащитную куропатку.
И вообще я забавляюсь над подобными, как у Вадима, биографиями: копят, жмут, не спят, чтобы сесть в машину, какой нет у других, включить дрянь по местному FM и поехать нарушать правила, потому что эти правила для тех других, у кого нет такой машины. Вот и вся суть фантомасов, с которыми ежедневно борется всевышняя центробежная сила.
В церковь мы ехали на подаренной Вадимом Ниве-Шевроле с блатными номерами «999». Я развалил ноги, чтобы Алёна, переключая передачи, задевала меня. И она задевала и часто, что говорило о её хорошем умении водить. Я же был и останусь воинствующим пешеходом, хотя учился и ещё раз учился.
Искоса на неё смотреть – басурманка. Смуглая, востроносая. Известно, что приехала она из Узбекистана, и пускай русская, но чужое солнце напитало её красотой дикой, враждебной. Я ведь радикальный патриот, о чём кричу без умолку. Состою в КПРФ, пью пиво с недобитыми скинами, читаю газету «Завтра». Я банный лист на жопе государства. Недоволен, сыт и пьян. Средства на сытость изыскиваю от поддержки всяких кандидатов во всякие думы. Написать хвалебную листовку или статью для меня – тьфу! То, что слыву радикалом, мне не мешает, меня не боятся. Радикалы такие же люди, как педерасты или менты. Сверчки на шестках.
Алена остановилась в хвосте стометровой вереницы машин. Тусовка, как сказала Кэт, когда встретила Данилу Багрова на концерте «Наутилусов». Высоко, под шпилем колокольни, светилась аббревиатура из лампочек «ХВ-ВВ». Сначала я прочитал «ВДНХ». Волновался.
В храм мы вошли, крестясь. Она смело и наглядно, а я тайком, будто в магазине «Интим».
Внутри народу! Только за свечками пришлось выстоять полчаса. Купили их, но к образам не подступиться. Приютились около колонны, на которой тихо грустил Николай Чудотворец.
На голове Алёны появился прозрачный бирюзовый платок, и я обомлел, любуясь ею. В точности Алёнка с шоколадки. Лицо стало белое, округлело и наполнилось сильной русской красотой.
Эх я змей! Ведь воображал, как буду тискаться к ней, сваливая вину на давку. И плевать, что в церкви. Сейчас же смелости у меня осталось, чтобы стоять к ней на расстоянии дыхания, и то дрожал, боялся, что запачкаю её невидимой грешной грязью.
Особенно умилился, заметив, что она подпевает хору. А я? Ту же «Отче наш» спутаю с какой-нибудь песней Кинчева. Зато горазд орать о поругании Православия, де забыли веру отцов, свиньи.
Глянул на часы: полдвенадцатого, а ноги уже столбенеют. До утра маяться и маяться. Но всё равно хорошо! И хор, и иконостас, и люди. Правда много пьяных, но их хватит ещё на час и разбредутся. Да за Царскими вратами один нетерпеливый попик уже разговелся, закусил яичком и нет-нет, да восклицал: «Христос Воскресе!» Из-за него сбивался хор, а бабки смеялись. Хорошо.
Прикинул – до крестного хода успею. Пошёл покурить.
На улице сам с собой подумал и понял, что поминутно влюбляюсь. Ещё сегодня вечером хотел Алёну, как суку, а сейчас уже могу сказать: люблю! Поэтому отменяю главный план завлечь её в гости и не буду, как хотел, шептать ей провокации.
О! Здорово было бы, если б она пригласила меня к себе. Купим вина. Закусим куличом, а потом она уложит меня спать. Отдельно. И я засну счастливый, как ребёнок, и засыпая, буду дышать от чистой простыни. Именно так.
Мои новые мысли благословил колокольный перезвон. Праздник настал. Я бросил сигарету и скорее в церковь, иначе народ двинется на крестный ход, и унесёт Алёну, как щепку.
Вернулся, встал с ней рядом и скривился от своего прокопчённого дыхания.
– Христос Воскресе! – провозгласили с алтаря.
– Воистину воскресе! – грянул народ, и Алёна тоже громко, даже с надрывом, выкрикнула вместе со всеми.
Я перекрестился и почувствовал табачный смрад от своей щепоти. Брошу-ка я сегодня курить! Ей-богу! Воняю рядом с ней, как старый чёрт. Мне тридцатник, а зубы скоро совсем почернеют.
Следующие четыре часа она ни разу не пожаловалась, что устала, а я маетно переминался с ноги на ногу, и глаза уже не смотрели на золото и краски храма. Во время же благословления иереем я взял её за руку, и она посмотрела на меня благодарно. Моя… Теперь моя.
Мы вышли в голубоватое утро, и минусовой воздух развеял мою усталость. Я вспомнил про сигареты и отдал почти полную пачку «Винстона» нищему.
– Поехали ко мне, – тоненько попросила она, отпирая машину.
– С радостью! – вздохнул я. – Только купить бы по пути вина.
– У меня всё приготовлено, – сказала Алёна.
Значит, она заранее решила быть со мной! Моя! Люблю!
Ехали молча. Ноги я держал вместе. Улыбался.
Дом её стоял в частном секторе. Его купил и обустроил Вадим. Дом как дом, без претензий, обнесённый глухим железным забором. Забыл сказать, что работала Алёна в изберкоме при городской администрации, куда её устроил опять же он, и где я с ней познакомился. Много Вадим сделал для неё, но я уверен, что Алена вспоминать его не хочет. Такие, как он, не дарят счастья. Подарю я.
– Постой у калитки, – сказала она. – Я подержу Зару в гараже, а когда крикну, беги со всех ног на крыльцо.
С удовольствием подожду и побегу. Слышал я про её волкодава Зару. Не собака. Какое-то другое животное, но не собака. Сто килограммов мяса и злости.
Алёна скрылась за калиткой и через минуту крикнула:
– Давай!
Я рванул с олимпийской прытью и – вовремя. Лишь влетел на крыльцо и закрыл за собой пластиковую дверцу, как с обратной стороны на неё бросилась Зара, жуткая тварь, в схватке с которой человеку не выжить.
Алёна еле-еле протиснулась ко мне и усмехнулась:
– Это ерунда. Ты, главное, сейчас не пугайся.
Она зачем-то постучала в дверь, ведущую в дом. Выходит, мы будем не одни? С мамой?
Дверь открыли, и я шатнулся в сторону улицы, где прыгала и гудела собака. За порогом стоял Вадим. В руках он держал самозарядное ружьё «Сайга» на базе автомата Калашникова.
– Вот и мы! – задорно сказала ему Алёна. – Ты, смотрю, спать ещё не ложился?
Вадим ей не ответил. Он лишь посторонился, пуская нас. Я перешагнул порог и протянул ослабевшую руку. Поздоровались.
– Ну? Не испугался? – снова усмехнулась Алёна. – Просто у Вадима появились проблемы, и аварию он подстроил.
– Что ж… Христос Воскресе! – выдавил я то ли в шутку, то ли всерьёз.
От Вадима пахло свежаком, глаза его были красные, как у Зары, и более всего он устрашал огромным лицом, словно накачал его штангой и стероидами.
Прошли на кухню, сели за обильный стол, но ни есть, ни пить я не хотел, у меня кружилась голова, и больно жгло в груди. Ружьё Вадим поставил рядом с собой.
– Ну, мужчины! – смеялась Алёна. – Угощайте меня!
Выпили за праздник. Вадим, оглушительно жуя корнишон, сказал мне:
– Алёнка тебя расписала, я ей верю. Ты надёжный, боевитый. Нам с тобой надо будет некоторых людей наказать…
– Вадимчик! – плаксиво простонала Алёна. – О делах потом, хорошо?
Она подошла ко мне сзади и скользнула руками по моей груди, по животу и ниже.
– Он сейчас любви хочет! – шепнула она, лизнув мне шею. – Да?
– Хх… Кх!.. Хочу, – прохрипел я.
– Так, мужчины! – сказала Алёна, отступив от меня. – Я в душ, а вы ешьте и марш в спальню! Оба! Ясно?
Она ушла.
Я водил глазами по столу, не понимая, что мне надо. А, ну да. Сигареты.
– Угощусь? – спросил я, протянув руку к пачке «Кента».
– Что ты спрашиваешь! – рыкнул Вадим. – Будь как дома. Теперь ты с нами и больше ни с кем. Понял? Не слышу, понял?
Я кивнул. Руки тряслись. Чирк-чирк, едва закурил.
Держись! – внушал я себе. – И смотри, не заплачь!
Капелька с носа попала точно на огонёк сигареты. Пшш… Погасло.
Владимирский централ
Куда ни глянь: «историк – лох!» – на партах, стенах и дверях, уже, как дань уважения к мебели и архитектуре школы, как знак того, что вот этот подоконник или стол для тебя своё, родное, и поэтому они достойны нести святую заповедь о том, что историк-лох. Ибо каждый прихожанин школы должен знать её и передавать остальной пастве, дабы заповедь уберегала от печали и уныния любую овцу, отрок ли она или отроковица, когда настанут те сорок минут урока по истории и когда мир погрузится во мрак, и Цой не будет жив, и панки будут dead. Опусти тогда смиренно очи долу, прочти на парте два заветных слова, и тьма отступит. Аминь!
Дошло до того, что кто-то, находясь в истинно религиозном экстазе, начертал заповедь на золотистой вывеске «Средняя школа № 2», и после этого директор вызвала Сергея Алексеевича к себе.
– Я вычту у вас из зарплаты, заставлю платить и делать в школе ремонт! – обрушилась она на него громовым голосом, сама огромная, как туча.
– За что? – выговорил оглушённый историк, пригибая голову и щурясь, будто и вправду ожидал удара молнии.
По причине вопиющей худобы Сергей Алексеевич занимал в любом закрытом пространстве так мало места, что казался одинокой берёзкой посреди обширного поля, и значит, на роду его было написано: бойся молний!
– Я же не сам про себя пишу, – логически верно оправдался он.
– И я про вас не пишу, – совершенную правду сказала директор. – Но надо, чтобы никто не писал. Думайте, как вам этого добиться. Или уволю.
И брал он в учительской журнал пятого А класса, и садился на дорожку, вздрагивая, будто мог не вернуться… Пятые классы звери, злее всех следующих классов, с шестого по одиннадцатый. Сейчас он будет кричать им фальцетом краснодипломника об истории Древнего мира и, что плохо, плеваться. Почему-то так. Слюни сами брызжут, когда он пытается перекричать звериную громаду, и это злит их ещё больше.
На переменах он прямиком спешит в туалет смывать с бровей белую потовую соль. Смотрит в зеркало и не верит, что повезло родиться именно с этим лицом. Если б дело было на игрушечной фабрике, то как куклу его забраковали бы и – в топку. А тут жить! Нос гротескной величины и глаза в форме отчаяния, какие рисуют себе клоуны-мимы. Тьфу!
– Вы зачем в зеркало плюёте?! – раздалось сзади от учителя физкультуры Алябьевой. – В него, кроме вас, ещё и люди смотрят!
Ну почему служебный туалет и для М, и для Ж? Что за равенство и братство! И почему физкультурницы пьют вино? Почему не математички с химичками? Неужели спортивный режим обязывает?
Домой.
Как хорошо дышать, смотреть, идти!
Около подъёзда уже стоит-ждёт Миша, соседский мальчик шести лет. Хочет есть и слушать.
Мамка его на вид всё ещё хорошая, ладная, как княжна, но после развода она ушла с головой в горькую физкультуру и вечерами приглашает в гости Костю-Башню. Вдвоём они слушают «Владимирский централ».
Башня знаменит, и каждая собака скажет о нём с уважением; «О, Башня идёт, а ну-ка я другой дорогой».
Это мужчина, покрытый живописью в синих морских тонах. Однако картины написаны не рукой мариниста, и их содержание далеко от Айвазовского и ближе к Нестерову с его церковной тематикой, тоской о нравственных идеалах, куполами, крестами, ликами.
– Сергей Алексеевич! – бежит навстречу Миша. – Про что вы сегодня расскажете?
Они здороваются за руку, будто оба взрослые дядьки.
– Сначала ужинать! – поддельно хмурится тот, что выше и как-никак старше.
Ужин.
Сергей Алексеевич старается покупать и готовить вкусное. У Миши аппетит пятерых.
– А вы что не едите? – спрашивает Миша, одной рукой пихая в рот куриный окорок, а другой нетерпеливо давя маринованный помидор.
– Ешь! – сурово отвечает Сергей Алексеевич.
Часто он отказывается совсем и по уходу Миши гложет позавчерашний хлеб. Зато не было и не будет, чтобы ребёнок остался голодным. И пора покупать Мише ботинки на зиму, а то ходит он в домашних тапочках. И зачем самому объедаться, если больше и краше не станет?
Иногда, когда Миша очень грязный, Сергей Алексеевич устраивает ему баню и потом, обернув полотенцем, достаёт мальчика из ванной и прижимает к себе, вот-вот готовый заплакать, так ему становится хорошо.
Сергей Алексеевич мечтает обнимать Мишу и кроме, как после помывки, но боится, что тот расскажет матери или Башне, и те поймут по-другому. Сейчас ведь положено понимать по-другому.
– А у вас есть невеста? – спрашивает Миша, дыша после тарелки гречки.
– Я женат на науке! – говорит Сергей Алексеевич грозно, намекая, что смеяться грех.
– Ишь ты! – понятливо кивает Миша, зевая. – Я тоже найду себе красивую науку и женюсь. Вон, как Катьку Семёнову со второго этажа.
– Всё! – останавливает Сергей Алексеевич его вялую руку, которая тянется за куском сыра. – А то спать захочешь и не будешь слушать. Лучше поешь ещё раз перед домом.
Он ведёт Мишу в комнату, усаживает его на диван, и прокашливается.
– Итак! Тысяча шестьсот девятый год! Нападение на наш с тобой город пана Лисовского. Этот польский злодей был послан из Москвы воеводой Яном Сопегой…
Миша слушает, улыбается. Человек перед ним и для него прыгает, машет руками, корчит рожи. Интересно и смешно.
– Ты подумай, Миш! – Сергей Алексеевич звонко стучит пальцем себе по голове. – Пан Лисовский даже у себя на родине, в Польше, был приговорён к смерти, вот и представь, какое в то время пришло к нам отребье.
– Хуже Башни? – спрашивает Миша, и Сергей Алексеевич замолкает, а за стенкой в который раз подряд бубнит «Владимирский централ».
– Хуже, Миш!
Бывает, они ходят на места сражений. Сергей Алексеевич показывает: здесь, где сейчас в хорошем и плохом смысле стоит машиностроительный завод, в то время находилась дозорная вышка, и как раз здесь произошёл первый бой с поляками, в котором погиб наш воевода. А где теперь клуб «Фарс» вместо драматического театра, там наши потерпели поражение, и все до единого мужчины города погибли.
Удачной оказалась прогулка на болотистую речку Казоху, вдоль которой четыреста лет назад пришлось отступать нашим дружинникам. От жары 2010 года речка обмелела, и Сергей Алексеевич вытащил из густого ила русский меч. Тяжёлое, красивое оружие, которое, конечно, поржавело, и у него расщепилась деревянная рукоять, но всё равно клинок оставался остр и крепок, что хоть сейчас бери и руби. Пришлось пока утаить меч у себя, поскольку местный краеведческий музей уже год переезжал в другое здание, роняя по пути экспонаты на радость и благосостояние антикварам.
– Пан Лисовский ещё долго после изгнания поляков из Москвы разбойничал по нашим городам, и умер он в шестьсот шестнадцатом году, в Суздале. Упал с лошади и убился.
– Хоть бы и Башня так, – пробормотал Миша.
– А что, Башня тебя обижает? – спросил Сергей Алексеевич, запыхавшись от энергичной жестикуляции.
– Обижает, – поёжился Миша.
– Как?
– Писькой, – выдавил Миша, красный-красный.
– Как?.. – у Сергея Алексеевича повисли руки.
– По ночам будит, письку свою достаёт и говорит: на, лижи. Я ему говорю: не буду. Он говорит: мама твоя сосёт, и ты должен. Дерётся.
Медленно, чтобы не мимо, Сергей Алексеевич сел на стул. Сердце его не билось, видимо, боясь поперхнуться.
– А вчера тыкал мне писькой в попу. До сих пор болит.
Минуту Сергей Алексеевич изумлялся на себя, что не может сказать ни слова. Только громко играл за стенкой «Владимирский централ».
– Мама знает? – наконец нашёл он что спросить.
– Ой, точно! – встрепенулся Миша. – Она же говорила, никому не говорить! Вы никому не скажете?
– Никому, – произнёс Сергей Алексеевич и фыркнул от наступившего внутри него могильного холода. – А сказку хочешь посмотреть?
– Какую? Хочу, давайте!
Сергей Алексеевич метнулся к серванту и принялся ворошить DVD-диски, стараясь делать как можно больше движений, чтобы согреться.
– Ага! «Илья Муромец». Сиди, смотри! Я тебе погромче сделаю, ладно?Уже тронув ручку двери, чтобы выйти из своей квартиры, Сергей Алексеевич вдруг улыбнулся, поставил меч в углу прихожей и пошагал назад, в комнату, где шёл «Илья Муромец».
Миша сидел на диване, румяный, глазастый. Увлечённый сказкой, он забыл краснеть. Сергей Алексеевич присел перед ним на колено и потянул его к себе.
– Встань-ка. Иди ко мне.
Миша встал на ноги, и Сергей Алексеевич обнял его. Обнял и поцеловал в макушку. А Миша смотрел через плечо Сергея Алексеевича в телевизор и обнимал тоже.В школе дети стали учиться хуже, потому что отвлекались и писали на уроках письма во Владимир. Ты лох, если не написал ни одного письма. Святую заповедь всюду исправили. Теперь она читается как «историк – супер!»
Счастью быть
1.
Второй класс школы. Вася Киселёв ел на ИЗО пластилин и смеялся над всеми полным ртом. Саша Смирнов стриг на себе волосы, а когда достригся догола, то рисково избавился от ресниц.
Лучшим слыл Толя Краснов. Он ничего не делал. Не писал, не рисовал. Тетрадки у него были пустые. Пластилина полная коробка.
При этом у доски он решал примеры на твёрдую четвёрку, читал, почти как взрослый, и не обижался на «дурака». Ему хватило первого класса, чтобы науки дальше сами развивались в его странной головке.
На педсоветах фамилия Краснов стала нарицательной. «Хуже Краснова» означало «пора в интернат».
Самого его перевести не могли, потому что вреда он нёс не больше, чем пустая парта, а террор двойками считался непедагогичным.
У Краснова имелись заботы насущнее школьных. У бабки в терраске он взял две тяжёлые, на досках, иконы и смастерил из них бронежилет, прилепив «моментом» ремни. Потом изготовил грузное ожерелье, нанизав на нить полсотни чесночных зубчиков. В заключение он выстругал недетский осиновый колышек.
Обзаведясь амуницией и оружием, Краснов стал думать, с кем бороться. То, что враг должен быть исчадьем ада, а не каким-нибудь Васей Пластилином, он разумел, но и всё.
Зло существовало, Краснов знал. Иначе, почему его родная сестра, приезжая на выходные из института, падает в обмороки? Почему мать грустная, а если радуется, то только когда купит буханку чёрного хлеба? Почему отец дома, а не на работе, как раньше? Кто-то злой мешал им жить сыто и весело. Оставалось найти.
После школы Краснов надевал под пуховик иконописный жилет, водружал на шею чесночное ожерелье, совал за ремень кол и шёл искать зло вокруг дома.
Круг за кругом он обходил родную пятиэтажку и всматривался в каждого. Подозрительные, конечно, попадались, но не настолько, чтобы карать без суда и следствия. Пьяные вообще не шли в счёт, иначе бы кол об них затупился, как карандаш.
– Что ты ходишь? – выказало себя однажды зло. – Тебе по башке настучать?
Краснов обернулся. У последнего подъезда курили и смеялись трое парней.
– Ты дурак? – сказал один с большой головой, похожей на молот. – Надоел ходить.
Краснов давно сочинил речь карателя и сейчас попытался выговорить её:
– Ты то зло, которое крадёт счастье…
– Пошёл отсюда! – не дослушал его парень.
Краснов покорно продолжил путь. За домом он остановился, чувствуя, как ему горячо от собственного пота. Кипяток лился даже по вискам.
Под ногами лежали камни.
Парень с большой головой сидел на лавочке и удивлённо смотрел на то, какдетская ручка, держащая камень, взмахивает перед ним, а во лбу у него раздаётся отчётливый стук. Ещё время он моргал одним глазом, в который набегала резвая кровь.
Так и моргая глазом, парень долго и муторно бил Краснова кулаками по лицу, а Краснов стоял на ногах и сносил удары подобно Мохаммеду Али, не напрягая шею. Только смешно кувыркалась головка.
Наконец парень устал и вытер рукавом со лба благородные пот и кровь.
– Тебе чего надо-то? – задыхаясь, спросил он Краснова.
– Смерти твоей! – зарычал Краснов.
Один, второй, … пятый полетели в лицо парню камни. Тот бежал на Краснова, а Краснов отскакивал и из карманов пуховика хватал новые и новые снаряды.
Друзья парня стояли опешившие, глупо улыбаясь.
Краснов бросил последний камень и двинулся врукопашную. Он по-матросски рванул на груди пуховик, а парень, увидев лик Христа и чесночное ожерелье, отступил.
– Псих! – взвизгнул парень.
Появился кол, и уже попятились двое невольных секундантов.
– Пошли отсюда! – крикнул один. – Может, этот пацан заразный!
Взяв кол в зубы, Краснов стал поддевать ладонями осеннюю грязь и швырять злу в спины.
Домой он бежал уверенный, что там уже настало счастье. Интересно было увидеть, какое оно. Увидеть и нахвастать: это всё я!
Он вбежал в квартиру и крикнул:
– Мам!
– Она должна была ответить: «А у нас счастье!» Но ответила:
– Наконец-то! Иди, поешь, я сочень испекла.
Не снимая святых облачений, Краснов прошагал на кухню.
– Как дела? – бодро спросил он.
Дальше Краснов не успевал спрашивать и отвечать. Как маленького, мать бросилась раздевать его, мыть и причитать над ним:
– Ну, дурак! Ну и дурак! Молния с мясом выдрана! В чём завтра в школу-то пойдёшь? Где мы ещё тебе одёжку найдём? Отец без работы. У меня полгода зарплаты нет. Ну и дурак! А я думаю, что это чеснока меньше стало!
Краснов жмурил глаза. Они мокли и заплывали синяками.
2.
– На Новый год приходи к нам! Слышишь? – сказала сестра, накладывая щи, и добро-добро улыбаясь.
– Ладно, – сказал Краснов, видя улыбку.
– От себя ничего не придумывай! Мы уже начали закупаться.
– Почему это? Я на работу устроился. До праздников аванс получу.
– Ну! Куда? – сестра улыбнулась на этот раз правдиво.
– Водителем в администрацию.
– Ух ты, молодец! И кого возишь?
– Всяких. Сегодня начальника отдела культуры возил. Завтра депутата Асафьева повезу.
– Здорово!
– Да. Только дерьма там приходиться видеть. Гомосек на гомосеке. Тот же Асафьев, предупредили, до маленьких мальчиков охоч.
– Что поделаешь, – вздохнула сестра. – Везде так. Тебе б, конечно, заводы строить с твоей-то головой. Но и эта работа хорошая, хоть на ноги встанешь. Давай я одну бутылку шампанского открою!
– Не-не! Завтра ехать. Не буду.
Одеваясь, Краснов достал из кармана куртки красного будёновца на коне.
– На, отдай племяшке, когда проснётся, – Краснов протянул будёновца сестре. – Сегодня у родителей был, в своих детских игрушках покопался.
– У родителей? – сестра потемнела. – Как они?
– Как… обычно, как. Одни игрушки в доме и остались.
– Давно не была. Видеть их больше не могу.
Сестра зачем-то понюхала пластмассового будёновца и пробурчала:
– Надо с хозяйственным мылом вымыть.
Краснов шёл к своей 47-й комнате, а у 43-й у него дрогнуло сердечко.
Чего боялся и желал, то и случилось. Из 43-й появилась Аня.
– О! Привет! – сверкнула Аня белыми зубками так, что в коридоре, кажется, прибавилось света. – Как дела? Приходи к нам сегодня на блины!
Она не дала ему даже поздороваться, осыпая вопросами и предложениями, на которые сама ни разу не дожидалась ответа. Что на улице, холодно? Что не видно тебя? Придёшь к нам на Новый год?
Краснов по привычке пропускал её щебет, а о чём беспокоился, так это как лишний раз скосить глаза на её обутые в сланцы ноги с розовым педикюром.
Внизу начинало безобразно щекотать.
– С кем ты трещишь? – высунул голову муж Ани, Вася Пластилин. – Здорово, Тол и к! Мне с Питера канистру коньяка привезли. Жду тебя!
– Не могу, – ответил окосевший Краснов. – На работу завтра.
– Правда? Куда?..
Краснов налил чая, сел за стол и положил перед собой газетный свёрток, принесённый от родителей.
Он пил чай и думал, что счастье обязательно настанет. Там будет и собственная женщина с розовым педикюром, и подарки племяннику, и спокойные, трезвые родители. Счастью быть!
Он развернул газету. В ней лежал осиновый кол. Как раз на фотографии депутата Асафьева, человека с большой головой, похожей на молот.
Ты живой
На груди Ивана росла шерсть, и женщины отдавались ему с той обречённой покорностью, с которой раньше жертвовали себя кощеям, минотаврам и другим древним денди. Его густой волос бурно лез через ворот и между пуговиц одежды, а тонкие рубашки спереди дыбились, благодаря чему стать Ивана имела пышный вид. Вдобавок далеко вперёд выдавался хрящеватый нос, а голубые, едва не в поллица, глаза дополняли внешность до сходства с мультипликационным Мамонтёнком.
Невинность у Ивана отняла парикмахер Наталья, застав его врасплох, пока он был ещё только пушистым, но не мохнатым подростком. Сидели они молчаливые летом на лавочке и стеснялись своих разных возрастов. Душные запахи, вечерний визг ласточек, а в углах уже ждала своего коварного выхода ночь. Вдруг Наталья глянула на Ивана сплошными чёрными глазами, как кошка на мышь. Не успел Иван подумать о плохом, она накинулась и стала душить его поцелуями. У него кончился воздух сказать, что весь день катался на мотоцикле, поэтому пыльный, не надо его облизывать, это, наверное, вредно и невкусно.
С шеи она спустилась к его груди и стала хватать губами кудри, как сладкую вату. Иван не вытерпел и помог Наталье на той же лавочке. Что его тогда удивило, так это то, как горячо было внутри Натальи. Оно там, значит, и болело. Однако, оказав первую помощь, Иван только усугубил. До утра Наталья водила его по лавочкам и со звериной нежностью облизывала, вынуждая проводить над ней раз за разом новое врачевание. Ивану же хотелось есть и спать.
– Сколько у тебя было раньше? – спросила утром Наталья, хлопая усталыми, будто слепыми, глазами.
– Впервые, – ответил Иван, счастливый, что пришло время прощаться.
– Не ври! – обиженно фыркнула Наталья и отвернулась, чтобы не показать ликование. – Это у меня в первый раз так.
Познакомился Иван с Натальей у неё на работе, пообещав ей принести вечером только что вышедший «Титаник». Вот куда делась кассета, а то он совсем забыл, кому дал смотреть. Как же выглядела Наталья? Тоже забылось. Чёрная, тонкая. Вроде, всё. А, да – тревожно и даже трагически пахла, как освежеванная тушка.
С тех пор Иван с любовью, а чаще без неё, врачевал женщин. Замужних и нет, важных и простых, глупых и через силу образованных. Сеансы начинались одинаково: женщина тёрлась о его грудь щеками, как любят ласковые кошки.
Возмужав, он стал привередой. Особенно Ивана заботили их ногти. Потёртый маникюр, если женщина считалась хорошей хозяйкой, он мог извинить, но ляпы педикюра считал оскорблением, будто к нему на грудь просилась не женщина, а солдат после марш-броска или какой-нибудь дядька, который не меняет носки, как старики не меняют политические убеждения.
Он стал чуток к запахам и плевал на тех женщин, которые приносили на себе дух своего дома, мужа или детей. Больше всего запах копился у женщин в волосах, и чаще это был душный запах супружеской постели. По-Ивану, женщина должна была пахнуть только своим организмом и своими жидкостями. Возможно, также приходят в бешенство медведи, когда чуют носом другого самца или медвежат. Им нужна самка, которая хотя бы на время одного соития будет казаться непорочно одинокой.
Лёгкость, с которой Иван получал женские тела, приносила ему много лет лишь пользу. Пока другие не досыпали, отчаянно рифмуя вновь, кровь и любовь или приручали дам вечерними выгулами и сладкой подкормкой, Иван бережно строил карьеру адвоката.
Проблемы начались ровно в тридцать, как по будильнику. Первый звонок прозвучал глухо, потому что им был удар кастета. Иван не предполагал, что муж изящной принцессы Ирины окажется типом с лицом и характером отъявленного Маяковского. Шрам получился размашистый, от челюсти и далее по щеке, что подтверждало поэтическое вдохновение автора.
В следующие встречи с доминантными самцами Иван действовал по правилу «лучшая защита – это нападение» и, не здороваясь, бил локтем. Неожиданность и локоть раза три рекомендовали себя безотказными, пока не произошёл грустный случай.
Осенним предгрозовым вечером, когда сама природа за окном забавлялась в жанре психологического триллера, резко и особенно настойчиво зазвонил телефон.
– Иван Николаевич? – холодно, в стиле Хичкока, спросили в трубке. – Надо срочно встретиться.
– По какому поводу? – не дрогнув, поинтересовался Иван, сгибая и разгибая в локте руку.
– По поводу Светланы, – ответил Хичкок, – моей жены.
К назначенному месту Иван шёл, соображая, о какой Светлане пойдёт речь. О той, что из аптеки, или о дежурной по вокзалу? Или была какая третья, но забылась?
В безлюдном дворике стоял тяжёлый, как туча, человек, а рядом с ним урчал внедорожник, размерами с трактор. Иван сходу применил локоть, и человек даже взбрыкнул в воздухе ногами. В эту же секунду небо взорвалось и обрушилось на землю шипящей, как кипяток, водой.
На обратном пути под вспышками грозы Ивана осенило. Он вспомнил и Светлану, и хуже того, вспомнил побитого им человека. То был муж подзащитной, хозяин автозаправки Хоботов. Иван с ним недавно встречался, и Хоботов обещал, что добудет документы, которые позарез требовались для победы в деле его жены. На счастье Ивана Хоботов-Хичкок потом так и не вспомнил, что с ним произошло. Сам виноват, проще надо быть с людьми и не задавать загадки.
Хард-рок сыграли ангельские трубы над головой Ивана, когда он отправился в гости к красавице Юле, о которой можно было сказать, как о Солнце: «Двум Юлям не бывать». Муж её, понимая, что владеет чем-то уникальным и неповторимым, начинил все три их квартиры прослушкой, а также платил охране, которая работала в три смены и не столько охраняла, сколько невидимо следила за Юлей и собирала компромат.
Муж Тимур был больше чем бандит. Тимур был абрек. Почти каждую неделю он устраивал разбои, о которых боязливо умалчивали телевидение и газеты – слишком смело и несовременно действовал он, тем самым грозя заочно стать живым героем. Ведь сейчас можно быть злым и кровожадным, но героем – нельзя. Также, как становится зазорно зваться мужчиной.
В манере раннего Сталина Тимур с тридцатью отборными витязями останавливал и грабил товарные поезда. Совершал он это торжественно, с пальбой и со свистом, оставляя после себя связанных машинистов и милиционеров. Убивать он не любил.
Юля впустила Ивана в квартиру, показывая пальцем: «Тихо!». Её лицо, перенасыщенное красотой, было в алых и белых пятнах. Видимо, в ней боролись леденящий страх и жгучее нетерпение.
Открыли на кухне и в ванной воду, включили во всех четырёх комнатах телевизоры, но и после этого говорили шёпотом.
– Давай, я у знакомых техников с ментовки попрошу аппаратуру, – шептал Иван, – найдём все жучки.
– Попроси, – ответила Юля и нырнула носом в расхристанную грудь Ивана. – Хочу тебя!
Раздеваться не стали. Юля лишь приспустила с себя мягкие махровые штанишки и повернулась к столу.
– Сегодня так, а то я боюсь, – сказала она.
Лицо её раскалилось, и смотрела она с мукой в глазах, как смотрит киса, которую заботливые хозяева не выпускают весной на улицу.
Сзади она была похожа на подвешенную на нити гирьку, настолько тонкой была её талия и так широко раздавался зад. Иван положил ладони на её холодные ягодицы, и Юля напряглась, как трусливый пациент в ожидании укола.
Машины буксуют на некатаных дорогах, вот и Иван вошёл в Юлю не сразу, а с натугой. Он знал, что она не ложится с Тимуром, отважным только с поездами. Внутри Юля оставалась узенькой, труднопроходимой девочкой. Её и Тимура женитьба таила в себе ту загадку на которую имеются не один, а несколько ответов, и все неправильные.
Лишь Иван утвердился в Юле, и Юля начала подтанцовывать в томительном фламенго, как вдруг телефон, лежавший перед ними на столе, разразился дагестанскими гармошками, а на экране высветилось «Тимур». Словно слепой глаз уставился на них, а вместо музыки заполонил комнату издевательский смех. Продолжать стало мерзко, и Иван ощутил, что у машины сдуваются колёса.
– Алло! – взяла Юля трубку.
– Пусть он выходит, – расслышал Иван громкий голос. – Я жду на улице.
– Про кого ты? – спросила Юля, и зад её, минуту назад игривый, тяжело опустился.
– Не шути со мной! – крикнул телефон.
Иван подался назад и вышел из Юли, будто из тёплого дома на осеннюю улицу. Даже передёрнуло.
Юля отложила телефон и косо улыбнулась:
– Пойдём, выпьем. За встречу.
На кухне ждал стол, насколько лакомый, настолько в эти опасные минуты и печальный.
– Мне стакан, – отодвинул Иван от себя рюмку.
Подняли тревожный тост за чтобы-всё-хорошо.
– Лёнчик со второго этажа ещё живой? – пылко спросил Иван, не закусив после стакана.
– Живой, – ответила Юля. – Хочешь, как в прошлый раз?
С пятого этажа Иван спустился на второй и аккуратно постучал в дверь, снизу до верха покрытую следами от подошв. Аккуратно стучать следовало не из вежливости, а потому что дверь могла упасть даже от громко сказанного слова.
– О, Ванька-романтик! – обрадовался Лёнчик, сберёгший трезвую память на лица. – Опять бежишь?
Лёнчиком он звался противозаконно. Его уменьшительно-ласкательная юность минула в доядерную эру, и выглядел он мало сказать старым, выглядел он – вечным, как истина о вине. Размеры Ленчика превышали общечеловеческие, что тоже мешало воспринимать его детское имя. А если бы пришло кому в голову его взвесить, то вслед за цифрой 120 должны были бы стоять вместо килограммов литры.
В качестве приветствия Иван вручил хозяину початую бутылку и прошёл внутрь. По пути к балкону пришлось повстречать ещё нескольких водяных и русалок, но почести им были лишни.
У Ивана имелся двойной опыт прыгать со второго этажа из питейной квартиры. Так что и на сей раз он приземлился удачно и эффектно, с кувырком. Увы, поглазеть на трюк приехали на двух автомобилях черноокие мужчины с плотными туловищами.
– Брат, мы его взяли, – рапортовал один из них по рации. – Он за домом. Приём!
Иван, озираясь, тщательно отряхивал одежду и ощупывал, будто отбил, локти. Решить вопрос бить или не бить, помогли ещё две прибывшие машины, в одной из которых сидел Тимур. Конец.
Как полагается истинному лидеру, Тимур не имел человеческого роста и лишь немного возвышался над землёй, чуть выше дворняжки, если ей встать на задние лапы. При этом он умел смотреть с высоты птичьего полёта. На лице его имелся свирепый острый нос неизвестного назначения, каким можно было разве что до смерти клевать пернатую добычу. Юля звала мужа грифоном.
– Поехали! – позвал Ивана Тимур, кривя тонкие, как порез, губы.
В дороге молчали. Оба знали, что впереди ждёт страшное, но Иван зевал, а у Тимура тряслись руки. Иван зевал в голос, будто вынуждая, чтобы его оговорили, а Тимур, сжимая зубы, скалился, лишь бы молчать.
Выехали за город, свернули на грунтовую дорогу, и Иван произнёс:
– Тимур!
Водитель сбавил скорость, чтобы не трясло и стало тише.
– Тимур, давай поговорим без них. Минуту.
– Сиди ровно! – ответил тот.
– Тогда поговорим при всех, – настаивал Иван.
– Рамазан! – сказал Тимур водителю. – Останови!
Вдвоём они отошли от кортежа в бесцветное осеннее поле. Тимур по пути чесал рукой в кармане куртки.
– Тебе не стыдно? – спросил Иван и скривился, изобразив на лице разочарование.
Тимур встал и, забыв про зуд в кармане, вынул руку, сжатую в кулак.
– Ты думаешь головой-то? – напирал Иван. – Зачем ты столько людей собрал? Чтобы они видели и знали, что ты не можешь справиться с женщиной? Они потом тебя будут слушаться, а? Они пойдут за тобой? Ты думал?
– И щто ты предлагаешь? – Тимур разжал кулак.
– Сделал бы всё тихо. Или сам бы меня или заплатил бы кому, но без показухи. А то ведь позор для такого, как ты. У тебя имя, авторитет. Да и я не последний человек в городе, меня знают. Надо же было устроить такую войнушку! Машины, рации!
Тимур слушал и не перебивал. Вдалеке на дороге осталась вереница автомобилей и два десятка разбойников, которые маялись в ожидании, что их тоже позовут на разговор.
– Если бы я тебя не уважал, то и не говорил бы, – закончил Иван.
Он шарил ногой по бледной траве и кусал губу. Хотелось жить.
– А ты в чём-то прав! – сказал Тимур и поглядел не свысока, а откуда-то из адских глубин. – Сука не захочет – кобель не вскочит.
Ивана, живого и счастливого, отвезли домой, а вечером ему позвонил Тимур и сказал, что Юля упала с балкона. Больше не сказал ничего.
2.
Как она выглядела на земле, когда похороны и потом – где могила, Иван узнавать ни у кого не стал. Он начал озорничать.
Раньше милиция клацала зубами, зная, что того или иного злодея будет защищать Иван. Следствие и дознание на дух не переносило его самого, его костюмы с металлическим отливом, зеркальные ботинки и крокодилий портфель. На всякий допрос или судебное слушание он являлся, сияя, как в ЗАГС.
– Что? – обречённо вздыхал следователь в его наглые глаза, – опять пришёл всех жуликов по домам распускать?
А он улыбался и изящными белыми пальцами интеллигентно заправлял за узел галстука кудри, которые щекотали ему кадык.
Ивану боялись давать на ознакомление дела, это было всё равно, что давать кочан капусты на ознакомление козлу. Он брал толстые, толще Пятикнижия Моисея, тома и искал в них первоначальный материал – грязные, мятые листочки, исписанные кривым бессонным почерком и пропитанные никотином. Здесь-то Иван и в самом деле чувствовал себя, как в огороде, смакуя огрехи. То разные чернила, хотя по сухим каплям на листах было ясно, что писалось в дождь, и шариковую ручку оперу пришлось поменять на гелиевую. То в неверной графе стояла дата и наплевать, что протокол писался ночью в подъезде без лампочки. Фальсификации и всё тут.
Понятые от вопросов Ивана теряли речь и сознание, а он, спрашивая, мотал на палец кудряшку, торчащую из прорехи между пуговиц. Следователи и дознаватели, бывало, что и плакали, когда он, играючи, разваливал дела, которые, казалось, можно было отдавать на Страшный суд, и ангелы сказали бы спасибо. Слава Ивана достигла пика, когда судья Фирсова не смогла вынести решение об аресте Галины, цыганки, наводнившей героином несколько городов. Фирсову вынесли из зала суда с инсультом.
Так было, а стало…
– Дежурный сегодня кто, Ваня? – спрашивал следователь, созваниваясь с адвокатами. – Слава те, господи!
На раз-два Иван принялся колоть своих подзащитных или подначивать их подписать показания им же на беду.
– Ваня придёт? – говорили сыщики, уставшие биться со злодеем, упёртым, как земная ось. – Значит, можно будет домой свалить раньше. Ваня расколет.
И приходил он, ослепительный, прямой и так же манерно поправлял на шее выбившиеся лохмы.
– Кто у нас сегодня? – спрашивал.
– Новый Раскольников! – угодливо объясняли ему. – Восемнадцать лет отроду, четыре судимости. Изнасиловал и ограбил старушку, восемьдесят четыре года. Целый день крутим-вертим, молчит.
– Отдельный кабинет и десять минут не беспокоить, – диктовал Иван свои скромные условия.
Один-на-один он говорил молодому Раскольникову:
– Ты золотой парень! Я бы молился на тебя, будь у меня такой сын. Я вижу людей, верь мне. Поэтому делай, как я скажу тебе.
Не через десять, а через пять минут Иван выходил из кабинета и бросал следователю:
– Начинайте допрос. Скажет всё, как было.
Если требовалась грубость, то Иван выражался настолько живописно, что у видавших виды оперов стыла кровь и по-дамски грелись щёки. Имея же дело с элитой криминала, он просто хитрил. Помогало имя и слава прежних побед. Но до поры.
Не в первый раз он взялся защищать Олега Святославовича Трофимова, тайного князя мужеложников. Олег Святославович занимался гирудотерапией, то есть пиявками. У него имелось маленькое помещение в здании автовокзала, комната, разделённая медицинскими ширмами, за которыми стояли кровати для процедур. В рабочее время на кроватях лежали гипертоники и симулянты, а в вечернее – сам доктор и с ним кто-нибудь однополый.
Внешность его мало содержала в себе от идеалов гей-культуры. Большое, обрюзглое, как у испорченного мертвеца, лицо. Фигуры был излишек, особенно там, где ей не место: на животе, седалище, и вообще ниже подбородка начиналась одна обильная фигура.
Помещение же на вокзале служило лишь прихожей к его насыщенной жизни. Полнокровная жизнь кипела на даче, что находилась в деревне на берегу Волги и внешне ничем не отличалась от остальных деревенских изб. Характерным было название деревни, Содомовка.
В чахлый деревянный домик с плохой банькой, в которой ветер дул по ногам, каждую неделю съезжался богемный люд. Работники столичных инстанций, депутаты, ну и птицы помельче, вроде деятелей искусств, которые повседневно мыли посуду и убирали из бани кал после оргий.
На работу Олег Святославович ездил на большой и чёрной, как ночь, машине с номерами администрации. За рулём сидел, конечно, не сам, а штатный водитель. Ни один крупный законопроект, касающийся жизни города и области, не принимался без благословения Олега Святославовича, хотя к своим сорока пяти он с трудом читал и не умел писать.
Защищать его было проще, чем сходить за пивом. Основную работу делали друзья с политических и бюрократических олимпов, а на долю Ивана оставалось присутствовать для вида, как, например, по делу о самообороне. Олег Святославович оборонялся от сотрудника милиции, который размахивал палкой в ответ на обычную просьбу Олега Святославовича познакомиться. Суд признал, что на месте подсудимого любой бы задушил хама, а надругаться следовало даже до, а не после, чтобы знал.
В дни же Иванова озорства Олег Святославович вжился в роль пиявки и допустил некоторые неудобства по отношению к клиенту своей клиники. Рядовой случай из практики и не больше. К тому же Трофимов ждал гранта от Олимпа здравоохранения на развитие трудотерапии в регионе, и поднимать бучу из-за строптивого клиента ему было попросту недосуг. Поэтому такое плёвое дело он полностью доверил Ивану.
На допрос Иван принёс уже готовый бланк протокола, набитый от имени следователя.
– И он это подпишет? – спросила девушка-следователь, хлопая изумлёнными глазами, будто смотрела на салют.
– А куда он денется, – улыбнулся Иван.
– Зачем это тебе?
Вместо ответа Иван вдруг согнулся от смеха.
– Представь потом его лицо! – выдавил он, задыхаясь.
Судья зачитывал постановление, сбиваясь и кашляя. Очевидно, не верил в выпавшую на его честь миссию.
– … признать виновным… в совершении преступления, предусмотренного…
– Ванюш! – гортанно, будто горло слиплось от мужского семени, спросил Олег Святославович. – Что этот дурак читает?
Судья, услышав про дурака, закончил уверенно и чётко:
– … сроком на три года с отбыванием в колонии общего режима.
Иван сидел зачарованный, стараясь лучше запомнить текущую минуту. Именно сейчас крошилась в щепки его карьера, да и жизнь, в любом её понимании, делалась зыбкой, как сон.
А затем он на весь зал рассмеялся. И смеялся в следующие дни, подписывая договоры дарения на дом и машину, обналичивая счета в двух банках. И совсем его прорвало на хохот, так, что по-поросячьи визжал, когда молчаливые крепыши привезли его на знаменитую дачу и передали в руки троим постояльцам. Эти трое волоком потащили Ивана к бане, а он выскальзывал, обессиленный от смеха.
– Помешался, что ли? – сказал один из них, бородатый и мощный, настоятель деревенского храма.
– Какая разница! – проворчал молодой депутат областной думы.
В предбаннике Иван, неожиданно перестав смеяться, натужно покраснел. В лица карателей ударил густой запах.
– Да у него из всех щелей! – вскрикнул стройный юноша, стриптизёр. – Пусть сначала моется, свин!
Ивана закрыли в бане, лишив цепочки с крестиком, ремня и шнурков. Внутри оставили ему бак с холодной водой, деревянный ковш и простынь.
– Десять минут тебе! – крикнули уже из-за закрытой двери.
Да, помыться требовалось, но лучше было погибнуть грязным, чем чистым достаться этой богемной компании.
Иван прошёл в натопленную парилку, ковшом выудил из печи лиловый от жара булыжник и завернул его в простынь, которую для надёжности сложил втрое и скрутил, чтобы держать обеими руками. И чокнутый хохот, и полные штаны, и грозный банный кистень он придумывал на ходу. Голова работала бешено, и, кажется, было слышно то, как пощёлкивают в мозгу импульсы. Сердце, спасибо ему, не боялось и стучало тяжеловесно, напористо, будто отбивало «Прощание славянки».
– Я всё! – позвал Иван, встав у двери и закинув на плечо увесистую простыню.
– Шустрый, как вода в унитазе! – смеясь, сунул в проём голову стриптизёр.
От удара он стремительно слёг на пол и загромоздил собой проход. Иван, боясь соскользнуть, пробежал по нему твёрдыми шагами, как по дорожной каше. Следующим надо было встретить бородатого батюшку, ибо уронить его потребуется сил и стараний.
Батюшка сидел в предбаннике за резным столом, держа в руке выпитую рюмку. Он успел качнуть головой, и камень лёг ему на плечо, что оказалось даже лучше. В широком плече хрустнула ключица, и батюшка, матерно ёкнув, замер, тараща изумлённые от боли и страха глаза.
Депутату, видимо, пришли на ум тяжкие мысли, потому что он обхватил руками голову, согнулся и побежал к выходу. Иван успел опустить камень ему на зад, после чего несчастный опрокинулся на спину и развратно раскинул в стороны ноги. Известная «поза лягушки», когда ломаются кости таза.
– Выздоравливайте! – коротко попрощался Иван.
Теперь ему предстояло самое трудное. Добраться в соседний город на той стороне Волги. Там ждал единственный приют. Сделать такой вояж с полными штанами, без денег и чтобы незаметно, можно было только пешком. Семь километров пути. Начало декабря. Надёжного льда нет, потому что ещё не пришли настоящие морозы. С богом!
Не опасаясь, что пустятся в погоню, Иван шёл медленно, три часа, и всякую секунду в своих мыслях умирал. Через каждые два-три шага лёд под ногами трагично трещал, и звук уходил в глубину, туда, где ждала Ивана тёмная, холодная смерть. Вот она, заветная грань, между-между – белая, припорошенная снежком.
Приходилось петлять, огибая чуть прикрытые ледком полыньи, а то и промоины, в которых ещё отражала небо вода. Путь получался не семь, а все четырнадцать километров. А как была прекрасна земля впереди, Господи!
Молясь, Иван наконец вступил на берег и только сейчас ощутил, что в штанах изрядно прибавилось, и об оледеневшую ширинку изнутри журчит свежая счастливая струя.
3.
Конспиративной квартирой Иван обзавёлся полгода назад, после встречи с кастетом. Нет-нет, тогда он не поддался неврозу и его не стали одолевать сны о кастрации. Однако убежище завести решил. Чтобы было.
Дорого квартира не встала, потому что находилась в городе, в котором и в советские-то времена имелось одно предприятие, химический завод, а последние двадцать лет не работало и оно, превратившись в сталинградские руины. Вслед за исчезновением из жизни города трудовых человеко-часов произошёл исход и самих людей, и самого времени. Остались лишь смена дня и ночи, а из людей назло прогрессу и модернизации доживали свой век рыбаки да горстка символических бюджетников. К примеру, действовал отдел милиции, в дежурной части которого стояла низенькая деревянная клетка, годная разве что для овец, а над столом дежурного вместо президентского портрета висела икона Богородицы, застеклённая выпуклым экраном от чёрно-белого телевизора. Сотрудников числилось ровно столько, чтобы, по-старинке, сообразить на троих.
А ещё по единственной асфальтовой дороге, которая тянулась вдоль всего волжского города и местами поросла травой, ходил автобус. Ивану запомнилась поездка в нём, когда он только что уладил дела с покупкой и спешил на вокзал. Проблема была в том, что приобретённая квартира находилась в противоположном от вокзала конце города на расстоянии семи остановок, и хотя в запасе имелся час, однако после минования автобусом четверти пути в распоряжении осталось времени вдвое меньше. Не то, чтобы успеть, какое там, в экскурсионной поездке по городу были все шансы проголодаться и захотеть в туалет.
– А-аа, простите, за полчаса мы не успеем на вокзал? – взгрустнув, спросил он водителя.
В ответ водитель просиял улыбкой Юрия Гагарина и – поехали! Он мчал без остановок, не впуская и не выпуская других пассажиров. Мало того. Уже сидевшие в автобусе люди не ругались, а успокаивали Ивана, что он успеет, называя его кто братом, кто сынком. В результате на вокзал водитель пригнал быстрее, чем тоже самое смог бы сделать герой «Такси-1, 2, 3, 4».
Ключ от квартиры Иван достал из трещины в стене подъезда. На месте была и спичка, вставленная в дверь для заметки на случай, если бы пытались вскрыть.
В квартире имелись запасы: по одной коробке – тушёнки, сгущёнки, рыбных консервов; чай, кофе, сигареты; рыдьно-мыльное. Плюс канистра спирта и в тайничке деньги, рассчитанные на пару билетов дальнего следования. Там же – газовый пистолет, переделанный под боевой.
Со стакана разбавленного спирта Иван уснул голый на пыльном диване. Проснулся он, когда за окошком во дворе стояла ёлка, бедно украшенная блестящим дождиком. Канистра была пустая. Всюду пустые консервные банки, и в них окурки. Кудри на груди свалялись. Из зеркала смотрел дядюшка Ау.
Иван умылся, обналичил тайничок и вышел на улицу, прихватив заплесневелую сумку «Аэрофлот». Свет едва не выжег глаза, а воздух опалил лёгкие. Слёзы, казалось, хлынули даже через нос, будто после полной ложки хрена. С мыслями об экономии Иван купил портвейна. Сумки должно было хватить на дня три русского сна.
В русских ведь больше силы, чем требуется просто для безделья, и если нет войны или комсомольских строек, то вечный русский гасит силу, чтобы она, невыработанная, не разрушила его самого. Так Иван и поступал.
Тайничок пустел, но до весны должно было хватить. Почему-то Иван ждал тепла. Наверное, потому, что все чего-то ждут и рассчитывают, что ожидаемое принесёт счастье. Времена года годились тоже.
Шёл он как-то в злобный мороз за аптечными флаконами (эх, да!) и считал, сколько остаётся денег до конца зимы, будто если их окажется мало, то весна не наступит. Цифры царапали мозг и от любого неосторожного поворота головы осыпались в гортань. В очередной раз отхаркав нерешённую арифметическую задачку, Иван встал и обмер. Перед ним на автомобильном номере красовались самые жуткие три цифры и три буквы.
Кабы «Х666УЙ», Иван бы только рассмеялся. Дураков полно. Но перед ним была машина Олега Святославовича. Хуже было только то, что свободный Олег Святославович стоял прямо на пути Ивана, и хуже некуда – с ним был стриптизёр.
– Да не понимаю я тебя! – ругался Олег Святославович на стриптизёра, который страшно мычал и несуразно махал руками; видимо, после банного булыжника он стал глухонемым и невменяемым.
– На! Лучше напиши, где его видели! – протягивал Олег Святославович блокнот.
Иван шатнулся назад, но бежать означало обнаружить себя. Поэтому Иван сказал:
– Мужики, дайте закурить.
Олег Святославович искоса глянул на него и взбесился:
– Кто мужики?! Пошёл отсюда, быдло!
И тот и другой расступились.
– Вот тоже! – услышал Иван о себе в спину. – Таких надо вместе с Ванюшей убивать, чтобы землю не топтали!
Деньги иссякали, весна пришла, а счастье медлило. От недостатка вина напали бессонница и, конечно, тоска. Да такая тоска, что всё внутри дрожало, а снаружи бурлили слёзы. Жаль было глупый мир и несчастное солнце, горевшее зря. И уже по-собачьи выл Иван и ладони наполнялись капелью из глаз, когда он вспоминал Юлю.
Стало ослепительно ясно, что Юля была его судьбой. Он любил её тогда, и дело шло к тому, что они должны были сбежать от Тимура. Жить и рожать детей. Как люди.
И не он ли, чтобы спасти свою овечью шкуру, намекнул Тимуру, что Юля корень зла? А?
Иван довёл себя до того, что ему достаточно было произнести её имя вслух, и в грязной, тёмной квартире с обрезанными за неуплату проводами начинались рыдания.
Деньги кончились внезапно, будто их и не было. День Иван просидел без вина. Думал, умрёт. Второй день без сигарет, но к вечеру не выдержал и пошёл на улицу стрелять у встречных.
День третий стал голодным. Хотя еду уже стрелять не пойдёшь. Или?.. На пятый день ноги сами понесли к хлебному киоску. Голод сначала жевал желудок Ивана, а потом принялся грызть позвоночник.
Из окошка киоска пахло не просто хлебом, пахло жизнью. Иван ходил кругами, как ходят собаки, и ждал, кого попросить. Считается, что труднее всего в первый раз сказать «я люблю тебя». Нет, в первый раз труднее – «дайте хлеба».
Три часа вокруг да около. Несколько раз Иван подходил к покупавшим людям, но в последнюю секунду цепенел. Сдался он, что называется с потрохами, когда купила хлеб бабка. Она положила буханку и батон в советскую авоську, и авоська околдовала Ивана. Он побрёл вслед за бабкой, поскуливая и скрипя зубами.
– Отломите мне немного! – неожиданно для себя громко сказал он, будто его кто-то подтолкнул.
Бабка шла, глухая.
– Отломите мне немного! – громче прежнего, потея, повторил Иван.
Она купила ему целый батон…
Иван спрятался за киоском и ел там, рыча от радости. Спешил до боли в челюстях.
Сытость не наступила, он мог сейчас съесть ещё два таких же батона, но голод стих.
А какой сегодня день недели? Об этом Иван спросил у проходившего мимо паренька в антикварной куртке-варёнке. Пятница? А сколько времени? Двенадцать?
Сегодня Иван может кое-что сделать. И не важно, что он не знает, какое число и месяц. Может быть, конец марта или в разгаре апрель, наплевать. В пятницу можно поймать Тимура! От Юли Иван знал то, чего не знали опера и верные соратники.
Несколько лет назад Тимур встал на ту порочную тропинку, на которой гибнут многие равные ему бандиты. Взялся он за героин и спустя пару месяцев превратился в ничтожество без имени, друзей и денег. Выхаживаться поехал он в Дагестан, в высокогорный аул. Отъедался там мясом, пил молоко, молился, и старики звали его по-родственному – Тимучин.
На Русь он возвратился здоровым и злым, что для друзей, что для врагов, одинаково. Однако ни те ни те не знали, что он оставил себе пятницы. К пяти вечера по пятницам он приезжал на тайный адрес с полным пакетом фруктового мороженого.
К пяти по пятницам его ждал Славик. Обычный неудачник, из тех, что плодятся в наше время со скоростью мышей. Стремительная биография: не учился, не женился, не работал, а в графе увлечения – опиаты. Внешность тощая, но изысканная, в стиле могильной решётки. Вот и весь Славик.
Мороженое требовалось, чтобы им рвало, и через рвоту приходил кайф. Хотя иногда Тимур привозил полный багажник дорогой еды и постоянно давал Славику деньги, причём сверх того, чего стоил заветный грамм.
Славик часто произносил фразу: «Горжусь, что у меня такой друг!», а Тимур ничего подобного ему не говорил, но смотрел на Славика особенно. Пятничные их встречи значили нечто большее, чем «совместное употребление». Во встречах сквозило что-то нежное, невысказанное, женское, но Тимур убил бы, если бы ему кто намекнул об этом. И Славика убил бы. Разве что в наркотических полуснах они оба думали друг о друге.
В квартиру Иван зашёл только за тем, чтобы взять пистолет. Присаживаться не стал, потому что дом не родной, и традиции в нём поддерживать охоты не было. Остаться до следующей пятницы – роковая глупость. Время вышло. Весна звала. Вперёд, подонок!
Впрочем, смысл сегодняшнего похода был тоже сомнителен. Найти Тимура, да. Узнать у него, где находится могила Юли, да. И всё?
Не совсем. Иван хотел сесть у могилы и подумать. Посмотреть на фотографию (или рисунок) и решить: как дальше. Чудилось, что озарит именно там, рядом с могилой, и нигде больше. Почему? Наверное, потому, он будет думать откровенно.
Или решит хлопнуть себя, далеко не ходя, между оград. Или вернуться в неродной город и худо-бедно браконьерить, надеясь, что со временем о нём забудут. Или начать воевать. Чтобы нет? Пойти к Дуплету и взять у него что-нибудь получше переделанного газового. Дуплет – гений. В сарайчике мастерит пистолеты и револьверы под какой захочешь калибр. Безотказные, что приезжают купить даже московские киллеры. Дуплет за многое благодарен Ивану, и, возможно, если подождать, то вытворит что-нибудь совершенно эксклюзивное, хоть с драгоценной инкрустацией.
От фантазий о себе, как о ночном мстителе, отвлекла церковь. Она высилась над Волгой, задумчивая, а в окнах, подобно мыслям, горели свечи. Зайти? Но денег нет даже на дешёвую свечку, чтобы поставить за упокой души Юлии. Помолиться и покаяться? Там, на небе, и так про него всё знают. Да и что рассказывать? Свои тяжкие порноанекдоты? Не в церкви же! Иван перекрестился и пошёл вниз по берегу, к Волге.
Достаточно было глянуть на реку издали, чтобы понять – на календаре апрель. В некоторых местах лёд темнел пятнами величиной с футбольное поле. Иван снова перекрестился. Сегодня, если провалиться, то сил выбраться не будет. И идти надо наискосок, не в Содомовку, а в город. Примерно километров десять. Только-только успеет к пяти часам, если не утонет.
Лёд трещал всюду: и под ногами, и вокруг, сам по себе. Иногда ноги звучно проваливались в воду, что говорило о наших новых зимах, в которые то тепло, то холодно, и оттого река замерзала слоями, где твёрдо, где рыхло.
Страх кусал и жалил, сосал кровь, но больше мучила жажда и дрёма. Белый хлеб в желудке бродил и пух, отчего Иван постоянно ел подтаявший чёрствый снег. А спать клонило так, что хотелось лечь прямо здесь, на льду.
С полпути Иван уснул. На ходу. В голове переливались яркие, красочные видения: то прыгал на него радостный родительский пёс, то старый школьный друг дарил ему книжку, то творилась волнительная бредятина, которую никогда не запоминаешь. Сон пропал уже на берегу.
У первого встречного Иван спросил время – двадцать минут пятого. Хорошо.
Две пятиэтажки буквой «Г», в углу подъезд Славика. Иван встал возле лавочек, на виду, не боясь, что Тимур его узнает, худого, грязного, бородато-лохматого. Бомжа.
После зимней алкогольной спячки он перестал чувствовать время и оттого скоро начал нервничать. Не понимал, сколько уже – больше пяти или пока нет.
Тихо! Едет… Белый двухместный Мерседес, шурша резиной, подкатил к подъезду. Пора!
Иван подошёл прямиком к пассажирской двери, открыл её и проворно влез в салон.
– Ти кто, абезьяна? – со смехом воскликнул Тимур; наглость гостя его развеселила.
Иван навёл ему на живот пистолет.
– Ваня я.
Тимур вглядывался минуту, не меньше. На пистолет же ни разу не покосился. Наверное, каждый день, если не каждый час, воображал себе подобное, доводил себя до состояния медитации, тренируясь достойно выдержать мгновения перед смертью.
– Ваня? Ти живой? – вытаращил он глаза. – Я думал, щто тебя… А пистолет-то зачем? Денег хочищь?
– Юля где похоронена? – спокойно спросил Иван. – Место объясни.
– Какая Юль? – улыбнулся Тимур.
– Ты дурак?
– Ти про жену мою, щто ли? – Тимур зло рассмеялся. – Ти думаещь ана умерла? Да ана, как крыса, живучая!
– Шутишь? – Иван похолодел.
Тимур улыбнулся ему жутким оскалом.
– Ты дурак так шутить? – Ивана затрясло и он чуть отклонился назад, готовый выстрелить.
– Пагади, не ари! – махнул Тимур рукой и взял с подставки телефон. – Юлька толька силизёнку парвала да ногу сламала. Сейчас храмает немного, но мне и такая не нужна.
– Ты что делаешь?! – взвинтился до визга Иван, видя, что тот набирает чей-то номер.
– Пагади! – огрызнулся Тимур и положил телефон на панель.
Долго ныли по громкой связи гудки, а потом оборвались.
– Алло, Тимур! – ответила Юля. – Ты зачем звонишь?! Что ты ещё хочешь?!
Иван дрожал, пистолет скакал в его руке.
– Что молчишь, Тимур?! Зачем, говорю, звонишь?
– Юля… – хрипло позвал Иван. – Юль!
– А? – не поняла она. – Кто это? Ваня?..
– Да, я, Юль.
– Ты живой? Я думала…
Она плакала.
Тимур поглядел на блестящее лицо Ивана и вышел из машины.Пастушка и свинарь
Зайди-ка, зайди в большой свинарник на минуту, и потом полчаса не будоражь ничьё обоняние.
Накануне экзамена по теории государства и права случилось мне первый раз сторожить животноводческий комплекс. В моём ещё гладком и оптимистичном, как мячик, мозгу профессия ночного сторожа представлялась занятием для аристократа. Гуляй себе, белоручка, взирай в Богово небо, слушай репертуар природы, будь поэтом. Посему я решил не морочиться со сменной одеждой и отправился на работу в том, в чём завтра бежать в университет, в костюме, который мама выгладила со всей своей ко мне любовью.
Сначала погиб галстук. Им я зацепился, спасаясь от опоросившейся свиноматки. Перед сменой меня строго-настрого проинструктировали: следи, когда какая-нибудь из них не начнёт пороситься, чтобы сразу отнять у неё место (в простонародье – плаценту), иначе сожрёт, дура, и сдохнет. С лопатой наперевес я забрался в клетку к счастливой матери и изобразил на лице заботу и участие. До этой звёздной ночи о хрюшках я имел доброе мнение, которое сложилось ещё в детстве благодаря мультипликации, где они изображены персонажами положительными и такими, знаете, компанейскими.
Итак, я принялся выгребать из-под рыла хавроньи кровавую, скользкую массу, ликуя про себя, что творю благо, а она, – свинья! – не показав мимикой никакого недовольства, вдруг рыкнула, аки львица, и ринулась кусаться. Это сейчас я готов многословно рассуждать о своём врождённом благородстве и её просто человеческом свинстве, а в тот момент я исторгнул лаконичное: «Сука!» – и совершил прыжок в высоту, за который нормальные зрители, а не поросята, аплодировали бы и свистели. Одна беда, что в завершении прыжка зацепился галстуком за какой-то шуруп и едва не повесился на решётке, ещё молодой и красивый.
В нескольких резких словах я объяснил подлой животине, что завтра у меня экзамен, что другой одежды сегодня нет, и порванный галстук – её вина, но меня не слушали. Всё-таки «счастье – это когда тебя понимают».
Сторож – значит, сторожить. Простейшее слово, и служебные обязанности в нём прописаны от первой до последней буквы. Про «варить кашу» ничего не говорится. Однако из инструктажа запомнилось тревожное: следи, чтобы каша не перегрелась, а то сорвёт клапана и тогда не бойся и вырубай электрощит. Не думал я тогда, что будничный процесс кулинарии может быть связан с применением науки и техники, плюс – храбрости.
Познав потёмки свиной души, я с разбитым сердцем сел в сторожке выпить чаю. Степенно откупорил термос, и в это время за дверью раздалось шипение, от которого у меня заложило в ушах и просквозило в кишечнике. Возможно, получив микроинфаркт, я некоторое время продолжал сидеть, но чувство ответственности за вверенные жизни поставило меня на ноги. Вышел за дверь и увидел густой утренний туман, хотя точно знал, что на дворе вечер.
Из пристроенной к свинарнику сарайки валили клубы непроглядного ватного пара. Значит мне туда дорога. Прытко, чтобы гордиться собой, я подбежал к двери, отпер замок, который своим весом тянул на себя всю пристройку, и шагнул в белую неизвестность.
Вдоль влажных стен я принялся ощупью искать электрощит, сознавая, что ищу быстрый конец своего земного пути. Ногами в это время я разгребал что-то мягкое и пискливое, будто пол был завален детскими игрушками. Интересно, думал я, если скороварка сейчас взорвётся, успею ли подумать о вечности или вечность наступит моментально, как новый кинокадр? И далеко ли отыщут мою голову, которую я сегодня постриг и в которой зря пропадут сорок экзаменационных билетов?
Потребовалось минут пять, чтобы найти щит, благополучно его обесточить, и минут пять, чтобы дождаться, пока рассеется пар, и увидеть крыс.
– Что-то вас много, – сказал я застенчиво.
Правильно было сказать, что не много крыс, но мало пространства для них. Пол внизу жил и ходил волнами. Прочие поверхности – подоконник, полки, табуретки – тоже были живыми и серыми. Кроме! Кроме одного низкого столика, покрытого чистой голубой скатертью и уставленного сытной едой. Гороховый суп, тарелка риса с двумя крупными, как кулаки, котлетами и кружка, в которой ждал кипятка пакетик чая. Также стоял электрический чайник и стеклянная вазочка, полная печенья.
Так не бывает! – подумал я. – Или это отрава, и крысы уже научены? Нет, чушь, для отравы слишком вкусно.
Забавно, что на батарее отопления сидела и плевала на крыс с высокой колокольни дюжина кошек. Обычная дипломатия, ну. Толку орать: смотрите, я кошка, всех сожру? Кто кого. Возможно, виденное мною семейство кошачьих впитало с молоком матери, что крысы и они – это политические союзники, как Израиль и США, коммунисты и аграрии.
Присутствие кошек добавляло лишнюю интригу к обеденному столу, ведь они тоже не трогали еду. Разве что можно было извинить им чай.
Шуму наделала электрическая кастрюля-скороварка, которая перегрелась, и у неё сорвало клапаны. Благодаря величине она могла бы служить многоместным чаном для варки грешников. Хотя, возможно, электрификация добралась уже и дотуда, и чертей-кочегаров сменили черти-электромонтёры.
Через пару смен я научился подгадывать момент и вовремя вливать холодную воду в специальный цилиндр, тем самым предотвращая перегрев, но в ту дебютную ночь пришлось бегать вырубать щит не каждые ли полчаса. Затем, пропаренный, я всякий раз шёл в свинарник искать случаи живорождения, педантично осматривая всех подряд, будь то боров или кастрированный хряк. И что ни прибегал я на кухню, накрытый стол оставался нетронутым. Зато моя нежно-бежевая рубашка превратилась в табачно-коричневую, а-ля нацистский штурмовик.
«Ночь наступит, – предупредили меня, – берегись собак. Особенно чёрного Мухтара».
Эко, собаки! Я с вечера приметил их. Десять лохматых душ, большие, хотя и беспородные. Вероятно, как у людей по величине заработка, так у собак дружба ведётся по величине в холке.
Стая нежилась на заботливом солнышке, и вслед за солнечным коловращением бродила с полянки на полянку, вялая, словно после перехода через Арктику. Меня, как личность, собаки игнорировали и при встрече зевали с громким сердечным надрывом. Я специально маневрировал мимо них, чтобы проверить на злость, но даже чёрный Мухтар, поводив по мне красными глазами, презрительно отворачивался, давая понять, что человек я невнушительный, видал он и крепче, и выше меня и бояться такого – себя не уважать.
За полночь отправился в очередной обход. Вышагивал бодро, обуянный хорошими о себе мыслями. Воображал, что в высоте, на пёстром от звёзд небе, боги спорили о том, как лучше расставить для меня созвездия, чтобы успешно закончилась моя учёба и с прытью гоголевской тройки понеслась карьера. Один бог говорил: отодвинем Марс, чтобы Санёк работал на тихом месте где-нибудь в нотариате, незачем ему из шкуры лезть. Другой спорил, что нет, Марс надо зазвездить над самой головой Санька, так как в Саньке есть жила и ему бы куда-нибудь в силовые структуры.
Очарованный мыслью, что небеса пекутся обо мне на полвека вперёд, я не сразу расслышал за своей спиной мягкий топот, много топота. Оглянулся и воодушевился пуще прежнего. Сзади, совсем рядом, бежала собачья стая, очевидно, избрав меня новым вожаком. Что ж, хорошая поддержка в деле охраны. Хвалю вас, мудрые звери!
На первый укус моя нежная нервная система отреагировала истерично, сообщив головному мозгу, что нога отгрызена и жизнь не удалась.
Собаки окружили меня, одни захлёбываясь лаем, другие, рыча и скалясь. Такова была их тактика – все отвлекают, а чёрный с красными глазами Мухтар – потихоньку меня ест.
Я как будущий юрист знал цену ораторскому искусству, но публика для полемики подобралась неблагодарная, хуже поросят. И я побежал. Да что говорить – полетел. Не дожидаясь, пока боги расставят планеты в счастливом для меня порядке.
Ворвался в сторожку, закрылся и спросил себя вслух: «Как теперь работать?» Ноги опухли, носки в ботинках намокли от крови, но из студента я уже переродился в воина. Поэтому вместо того, чтобы скорее промыть укусы, я кинулся искать по углам сторожки оружие. Под кривобоким шкафом оно нашлось. Стальной прутик, звонкий и задиристый.
– Как говорится, ко мне Мухтар… – выдохнул я и распахнул дверь.
Надо же! Враги ждали меня все до одного, будто я обещал вынести конфет. Целью же моей был лично Мухтар. В бой!
Раз за разом я взмахивал прутом над его жуткой головой и сказочно не попадал. То выбивал из земли пыль, то бил по другой собаке. Мухтар даже не отскакивал, он кружил вокруг меня, сужая радиус, бесстрашный и везучий, как чёрт.
До рассвета в каждый выход на улицу я остервенело сражался с собаками и рычал, как они. На ладони правой руки вздулись пузыри, а прут погнулся. Да ежечасно срывало у скороварки клапаны, и я нырял в тёплые облака, матеря аристократическую профессию сторожа.
На рассвете, израненный, но непобеждённый, я вновь вышел крушить собачье племя и увидел идиллию, которая заставила меня улыбнуться и выпустить из руки прут.
Собаки лежали на пригорке, залитом утренним солнышком, и в мою сторону не смотрели. Только Мухтар поднял наивную морду, выражая вопрос: «Молодой человек, мы с вами знакомы?»
Грязный, уставший, как все собаки вместе взятые, я отправился окончательно вырубить шипящую скороварку, уже без страха, что ударит током или бабахнет – до звезды. Прошёл к щиту, пиная крыс, обесточил его и поглядел на стол. Пар выносило через открытую дверь на улицу, а я пучил глаза и остывал от страха. Кто-то всё съел и выпил. Потрогал чайник. Горячий.
С пожарного щита я взял топор и обошёл свинарник, осмотрев каждый угол, уверенный, что встречу двуногого друга, но только зря растревожил хрюшек. Они, продрав глаза, принялись хором декларировать на своём языке с французским прононсом: «Каши! Каши!»
После смены забежать домой переодеться времени не было. Всё-таки, свинарник находился на окраине города. Сел я на автобус – и прямиком в университет.
Тут-то я и осознал свою уникальность. Хотя в автобусе творилась утренняя давка, и люди слиплись в одного чудовищного сиамского близнеца о тридцати головах, тем не менее вокруг себя я обнаружил печальное запустение, и при желании, возникни оно, мог бы проделать утреннюю зарядку.
– Откуда несёт?! – пронзительно вскрикнула женщина в другом от меня конце автобуса.
Ближние ко мне граждане пока что надменно молчали, и, оценив их вежливость, я вышел на следующей остановке.
Ого, сколько бежать! Впрочем, может быть, выветрюсь.
Сдавать пошёл первым.
Преподаватель Кокошина щурилась, словно пыталась угадать самое душистое на мне место, но не говорила ничего, хотя я, глядя исподлобья, ждал. Рассказал ей свой билет на ура, и когда она объявила «неуд», за меня заступилась даже Ольга Краснова, отличница с лицом в форме диплома.
– Его вообще не надо было допускать до экзамена, – ответила ей Кокошина.
Плевать-то. Зато теперь спать.
2.
Пора сказать, что мой свинарник относился к подсобному хозяйству женской исправительной колонии ОК 5/5. Стоял он вне зоны, посреди чистого поля в метрах трёхстах от КПП. Я приходил на смену к четырём часам, а до пяти ещё работали зэчки-свинарки, так называемая бесконвойка. Те, у кого хорошее поведение и кому скоро на свободу. Приводила и уводила их рота охраны, в лице какой-нибудь одной девушки, у которой для устрашения волочилась по земле резиновая палка. Также в течение дня то та то другая девушки из охраны приходили проверять порядок. Ночью же, если в свинарнике случалось какое-то событие (прибавление или массовый побег), я, приняв чрезвычайные меры (отнять место, заблокировать двери перед рылами мятежников), звонил из сторожки на КПП, и вскоре охрана приводила нескольких разбитых со сна зэчек.
Отработав две недели, я настолько быстро научился исполнять свои обязанности, что начал скучать. Что там: на скорую руку отхлестать прутом собак да вовремя остудить скороварку. Десять минут.
Взялся за чтение, да на свою беду выбрал русскую классику. Балы, карты, «любезнейший», «милейший», про природу… Первым получил пинка и вылетел из сторожки Толстой.
Следом за ним с той же скоростью Тургенев.
– Вы своей природой заколебали! – кричал я им с порога. – Вот сколько у меня природы! – показывал рукой на осеннее поле. – Надо же так, а! Целыми страницами про кувшинку или облачко. Старичьё!
Осерчав на большую литературу, я сел писать сам. Другу в армию.
...
«Серёга, здорово! Пошла вторая неделя моей работы. В первом письме я писал тебе про адского Мухтара. Сегодня ночью он поймал кошку и давай рвать. Я взял в каждую руку по кирпичу подбегаю в упор, – фигак, фигак! – и обоими попадаю в Тишку самого дурашливого пса, которого в стае держат для массовки…».
Действительно, Мухтар оставался для меня неуязвимым. Однако в письмах я ругал его только ради красного словца, а на деле со временем проникся к нему благодарностью. С наступлением темноты он ненавидел не одного меня. Ненавидел Мухтар всё человечество. Правда зэчек и девушек из охраны не кусал, видимо, человечеством женщин не считая. Я понимал, исчезни он, и стая разбредётся, а к свинарнику потянутся люди наживы.
...
«… Помнишь, я писал про то, что с вечера на столе появляется еда, и к утру её кто-то съедает? Всё по-прежнему! Одну ночь я специально караулил у дверей на улице. Бесполезно. Утром смотрю, еда съедена, чай выпит. Главное, что вокруг свинарника грязно, и новые следы я всяко бы увидел. Внутри тоже негде спрятаться. Мне кажется, что это зэчки подкармливают свою бывшую подругу, котораяосвободилась, а работать негде. Но как она проходит мимо меня, не пойму. И кошки с крысами не жрут… чёрт знает!..»
«… Про бригаду зэчек я тебе не писал? Ну, послушай. В бригаде только цыганки. Старые и страшные. Я в их лицах не разбираюсь, так что друг от дружки не отличаю, и не выучил, какую как зовут. Иногда, когда у них в раздевалке не хватает розеток, они приходят ко мне, чтобы сварить кипятильником в кружке чифир. Знал бы ты, какой от них исходит дух! Я-то ещё вкусно пахну, а с ними хочется два пальца в рот. Видать, воздух свинарника впитался в их кожу, и теперь им даже не отмыться. И зубы у цыганок от чифира чёрные. А ещё я заметил, что когда они входят в свинарник, то снимают с себя крестики и вешают их у входа на гвоздь. Для чего это, интересно? Наверное, чтобы не цепляться ими во время работы, как я галстуком…»
«… От скуки начал отжиматься. Начал с 30 раз. Сейчас уже 50. Оказывается, здешняя зона до революции была женским монастырём. Специально нашёл в краеведческой книжке старые фотографии. На них есть колокольня и храм. Сейчас я могу видеть только огромный каменный забор, а что за ним, не знаю».
«Крыс я выдрессировал. Две ночи поливал кипятком и в полную дурь свистел. Теперь лишь свистну – и ни одной.
Могу рассказать, как свинья хочет борова. Она ходит несколько часов подряд по кругу и в заключение каждого круга до крови бьётся рылом о решётку. Страх смотреть на такие муки.
Говорят, свиньи носят плод три месяца, три недели и три дня.
Забыл прут и бегал от Мухтара…»«… Пришёл сегодня в свинарник и, представь, все поросята, – все, голов триста! – сбежали из клеток. Какого-то лешего клетки оказались не закрыты. Зэчки, злые, что их разбудили, затолкали поросят в несколько загонов, и я сейчас хожу смеяться. Стоят, бедолаги, впритирку, не спят, глаза грустные. А чем я помогу? Влюбился я, Серёг. Сразу в двух, и обе отсюда…»
«Серёга, здравствуй! Извини, совсем перестал писать тебе. Гори огнём свинарник! Дай бог – увидимся, расскажу. Удачно тебе дослужить!»
3.
В ночь, о которой я бодро писал другу, что из клеток сбежало всё поголовье, жизнь моя и вообще жизнь вокруг изменилась.
Я спрятался в сторожке, чтобы не встречаться с зэчками, пришедшими в три ночи творить над поголовьем правосудие. Просто они надоели мне своими злыми гримасами, будто я гринписовец, и специально выпускаю поросят.
Сел за стол, скучно. Курсовую дописал. Письмо тоже, почти. Остаётся отжиматься. Разделся до пояса и упал на пол.
… десять, одиннадцать, двенадцать… Блин! Крестик звенит об пол. Встал, снял крестик, положил на стол и уже хотел продолжить отжимания, как дверь открылась и вбежала совсем юная цыганка.
– Привет! Я Лиза! – счастливо вскрикнула она.
– Добрый вечер, – пробормотал я, покрываясь мурашками от влетевшего с улицы холода. – А я Але…
– О-хо-хо! – перебила она меня беспардонным смехом. – Ты спортом занимаешься?
Лиза подбежала ко мне и ладошками погладила мою грудь.
– Красивый! Люблю таких!
Меня пробрал нервный озноб, и к своему стыду я сладко вздохнул.
– Ага! – рассмеялась она. – Нравится? А вот обойдёшься! – и сильно толкнула меня.
– Хам! – крикнула Лиза, убегая из сторожки.
Стою ни жив ни мёртв, но уже точно знаю, что влюбился. В цыганку-зэчку-свинарку. Правда, спросил бы меня кто в ту минуту, как выглядит Лиза, я бы не сказал, потому что запомнил только цвет её лица и глаза.
У цыган же обычно лица смуглые, закопченные, будто поры кожи навечно пропитались кочевой грязью, и в самом пигменте застыла темень воровских ночей. Другое дело лицо Лизы. Оно золотилось, как янтарное, и от него почти зеркально отражался свет.
Глаза! Чёрные, большие, всё равно, что два окошка, за которым полночь.
Дверь снова распахивается.
– Я ведь к тебе за делом приходила! Сигареты свои в зоне оставила. У тебя есть?
– Я не курю, – отвечаю, ёжась.
– А, да! – с ноткой презрения бросает она. – У тебя же спортик.
– Нет, раньше курил… – оправдываюсь, давая понять, что натура моя богатая, пожил.
– Ладно, я так с тобой посижу, – говорит она и занимает единственный стул. – Слушай-ка, распутник, оденься, что ли. Я же одетая!
Пыхтя и зачем-то надувая щёки, я одеваюсь и сажусь на жёсткий топчан.
– Как живёшь? – спрашивает и улыбается, слепя белейшими зубами, что тоже отличает её от здешних цыганок.
– Да нормально, – пожимаю плечами и начинаю усердно подводить наручные часы.
– Интересно! – одобряет она мой ответ и кивает на крестик, лежавший на столе. – В Бога веришь?
– Чего в него верить-то! – изображаю человека, который живёт земными страстями. – Просто ношу.
– Интересно с тобой, – неустанно хвалит она меня. – Красивый, простой, не зазнаёшься. Работаешь, значит?
– Работаю, – отвечаю, бездумно крутя по циферблату стрелку.
– Молодец! Мужа бы такого! – она встаёт и идёт к двери. – Хоть чаем напои в следующий раз.
– Подожди! – вскакиваю. – А ты… это… тоже на свинарнике?
– Ну да.
– Просто раньше не видел тебя.
– Плохо смотрел, – говорит, захлопывая дверь.
Я веду себя дико. Сдавленно, гаденько смеюсь и бью себя кулаками по голове. Теперь без сомнений, влюблён безобразно. Впервые.
Замираю лишь за тем, чтобы вспомнить Лизу, а затем дальше смеюсь и стучу по голове.
Удивительно то, что одета она была, как другие зэчки, в чёрный халат, серую телогрейку, а на голове белый платок, но мне её наряд показался до того трогательным, что хотелось повторять из сказки; «Милая Золушка!..» А ещё, что важно: от Лизы не пахло свинарником.
– Вы чего это? – вдруг спрашивают меня.
Я вздрагиваю и краснею. Смотрю, на пороге стоит девушка из роты охраны.
– К вам сейчас Лиза приходила? – интересуется она строго.
– Я не знаю, – отвечаю, стирая со лба испарину. – Мы не знакомились.
– Я видела её! – говорит она зло и звонко, будто лязгает тяжёлой связкой ключей. – Вы с ума сошли пускать?!
– А что? – начинаю подводить часы.
– Как что? Вы думайте! Она заключённая. Ей следует быть на рабочем месте, а она у вас трётся, сучка.
Молчу, кручу минутную стрелку. Что пристала ко мне? Ты за них отвечаешь, ты и смотри.
– Извините меня, что кричу, но у меня уже сил нет с ними. Я посижу у вас, хорошо?
Она садится на стул, а я обречённо – на топчан. Шла бы ты лучше, родная.
Застыл над часами, ненавижу себя и гостью. Глупое, неприятное молчание, которое длится и не заканчивается.
– Хр!.. – вдруг всхрапывает она.
Уснула. Облокотилась о стол и положила голову на ладонь. Гляжу и не могу оторваться, второй раз подряд дивясь женской красотой.
Гостья моя казалась совершенной противоположностью Лизы хотя бы уже по одежде: синий камуфляж и погоны со звёздочками младшего лейтенанта, на голове пилотка. Но форма формой. Разнились же девушки тем, что Лизина красота была золотой, а красота гостьи – простой, то есть русско-народной. Волосы и лицо гостьи слепили белизной, какая встречается в солнечный полдень среди снежного поля, и посреди такой зимы и стужи сидела ярко алая бабочка, губы. Я взялся руками за край топчана, чтобы не сорваться и не поцеловать их. Чёкнулся.
Кто же красивее, Лиза или…
– Меня Аня зовут, – произнесла гостья, и я подпрыгнул на топчане. – Я, кажется, уснула.
Дурак, засмотрелся на губы и не заметил, что она проснулась. Что же происходило на моей физиономии? Великовозрастный девственник упёрся скользкими глазами в спящую красавицу.
– Меня Саша, – тяжко вздохнул я, снова ненавидя себя и её.
– Ты не сердись, – сказала Аня, легко перейдя на «ты». – Поработаешь, как я, начнёшь на людей кидаться.
– А за что сидит Лиза? – спросил я, лишь бы чего спросить.
– Оо! – усмехнулась Аня. – Редкая мошенница! Но поёт хорошо. Вот за самодеятельность и ходит в бесконвойке. Ты сам-то здесь не закис? Скучно, поди?
– Да нормально, – пожал плечами. – Поговорить, конечно, не с кем.
– Давай, я к тебе буду приходить? – Аня вдруг зазывно улыбнулась, или мне уже мерещилось.
– Заходи! – встрепенулся я.
– Договорились. Пойду, гляну, как они там.
Она закрыла за собой дверь, а я подумал: неужели и в неё влюбился? Значит, да. Значит, у меня большое сердце.
В следующую смену принёс пряников.
Шли час за часом, но никаких правонарушений со стороны поросят я не подмечал. Ходил, всматривался в сонные, довольные жизнью рыла. Грозный, как следователь перед подозреваемыми. Порядок в свинарнике был армейский, и те же свиноматки стояли передо мной по стойке «смирно!», втянув по-солдатски животы. В итоге я сам отворил загон с великаном-боровом, у которого торчали истинно кабаньи клыки, и помчался звонить на КПП, жаловаться.
В сторожке поставил на стол две чашки, выложил пряники и сел ждать. Внутри кипело, руки тянулись к блуду, и я решил, что пусть Лиза застанет меня за отжиманиями, чем за мыслями о ней. Разделся, упал…
…двадцать два – бзынь… двадцать три – бзынь… Звенящий крестик нервировал.
… сорок восемь – бзынь… сорок девять – бзынь…
– Надоел ты! – взъелся я и рванул с шеи серебряную цепочку.
– Привет, спортсмен! – влетела в дверь Лиза. – Дай, потрогаю!
Она скользнула руками по моей груди, а потом вдруг прижалась ко мне, шепнув:
– Красивый!
Мы пили чай, и я следил за её шустрыми руками. Ногти на них были ровные и короткие, как у мальчишки.
– Научи меня целоваться, – вдруг сказал я.
Она брызнула в меня чаем вперемешку с крошками, и, утерев рукавом губы, еле выговорила:
– Ай да ангелок!
Я стал отряхиваться.
– Завтра! – вдруг серьёзно сказала она. – После двенадцати открывай у свиней клетки и вызывай нас. Сам лезь на чердак. Видел, там с торца дверца? А сейчас – пойду, а то заявится эта злыдня Аня. Ненавижу! Выслуживается на мне.
Лиза оказалась права. Сиюминутно после её ухода дверь открыла Аня.
– Я угощусь? – взяла Аня пряник, сев за стол. – Две чашки?
Я тронул колесико на часах.
– Лиза?
– Она просто пить хотела, а у меня, кроме чая, ничего нет.
– Ох, сучка! – зло усмехнулась Аня. – Надо сказать, чтобы её сняли со свинарника. Завтра же.
– Не надо! – вырвалось у меня. – Она безвредная. Зашла-вышла.
Аня пронзительно посмотрела на меня, и я выпалил несуразицу:
– Ненавижу цыган! Животные, а не люди. Но если просит пить, что не дать? Тоже ведь человек!
– Ты женат?
– Я? Нет! Мне некогда, я учусь.
– И я не замужем. Работа, работа… Тревоги, стрельбы… Выбрала же себе жизнь. Старухам веселее.
Я глядел на её руки с белыми, тонкими пальцами. Ювелирный маникюр, на каждом ноготке нарисована ромашка. Тянуло целовать.
– Пора! – Аня поднялась из-за стола. – Пойду, посмотрю на этих бездельниц. И на Лизу твою.
Хотел ей пылко возразить, что Лиза не моя и цыгане не люди, но решил не повторяться.
4.
Купил бутылку красного вина и гроздь винограда. Год, не меньше, ждал полуночи. Открыл сразу десяток загонов.
– Что-то они у вас каждую ночь стали убегать, – сказали мне по телефону.
– Идите к чёрту! – выругался я, повесив трубку.
Думал, что вином и виноградом сделаю Лизе сюрприз, но она превзошла меня. Забрался на чердак, освещая дорогу мобильником, и обнаружил матрас, застеленный чистой простынёй, а рядом ящик, на котором стояла банка со свечкой и лежали спички. Лиза… Днём старалась, любимая.
Прождал полчаса, слушая то, как внизу подо мной загоняют, матерясь, свиней. Лиза не шла. Сердце трепетало впустую. Может быть, снять крестик? Вроде бы это уже стало доброй приметой.
Так и сделал. Снял и в туже секунду приставная лестница дрогнула под весом человека.
– Еле-еле сбежала! – шепнула Лиза, нырнув ко мне на грудь. Анька смотрит, глаз не сводит. Ненавижу!
В спешке мы выпили полбутылки, хватая на закуску виноград вместе с ветками.
– Забыла! Ты о чём-то просил? – уставилась на меня Лиза; огонёк свечи отражался в её глазах, на щеках и на лбу.
– Ты не помнишь? – струсив, прошептал я.
Мы сидели рядышком на матрасе. Она оттолкнулась ногами и повалила меня, придавив собой. Её язык разомкнул мои губы и стал кружить по моему языку.
Меня пробила дрожь. Такая, что начала колыхаться диафрагма, а лёгкие захлебнулись воздухом.
– Ты что? – спросила Лиза, и её рука уползла под мой ремень. – Не бойся, маленький!
В сторожку я шагал мужчиной, улыбаясь во всю ширь лица. Друзьям расскажу, они вздрогнут! Правда рассказывал и раньше, с лет пятнадцати, но врал.
– Ты не видел Лизу?
В сторожке меня ждала, сидя за столом, Аня.
– Нет, – ответил я, с силой убирая с лица улыбку.
– Сучка! Нигде нет! Устала я! – Аня запрокинула голову и прикрыла глаза. – Ты не умеешь делать массаж головы? Болит жутко. Проклятые ночные смены.
Теперь я умел всё! Новый человек. Пьяный, агрессивный мужчина.
Взял ладонями её голову и сделал то, чему только что научился. Языком проник ей в рот и принялся кружить. Аня дёрнулась, но усидела.
Минуту спустя она оттолкнула меня и продышала:
– Запри дверь!
Работал я по графику два через два и, тем не менее, отдыха стало не хватать. Особенно утомляла вторая ночь, и я запасся настойкой женьшеня, а также начал экспериментировать с народными рецептами, вроде сметаны и грецких орехов. Впрочем, не жалуюсь. Уставал, да, но ни разу не огорчил ни Лизу, ни Аню.
Прибегал на смену, снимал крестик (предрассудок, но настрою помогал) и шёл в свинарник чинить диверсию. Я был счастлив.
Пока не повесился мой сменщик. Я и не видел его ни разу, и мне совсем нечего рассказать о нём. Повесился он в сторожке, нацарапав на столе: «Не снимай крестик!» Потом неожиданно эта надпись оказалась старательно зачёркана после очередного визита Ани.
Выпал снег, заскрежетал зубами декабрь, и в один мерклый, мутный от непогоды вечер заявилась ко мне старая цыганка.
– Чайку заварю у тебя, хороший мой? – спросила она, въедливо глядя на меня.
– На, заваривай, – показал я рукой на розетку и уткнулся в «Административное право».
– Похудел ты, – говорила она, включая кипятильник. – Пришёл сюда, помню, справный. Кровь с молоком. Измучила тебя Катя?
– Кто? – оторвался я от учебника.
Цыганка подошла ближе и погладила меня по плечу.
– Жалко мне тебя стало! Скоро на свободу, вот и сжалилась. Посоветовать тебе хочу, но, знай, чтобы ни-ко-му! – она кивнула на дверь. – Ни-ко-му!
– Чего ты бормочешь? Заваривай свой чифир и не мешай мне! – огрызнулся я.
– А ты не думал, почему твой сменщик удавился? У него ведь жена и двое детей. Здесь сторожа работают по полгода, а потом вешаются. Или пропадают, – сказав «пропадают», цыганка улыбнулась. – Увольняйся! Мальчишка ты. Жизни ещё не жил. Беги и дорогу сюда забудь.
В следующий раз она остановила меня вечером на улице.
– Не послушался? А ты проверь, не снимай сегодня крестик.
Именно в этот день меня била температура, и я, правда, хотел, отдохнуть. Было лень рукой пошевелить, чтобы стянуть с себя цепочку. Провалялся всю ночь на топчане. Что ж. Ни Лиза, ни Аня не появились. Да и не мудрено, ведь ночь прошла без моих диверсий.
– Ты почему вчера не открыл клетки? – шипела Лиза, едва сдерживаясь, чтобы не кричать.
– Болел. Сегодня, вроде, лучше, – ответил ей.
– Да? Или разлюбил? Другую нашёл? – она дрожала и клацала зубами.
– Что ты, перестань.
– Я освобожусь, изуродую её! Ты понял?
В сердце больно ужалил страх.
– Или что-нибудь сказали обо мне?
– Никто не говорил, – слабым голосом спорил я.
– Смотри!
Аня ни о чём меня не спрашивала, но глазами жгла с той же злобой, что и Лиза.
В ту ночь они меня выжали, вынуждая творить над ними вещи, о которых я имел представление лишь по гнусным байкам или дикому порно. Испугался, не скрываю.
Старая цыганка неделю не навещала меня. Как-то я видел её вместе с остальной бригадой, и она показала глазами на подруг, дав понять, что не может прийти из-за них.
Лиза потребовала, чтобы диверсии я проводил сразу после двенадцати. Чувствуя за собой вину, я поддался, и настали ночи каторжного труда.
Да. Сначала трудился до трёх ночи с Лизой, а до пяти утра – с Аней. Осунулся. Днём на лекциях спал или вообще не ходил в университет.
Хорошо, что получилось достать через знакомых качков стероиды. Пачку таблеток метандростенолона и упаковку инъекций тестостерона пропионат. Парни составили для меня на листке график приёма и уколов, пообещав, что через месяц я себя не узнаю. Наивные.
Конечно, гормоны помогли. Тем более недели полторы после того, как повесился сменщик, я работал без выходных. Иначе бы высох и обессилел, как старик.
Цыганка пришла ко мне незадолго до новогодних праздников. Заваривать принесла сразу две кружки.
– Садись! Слушай! Не перебивай! – приказала она, грозя грязным пальцем.Жила-была Екатерина. Наполовину цыганка, наполовину русская. Потомственная колдунья. Красивая… краше всего мира. С юных лет она поняла, что колдовской силы в ней в избытке и испугалась самой себя. Ушла в монастырь, чтобы усмирить силу, погасить её.
Монастырь тот самый, в котором сейчас женская колония. При нём, как полагается, было большое хозяйство. И коровы, и свиньи. Екатерина пасла коров. Монастырь тогда стоял далеко от города. Город разросся позже.
Пять лет Екатерина видела лишь сестёр и скотину. Бесовская сила в ней глохла, навыки колдовства забывались. Но пришла революция, а затем Гражданская война, и в монастырь нагрянула рота красноармейцев. Все без крестов. Они заявились не громить, а только переждать время, пока придёт приказ, куда следовать дальше.
Командир роты по имени Михаил в первый день постоя увидел пастушку Екатерину и влюбился смертельно. Сам черноволосый, рослый, глаза сверкали, как электрические. Он – к Екатерине, она ему: «Насилуй и сразу убивай. Не оставляй живой. Сама не дамся». Он до слёз перед ней. К тому же поэт, и на болтовню горазд. Победил он словами, сдалась она.
Проснулась перебродившая за пять монашеских лет сила. Екатерина обезумела. Стало ей Михаила мало, и она начала обращаться в разных дев и сутками соблазнять бойцов роты.
Бойцы опаскудились, наплевали на революцию и войну. Гибла рота не по дням, а по часам, и тот же Михаил, получив приказ от командующего фронтом, выдвигаться, тянул время, лишь бы дольше любить Екатерину.
Однажды, мучаясь тяжёлым винным похмельем, когда сердце бьётся навзрыд и вопит истошно совесть, он пошёл проститься с Екатериной, но она, плюясь в него, сказала, что никого не отпустит, раскрыв себя, кто такая.
Михаил схватил маузер и расстрелял её. Умирая, она прокляла Михаила, превратив в чёрного пса с красными глазами, а сама переселилась в свинью.Цыганка вынула кипятильник из одной кружки, которая выкипела уже почти до дна, и вставила его в другую.
– Она каждый день переходит из свиньи в свинью, и никто не угадает, в которой свинье она сегодня. Катя ненавидит мужчин и изводит их до смерти или обращает в собак.
Я улыбался на цыганские сказки, но душа замирала и верила.
– Хочешь сказать, что Аня и Лиза – это одно и то же? – спросил я.
– Не знаю, как назвалась Катя для тебя, но учти, что приходить она умеет и двумя разными, и десятью, и сколько ей вздумается.
Цыганка, не спросив у меня разрешения, закурила «Приму».
– Мы служим ей, кормим. До нас служили другие. Меняемся. Всё про неё знаем. С полуночи до пяти утра она ходит человеком. Ты проверь сам. Забеги в свинарник в пять часов, но сними перед этим крест, чтобы она тебя не почуяла. В пять часов она слабая, у неё время обращения. Ты увидишь настоящую Катю.
Дверь от сильного рывка распахнулась, и на пороге выстроились свинарки.
– Ты, кобла несчастная, что так долго?! – крикнули моей цыганке.
Она схватила кружки, уронив одну и залив чифиром стол.
– Или хорошо живётся тебе? Быстро вышла!
Я остался один и не понимал, за кого боюсь больше, за цыганку или за себя. Крестик! Схватился за грудь – на мне… Не буду сегодня его снимать.
Ночью назло стали пороситься аж три свиньи. Мне пришлось сообщить на КПП.
Сидел потом, смотрел на дверь и каждую минуту проверял крестик. Вдруг оборвался?
В четвёртом часу услышал шаги. Дверь открылась и на пороге встала одна из цыганок, но не моя. Она внимательно поглядела на меня и, ни слова не сказав, вышла.
Без пяти пять. Холодными пальцами я снял крестик.
Около свинарника встретилась стая. Мухтар впереди. Я замахнулся на него прутом, и он вдруг заскулил и пополз ко мне на брюхе.
– Что ты, Мухтарушка? – дребезжа голосом, сказал я и погладил его.
Он, трусливо изгибаясь, глядел на меня глазами, просящими: «Не ходи!»Екатерина жрала громко. Давясь, блевала и жрала опять. Не человек и не свинья. Вытянутое лицо с ноздрями кверху. Изо рта наружу зубы, которые разгрызут кирпич. На коротких пальцах, будто напёрстки, жесткие наросты.
– Ага, вот ты! – невнятно сказала она, роняя непрожёванные макароны. – Подходи, целуй.
Я уронил прут.
– Подбери! – усмехнулась она. – Отхлещешь Мухтарку за то, что плохо тебя прогонял отсюда. Чего молчишь? Здравствуй!
Я не мог говорить. Казалось, что если произнесу хоть слово, то истрачу последние силы и упаду.
– Молчун! Я тебя мужчиной сделала, а ты – тьфу! – она плюнула в меня макаронами.
– Прощай… – выдавил я и качнулся к выходу.
– Стоять! – рявкнула она. – Всё равно никуда не денешься. Я тебя давно, с первого дня прокляла. Со мной не останешься, превратишься в собаку. Уяснил?
– Да…
– Всё, иди. Дай поесть.
Я бежал к лестнице на чердак и со мной собаки, заглядывая мне в лицо, мол, ну как там?
Главное, чтобы были на месте спички. Своих-то у меня нет, я не курю. Забрался на чердак, посветил телефоном. Спички!
Не описать, какой это ад, когда горит свинарник. Поросячий визг рвёт воздух. Кровь в венах мёрзнет, леденеет.
Я стоял на коленях, рыдая в голос.
Прибежали с зоны люди и принялись сшибать с дверей замки. Кто-то отчаянный пробрался внутрь, и после этого на улицу хлынули поросята, дымясь и роняя с себя искры и хлопья огня.
Я подполз к одному поросёнку, который упал в сугроб, и сугроб под ним шипел. Почерневшая шкура на боку поросёнка лопнула, в трещине белел жир. Неуклюже двигая головой, хрюн пытался лизать снег.
Надо мной встал мужчина в пятнистой форме. Я задрал лицо и прокричал ему:
– Это я поджог! Что хотите, делайте! Бейте, сажайте!
Почему-то крик у меня получился слишком грубый, и слова прозвучали скорее в моём мозгу, нежели вслух.
Мужчина пнул меня в челюсть и выругался:
– Не лай, псина!
Ко мне подбежал Мухтар. Он незлобно прорычал, и я понял, что меня приглашают в стаю. Отныне у нас общая цель. Прогонять других.Марина
1.
Зиме приелись русские, ушла она воевать в другие страны. Было это недавно, и сейчас она так делает каждый год.
Без материного пригляду февраль ради озорства грел землю до корней. Посулами весенней любви растревожил он вербы, и те, богохульные, забыв церковный календарь, бойко распушили почки.
Подобно вербам, распушив хвосты перед котами, бегали пьяные от тепла кошки. На мордах собак читалось: «Где тут наши собираются?» – и спешили они, радостно оскалив пасти, на свои грязные свадьбы.
Февраль взбаламутил всех тварей и забыл ждать того, что мать вдруг вернётся и заставит наверстывать холода до посинения, без сна и покоя.
Зима, и правда, вторую неделю рвала американцам электрические провода и гудела в трубы каминов: «Ууу, суууки!» На немцев она устроила снежный авианалёт, мол, помните? Злая ходила по Европам и сопела себе под бабий-ягий нос: «Кто тут у нас? Италия… Тепло ли тебе, девица?»
2.
По сухому нагретому асфальту шёл в город солдат срочной службы Павел Столбов, ротный почтальон. Слишком русский из-за картофельного носа и маленьких глаз-чесночинок. Слишком зимний из-за бушлата и шапки.
Его обогнала девчонка на спортивном велосипеде, чуть-чуть взрослее школьницы. «Нормальный велик, – подумал Павел, – на таком я бы за пять минут добирался до почты».
Тот же велосипед обогнал ещё раз. «Откуда она берётся?» – Павел оглянулся посмотреть, где и как можно успеть сделать круг. Позади в даль тянулась загородная дорога, обросшая по обочинам хилыми кустами и редкими ёлками. Павел ахнул! Девчонка уже, не спеша, ехала за ним, следила. Чокнутая! Смотрит из-под козырька кепки. В розовом костюмчике, белых кроссовках. Не понятно.
На почте он получил стопу писем и, не медля, нашёл, конечно, те, что для него. Сразу два. От матери и Ирки. Первое прозрачное, второе – с затемнением.
Да! Во втором лежала сотня. Ну, Ирка! Ангелок-хранитель. Не про неё злопыхает армейский фольклор, в котором девичье племя расписано гаже, чем в трактатах святой инквизиции или блатном шансоне. Ирка – в точности героиня сказок Роу, готовая плакать по жениху до конца фильма.
Павел купил шоколадку и пачку пахучих сигарет со вкусом вишни. Курить и есть он сел на одинокой скамейке, подальше от людей и домов, поближе к себе. Шоколадка лишь прошелестела фольгой, и её не стало, а сигареты показались ещё слаще, к тому же удовольствие от них было дольше.
Странный ветерок спугнул ароматный дым. Мимо промчалась велосипедистка. Та же, но в чёрном трепетном плащике и чёрных неофашистах ботинках с высокой шнуровкой. Когда успела переодеться и зачем?
Она объехала кругом скамейку и спросила:
– Вы солдат?
Голос её звучал жеманно, с манерностью, пусть не московской, но подмосковной, что значило – местная.
– Да, солдат… – басовито буркнул Павел.
– Скучаете?
Павел пожал плечами, боясь, что она сейчас возьмёт и скажет: Пошли влюбляться.
– А пойдёмте влюбляться! – смеясь, бросила девчонка, пролетая мимо него.
Павел стал вращать в пальцах сигарету, как слабонервный студент ручку.
– Я не шучу. Если хотите, то давайте за мной. Я не быстро поеду. Ну, бегом!
Взяв губами жгучий конец сигареты, Павел вскочил от боли и побежал.
Сапоги громыхали, шапка изнутри осклизла, а бушлат набрался пота и потяжелел. Хорошо, что бежать пришлось по дороге к части. В любом случае не зря.
– Туда! – скомандовала бестия; она спрыгнула с велосипеда и пошагала сквозь кривые кусты в сторону перелеска.
3.
На поляне, плотно обнесённой елями, девчонка сидела поверх вытаявшего холмика. Под её распахнутым плащом пылал красный бюстгальтер. Павел сел у её ног, не веря в явь. Такой лесной сказки он не воображал себе в самые сокровенные минуты.
– Я Марина.
– Очень приятно, – прорычал Павел, забыв сам представиться.
– Иди ближе и разденься, что ли, а то, как дед, в сто шуб одет! – перешла она на «ты».
Ни один звукооператор не смог бы подобрать саундтрек к сцене раздевания Павла, чтобы сделать её сколько-нибудь эротичной. Разоблачив себя до белуги и кальсон, Павел предстал воином в погребальных одеждах, который приготовился умереть в битве с превосходящим врагом.
Бой был тяжёлый, в два раунда. После первого оба получили нокдаун, во втором – они окончательно победили друг друга. Нокаут. Сотрясаемому Павлу показалось, что он изверг в Марину саму свою душу, и Марина вобрала её в себя.
– Когда в следующий раз пойдёшь в город? – спросила она надломленным голосом.
– Послезавтра, – Павел глубоко дышал, сердце его билось на грани инфаркта. – Сегодня я заступаю в наряд по КПП на сутки.
– Тогда приходи сразу сюда. Придёшь?
– Клянусь!
Он кое-как оделся, ломая пальцы с каждой пуговицей, и побрёл, шатаясь.
– Стой! Тебя кто-нибудь ждёт? Невеста есть? Любишь?
Павел постоял, плавая по Марине взглядом, и отрёкся от Ирки:
– Не люблю я её.
– Иди уж, – улыбнулась Марина.
Ей бы играть в спектаклях лисичку, очень была она похожа. Узкое лицо, острый нос и раскосые глаза. Красивая плутовка, которую хотеть и бояться.
4.
Наряд по КПП хорош тем, что сутки ты можешь и обязан видеть картинку из внешнего мира. Пусть пред глазами Павла красовался не городской пейзаж, а дремучий шишкинский лес и просторное левитановское небо, но и они были отрадой солдатскому глазу.
За полночь Павел увидел велосипедистку. Под грозным лучом прожектора она смело покружила между заградительными ежами, ненормальная, а затем умчалась вглубь пейзажа.
За время суточного наряда он видел её трижды, и всякий раз по-новому одетой. То в коротком белом сарафане, то в синем джинсовом комбинезоне, а затем на ней оказался натовский камуфляж.
На почту он бежал.
– Где?! Где?! – трясущимися руками искал письмо от Ирки.
Нашёл, вскрыл – там пятьдесят рублей.
– Ай да сука! – выругался Павел при людях. – Швея несчастная!
На позавчерашнюю скамейку он свалил остальные конверты и, хватая по одному, принялся щупать и просматривать их на свет.
– Здесь нет. Здесь фотография. Что-то, вроде… ага! – рваный конверт и чужое письмо падали под ноги.
– Двадцать рублей, тьфу! Нищеглоты.
На земле скопился ворох комканой бумаги. Жалкие теперь тетрадные странички, исписанные под диктовку любви. Павел поспешил поджечь их, чтобы не видеть, а сам косился, подмечая имена адресатов: «Сумарокову Денису», «Халилову Балафету», «Лебедеву Ивану», «Зубову Антону»… Он злобно сплюнул, будто отхаркивая совесть, но сердце уже настойчиво стучало, говоря: «Эй, слышь? Ты что делаешь? Здесь-то ладно, не узнают, а если Бог есть? Ты представь, как он потом тебя при всех опозорит!»
Павел сунул в карман собранные с семи писем деньги и тщательно растоптал грешный пепел.
Не зная цен, он думал, что купит много роз, но хватило лишь на худосочные хризантемы. Купил, и надо было идти с ними по городу. Встреться ему сейчас кто из офицеров – на почту в следующий раз пойдёт уже другой солдат.
На загородной дороге успокоился. Однако одолела другая тревога, не придурок ли он – с цветами? Позавчера Марина поработила его, как негра, поймала, как жука, а сегодня он вдруг преобразился в галантного покорителя. Сначала бы вшей вывел из формы. Кстати, да. Надо будет, как вернётся, прогладить утюгом швы, а то подмышки расчесал уже в кровь. Так что с цветами? Павел подумал и выбросил.
На поляне ждала очередная сказка. Туристический столик, сервированный громадной бутылкой водки и пластиковыми тарелками, на которых… Павел поперхнулся слюной.
– Шашлык остыл почти! – встретила Марина упрёком. – Хотя я горячий покупала. Давай живей, боец, блин!
Павел сел на складной стульчик.
– Боязно… – с ухмылкой сказал он, глядя на бутылку.
– А я старалась! – Марина всплеснула руками.
– Да я не отказываюсь! – грубо взъелся сам на себя Павел. – У меня впереди два часа.
После первого стаканчика, да съев кусок мяса, Павел приосанился. Хорошо!
Неизменный велосипед стоял у сосны, а на счастливом холмике лежал палаточный матрас. Павел восторженно хохотнул про себя. Марина кто – фея?
– Что сидишь? Угощай меня по второй! – показала она на бутылку.
– Я думал, ты спортсменка, – плохо пошутил Павел.
– Я всякая, – сдержав мимику, ответила Марина.
5.
Три раунда! Павел вставал с матраса, выпивал водки и снова шёл в бой. Тем тяжелее оказался нокаут.
– А времени-то у меня уже нет, только на дорогу, – сказал он, поверженный.
– Побудь ещё десять минут, – шепнула Марина.
Павел закрыл глаза, и солнце тепло поцеловало его веки.
Сказка…
– Значит, не любишь свою невесту?
– Вырвало бы сейчас на неё, – ответил Павел сквозь дрёму.
Вскочил он от звериного холода. С болью разодрал веки, которые смёрзлись ресницами. Вокруг темень и сплошной снегопад. Форма оледенела и не отряхивалась. Марины не было.
Китайские командирские показывали конец света. Уже пять часов, как Павел должен был вернуться в часть.
Он бежал, рыдал и матерился, а на полпути заметил, что ставит ноги в раскоряку, потому что в паху тянуло и сводило от холода, будто кто вколол туда многократную дозу зубной заморозки.
Марина посмотрела на него сверху и улыбнулась. Вместо велосипеда под ней уже была метла. Чёрная старость застыла в её глубоких морщинах, и ветер трепал её снежно-седые лохмы.
Марина… Мара… Морена… богиня зимы и смерти, она хрипела:
– Расслабились без меня! Я вам яйца-то остужу!
Война, мать и дочь
До его прихода осталось пять минут, а Екатерина захотела спать. Подлое шампанское. Пить бы чай и не курить.
С целью взбодрить себя она набрала в телефоне Свету.
– Без пяти четыре, – вяло пожаловалась Екатерина, – может быть, он не придёт?
– Он всегда точно приходит, если не залипнет, – веско ответила Света. – Боишься? Он больно делает!
– Почему обязательно больно? – оживилась Екатерина.
– Он мастер. Только-только кости не ломает.
– Почему же тогда не в каком-нибудь салоне работает, а ходит на дом?
– У него лицензии нет.
– Откуда же умеет?
– Мать научила. Она раньше в какой-то правительственной здравнице работала.
Екатерина, держа у уха радиотелефон, подошла к бару и одной рукой налила из початой бутылки шампанского.
– Только не спрашивай его про войну, мать и дочь, – наставляла Света. – Залипнет.
– Что ты всё «залипнет-залипнет»? – обиделась Екатерина на загадочный жаргон.
– Значит, замолчит, уставится в одну точку и хоть бей его, бесполезно.
– Что за война?
– В Чечне. Он там, говорит, женщину ел.
– Живую? – возмутилась Екатерина, выронив из губ сигарету.
– Как живую?.. – споткнулась о сложный вопрос Света. – Сначала мы все живые.
– Меня-то не съест?
– Меня же не съел.
– Так ты старая, – вырвалось у Екатерины.
– Чего? – закашлялась Света, видимо, тоже что-то выпивая или евши.
– О! Он идёт! В окно вижу!
Екатерина поспешила с третьего этажа по винтовой лестнице, а Света бросала ей в трубку советы:
– Он сразу, как придёт, моется. От него пахнет. Денег не плати, пока все двадцать сеансов не проделает. Грудь женская, говорит, как коровье вымя…
– Ладно, всё! – рыкнула Екатерина и отключилась. – У тебя самой вымя.
За калиткой стоял, нет, не костолом. Ниже и моложе Екатерины, щуплый. Удивляло, что в глазах его отсутствовал взгляд. Хотя он улыбчиво щурился, но чёрные щёлки не источали эмоций.
– Добрый день, Екатерина Сергеевна! – сказал он проникновенно, будто мечтал о встрече и был влюблён.
– Роман? – отступила Екатерина, смутившись. – Сначала ополоснёшься?
– Обязательно.
Она повела его в тренажёрный зал на нулевом этаже. Не в джакузи же пускать. Хватит с него душевой кабинки.
– Чуть не опоздал, – говорил он по пути. – Читал. Я, когда читаю, могу забыть про всё. Правда, бывает, что также забываю, о чём читал.
– Зачем тогда время тратить? – густо нахмурилась Екатерина.
– Нравится.
– Так-то я тоже начитанная натура, – вежливо поддержала она разговор. – Книги помогают отвлечься от нашего мира, в котором деньги, деньги, деньги…
Оставив Романа в душе, Екатерина вышла на улицу и снова набрала подругу:
– Слушай, а ты мне не дурачка прислала?
– Да, – прямо ответила Света. – Он контуженный. Его поэтому жена бросила. Кстати, забыла сказать! Вином его не пои. Он становится болтливым, не унять.
После душа Екатерина провела его в свою комнату. Хотя он был помыт, но всё равно резко пах чем-то враждебным. Екатерина втягивала носом и вспоминала этот запах. С тех пор, как она обосновалась в трёхэтажном доме с бильярдом и кинозалом, подобные враждебные запахи её не преследовали.
– Где будем? – спросила она.
– На полу, – ответил он.
Екатерина приготовила свежую простыню, взмахнула ею, чтобы постелить на пол, и снова уловила струйку запаха. Вспомнила! Пахло псом. Псиной.
Раздевшись до трусиков и покрываясь мурашками страха, Екатерина легла на живот. Роман щёлкнул колпачком пузырька, и его влажные, в масле, руки легли ей на спину.
После недолгого нежного разогрева он вдруг принялся рвать на Екатерине кожу.
– Ой! Полегче там! – возмутилась Екатерина.
– Хорошее тело! – без жалости приговаривал Роман. – Вам тридцать? Самый вкус! Но раньше вы были полнее, потому что много кожи. Килограмм десять сбросили?
– Девять, – поражаясь боли, выговорила Екатерина. – Что ещё видишь?
– Делали аборт и не один.
– Кто сказал?
– Вижу. Раньше друзья, когда собирались загулять с какой-нибудь, просили меня издалека посмотреть на неё на пляже, и я никогда не ошибался. Всё равно у вас хорошее тело. Таз аховый. Спинка ровная. Мышцы эластичные. Прелесть!
Он переключился на позвоночник, и Екатерина закричала.
– Терпите! – усмехнулся он. – Здесь запущено, гибкость страдает. Но исправим.
– Хватит! – взмолилась Екатерина. – Я слышу, как хрустит!
– Это сейчас больно, а к двадцатому сеансу станете, извините, кончать.
Хруст и крики длились час. Пот с лица Романа сыпал на её раскалённую спину.
Счастьем Екатерине казались секунды, когда Роман отрывался, чтобы полить на руки масла.
В заключение сеанса он принялся избивать её ладонями, отчего Екатерина взвыла до слёз и укусила себя за кулак до крови.
– Всё! – победно произнёс он.
Екатерина встала, пошатываясь.
– Ещё! – сказала она и упала в кресло.
– Что?
– Ножки.
Ползая по полу, он массировал ей ступни, а она сквозь дрёму шептала:
– Божественно…
Спустя вечность он спросил её:
– Что теперь?
Она открыла совсем пьяные глаза и тихо-тихо сказала:
– Там.
Он быстро понял, стянул с неё трусики и приник лицом.
Спустя несколько вечностей Екатерина оттолкнула его голову.
– Больше не могу! А то умру.
На третий этаж она поднималась, держась за стены. Там из бара взяла шампанское.
– Вам нельзя! – сурово высказал Роман. – После сеанса нельзя!
– Тогда пей ты. Заслужил! – вручила она ему бутылку и бокал, а сама легла на софу.
– Ты мастер. Сильный. Умелый, – бормотала она несвязно. – У меня ведь никаких удовольствий. Думаешь, я хорошо живу? Да что ты! Фитнесс, тупые подруги и муж гей, у которого платьев больше, чем у меня. Детей, наверное, так и не заведём… – она смолкла и внимательно глянула на Романа.
От жажды он выпил всю бутылку и игрался пустым бокалом.
– Ты давно для Светы работаешь? – спросила Екатерина.
– Полгода, – охотно ответил он. – Добрая женщина, только платит мало. Очень мало.
– Не переживай. Я не как эта старуха, не жадная. А что ты ей массажируешь?
– Она любит, когда голову. И любит жёсткий секс. Слишком жёсткий. Плети, кровь чтобы.
– Иди! – оборвала его Екатерина. – Завтра также к четырём!
Выпроводив Рому, она металась по дому, плюясь и крича:
– Ну и стерва! Шпиона ко мне подослала! Выведать обо мне решила!
Несколько раз она хваталась за телефон, но в итоге разбила его о стену.
– Ладно, Светик! Я у тебя его перекуплю!
Душ её ещё больше разозлил. Ей захотелось большего и сегодня.
Она взяла другую трубку, благо телефоны имелись едва не в каждой комнате. Где-то в книге вызовов должен был быть Павлик. Екатерина знала, что её муж, перед тем, как начать с кем-либо денежное дело, сначала звонит Павлику и спрашивает одно и то же: «Надо пробить человечка», – вслед за чем ему становится известно, чем человечек питается и во сколько встаёт ночью в туалет.
Ага, нашла.
– Павлик?
– Да, я.
– Это супруга Мики.
– Да, Катюша, что случилось?
– Мне человечка пробить.
– Называй.
– Роман Сотнев.
– Местный?
– Да.
– Что хотим? Связи, источники дохода, компрометирующие данные?
– Да мне где живёт и больше ничего.
– А, ну тогда пять минут. Подождёшь?
Павлик обманул. Адрес он назвал через две минуты.
– Что с ним сделать? – весело поинтересовался Павлик. – Свозить на зелёную? Дадим лопату, чтоб сам себе копал.
– Нет-нет! Мне для другого.
– Смотри. А то всегда обращайся.
Хорошо, что она взяла джип, а не спорт-кар, потому что посёлок, где находился дом Романа, просто-напросто не имел дорог, а не то чтобы они были плохие.
У дома с нужным номером Екатерина вышла, и досада сжала её томившееся сердце. Дом выглядел нежилым. Половина его когда-то обгорела. Забор стоял и лежал, как вздумается.
Екатерине стало жаль себя, зря спешившей, и она решила пойти к дому из одного лишь детского любопытства.
Однако, вступив за калитку, она почувствовала то самое – враждебный запах. Двинулась дальше и запнулась. Посмотрела, за что, и чёрная обморочная волна едва не уронила её. На земле лежала оскалившаяся собачья голова.
Дверь в дом была не закрыта. Она просто имелась, криво прислоненная к косякам. Екатерина отодвинула её и попятилась.
Внутри громоздился мусор, в таком количестве, словно бульдозеры загнали сюда уличную свалку. У самого порога стояло ведро, полное разноцветных кошачьих голов.
– Екатерина Сергеевна! Вы ко мне?
Екатерина пошатнулась, хватая руками воздух, и увидела Романа. Он шёл к дому, ведя на верёвке серую лохматую дворнягу.
Войдя во двор, он деловито привязал дворнягу к вишне и поднялся на крыльцо, где стояла Екатерина.
– Пойдёмте в гости, – пригласил он. – На мусор не смотрите, я скоро уберусь. И голов тоже не бойтесь. Я раньше их выбрасывал, но люди увидели и подожгли дом.
Не веря происходящему и себе, Екатерина прошла за Романом, высоко поднимая ноги, чтобы переступать завалы.
Он провёл её в комнату, в которой кроме свалки находились табурет и две кровати. Одна кровать была завалена ворохом ватных одеял, а другая показалась Екатерине странной, но сил, чтобы уяснить, в чём странность, не осталось.
– Видите, сколько у меня книг? – горделиво спросил Роман и обвёл рукой горы мусора.
Екатерина пригляделась и различила, что добрая половина свалки состояла из старых, грязных книг. Вот торчал корешок Бунина, вот распласталась отдельно от страниц обложка Толстого.
– А это мама моя, – показал Роман на странную кровать.
Екатерина минуту смотрела, пока не угадала под покрывалом контуры человека.
– Она, кажется, не дышит, – хрипло произнесла Екатерина.
– Да. Полгода уже, – согласился Роман. – Я получаю за неё пенсию.
Ещё минуту промолчав, Екатерина выговорила:
– А куда ты деньги тратишь?
– На дочь, – с готовностью ответил Роман. – Всё до копейки отдаю жене на дочь. На одну дочь.
Он сел на табурет и добавил:
– Больше ни на кого.
Екатерине срочно требовался воздух. Она сказала:
– Я пойду.
Роман не ответил.
– Слышишь?
Он не шевелился. Залип. Только медленная слеза текла по его щеке.
Екатерина выбралась из дома и хотела сунуть в рот пальцы, но испугалась собственных рук, трогавших недавно дверь.
Широко шагая, чтобы быть устойчивей, она направилась прочь от дома, однако остановилась около собаки.
Та прыгала и плясала, счастливая оттого, что перед ней человек, который освободит её от верёвки. Но если отвязывать, думала Екатерина, собака испачкает лапами одежду.
Гуттиэре
1.
Он целовал свою руку, и соседи по купе видели.
Приятный пассажир, молодой, в костюме, как на свадьбу. Сутки пути не спал, ходил курить и жевал жвачки, будто рука не любила табачный запах.
Перед конечной станцией заказал чаю и облился. Попал кипятком как раз туда, где болеют энурезом.
Соседи заранее одевались, а он сидел калачиком на верхней полке.
Через открытое окно его обдувало бабье лето.
2.
Перебродившие желания становятся мечтами. Первые пьянят людей поголовно, а вторыми упиваются ценители.
Олег мечтал об Ольге.
Они пять лет учились в одной группе университетского филиала, и пять лет шло бурное брожение, зрело крепкое вино. Застенчивость Олега работала, как герметичная пробка, под которой копились градусы. Лишь вечернее рукоделие помогало не взорваться.
Тяжелы и трудоёмки были вечера. В раковину утекало не семя, но сами слёзы.
3.
Ольга. Красоту её можно было постигнуть только воочию. Всё равно, что вдохнуть от цветка, чтобы уловить аромат, или откусить от фрукта, чтобы почувствовать вкус. Не описать. Впрочем, Ольга напоминала Гуттиэре из фильма «Человек-амфибия».
За учёбу она платила сама. Танцевала в ночном клубе. Олег один раз ходил и видел это опасное для герметичного скромника зрелище.
После основной программы её приглашали подолгу танцевать в отдельные кабинеты.
4.
К пятому курсу Ольга побледнела.
Она хотела спать, но подругам говорила, что учиться – престижно. Ей нравилось слово.
«Падай! – заклинал Олег. – Мне будет проще с падшей».
Перед дипломом он пошёл ва-банк. Догнал её на улице и за десять минут высказал многолетние заготовки.
– Ты так басишь, что я ни слова не поняла, – сказала сонная Ольга. – Кстати, лицо знакомое. Ты не из моей группы?
5.
Подкупить. По-другому никак.
До открытых продаж она ещё не снизошла, а значит, денег надо много. Чтобы наверняка.
Дипломированный Олег уехал на заработки и три месяца мешал бетон. Жил в гараже без света, и неоткуда было узнать, что наступил кризис.
Зарплаты хватило на то, чтобы запастись тушёнкой и остаться.
6.
«Что год? Для меня без пяти минут вечность, для неё – миг».
Вино в себе он процедил, отбросил жмых и теперь ясно видел на просвет, что и как произойдёт.
Олег обязательно войдёт в неё через чёрный ход. Да. Проникнет в закулисье Ольгиной красоты, ощутит самую укромную изнанку её тела. Грязь и унижение не причём. Только любовь и нежность.
За год у него появилась привычка целовать во время мыслей руку.
7.
Поезд остановился. Штаны высохли.
Сейчас взять такси и – в клуб. Только там ли она? Вообще-то уже вечер. Олег займёт кабинет и будет смотреть на сцену через приоткрытую дверь. Ждать.
Но сначала дойти до ларька, купить жвачек. Зубы за год продырявились, хоть играй на них, как на свирели.
8.
Рядом с ларьком толклась вокзальная компания. Как везде, как в любом городе.
Конечно, попросили мелочи. Трое зверолюдей мужского пола и с ними Ольга. Стоит, курит. Вместо лица – мяч, который много пинали.
– Ты, – сказал ей Олег. – Иди за мной.
Она пошла. Друзья не держали.
9.
Грузовой двор давно перестал хранить грузы.
Тишина. Остовы складов. Трусливые собаки.
– Вставай раком.
Ольга покорно опустилась на четвереньки и без лишних просьб задрала юбку. Трусов на ней не было.
Олег поднял с земли метровую, в трещинах, доску. С обратной её стороны присосались улитки.
– Куда ж ты красоту дела? – шепнул он и хлопнул свою мечту доской по спине.
Тяжко охнув, Ольга выдала все тайны чёрного хода.
Вино скисло. Превратилось в уксус.
Грибы
Кроме водки, охоты и водки, рыбалки и водки, есть грибы. Мне известно, как разнообразен мир, и поэтому я позвал Князева не куда-нибудь, а за грибами.
Князев согласился идти не потому, что позвал я, а потому что без водки. Боится он, что раз – и умрёт. Сколько он пьёт, нельзя не то, что пить, нельзя производить.
Красный, круглый, как светофор, он идёт по тропинке впереди меня и жалуется:
– Денег нет.
Я молча киваю за его спиной, и он сам с собой соглашается:
– Нету! Все у жидов.
Знаю-знаю, киваю я. Не в лесу же спорить.
В лесу мило дело поговорить по душам. Иногда дельнее, чем за столом.
Сегодня моё дело заключается в том, чтобы выманить у Князева бронзовый бюст Сталина. Я собираю сталинские портреты, профили, статуэтки. Бюста же у меня ещё нет, а у Князева он есть.
Спрашивать в лоб (точнее в затылок) я ещё не готов. Дипломатично начинаю с больного для Князева:
– Плохо, значит, с деньгами?
– Вообще! – вспыхивает он, грозя стать причиной лесного пожара.
– Мазду-то не продал?
– Да нет, племяннику подарил.
Умолкаем. Вопрос о бедности исчерпан.
Уверен, если бы на нас напала банда благородных грибников, то грабёж бы удался. В грязном камуфляже Князева найдётся денег справить полсвадьбы. Про себя не говорю. У меня с собой пачка «Явы» и зажигалка. Мой сотовый не в счёт. В антиквариате телефоны пока не берут.
Вышли к речке Хитрой. Остановились. Хитрая, кажется, перехитрила саму себя, кружа между сосен едва не спиралями.
По яйца нам папоротник. Под ногами мягкий мох. Я и Князев пришли в начало времён.
– Спокойно в лесу-то? – спрашиваю его, зная, что он негласный хозяин этого леса.
Лес его хлеб.
– Хрен там! – отвечает он. – Пришли тут двое, удостоверениями тычут. Труба, мол, тебе.
– И что ты?
– Как обычно. Привязал к соснам, чтоб думали. Сууука! – Князев хлопнул ладонью по бритому черепу. – Сегодня какое число?
– Девятое.
– Август уже? – Князев даже бледнеет. – Я их ещё в июле привязал!
– Где?! – спрашиваю я, и сердце моё в это время стоит. – Пошли туда!
– Срать! – машет рукой Князев. – Чего уж теперь.
Привязывать в лесу – визитная карточка Князева. Только к женщинам он милосерден. Их он сразу топит в речках.
– Дела, значит, идут? – льстиво спрашиваю я в сторону.
– Идут, – пожимает плечами Князев. – Но денег не хватает.
Лицо его снова наливается кровью. Успокоился, забыл.
Власть Князева в лесу безгранична. Он живой леший. Правда, не помню, чтобы в сказках лешие тысячами кубов продавали бы древесину.
– Сколько же ты супостатов поборол так? – языком эпоса спрашиваю я.
– Ууу! – жмурится Князев.
Какие, вроде, у меня могут быть с ним общие дела? Никаких. Кроме давнишней вражды из-за женщины. Окончательно расправиться надо мной он не мог. Не позволил его собственный кодекс чести, гласящий: топить и привязывать только денег ради.
Я тогда работал с Мариной в школе. Она учителем английского, я – истории. Не иначе нечистая сила занесла нас на праздник в дом Князева. Кому-то из наших коллег он оказался то ли братом, то ли сватом. Что был за праздник, тоже не помню. Год прошёл.
Я уже трогал Марину за руку. До большего не доходило, потому что Марина вышла из просоветской семьи, хотя когда СССР пал, ей было семь лет. Так целомудренным октябрёнком она и оставалась, когда я с ней познакомился.
– Марину-то помнишь? – спросил я Князева, совсем как друг.
– А то! – к моей радости улыбнулся он.
Давай-давай, улыбайся. Сталина мне сегодня же и подаришь.
– Я недоноском её называл, – пустился щедро метать я бисер, – недоношенным ангелом. Имея в виду, что она родилась без крыльев. Шутил. Ей нравилось.
– Красивой вы были парой, – одобрил мою откровенность Князев. – Ты на меня зла не держи. Понравилась она мне дюже. Я тебя тогда, вроде, бил раза два.
– Ну вот ты, брат, вспомнил! – бодро соврал я. – Ерунда!
Не ерунда, нет. Год назад Князев поломал меня серьёзно. Рёбра, челюсть, нос – ещё ничего. Он мне счастье сломал. Марина отвернулась от меня, получающего минималку. Но и на Князева её долго не хватило. Испугалась она палача и пьяницу. Остался он с неутешным зудом в штанах.
– Да, кто старое помянет… – сказал он и похлопал меня по плечу.
На том проклятом празднике я и увидел Сталина. Редчайшая вещь! А из школы вслед затем я ушёл. Думал, найду место лучше, и до сих пор мыкаюсь. Никто не знает, что я даже чермет сдаю, чтобы прокормиться. Помоишник.
Что хорошо, это то, что не вспоминаю Марину. Не вижу, не брежу. На душе спокойно. Может быть, она уже нашла того, кто и с деньгами, и добрый. Дай бог!
Выбрались мы с Князевым из бурелома, где грибам не место. Осталось перейти поле, за которым шумел березняк. Там-то белых ого!
– Что-то тяжко мне, – вздохнул Князев и сел на перевёрнутое ведро.
Он развязал рюкзак, и появилась она, родная. Водка.
– Всё-таки я прихватил, – застенчиво пояснил Князев и протянул мне налитую на треть крышку от термоса.
– За грибы! – с готовностью взял я крышку.
Потом без тоста выпил он и спросил:
– А на черта ты меня вытащил? Я уж и забыл, что ты есть.
– Честно?
– Попробуй обмани, если смелый.
Князев посмотрел кровавыми глазами, и улыбаться мне стало труднее.
– Если честно, то так и быть! Хочу выманить у тебя бюст Сталина.
– На кой он тебе упёрся?
– Коллекционирую.
– Вон что! Поклоняешься Сталину?
– Честно? Да! – говорю я и жду, замерев.
– Правильно. Хороший был правитель. Гнид давил. Сейчас бы его.
– И я про то! – спешу поддержать удачную ноту. – Если б не он…
– Ладно! – перебил меня Князев. – Вернёмся назад, заберёшь.
– Ооо! – я приложил к груди руки. – Спасибо заранее!
– Ладно, ладно, – смутился Князев и налил ещё.
Я принимаю водку двумя руками и любуюсь на Князева. В нём здоровья на пять человек. Слышал, что в городе ещё не нашлось того, кто поборол бы его на руках. Также в городе почти никто не знает, что он мент. Спроси любого: кто такой Князев? Скажут, что бандит. Да и в отделе, где он числится, его не видят. Выгнать не могут, он всегда на больничных.
– За тебя! – поднимаю я над собой кубок. – С такими Россия не пропадёт!
Мне не стыдно. После пристыжу себя. Сегодня, главное, бюст.
Благосклонно выслушав мою здравицу, Князев сказал:
– А Маринку-то твою я выеб. И в сраку, и всяко.
Он ожёг меня своим адским взглядом и добавил:
– А потом утопил.
За грибами с Князевым я ходил девятого августа. Сегодня двадцатое. Сентябрь. Сам на себя удивляюсь, как хватило сил привязать его к дереву.
С Новым годом!
1.
Открылась в груди невидимая форточка, и зимний ветер полощет через неё диафрагму, сквозит в ушах, несётся смехом изо рта. Глаза мои светятся, иначе бы я не видел Аню так ярко.
Аня тоже хохочет.
Зубы у неё белые, как у негра. В глазах новогодние огоньки. Зелёные, синие, красные.
Мы сбежали от милиции, а идти некуда. Стоим в чужом дворе под кособокой ёлкой, любуемся друг другом.
Возвращались мы сегодня с учёбы на вечернем поезде, пили шампанское и всяко обзывали декана. Додуматься принимать зачёт 31 декабря! Картавый дьявол, от его голоса звенят стены и урчит в животе. Для чего одному человеку столько ума? Ну не станешь же как-то по-особенному чистить зубы, шнуровать ботинки или жевать винегрет. Человек, он и есть человек, не важно, декан или я. Странно.
Конечно, мы получили право на шампанское, хотя бы и с сухариками. Я извёлся до последнего. Приходилось курить Анины тонкие сигареты, которые – то же самое, что тянуть через трубочку из пустого стакана.
Нам понадобилось отъездить вместе половину первого курса, чтобы вдруг открыть: мы красивые.
От станции к станции наша обоюдная симпатия всё более материализовалась. То Аня хлопнет меня по коленке, будто ей стало больно от смеха. То я поглажу её по бедру, будто разбираюсь в джинсах и оцениваю качество.
– Ты где будешь отмечать, дома или в гостях? – спросила она, сверкнув шампанскими глазами.
– А ты? – преждевременно переспросил я.
– Ой, не знаю! – надрывно вздохнула Аня. – Вообще, никуда не хочу. Телефон позавчера сломался, ни с кем не договорилась… Родители, наверное, уйдут…
Колёса перестали стучать, вагон перестал качаться.
– Хочешь, приходи, – обронила она через выпяченную губу.
«Чу-чух!» – облегчённо вздохнул поезд.
– Да бога ради! – усмехнулся я, словно отмечаю Новый год круглогодично. – Только надо успеть забежать к дружкам, занять.
Вру. К родителям. Нет у меня дружков, которые бы смогли одолжить за два часа до курантов. Трое, как я, студенты и трое в армии.
Умолкаем. Потрясены своей смелостью.
А народ тупой. Набился в поезд до упора. До порно. Жмутся, лезут друг на друга. Не нашли другого времени ехать.
Зато мы заняли два боковых места, и нас никто не потеснит. Сидим, красивые, пьём шампанское. Потому отовсюду смотрят за нами, думают что-то, быдло.
Думают деканы, а не вы! Ну я иногда. И Аня.
– Молодые люди, вы влюблены? – наклонился к нам через проход дедок.
Он всю дорогу сидит на краешке сиденья, и медали тянут его вперёд. Много медалей.
Мы одновременно отворачиваемся к окну. Смотрим на свои отражения. Оказывается, я окосел. Фиг ли, целый день голодный. К тому же декан, нервы, а шампанское махом бьёт по шарам.
– Хорошие вы, – продолжает нагнетать дедок. – Рассказать вам, как я получил первое ранение?
До нас доносится ядрёный запашок. Дед вмазал перед дорогой.
– Первая атака у меня была. А мне тогда… ну как тебе, – тычет деревянными пальцами в мои нежные рёбра. – Как вдарили-вдарили по нам немцы, я и упал на четвереньки. Бегу, как собака, ору, но бегу.
Дедок хихикает. Решил нас развлечь.
– Сзади меня как рванёт, и вот такой кусок земли мне в задницу! Извините, девушка…
Он заходится в смехе. Кашляет. Я поворачиваюсь к нему и снисходительно улыбаюсь. Надо.
– Что вы думаете – поломало таз! – дедок вынимает из штанов платок и утирает рот. – Смех и грех. Потом, конечно, и осколки меня… и пули насквозь…
Замолк.
Молчи, дед, молчи. Не мешай влюбляться.
– Или вот!.. – озаряет его.
– Пойдём, покурим, – трогаю Аню за руку.
Вышли в тамбур.
– Пристал, старый, – бубнит Аня. – Прямо не усидеть ему молча.
– Ничего, успокойся, – глажу её по плечу. – Скучно старику.
– А чего лезть-то? Видит же, что не слушаем.
Внезапно решаюсь поцеловать её в макушку. Целую. Аня улыбается.
– Думаю, где они, а вот они! – вваливается в тамбур дедок. – Покурю с вами, с молодыми.
Он достаёт из портсигара «примину», чиркает спичками.
В моих пальцах соломинка с розовым фильтром. Тяну её что есть сил, но она сильнее меня. Тянется со скоростью поезда.
– Проверю-ка я вас на знание истории, – обдаёт на нас дедок зловонными, как сама война, клубами. – Кто мне скажет, когда произошёл пятый удар Советской армии? Какие фронты были задействованы? Какие немецкие армии…
– Уходим отсюда! – шикнула Аня, бросив начатую сигарету на пол.
Вернулись в вагон, а наши места уже заняты. Сидят две полувековые великанши, своротить которых поможет разве что железнодорожная катастрофа.
– Это наши места, – сказала Аня.
Сказала тихонько, без грубости, но до того веско, что великанши подскочили.
– Ох, детки, мы просто это… посидеть сели. Сейчас уйдём.
Ай да характер! Сегодня не я буду её, а она меня. Не знал.
Допили шампанское. Похорошело. Но вернулся дедок.
– К дочери еду, – продолжил он знакомство. – Вы не переживайте, я на следующей станции выхожу. Не успею надоесть.
Он постоянно доставал платок, утирался им и снова убирал. Держал бы в руках, так нет – мучился. Один раз перепутал правый с левым карманы и утёрся пятитысячной бумажкой.
– Дочь у меня теперь инвалид. В прошлом месяце на фабрике убирала с барабана пушинку, и ей руку провернуло до плеча. Станки такие…
Я держал под столом Анину коленку и шептал:
– Не кипи. Сейчас будет станция. Выйдем, подышим.
Мы первые выбежали из вагона. Даже не оделись.
– Ребята, стоянка пять минут, – окликнула нас проводница.
Спрятались от ветра за углом бетонного туалета, закурили.
– Значит, с наступающим вас, – что ты будешь делать, опять дед! – Рад был познакомиться. Желаю вам любви, мирного неба над головой…
– Иди уже к своей калеке и сдохни там! – выпалила Аня.
– Ах ты сопля… – он просиял внезапными слезами. – Да ты живая ли? Сердце-то у тебя бьётся, сопля?
Аня жестоко уставилась на меня, и в это время страшным гудком разразился локомотив. Настал знаменитый решающий миг.
– Долго вы? – донёсся из-за угла голос проводницы. – Отходим!
Аня не простит. Новый год накроется поломанным в атаке тазом.
Мой кулак обогнал мои медленные мысли.
Дедок мягко лёг в сугроб, и куда-то безвозвратно улетела его вставная челюсть.
– Бегом! – позвала Аня.
Я дёрнулся вслед за ней, но – стоп! Вдруг потом пожалею? Вернулся к деду и забрался к нему в левый карман. Тсс, не кряхти. Есть! Тонкое бумажное счастье.
– Всё нормально, – шептала Аня, упираясь в столик тяжёлой грудью. – Так ему и надо, старому. Ещё бы деньги забрать у него…
– Я забрал.
– Вообще, хорошо! Молодец.
Она стремительно поцеловала меня в нос.
– Ветеран всё-таки, – просипел я пересохшим горлом.
– Ну и что? Он тогда, ты сейчас. Чем ты хуже? – Аня взяла мою правую руку и прижала к своей груди. – Горжусь тобой.
– У тебя волосы красивые, – нашёлся я, как отблагодарить её. – Чёрные-пречёрные. Ты эмо?
– Я гот, – поцеловала она мою руку.
– Железнодорожная готика, – внатяжку улыбнулся я.
За окном промелькнули городские огоньки. «И это пройдёт», – вспомнилась мудрость Соломонова кольца. Декан рассказывал.
Быдло повалило к выходу, загромоздило проход, и нам пришлось плестись последними. Я щупал в кармане счастливую бумажку. Пальцы попадали на влажное место. Слюни.
Наконец-то перрон. Я спрыгнул с подножки и протянул руки, чтобы принять Аню.
– Да-да, они, – сказала проводница. – Они выходили курить.
Руки мои опустились под чужим грузом.
– Держи, чтобы из карманов не выбросил! – проорали мне в ухо.
– Держу! Ты сам держи! – проорали в другое.
Аня остановилась на ступеньках. Открыла рот.
– Смелее девушка, смелее, – проворковал громадный милицейский бушлат.
Представьте себе, кости тоже могут слабеть. Я превратился в плюшевого медвежонка. Хочешь, пинай меня, хочешь, кидай.
– Тих-тих-тихо! – жжёт мне щёку чьё-то дыхание. – Спокойно иди. Не дёргайся.
Я дёргаюсь? Я ещё дёргаюсь.
Аня пищит:
– Отстаньте! Мне домой надо! Меня мама ждёт!
Я подхватываю:
– Меня тоже ждут! Тоже мать. Она с ума сойдёт, если я сейчас не приду. Вы звери, что ли? Мать мою пожалейте!
Молчат. Жарко дышат. Наверное, точно так же черти водят грешников в ад.
2.
Кабинет на втором этаже вокзала. Грязь. Окурки по полу. Компьютер времён пятого удара Советской армии.
– Фамилия! – спрашивает существо без внешности.
– Письма рёв, – отвечаю, пытаясь разглядеть его лицо, но страх ослепил меня.
– Имя-отчество!
– Сан-сан… Александр Александрович.
– Оп-па! – восклицает Существо. – У тебя отец не на заводе работает? Начальником электроотдела?
– На заводе! Да! Ага! – спешу подтвердить я свою хорошую родословную.
– Классный мужик. Знаю его. Жаль, что сын говно. Год рождения!
И мне жаль. Кстати, сегодня отец на работе. Он непьющий и поэтому заменил кого-то в ночной смене. Хорошо бы его убило током. Чтобы не узнал про меня.
– Ххуу! – выдыхаю эту мысль.
– Ты чего?
– Душно.
– Адрес!
В кабинет вламывается громадный бушлат.
– Понятых привёл, – говорит он.
– Заводи.
Входят два железнодорожника в оранжевых жилетах и… две великанши.
– Так, девушку – в кабинет дознавателя, а этого досмотрим здесь, – руководит Существо.
Круговерть.
Стою. Меня обыскивают. На стол падает пятитысячная.
– Деньги чьи?
– Мои.
– А если подумать?
– Мои.
– Ты где работаешь?
– Учусь.
– Домой с неразменянной деньгой едешь, студент?
– Я экономный, – просыпается во мне гонор.
– Деньги чьи?
– Мои.
– Сядь! – взрывается Существо. – Понятые, обратите внимание. При задержанном обнаружена купюра достоинством…
Спустя время у него появляются русый чубчик и серые, смешливые глаза.
– Ну и что? – спрашивает.
– Я экономный, – повторяю, как мантру.
– Ты старика обул, чудовище лесное?
– Какого старика?
– Ну и мразь.
– Не надо меня оскорблять. Я юрист. На юрфаке учусь.
– О! -Да.
Дверь распахивается. Влетает девчонка в красном пальто.
– Я убью всех! – кричит она.
– Сказано тебе было, не ходи домой, – смеётся Существо. – Быдло всегда испортит праздник. По-другому не бывает.
Девчонка снимает пальто, а под ним фартук.
– Блиин, забыла снять! – всплескивает она руками. – В чём готовила, в том и сорвалась. Что тут?
– Что: разбой. Двое, пацан и девка, группа лиц.
– Блиин! Это же на всю ночь! Блин! Блин! Блин! Погуляла Новый год!
– А мы? Нас тоже из домов выдернули. Я уже за столом сидел.
– Слушай, Гриш, – девчонка приложила к груди руку. – Может быть, сделаем первую часть? Пусть один из них будет свидетелем. А? Так быстрее.
– Мы сразу так хотели, Свет, без группы обойтись, но заяву от терпилы комаровские принимали. В Комарово всё было, а не у нас.
– И что написано в заявлении?
– Написано, что напали двое. Уже никак не переделаешь.
– Блин! Блин! Блин!
Я хочу пить. Адски.
– Дайте попить, – говорю.
– А бабу не дать?! – взвизгивает девчонка, которая Света. – Я сойду для тебя?
Кабинет дрожит. Прыгают по полу окурки. Входит сам сатана. Рост выше человеческого. Глаза красные.
– А?! – оглушительно рычит на меня. – А?! – пинает по моему ботинку. – Подруга твоя уже рассказала!
Закрываю глаза. Жду несколько секунд – открываю. Проверяю, не сон ли это всё. Увы.
– Не признаётся? – спрашивает сатана у Существа, который Гриша.
– Нет пока, Андрей Игоревич, – отвечает тот.
– Пока? А не хрен с ним церемониться! В камеру его к пидорам! Завтра будет в ногах валяться, просить, чтобы мы приняли явку с повинной.
Милый, милый декан, ты ведь совсем-совсем не страшный. Приди, скажи им, чтобы не кричали. Забери меня отсюда.
– Да он, вроде, парень ничего, нормальный, – возражает сатане Гриша. – Ты, Саш, нормальный парень?
– Д-д-да… – пробивает меня электрическая дрожь.
– А я что говорю. Я сразу вижу нормальных людей. Ты расскажешь нам, как было? Мы подружимся? Не будем врагами?
Молчу. Боюсь говорить. Боюсь слышать, видеть, дышать. Мир стал очень плохим.
– Гриш, не разговаривай с ним! – рычит сатана. – Не марайся!
– Андрей Игоревич, он просто испугался. Мы и не работали ещё с ним.
В руках у меня появляется стакан воды.
– Пей, дурачок, – говорит Света.
Пью, давлюсь. Течёт через нос.
Сатана хлопает меня по спине.
– Ладно, ладно, не спеши, – неожиданно воркует он и присаживается передо мной на корточки. – Скажи, прав мой сотрудник? Ты не станешь с нами ссориться?
– Н-не с-с-стану…
Лицо моё мокрое. И вода, и слёзы.
– Старика ты бил? Деньги ты взял?
– Й-й-я…
– Оформляйте! – благословляет сатана и уходит.
3.
Сидим бок о бок, я и Аня.
Набилось народу. Одни пишут, печатают, галдят. Другие накрывают на стол. Скоро двенадцать.
Света разговаривает по телефону:
– Зачем? Они только-только приехали. Похищенное при них. Зачем? Всё равно ничего не найдём. Хорошо, поняла… – она бросает трубку и визжит: – Как меня всё достало! В управлении дебилы!
– Что ещё? – отрывается от компьютера Гриша.
– Говорят, чтобы мы провели обыски по месту жительства злодеев. Я говорю, зачем? Смысл? У них, видите ли, статистика по обыскам. Чем больше, тем лучше.
– Точно до утра придётся работать! – Гриша бьёт по столу кулаком, и клавиатура брызжет клавишами. – Ну, сука!
Я поднимаю с пола «Delete», подаю ему и спрашиваю:
– А что за обыски? Где?
– У вас дома, где же! Если чего спрятано, говори сразу. Мало ли, обрезишко для самообороны, патроны. Бери на себя, чтобы ещё отец за тобой не пошёл. Есть что?
Я воображаемо бегаю по родительской квартире, перерываю ящики, перетряхиваю одежду, щупаю за шкафами.
– Вроде, ничего, – говорю.
– А у вас, девушка? – Гриша смотрит на Аню.
– Тоже ничего, – слабо произносит она и съезжает со стула.
– Где нашатырь? – вскакивает Гриша. – У дуры обморок!
Ей натирают виски, суют пузырёк едва ли не в самые ноздри.
– Намочите вату! У неё так слизистая сгорит! – трезвонит Света.
– Отстань, не мешай!
Аня открывает глаза, морщится. Лицо у неё сине-зелёное, волосы всклочены. Гот.
– Тьфу ты! Одна минута первого! – плюётся Гриша. – С Новым годом, хули!
Бахают шампанским, разливают.
За окном треск и вспышки салютов.
Мы тоже получаем пластиковые стаканчики и бутерброды со шпротами.
– А не облезут? Что-то до фига им поблажек, – басит узколобый кряж.
– Пусть пьют, последний раз-то, – отмахивается от него Гриша. – Лет пять потом не будут.
– Что? – вырывается у меня. – Мы разве не домой сегодня?
Кабинет вздрагивает от хохота.
– С дуба рухнул? – больно бьёт меня словами кряж. – Вы сегодня в ИВС. С Новым годом, с новым счастьем, родной!
– Что такое ИВС? – бормочу.
– Изолятор временного содержания, – полным ртом подсказывает Гриша. – Пару дней там, а потом в СИЗО. И уже после на зону.
Аня роняет свой стаканчик, обмякает, и слёзы сыплются с её носа долгой струйкой. Со стороны – старуха.
До трёх часов бушует этот содом. Мне уже наливают водку, но она не пьянит. Аня не пьёт, она плачет. У неё обвисли щеки, и невидимый нож прорезал на её лице чёрные морщины.
– Наконец-то, готово! – вздыхает Света. – Мальчики, слушаем. Вот вам поручения на обыски, а вот все бумаги, с которыми вы повезёте наших злодеев в ИВС. Я пошла домой. Больше меня не трогать. Ясно?
– Наручники на тебя надевать? – спрашивает меня окосевший Гриша. – Хулиганить будешь или нет?
– Я не буду хулиганить, – отвечаю искренне.
– Тогда пошли. Сначала вас отвезём, а потом на обыски. Без вас. Или хотите повидаться с родителями?
Оба мотаем головами.
В «буханке» тесно. Пахнет перегаром.
Смотрю в окошко, а там жизнь. Гирлянды, люди, фейерверки. Ничего не понимаю! Почему такая большая разница стой и с этой стороны окна? Мистика. Два разных измерения.
– Приехали. Выгружаемся!
Центральный отдел милиции. Никогда даже не заходил в него.
– Шевели булками, иди прямо, – подбадривает меня сзади кряж. – И не вздумай дёргаться. Я не Гриша.
В глазах плавают чернила. Я тру пальцами, моргаю, щурюсь.
Реальность рвётся на эпизоды. Дверь – коридор – дверь – с Новым годом! – и вас также – принимайте клиентов – что за звери? – разбойники, ветерана обули – ишь ты, суки – весь праздник нам испортили – а почему рано привезли? – как рано? – у вас стоит время задержания с четырёх часов – где? – смотри сам – блин, Светка, следователь наш, офаршмачилась – идите, гуляйте пока – не примешь? – через сорок минут, ради бога!
Я готов петь. Все сорок минут.
– Хуль ты улыбаешься, олень? – отрезвляет меня кряж.
Выходим на улицу. Гриша встаёт передо мной, смотрит и убивает взглядом.
– Хочешь напоследок со своей девкой? – цедит он сквозь зубы.
– А?
– Хуй на! Хочешь, спрашиваю?
Смотрю на Аню. Она не понимает, про что речь.
– Хочу.
– Быстро поехали!
– Чего ты опять придумал, Гриш?! – стонет кряж.
– В школу их отвезу, где у меня жена работает. Здесь рядом. Сторож пустит.
– Ты совсем ополоумел?
– Время есть, не ссы!
Дорогу не помню. Она пролетела мимо меня.
Очнулся оттого, что упал на лестнице.
– Живо, живо, живо! – торопил Гриша. – На четвёртый этаж!
Тёмный, гулкий коридор. Дверь. За ней ничего не видно. Скрип другой двери. Включается свет, и мы в туалете.
– У вас полчаса, – бросает Гриша. – Развлекайтесь.
Аня садится посреди туалета на пол, поникает головой и тут же всхрапывает.
– Эй, ты что? – трясу её за плечо.
– Я очень-очень устала, – медленно произносит она мужским голосом. – Оставь меня.
Я присаживаюсь сзади неё, завожу ей под мышки свои руки и мну её драгоценную грудь.
Аня спит.
– Чёрт! – встаю и трогаю себя.
В штанах никакой жизни.
Решаю сходить, попросить у Гриши сигарету.
Открываю одну дверь, вторую. Попадаю в пустой коридор.
– Завтра, то есть сегодня, отключу телефон, и хер кто меня отыщет. Что бы ни случилось! – доносится голос Гриши из-за третьей двери.
Я нашёл выход в другое крыло здания!
– Вставай! – трясу Аню. – Просыпайся!
– Где я? – спрашивает она, хлопая пустыми глазами.
Поднимаю её силой.
В конце коридора – лестница. Бежим вниз, и Аня просыпается.
– А где менты? – хрипит она.
– В пизде! – шепчу.
Нас разбирает детский смех. Пищим, а не смеёмся.
Сторож ходит по вестибюлю с бутылкой пива. Дед. Похож на нашего.
– До свидания! – окликаю его шутки ради. – С Новым годом!
– И вам не болеть, – позевывает он.
Бежим по улице и хохочем в голос.
– С Новым годом! – приветствуем людей.
Их ещё много, но они уставшие, отвечают вяло.
Забегаем в чей-то двор. Я не узнаю его, да и наплевать!
Во дворе стоит кособокая ёлка. Вокруг неё слоняются несколько человек.
– Дайте сигаретку! – подбегаю к ним.
Дают.
Я закуриваю, но от смеха дым попадает не в то горло. Кашляю, бросаю.
– Куда мы теперь? – выдавливает Аня сквозь смех.
– Не знаю!
Хохочем.
Зубы у Ани белые, как у негра. В глазах новогодние огоньки. Зелёные, синие, красные…
– К родителям нельзя! К друзьям нельзя! Вообще, никуда! – ору и не могу стоять, падаю на четвереньки.
Меня рвёт смехом.
– Обкурились, – говорит кто-то из людей.



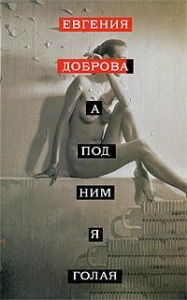

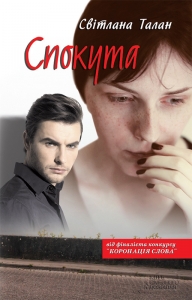

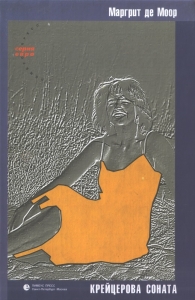

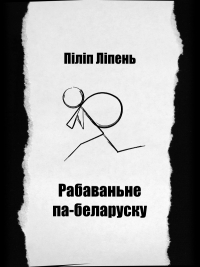


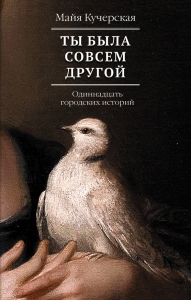
Комментарии к книге «Капитал (сборник)», Михаил Николаевич Жаров
Всего 0 комментариев